Елена Скворцова, Александр Луцкий Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века
Посвящается Татьяне Петровне Григорьевой
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Серия основана в 1999 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам и Института философии Российской академии наук
Рецензенты:
доктор филологических наук Ю. Б. Борев
доктор исторических наук Е. Л. Катасонова
© Левит С. Я., составление серии, 2014
© Скворцова Е. Л., Луцкий А. Л., 2014
© Центр гуманитарных инициатив, 2014
© Университетская книга, 2014
Предисловие
Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие. Эта знаменитая фраза из оруэлловского «Скотного двора» может быть безо всякого юмора применена к аксиоме мультикультуралистского подхода к вопросу о равноценности этнических культур. Носителей китайского языка и китайского культуры по их числу примерно в 100 тысяч раз больше, чем носителей чукотского языка и чукотской культуры, в 10 тысяч раз больше, чем абхазов, в тысячу раз больше, чем эстонцев, более чем в сто раз больше, чем армян, в десять раз больше чем японцев или русских.
Конечно, по объёму измеряемой в байтах информации массив китайской культуры несоизмерим с массивом норвежской или эстонской культуры, но как основа самосознания и самовосприятия, уникального образа коллективного бытия все эти культуры равновелики. Однако неравновелика мера восприятия каждой из них носителями других культур, как неравновелика и мера влияния, оказываемого на совокупное культурное достояние человечества в целом – в одних случаях это влияние исчезающе мало, а в других огромно и не соизмеримо с численностью народа-носителя. И совершенно особое место в ряду культур занимает культура Японии – страны, население которой составляет всего лишь около полутора процентов от населения всего мира. Её поведенческие, мировоззренческие, этические и эстетические особенности выглядят обособленной вершиной, противопоставленной мозаичной и живописной пестроте расстилающегося рядом с ней разнообразия культурного ландшафта всего остального мира.
С высоты птичьего полёта вряд ли возможно охватить взглядом целую горную страну, подобную Альпам или Памиру, со всеми её пиками и долинами, от края и до края. Но иногда удаётся увидеть, во всём её величии, хотя бы центральную часть этой страны, средоточие её основных, знаковых вершин, имеющих каждая свой неповторимых силуэт, свой уникальных облик и характер.
Так возвышается среди гор Центрального Аляскинского хребта ледяная глыба горы Мак-Кинли, высочайшей вершины Северной Америки, так высится над пиками Кавказа стоящий несколько в стороне от них уникальный двуглавый Эльбрус, и уж совсем особенным образом, непохожим ни на что другое в мире, возносится над всеми бесчисленными горами Японии идеально совершенный, математически безупречный конус Фудзиямы. Недаром эта гора почитается японцами как священная. Помимо всего прочего, она как нельзя лучше олицетворяет собой осевое понятие этики и эстетики японского национального бытия – всеобъемлющее императивное стремление к наивысшему совершенству, воплощённому в абсолютной простоте и чистоте, отрешённости от всего преходящего и привнесённого. Таково совершенство самурайского меча-катаны или цветка вишни сакуры, таково совершенство золотого солнечного диска, представляющего собой символ верховного божества Аматэрасу, таков национальный флаг – красный круг на белом поле, таковы основная пища японцев – чистый, без приправ, белый рис – гохан, и главный праздничный напиток сакэ, таковы основные составляющие японского интерьера – ширмы фусума и сёдзи, циновки татами, таково, наконец, состояние сатори – высшего дзэнского просветления, квинтэссенция самоотождествления микрокосма стремящегося к совершенству японца с его микрокосмом.
Почти все современные цивилизации вторичны, или дочерни, в том смысле, что своими корням они уходят в не существующие более первичные цивилизации. Современная европейская цивилизация, включая наш, «евразийский», её вариант, вторична по отношению к античной цивилизации Средиземноморья, исламская вторична к иудейской, индусская – к древней брахманской (ведийской), а дальневосточные цивилизационные ответвления Вьетнама, Кореи, Японии вторичны по отношению к китайской цивилизации, пожалуй, единственной в мире, сохранившей свою преемственность в течение почти четырёх тысячелетий, от ШанИньских истоков до наших дней.
Любой человек, достаточно хорошо знакомый с китайской культурой, попав в Японию, на каждом шагу будет мысленно восклицать: «А в Китае это возникло там-то, называется так-то, имеет форму того-то». Он будет прав – почти для каждого элемента японской культуры можно найти китайский исток или прототип, пусть даже порой в самом Китае полностью позабытый.
Однако тот культурный ландшафт, который складывается не из позабытых, а из вполне актуальных и функциональных по сей день, имеющих общее происхождение элементов, в Японии и в Китае, как некое целое, будет совершенно различен. Там, где в Китае среди пестроты мелких и вычурных деталей трудно будет выделить центральные вехи, в Японии мы обязательно найдём несколько ведущих, организующих этот ландшафт тем.
И в Китае, и в Японии есть много садов, в которых не совсем обычные камни и группы камней играют более важную роль в создании общего облика сада, чем его зелёные насаждения. Но в китайском саду чаще всего мы найдём много камней, образующих горки и кучки, и сами камни эти непохожи на те, что мы видим в природе – они нарочно так обработаны, чтобы выглядеть необычными, непохожими на природные – они изъедены, ноздреваты, имеют странные контуры…
Камни в японском саду немногочисленны, лежат одиноко или малыми группами, они совершенно естественны, как будто сами искони принадлежали этому месту. Они не напоминают природные объекты – они сами ими являются. Но идеи и ассоциации, возникающие при их созерцании, гораздо глубже и фундаментальнее, чем идеи, которые могут подсказать нарочито выглядящие камни китайского сада.
И в Китае, и в Японии много школ буддизма, и большинство японских школ исторически восходит к китайским или связано с ними. Практически каждый японец, хотя бы в своём размышлении о мире ином, так или иначе обращается к темам буддизма, даже если сам формально не является его адептом.
Лишь около 10 % японцев принадлежат, хотя бы номинально, к буддийской школе дзэн, но и развивавшееся прежде всего в дзэнских монастырях искусство чайных церемоний, и составление и созерцание цветочных композиций, и этика самурайской самодисциплины, и представление о просветлении сатори и путях его достижения – всё это так или иначе не чуждо душе каждого японца, и он, будучи даже вовсе безрелигиозным, знает о связи всего этого с культурой дзэнского буддизма.
Слово «дзэн» происходит от санскритского «дхьяна», т. е. «созерцание», «медитация». В Китае оно произноситься как «чань». Оно известно в Китае большинству мирян, но более или менее полное представление о дзэнских (чаньских) практиках имеют только монахи и послушники чаньских монастырей, а прочим китайцам до них мало дела. Чань – это лишь малый кусочек огромной и частично хаотичной мозаики духовной жизни современного Китая, да и буддизм в целом не может быть назван его лидирующей религией, поскольку он во многом уступает и даосским верованиям, и конфуцианским культам и ритуалам.
Тем не менее, конфуцианские идеалы определяют систему ценностей большинства не только китайцев, но и вьетнамцев, и корейцев, да и японцев тоже, хотя они и не всегда это осознают, подобно мольеровскому Журдену, не знавшему, что он говорит прозой.
Можно сказать, что конфуцианские нормы нечасто вербализуются современным японцем, но они постоянно в нём актуализуются; они влиты в его характер на мышечном уровне и начинают осознаваться, лишь когда привычное, нормальное и нормативное поведение чем-то нарушается. Например, когда встает дилемма – то ли отменить важную командировку, чтобы присутствовать на похоронах сэмпая (старшего друга, наставника, товарища), то ли забыть про долг перед сэмпаем и поехать в весьма важную командировку. В любой стране вам может случиться помочь даме средних лет втащить в вагон её тяжеленный чемодан. В Венгрии ответом будет очаровательная улыбка, в США будьте готовы к суровой отповеди, что я, мол, и сама справлюсь, а в худшем случае ждите повестку в суд с обвинением в сексуальных домогательствах. А вот японка будет крайне смущена и не найдет себе места, пока не купит для вас у девушки-разносчицы коробочку совершенно несъедобных с точки зрения европейца бобовых пастилок или чего-то в этом роде. В этом случае поведение дамы будет определяться понятиями он и онгаэси – нечаянного благодеяния и обязательного воздаяния за благодеяние, – относящихся к ключевым понятиям конфуцианской этики. И таких примеров можно привести сотни и тысячи.
Отметим ещё, что, хотя понятие онгаэси, выраженное в нашем случае коробочкой копеечных сладостей, лежит в плоскости этики, изысканное оформление коробочки, да и самих сладостей, нарезанных в виде ромбиков, полукругов, а то и цветочков, окрашенных в неброские, но гармоничные тона розоватой или «серобуромалиновой» гаммы, лежит уже в плоскости эстетики и что провести чёткую грань, по которой этика переходит в эстетику, и наоборот, в Японии во многих случаях бывает довольно затруднительно.
Японская эстетика, столь тесно связанная с этикой, в этом смысле явление уникальное. Ее главное устремление – к тому, чтобы уловить и запечатлеть красоту изумительного мига, прекрасного мгновения между прошлым и будущим, или бытием и небытием.
Эта даосско-буддийская идея воплотилась в понятии укиё – суетного, изменчивого, быстротекущего мира. Данное понятие, наряду с вездесущим принципом перетекания (каёи), в позднеклассический период стало ключевым как в японской этике, так и в японской эстетике, породив целый ряд жанров в живописи (укиё-э), художественной прозе (укиё-сосэцу) и в других областях духовной жизни. Впрочем, понятие перетекания столь же старо, как и японская эстетика вообще, и явственно слышится уже в глиссандирующих звуках национальной японской музыки гагаку.
В силу сложности понимания «перетекающих» категорий японской эстетики её западным исследователям необходим более изощ ренный, чем это принято в западной культуре, понятийный аппарат. Только в японском искусствоведении существуют специальные формализованные понятия типа ясэта би (бесплотная красота), хиэта би (стылая красота), карэта би (иссохшая красота), служащие для выражения состояния грусти, которому одновременно сопутствуют умиротворённость и надежда. (Вспомним картины Левитана «Над вечным покоем» или Саврасова «Грачи прилетели».)
Все любят цветы. Но немец скорее всего организует свои цветы в гербарий или альбом. Француз составит из них роскошный букет. Индиец – пышную и плотную гирлянду. Японец же, вне сомнения, создаст композицию икебаны, используя в каждом случае довольно ограниченный набор цветов, но максимально отражающий текущий сезон и соответствующее ему настроение.
Именно по такому пути пошли философы-японоведы Елена Скворцова и Александр Луцкий – авторы лежащей перед читателем замечательной книги, которая составлена из научных статей, публиковавшихся на протяжении тридцати лет, но нисколько не утративших своей актуальности: в целом эти статьи складываются в гармоничную композицию, которая, подобно икебане, комплексно выражает сложный феномен современной духовной жизни японцев.
С. А. Арутюнов, член-корреспондент РАНИз истории японской эстетики
Эстетические вкусы японцев и создаваемые ими художественные образы, как и категории эстетики, формировались на протяжении веков в общем контексте становления японского мировоззрения под влиянием целого комплекса учений. Последний включает в себя, во-первых, синтоизм – свод мифов о богах, отразивших становление японского этноса из племен различного происхождения. Во-вторых, индийский буддизм в его китайской «обработке». В-третьих, пришедшее из Китая этико-политическое учение конфуцианства, созданное знаменитым религиозным деятелем и философом Конфуцием (Кун-Цзы, 551–479 гг. до н. э.). И, наконец, даосизм – китайский пантеистический мистицизм, изложенный в поэтизированной форме в трактатах Лао-Цзы и Чжуан-Цзы (VI–IV вв. до н. э.).
В разные периоды японской истории упомянутые учения играли в ней неодинаковую роль. Конфуцианское образование в средневековой Японии стало обязательным для чиновников всех рангов. В специально созданных конфуцианских учебных заведениях начиная с VIII в. они получали специальные знания по классической литературе Китая, каллиграфии и этикету. Без успешного прохождения курса обучения в таких школах нельзя было занять сколько-нибудь приличного места в японской чиновничьей иерархии.
В эпоху Камакура – Муромати (ХШ – XVI вв.) более влиятельным становится буддизм, формировавший аскетический эстетический идеал и обещавший спасение в буддийском раю всем искренне верующим адептам. В последующую эпоху, Эдо – Токугава (1603–1867), на авансцену вновь выходит конфуцианство, взятое на вооружение военным правительством сёгунов (военачальников), видевших в нём идейную опору своему режиму. Специально для самураев была создана особая конфуцианская академия.
Примечательно, что в этот период в качестве противостояния тотальному господству конфуцианской идеологии художественная интеллигенция подняла на щит родной синтоизм, в лоне которого сформировалась первая эстетическая категория прекрасного – моно-но аварэ.
Что касается даосизма, то начиная с VI в. он всегда так или иначе присутствовал в духовной жизни японцев, в первую очередь оказывая влияние на искусство. Дело в том, что положение даосизма о равенстве всех существ и явлений, в том числе и человека, перед спонтанной тёмной силой Дао, ставило свободного художника, стремящегося к отождествлению себя с этой глубокой непознаваемой силой, гораздо выше застёгнутого на все пуговицы конфуцианского чиновника.
Идейным источником классического японского искусства считается дзэн-буддизм. По сути, это буддизированный даосизм, конгломерат буддийской риторики и основных идей даосизма. На протяжении всей японской истории, несмотря на отдельные перипетии, все вышеназванные учения сравнительно мирно уживались друг с другом.
Ярчайшим представителем японского буддизма является Кукай (Кобо Дайси, 774–835) – проповедник, поэт, скульптор, художник, каллиграф, лингвист и философ. В 806 г. Кукай основал секту Сингон. Переосмыслив известные ему индийские и дальневосточные религиозно-философские учения, он создал систему эзотерического буддизма Сингон, включавшую в себя в качестве ступеней просветления конфуцианство, даосизм, буддизм Хинаяны, а также основополагающие писания всех сект японского буддизма Махаяны. В пантеон своей секты Кукай включил Индру, Вишну, Браму и Шиву, гневных демонов – защитников сторон света, а синтоистских богов-ками объявил воплощениями Будд и боддхисаттв. Даже птица Гаруда, известная нам по «Сказкам 1000 и 1 ночи» под именем Сигурд, стала одним из божеств пантеона Сингон. Храмы этой секты напоминают декорации к волшебной восточной сказке с ее обилием разнохарактерных персонажей, пленяющих воображение.
Сохранение добытой мудрости и уважение к традиционным учениям – одна из главных отличительных черт дальневосточной цивилизации. Как бы ни противоречили друг другу в своих основоположениях, например, конфуцианство и даосизм, это никогда не приводило к полному отвержению какого-либо из направлений.
Представитель старой аристократической фамилии, Китабатакэ Тикафуса (1293–1354), говорил: «Для правителя очень важно иметь общее представление обо всех школах и не отвергать ни одну из них: это позволит ему защитить страну от бедствий <…> Тот, кто оскорбляет другие школы, совершает большую ошибку».[1] Упомянутый выше Кукай так писал о своём решении постричься в монахи: «Родственники противились моему желанию покинуть дом, упрекая в уклонении от исполнения сыновнего долга. Я подумал: для направления людей мудрые Шакъя Муни, Лао-Цзы и Кун-Цзы изложили три учения (буддизм, даосизм и конфуцианство. – Е. С.). Все эти учения священны. Если попадёшь в сети одного из них, то отклонения от сыновнего долга быть не должно».[2]
В художественной традиции Японии, стремившейся к сохранению всех своих достижений, каждое последующее направление, каждый новый вид или жанр искусства становился «побегом» на «изначальном древе» традиции. Традиция ревниво «удерживала» даже, казалось бы, совершенно ненужные «пустые» формы. К примеру, создатели поэтик хэйанской эпохи (VIII–XII вв.) раз за разом упорно воспроизводили заимствованную из древнего Китая и устаревшую даже для него классификацию поэзии, не соответствовавшую природе японского стиха. Подобная традиционность присуща и буддийской скульптуре Нарского периода (710–794), и великолепной литературе эпохи Хэйан (794–1192), и таким «реликтам» эпохи Камакура – Муромати, как мистериальный театр Но, искусство чайного ритуала, сухие дзэнские сады и монохромная живопись.
Театр кабуки, кукольный театр дзёрури, искусство составления цветочных композиций – икэбана, цветная гравюра эпохи Эдо – Токугава. Эти виды и жанры искусства, а также многочисленные направления традиционного прикладного искусства пережили все перипетии японской истории и живут полноценной жизнью до сих пор, бережно охраняемые и поддерживаемые многочисленными любителями родной старины. Остановимся коротко на истории эстетических взглядов японцев, отражённых в искусстве и трактатах основоположников.
Исторически первая категория «прекрасного» в японской эстетике, моно-но аварэ, уходит своими корнями в глубины мифоритуального сознания. Само слово «аварэ» (варианты аппарэ, ахарэ) – одно из древнейших в японском языке – имеет австралонезийское происхождение и, видимо, существовало ещё до слияния нескольких разнородных племен в единый японский этнос. Оно означало «запрет», «табу», и было связано с культом предков и магическим ритуалом вызова их духов на землю – «камуороси». Слово это было восклицанием, входившим в ритуальные тексты, произносимые в особых «местах силы», т. е. в местах, отмеченных веревкой из рисовой соломы – на перекрестках дорог, в излучинах рек, в горах и рощах. Считалось, что здесь каждое произнесенное слов обладает магической энергией и способно с помощью богов-ками повлиять на ход событий в материальном мире. Поэтому изначальный смысл слова «аварэ» – «чары», «магия».
Впоследствии совокупность мифов, лежащих в основе родовых культов была систематизирована в соответствии со сложившейся иерархией родов (каждый род поклонялся своим божественным основателям). Она получила письменное оформление в виде хроники «Кодзики» (Записи о деяниях древности, 712 г.), где мифы о божественном происхождении Японии – страны Ямато были истолкованы в интересах правящего рода Сумэраги. Этот род вёл своё происхождение от женского солярного божества Аматэрасу Омиками.
В уложении «Энгисики» (Х в.) были зафиксированы написанные ритмизированной прозой литургические тексты – молитвословия норито. Самые древние из них восходят к III в. и представляют собой подлинные молитвы жрецов местным богам по разным случаям.[3] К ним относятся: новогоднее (по лунному календарю) испрашивание благоденствия стране и обильного урожая, молитвословия по случаю начала и завершения сельскохозяйственных работ, молитвы по случаю очищения от скверны, молитвы в связи со смертью императора и восшествия на престол нового и т. п.
Систематизация корпуса мифов и литургических текстов позволила представить культы местных богов как единое иерархическое целое. Оформленный таким образом культ получил название «синто» или «синдо» – путь богов, а «Кодзики» часто именуются Библией синтоизма. Категория моно-но аварэ, будучи плоть от плоти духовного фундамента страны Ямато, считается исконно японской и в основе своей не испытавшей, подобно возникшим впоследствии категориям, влияния китайской эстетики. Поэтому она ассоциируется с культом родных богов-ками – религией синто.
Параллельно молитвословиям норито, к VI–VIII вв. стали появляться поэтические произведения или, как их принято называть в Японии, песни, имевшие в большинстве своём ярко выраженную личностную окраску, но по форме (ритмическое чередование пяти– и семисложных строк) близкие литургическим текстам. Эти песни были по указанию императоров собраны по всей стране и объединены в колоссальный литературный памятник эпохи Нара – первую японскую поэтическую антологию «Манъёсю» (Собрание мириад листьев, сер. VIII в.). В «Манъёсю» вошли более 4,5 тыс. произведений IV–VIII вв. разного жанра, написанных разными авторами – как знатными, так и простыми людьми, а также анонимных.
С точки зрения истории японской эстетики, эта антология – особо значимый памятник, поскольку именно в нём был зафиксирован переходный момент от ритуального отношения к природным явлениям к эстетическому, а также к соответствующему употреблению категории «моно-но аварэ». В памятнике содержатся близкие к литургическим тексты гаданий, клятв и заговоров, где «аварэ» употребляется в своем исконном сакральном смысле. Но есть и такие тексты, где оно становится выражением восторга именно перед той или иной формой красоты (явления природы, женщины, чувства).
Таким образом, японская поэзия и японские литургические тексты связаны единой пуповиной и основаны на дописьменной, устной традиции, когда словесные формулы, обладавшие магической силой, заучивались наизусть как клише. Это способствовало закреплению традиционности тем и образного строя японской литературы следующей за Нара эпохи Хэйан, которая названа так по старому названию города Киото, бывшего тогда столицей государства. Господство в этот период эстетических вкусов родовой знати нашло свое отражение прежде всего в эстетике. К «красивому» – моно-но аварэ теперь мог быть причислен только определенный чётко очерченный традицией круг явлений природы, социальных и личных качеств человека, его поступков и даже черты его внешности.
Можно сказать, что эпоха Хэйан была эпохой аварэ. Период сравнительно мирного, без крупных военных конфликтов, существования централизованного японского государства ознаменовался невероятным всплеском культурной жизни, протекавшей главным образом в столице – великолепном Хэйане. Жизнь государства была сложна и разнообразна, но мы знаем главным образом о жизни «сливок» тогдашнего общества: мельчайшие подробности любовных похождений кавалеров и придворных дам этого времени, их занятия музыкой, танцами, живописью и каллиграфией, паломнические поездки к знаменитым храмам и святилищам и т. д. Все это описано в обширной дневниковой и художественной литературе, с подлинным поэтическим вдохновением.
Именно тогда был создан роман, прославивший японскую литературу на весь мир – «Гэндзи моногатари» (Повесть о блистательном принце Гэндзи, ок. 1008). Его автор – придворная дама Мурасаки Сикибу (976–1116), ярчайшая представительница литературы «женского потока», имевшая множество подражателей. Роман создан под знаком поиска «прекрасного» – аварэ; это понятие употреблено в романе 1018 раз.
Под знаком «аварэ» создавалась и поэтическая антология хэйанской эпохи – «Кокинсю» (Собрание старых и новых песен Японии, 905–922), ставшая эталоном для всех последующих сборников такого рода. Доступ к сокровищнице японского классического стиха «Кокинсю» получали лишь вельможи императорского двора.
Следует отметить, что параллельно с категорией «аварэ» употреблялись и иные синонимы «красивого», такие как уцукуси и ясаси, но они имели более узкую область значения. Первое, уцукуси, относилось прежде всего к характеристике женской внешности, второе, ясаси – к лёгкости и элегантности манер. Что же касается «аварэ», то эта категория наиболее полно соответствует западному пониманию «прекрасного».
Но здесь всё же есть своя особенность, связанная с «родимым пятном» аварэ – ритуальными синтоистскими корнями, относящимися к потустороннему миру. Кроме того, эта категория отмечена печальным буддийским взглядом на мир явлений и чувств как на преходящий, скоротечный и подверженный внезапному исчезновению. К X в. такое понимание прекрасного стало лейтмотивом японского искусства. «Если бы человеческая жизнь была вечной, – писал придворный поэт, а впоследствии буддийский монах, известный под именем Кэнко Хоси (1283–1352), – не было бы в ней столько скрытого очарования – «аварэ». В мире замечательно именно непостоянство».[4]
Требование отказа от всяких привязанностей, как одна из буддийских максим, вступало в противоречие с потребностью каждого живого существа в любви, обрекало его на переживание своей трагической раздвоенности. С одной стороны, по всеобщему убеждению, человеку, не испытавшему любви, недоступно постижение прекрасного – «аварэ», но с другой стороны, испытывающий любовь – это погрязший в привязанности к миру грешник. Метания между религиозным требованием и потребностью сердца приводили к состоянию обреченности, пониманию невозможности благоприятного перерождения для живого чувствующего сердца. Красота оказывалась неразрывно связанной с греховностью. Вот почему принято переводить аварэ как «печальное очарование вещей»: раздвоенность между религиозно-этическим и эстетическим идеалами в жизни, в искусстве и литературе неизбежно сопровождалась неуверенностью, неопределенностью, грустью. Таким образом, понятие «аварэ» означает не только красоту гармонии, красоту душевных движений, изысканность; оно одновременно подразумевает, что все это покрыто вуалью смерти и бренности. Этот второй оттенок значения будет ещё сильнее ощущаться в следующей исторически категории прекрасного – югэн.
В конце XII в. начались времена кровавых междоусобиц. Два могущественных рода Тайра и Минамото вступили в смертельную схватку за власть, в результате которой род Тайра, фактически правивший Японией в течение тридцати лет, прекратил своё существование. Была установлена система сёгуната – военного правления. Столица была перенесена на восток, в г. Камакура, где находились земельные владения рода Минамото. На арену истории вышел новый социальный слой – самураи с их этикой ригоризма и эстетикой аскетизма. Чувственная изнеженность предыдущей эпохи уступила место силе. Силе духа и тела. Героями эпохи стали воин и монах с их жилистыми, исхудавшими в походах или молитвах телами, люди, полные несгибаемой стойкости, готовые встретить смерть в любой момент.
В период Камакура – Муромати идеал красоты претерпевает значительные изменения в соответствии с духом времени. Под эгидой новой категории прекрасного, «югэн», были созданы новые виды искусства – искусство чайного ритуала тяною, мистериальный театр Но, искусство сухих дзэнских садов, искусство составления цветочных композиций, группа боевых искусств бусидо. Наряду с этим развивались старые и создавались новые жанры литературы.
«Югэн», в отличие от «аварэ», – слово китайского происхождения и состоит из двух иероглифов. Первый иероглиф, «ю», означает «тёмный», «глубокий». Второй, «гэн», переводится как «чёрный», «тёмный». Этот термин восходит корнями к понятию Дао древнекитайской философии и апеллирует к одной из его характеристик как темного, глубокого, бесформенного первоначала. Югэн – одно из организующих начал японского искусства, особый тип эстетики, обусловивший характер японской антологии XIII в. «Синкокинсю» и идейные принципы театра Но. Целью искусства югэн становится «сделать невидимое видимым», пишет Т. П. Григорьева.[5] Сам термин, заметим, начал использоваться еще в предыдущую, хэйанскую, эпоху теоретиками поэзии Фудзивара Хаманари (VIII в.), Ки-но Ёсинори (Х в.) и Мибу Тадаминэ (Х в.) для обозначения типа поэтических произведений с тёмным, неясным смыслом. Однако свой окончательный смысл как «мрачная, неявленная, таинственная красота» югэн обрёл в суровые времена феодальных междоусобиц конца XII в. Позже теоретик японской поэзии в стиле рэнга Ёсимото Нидзё (1320–1388) применил его для обозначения «таинственно-прекрасного».
Первым поэтом, воплотившим в своем творчестве этот принцип, считается Сайгё (1118–1190), посвятивший погибшим в кровавых битвах друзьям полный трагизма и страшных образов «Адский цикл» стихотворений. Позже под знаком югэна творили основоположник мистериального средневекового театра Но по имени Дзэами Мотокиё (1363–1443), авторы искусства чайного ритуала Мурата Сюко (1432–1502) и Сэн-но Рикю (1522–1591), создатель дзэнских сухих садов – Соами (XVI в.), гений монохромного пейзажа Сэссю (1420–1506) и многие другие деятели искусства той эпохи.
Как термин, обозначающий темную, неявленную красоту, югэн необходимым образом связан с такими эстетическими понятиями, которые дополняют его, обозначая след или тень его в феноменальном мире. К ним относятся: саби, ваби, сибуми, сиори, хиэта би, ясэта би, такэта би, каруми, мономанэ. Остановимся на их кратком содержании.
Саби означает уединение, заброшенность. Этот иероглиф входит в понятие «смерти», «вхождения в нирвану» (дзякумэцу). У знаменитого поэта Мацуо Басё (1644–1694) саби имеет более определенный характер «одиночества старости». Данное понятие конкретизируется, как бы разбивается на отдельные «слои», обозначаемые следующими терминами: ваби – глубокая скромность, бедность внешних форм при богатстве внутреннего содержания, самоотрицание. Понятие ваби характеризует искусство дзэнского чайного ритуала с его подчеркнуто бедной утварью; составляет основу воспитания актеров театра Но; суть поэзии рэнга, где от участников требовалось самоотречение и настрой друг на друга (кокородзукэ – единство духа); ваби отражается во внешней бедности образного строя (при их внутреннем богатстве) хокку – стихотворных трехстиший из 17-ти слогов, которые именно Басё поднял до высокого искусства.
Ясэта би – букв. «исхудавшая красота», «отсутствие плоти». Это одно из понятий, конкретизирующих саби и означающее «сгущение духа». Оно воплощается в скульптурах буддийских отшельников того времени, которые представляют собой буквально одухотворенные скелеты. Сухое узловатое дерево в монохромном пейзаже, минимализм поэзии стихотворных миниатюр хокку – также представляют это понятие.
Карэта би – букв. «высушенная, бесплотная красота». Данное понятие близко предыдущему и означает силу духа, его независимость и отрешенность от плотских желаний; находит выражение в той же группе дзэнских искусств.
Сиорэтару – букв. «увядшее». Это понятие связано с понятием саби и обозначает приоритет вещей, отмеченных печатью благородной старости и имеющих историю, – перед яркими, новыми, молодыми. Соотносится с принципом «благородной пресности» китайской эстетики.
Такэтару – букв. «постаревшее». «Благородный дух старины» – один из главных принципов традиционного дальневосточного искусства. Мы находим его в образе старого узловатого дерева, перенесшего все тяготы жизни, согбенного, но не сломленного – не только в монохромном пейзаже, но и в его «трёхмерном варианте» – садах при дзэнских храмах, для которых отбирались причудливо искривленные деревья и выветренные, замшелые камни. По свидетельству И. Ф. Муриан, посетившей Дайсэн-ин, самый знаменитый сухой сад дзэнского комплекса Дайтокудзи, «с внешней стороны сад огражден белой оштукатуренной стеной… Белизна стены чуть тронута серовато-желтыми разводами сырости… что придает сходство фактуры поверхности стены с пожелтевшей бумагой старого свитка».[6] В искусстве чайного ритуала посуда намеренно состаривалась таким образом, что кракелюры на ней не только были видны, но и чувствовались на ощупь.
Хиэта би – букв. «замороженная красота» или «красота замороженного духа», т. е. невыраженность эмоции, внешнее спокойствие при внутреннем напряжении. Начало её употребления относится к эпохе Хэйан и связано с одним из основных требований к стихотворению, ёдзё – «избыточность чувств». Содержание не исчерпывается явленным в тексте смыслом, а имеет богатый подтекст. Вплоть до эпохи Токугава это требование считалось одним из основополагающих в любом виде искусства. Особенно ярко это выражается в эстетике театра Но – в его масках с неопределённым выражением, символикой движений и реквизита. А также в искусстве чайного ритуала; патриархи чая не уставали говорить, что чай горячий, но его дух, дух замороженной красоты – холодный.
Сибуми – букв. «терпкий, вяжущий вкус». Данное понятие в эпоху Камакура – Муромати стало обозначать элегантную простоту, изысканную грубость, а также собственно эстетический вкус. Выражается в любых «неправильностях» или «шероховатостях» зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых ощущений: в терпком вкусе густого чая, шершавых поверхностях посуды и в её неправильной форме; в резких природных звуках музыкального сопровождения театра Но.
Следующие эстетические понятия имеют отношение к способу создания художественного образа. Каруми – букв. «лёгкость». Понятие, зафиксированное Басё и обозначающее способ осуществления творческого акта в дзэнско-даосском типе искусства. Именно такой тип доминировал в эпоху Камакура – Муромати и означал моментальность создания произведения. Басё образно характеризует этот метод: «Это как разрезать арбуз острым ножом». Понятие каруми непосредственно связано с изобразительным искусством, с каллиграфией и живописью тушью, с поэзией трёхстиший – хокку и «сцепленных строф» рэнга, где художественный образ создается мгновенно, на едином дыхании и без помарок. Такой способ художественного творчества имеет отношение к действию Дао и соответствует мгновенности возникновения и исчезновения форм в феноменальном мире. В результате произведение принимает вид экспромта, эскиза, фрагмента. Виртуозность исполнения «единым штрихом» – признак большого мастера.
Мономанэ, букв. «подражание вещам» – понятие, разработанное в трактатах Дзэами, основоположника японского средневекового театра Но. Согласно его концепции искусства, внешнее подражание – это лишь подготовительный этап, первое приближение к подражанию идеальному образу, выявлению в феноменальном мире югэна – скрытой, тёмной, неявленной красоты. Мономанэ имеет также отношение к Дао и изначальной природе Будды, лежащей в основе мироздания. Поэтому главной задачей актёра была передача сокровенной сути бытия, лежащей за его конкретными явленными формами, передача некоего «идеального типа», «идеального первообраза». По мнению Дзэами, «прекрасное в природе, хоть и тленно и быстротечно, но несет в себе таинственный отблеск вечности, исполнено залогов жизни, и человек, чтобы приобщиться к вечному совершенству вселенной, должен подражать ему, копировать это совершенство в своей деятельности».[7]
Следует отметить еще одну замечательную черту японского традиционного искусства, вытекающую непосредственно из мировоззренческих и эстетических основ периода Камакура – Муромати и получившую дальнейшее развитие в эпоху Эдо – Токугава. Имеется в виду сам способ бытования искусства и передачи традиции в рамках так называемой системы иэмото. Система иэмото (букв. «основа дома») подразумевала не просто получение художником-мастером определенной суммы навыков в избранной профессии, а способ наследования традиции как образа, пути (дао) всей жизни. Средневековая система обучения канонам требовала от художника самоотречения и полного подчинения воле патриарха Дома – иэмото, почти монашеской дисциплины, соблюдения всех норм и табу. Обучение протекало путем непосредственных контактов мастера и ученика (в идеале – сына либо усыновленного, взявшего фамилию и имя главы Дома). Скрупулезное следование традиционным принципам творчества приводило к уничтожению любых индивидуальных, «авторских» черт в работах разных мастеров одного Дома.
Характерным примером может служить актерская династия Дома Итикава в театре Кабуки. На протяжении веков сыновья вслед за отцами под одним и тем же именем и фамилией, различаясь только порядковым номером (Итикава Дандзюро Первый, Итикава Дандзюро Второй и т. д.) играли в одном и том же амплуа. Если вы посмотрите на цветные гравюры разных лет разных художников, изображающие актеров этого Дома в прославившей их роли самурая Сибараку, вы увидите их абсолютную одинаковость и не сможете отличить одного актера от другого. Такая «деиндивидуализация» отдельной личности лишь подчеркивала непреходящую ценность канонов школы, в рамках которой они творили, будь то театр, живопись, и т. д. Благодаря системе Домов – иэмото, которая оберегала традицию, Япония смогла сохранить для многих поколений жителей своей страны самые изысканные образцы своих искусств. В этой связи уместно привести следующее суждение видного российского эстетика Ю. Борева: «Репрезентативность вида искусства предполагает создание в его рамках классических образцов, ибо только они сохраняют значение для новой эпохи и передают по исторической «вертикали» дух своего времени».[8]
Следующий этап развития японской эстетики связан со становлением «третьего сословия», к которому в эпоху Эдо – Токугава относилось купечество, а также среднее и мелкое самурайство – выходцы из крестьянской среды. Именно их вкусы и представление о красоте определяли эстетику тех видов искусства, которые на Западе середины XIX в. стали олицетворять искусство Японии вообще. Надо отметить, что руководство сёгуната Токугава (военного правительства – бакуфу) приложило немало усилий для поднятия образовательного уровня населения, и прежде всего социального слоя, служившего опорой государства – самураев. В «Кодексе воина» (Букэ сёхатто, 1615) говорится: «Сердце и все мысли воина должны быть посвящены искусству владения кистью и… искусству стрельбы из лука и верховой езды. Заветом древних богов было: сначала искусство письма, а затем военное искусство».[9] «Искусство владения кистью» подразумевало не просто грамотность как таковую, но и определенную нормативную сумму знаний в области классических конфуцианских произведений, поэзии, каллиграфии.
Как мы уже говорили выше, при сёгунах была основана конфуцианская академия для самураев – сёхэйко. Это произошло в 1630 г. в новой столице Эдо (современный Токио). Школы более низкого ранга были открыты по всей стране. Для простого народа существовали храмовые школы тэрагоя, где обучали основам грамоты и математики. В город Эдо из Канадзавы была перевезена огромная библиотека, фонды которой пополнялись в течение трехсот лет.
В кон. XVI – нач. XVII вв. началась эпоха книгопечатания. Были созданы тиражи классических произведений японской культуры – пьесы театра Но, прозы и поэзии «золотого века» японской литературы эпохи Хэйан. Тогда появились и первые издания японской классики, иллюстрированные гениями декоративного искусства Хонъами Коэцу (1558–1637) и Таварая Сотацу (первая половина XVII в.). Купцы и высшее самурайство стремились украшать свои дома всем самым лучшим, что можно было купить за деньги: красочными ширмами, фарфоровой посудой, живописными свитками. Стали популярны походы в новые театры: кукольный Дзёрури и драматический Кабуки. В отличие от искусства предыдущего периода, искусство и литература эпохи Эдо – Токугава отражали не всегда возвышенные, а часто – и вовсе приземлённые вкусы третьего сословия с его тягой к лакированной яркости, броскости и к эротике. Такой тип красоты с оттенком вульгарности получил название цуяби – «гламурная красота».
Главными героями литературных и драматических произведений популярного писателя Ихары Сайкаку (1642–1693) и известного драматурга Тикамацу Мондзаэмона (1653–1724) становятся богатые купеческие сыновья и их пассии лёгкого поведения из «зеленых кварталов». Их обитательницы, наряду с актёрами театра Кабуки, были главными персонажами и другого нового вида искусства – цветной гравюры укиё-э (букв. картины плывущего мира). Ранее, ещё в далёкие хэйанские времена, термин укиё обозначал бренность, непостоянство феноменального мира. Он нёс в себе оттенок знаменитой хэйанской грусти по мимолетности бытия. Символом такой мимолётности чаще всего являлись цветы японской вишни сакуры, осыпающейся на третий день цветения. Теперь же, в XVII–XIX вв., термин укиё, сохранив оттенок мимолетности, приобрел новое значение: «хоть миг – да мой!» В результате мир укиё стал ассоциироваться с не всегда благопристойным поведением богачей, стремившихся как можно скорее получить максимум чувственных удовольствий.
В сфере искусства мир укиё – это мир повседневной жизни, вдруг приобретшей непреходящую ценность именно из-за своей преходящести. На картинах и гравюрах этого времени наряду с традиционными темами представлены в изобилии сцены из повседневной жизни, которые изображены в мельчайших подробностях. По этим произведениям можно судить о том, как работали магазины, цирюльни, прачечные, бани. С высоты птичьего полёта можно заглянуть в будуары красавиц или в актерские гримерные. Мы можем с точностью узнать о том, как проходили праздники и как на специальных носилках осуществлялись переправы через разлившиеся реки.
Патриотически настроенные учёные-интеллигенты, такие как Камо Мабути (1697–1769) и Мотоори Норинага (1730–1801), объединившиеся в группу «Кокугакуся», возмущались падением нравов в стране и измельчанием тем родного искусства. Они видели главную причину упадка духа в восприятии буддийско-конфуцианской идеологии в качестве государственной и выступали за возврат к исконному синтоизму. Именно они положили начало серьёзному систематическому изучению и научному комментированию литературного наследия эпох Нара и Хэйан, ратуя за возврат национального искусства в лоно эстетики аварэ.
Тем не менее, искусство именно этого периода произвело сильное впечатление на парижских импрессионистов и постимпрессионистов. Главный «японист» постимпрессионизма, Ван Гог, копировал гравюры Хокусая, пытался писать иероглифы и изобразил себя в одеянии буддийского монаха. Заметим, что обилием декоративно завивающихся облаков и закручивающейся листвой деревьев он превзошел своих учителей – Хокусая и Хиросигэ. У Ван Гога даже земля представляет собой скопление завитков.
Всё это стало возможным благодаря открытию страны в сер. XIX в., в самом конце сёгуната Токугава. Тогда Европа и Сев. Америка пережили бум любви ко всему японскому – жапонезри (фр. «увлечённость Японией»). Японские произведения изящного и прикладного искусства в огромных количествах ввозились в Европу. «Сейчас нам трудно даже вообразить себе реальные размеры моды на всё японское. Она затронула самые различные социальные слои населения Запада, причем самых разных регионов – от Франции и Британии до Восточной Европы и Северной и Центральной Америки. Она проявлялась не только в огромном числе ввозимых из Японии изделий. Она характеризуется огромным разнообразием произведений, и имела черты одержимости»,[10] – пишет современный профессор Токийского университета Хага Тору.
Действительно, за пятьдесят лет (1850–1900) в страны Запада, и прежде всего во Францию, бывшую законодательницей мод, были ввезены десятки тысяч одних только цветных гравюр укиё-э. Но кроме того ввозились в огромных количествах и произведения прикладного искусства, такие как веера, лаковые шкатулки, изделия из керамики, гребни, складные и одинарные ширмы, расписанные художниками школ Кано и Корин, а также японское платье – кимоно.
Импрессионист К. Моне и американский художник Уистлер изображали своих моделей в кимоно на фоне японских гравюр и вееров. В самом центре Парижа на улице Риволи открылся магазин, торговавший изделиями японских мастеров. Его частыми посетителями стали братья Гонкуры, Ш. Бодлер, Э. Мане. На втором этаже именно этого магазина Винсент Ван Гог рылся в 1886 г. в кипах дешёвых японских цветных гравюр, восхищаясь их лаконичностью и четкостью линий.
Крупный знаток японского искусства Хаяси Тадамаса вплоть до 1905 г. занимался ввозом в Европу предметов традиционного национального искусства от антиквариата до современных печатных гравюр. Он дружил с Эдмоном Гонкуром и Эмилем Гимэ, страстным коллекционером, именем которого ныне назван знаменитый парижский Музей дальневосточного искусства. Хаяси же консультировал художественные галереи и частных любителей. Вершиной деятельности Хаяси Тадамаса стала парижская выставка 1900 г., для которой он предоставил национальные сокровища от эпохи Хэйан до современности. Японское правительство придавало огромное значение формированию у людей Запада идеализированного образа Японии и содействовало пропаганде выразительного национального искусства. Достаточно сказать, что до 1868 г., т. е. вплоть до так называемой реставрации Мэйдзи, организацией художественных выставок занимались специальные представителя военного правительства сёгуната, включая даже членов правящего клана Токугава (к примеру, Токугава Акитакэ был ответственным за парижскую выставку 1867 г.).
После того, как система сёгуната прекратила свое существование, пропагандой японского искусства занялось императорское правительство Мэйдзи. Им были организованы выставки в Вене в 1873 г., в Филадельфии в 1876 г. и в Париже в 1878 и 1900 гг. В работах западных художников начинают звучать японские мотивы (Клод Моне, «Японочка»; Эдуард Мане, портрет писателя Эмиля Золя на фоне гравюры, изображающей борца сумо). Японское искусство стало не только важным декоративным элементом искусства Ар Нуво, но и определило стилистику художественных образов у таких гениальных мастеров, как Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Анри Тулуз-Лотрек, Анри Ривьер. Об этом говорит выбор тем картин, уплощённость, высокая точка схода и упрощённое цветовое решение, особая роль линии – т. е. сам художественно-образный строй их работ. «Стремясь избавиться от оков западной академической традиции, – отмечает профессор Хага, – они испытали сильное влияние того, что казалось им свободой и резкой прямотой в японском искусстве».[11]
Не может быть никакого сомнения, что в работах по стеклу Эмиля Галле (одна из вершин французского прикладного искусства в стиле Ар Нуво) художественные образы формируются под впечатлением живописи японских художников эпох Момояма (кон. XVI в.) и Эдо – Токугава. Этот факт позволяет нам говорить, что постепенно поверхностный взгляд на искусство Японии сменился серьёзным проникновением в сущность японской эстетики, что оказало большое влияние на художественный стиль европейского модерна кон. XIX – нач. XX вв.
Углублению понимания структуры японского художественного образа способствовало издание в Париже журнала «Ле жапон артистик» на трех языках – французском, английском и немецком. Это было богато иллюстрированное издание, освещавшее с 1888 по 1891 гг. проблемы изящного и прикладного японского искусства. Там появлялись серьёзные научные статьи о цветной гравюре, керамике, мечах, гребнях, о миниатюрной скульптуре нэцке, об архитектуре и театре. Статьи в этом журнале были не просто описательными, в них делалась попытка осмысления эволюции понимания прекрасного и воплощения эстетического идеала в различные периоды японской истории. Авторы журнала указывали на взаимосвязь эстетических идеалов разных эпох с господствовавшими в обществе религиозно-философскими взглядами.
Аналогичный процесс усвоения западной культуры шел параллельно и в самой Японии, буквально захлебнувшейся в информационном потоке с Запада после открытия страны в 1868 г.[12] Японцам потребовался достаточно большой промежуток времени и немалые умственные усилия для того, чтобы разобраться в иерархии ценностей и образном строе западной культуры.
Глубокое изучение Востока, и в частности Дальнего Востока, его языков и письменности, его религиозных и философских учений, его искусства и литературы ознаменовалось появлением соответствующих кафедр в университетах Германии и России. Художественная яркость первого впечатления от соприкосновения с новым ликом красоты, непривычным, и, тем не менее, вполне явственным, еще долгое время определяла процесс взаимопостижения западной и восточной культур.
Странствия как путь художника в традиционной Японии
Представление о жизни человека как о пути к смерти существовало во всех без исключения культурах. Однако если на Западе понятие «жизнь – дорога» является метафорой, то на Дальнем Востоке это мировоззренческая основа. Путь японского художника как путь человека, наделённого самосознанием – это возвращение к истокам. Истокам природным – горам, лесам, рекам, туманам. Истокам чувственным – незамутнённым ощущениям ребёнка, открывающего для себя мир. И, наконец, истокам духовным – к мудрости основоположников традиционных искусств, и далее – в глубь китайской старины, к мудрости великих учителей: Лао-Цзы, Чжуан-Цзы, Конфуция, т. е. к ментальному старчеству.
На Дальнем Востоке «странствие» всегда связывалось с понятием перемен – и перемен внешних, пространственно-временных, и перемен внутренних, обусловленных физическим, эмоциональным и ментальным взрослением человека.
Неслучайно поэтому обилие псевдонимов у традиционных дальневосточных художников. Псевдоним – новое имя – был знаком преображения художника на его творческом пути. Тема изменения как преображения – тема особая. «Изменение» (кит. и, яп. эки) – это основа основ дальневосточной письменной культуры, главная книга которой, «И-цзин», так и называется «Книгой перемен». Она описывает 64 основных состояния макро– и микрокосма, неизменного в своих нескончаемых переменах. Странствия традиционного художника на Дальнем Востоке – это материальное воплощение «И-цзин».
«Странствие – это прежде всего вхождение в стихию движения, вместе с движением происходит уход от каждодневного, обычного, ложно-суетного, привязывающего и связывающего в сторону чистого, подлинного, лишённого каких-либо привязей, постоянно меняющегося. Это движение «вне» – вне вещей, вне времени, вне пространства, вне забот, вне целей. Это обретение духа свободы, ощущения лёгкости, невесомости пушинки, несомой ветром. Движение в потоке постоянных перемен, несущих обновление и акцентирующих внимание на сиюминутном, когда каждое мгновение воспринимается как вечность».[13]
Вплоть до XVII в. подавляющее большинство населения Японии с момента рождения и до самой смерти никогда не покидало своей малой родины. Дороги были никуда не годными, велика была опасность ограбления, да и физически это было нелегко: нести за спиной еду, постельные принадлежности, тёплую одежду и несколько пар обуви. К тому же в Японии много полноводных рек, а мостов долгое время не существовало. Строить их долгое время (начиная с эпохи Средневековья и вплоть до периода Эдо – Токугава) строго-настрого запрещалось, поскольку военное правительство бакуфу старалось таким образом воспрепятствовать быстрому подходу к столице войск их потенциальных противников – крупных феодалов даймё. В сухую погоду через реки можно было переправиться либо вброд, либо на носилках за плату в местах переправ – тоховатаси, либо на специальных лодках – ватасибунэ. Однако весной, во время таяния снегов в горах, в сезон дождей или во время тайфунов, часто посещающих Японские острова, наступал период кавадомэ, когда большие реки совершенно невозможно было перейти ни в каком месте.
Тем не менее, люди с достатком и в стародавние времена с относительным комфортом совершали небольшие сухопутные и вод ные путешествия. Блистательные дамы и кавалеры Хэйанской эпохи отправлялись весной любоваться цветущей сакурой, летом – слушать пение кукушки, осенью – наслаждаться видом алых клёнов или полной луны, зимой – свежевыпавшим снегом. Вот как описывает подобные путешествия придворная дама, ставшая впоследствии знаменитой писательницей, Сэй Сёнагон (966–1017): «В двадцать четвёртый день двенадцатой луны щедротами императрицы состоялось празднество Поминовения святых имён Будды. Прослушав первую полуночную службу… глубокой ночью поехали домой. Даже самые жалкие хижины казались прекрасными под снежной пеленой. Они так сверкали в лучах предрассветного месяца, словно были крыты серебром вместо тростника. Повсюду виднелось такое множество сосулек, коротких и длинных, словно кто-то нарочно развесил их по краям крыш. Хрустальный водопад сосулек! <…>
В нашем экипаже занавесок не было. Плетёные шторы, поднятые кверху, не мешали лучам луны свободно проникать в его глубины, и они озаряли многоцветный наряд сидевшей там дамы. На ней было семь или восемь одежд: бледно-пурпурных, белых, цвета алых лепестков сливы… Густой пурпур самой верхней одежды сверкал и переливался ярким глянцем в лунном свете».[14]
Изображения коротких путешествий, подобных этому, читатель во множестве найдёт в литературе «женского потока» эпохи Хэйан. Мурасаки Сикибу (976–1016), Сэй Сёнагон, Митицуна-но хаха (934–974) прилежно и с воодушевлением описывали причёски и наряды придворных дам и кавалеров, их манеры и поведение во время выездов для созерцания природы, их участие в поэтических раутах или в храмовых праздниках и церемониях. Для придворной знати это было скорее развлечением, хотя декларировалось, что такие церемонии на лоне природы должны способствовать постижению религиозных истин.
Уже в те далёкие времена считалось, что путешествие обновляет душу, придаёт свежесть восприятию, рассеивает уныние: «Отправляясь в небольшое путешествие, всё равно куда, ты как будто просыпаешься. Когда идёшь, глядя окрест, обнаруживаешь множество необычного и в заурядной деревушке, и в горном селении»,[15] – писал Кэнко Хоси (1283–1352), знаменитый писатель-странник, произведения которого свидетельствуют об удивительно тонком понимании автором природы и человека. Из следующего отрывка видно, что бесцеремонность человека по отношению к природе вызывала у Кэнко Хоси гневное возмущение: «Он проталкивается, пролезает под самое дерево, усыпанное цветами; уставившись на цветы, глаз с них не сводит, пьёт сакэ, сочиняет стихотворные цепочки рэнга, а под конец, ничтоже сумняшеся, ломает для себя самую крупную ветвь. В источник он погрузит руки и ноги; по снегу непременно пройдёт, чтобы оставить следы – ничем не может любоваться со стороны».[16]
Но если знатные господа совершали путешествия с развлекательно-ознакомительной целью, служилым людям приходилось путешествовать не по своей воле. Это были пограничные стражи, сборщики налогов, монахи и послы, направлявшиеся в соседние Китай и Корею на работу и за учёностью, а также крупные феодалы даймё, надолго покидавшие столицу с целью инспекции подчинённых им провинций. Вынужденные путешественники волей-неволей в ходе своих вояжей получали разнообразную информацию, которая нашла отражение в огромном корпусе японской дневниковой литературы. Красноречивым примером в данном случае может служить «Тоса никки» – дневник Ки-но Цураюки (868–946), губернатора провинции Тоса (о. Сикоку). В нём описывается многодневное морское путешествие из Тоса в столицу.[17]
В эпоху Эдо, когда господство сёгунов (военачальников, отстранивших императоров и узурпировавших власть) стало безраздельным и сопротивление удельных князей – даймё было окончательно подавлено, начались работы по благоустройству существовавших дорог. Тогда было пять больших дорог-трактов кайдо: Токайдо, Накасандо, Косюкайдо, Осюкайдо и Никкокайдо. Три из них вели из новой столицы Эдо (нынешний Токио) в старую столицу Киото. Самый оживлённый и самый известный тракт – Токайдо, пролегал вдоль океанского побережья. Он был настолько широк, что на нём могли разъехаться два даймё, путешествовавших с многочисленной свитой. Именно на Токайдо впервые начали осуществлять разметку – высаживать деревья через каждое ри[18]. Здесь впервые появились гостиницы – ядо, а также чайные заведения и мастерские для починки повозок и карет. Вскоре возникли и весёлые кварталы с их обитательницами. В эту же эпоху идёт строительство мостов через крупные реки. В результате путешествие начинает приобретать «туристические черты», даже самые простые люди получают возможность странствовать с целью паломничества и одновременно развлечения и посещать храмы Киото, Нары и Исэ. При этом странники обязательно останавливались полюбоваться видом священной горы Фудзи, расположенной неподалёку от станции Мисима на токайдоском тракте.
В среде просвещённых слоёв населения стали практиковаться расставание со светом и уход в Природу. Возникли места добровольных уединений, например, долина лотосов под Киото. Однако самыми известными и популярными местами для отшельничества стали территории «митиноку». В древности и в Средневековье сюда входили пять провинций, расположенных на северо-востоке о. Хонсю на землях нынешних префектур Фукусима, Миядзаки, Иватэ и Аомори.
Согласно «Словарю архаичной терминологии», буквальный перевод слова «митиноку» означает «внутренние территории», «глубинка». Кроме того этот термин имеет и другие значения, которые также даются в «Словаре»:
• судзуро-ни (сородзоро-ни) – спонтанно, невольно, непроизвольно, бесцельно, безбрежно, безгранично, без какой-либо определённой причины и конкретной цели; открывать сердце природе, распахнуть своё сердце навстречу природе;
• митиноку-ни мадоиюку – заблудиться, затеряться, плутать; ходить кругами, не думая о конечном результате;
• кокоробосоку нару – стать одиноким, заброшенным, покинутым.[19]
Попробуем разобраться с каждым из этих понятий по отдельности.
Судзуро-ни. Данный «слой» понятия «митиноку» связан прежде всего с даосизмом. Даосы – древние отшельники. Согласно их учению, бесцельное спонтанное блуждание под сенью природы есть путь (дао) приобщения к её тайнам, т. е. к тайнам самого Дао – невидимого Закона Природы и человека. «Туманность, беспредельность и отсутствие формы; изменчивость и непостоянство; чередование жизни и смерти; единение с небом и землёй; странствование с духами; чего достичь – не ясно; куда направляться – туманно; …не остаётся ничего, к чему бы можно вернуться», – читаем у известного даоса Чжуан-Цзы.[20] Даосы – это по сути своей отшельники. Людям, проникавшим в тайники природы на всех её уровнях – алхимикам, астрологам, врачам, художникам, – предписывалось жить, удалившись от мира. Им следовало отрешиться от всех мирских забот, погрузившись в природную естественность. Иными словами, будущий даос должен был достичь определённого уровня дикости. Но человек не обладает спонтанностью природы. Поэтому даосизм, а вслед за ним и дзэн-буддизм требовали от своих адептов забвения учёности и учителей, но лишь при условии, чтобы было что забывать. «Забвение» учителей – это отказ от простого усвоения результата жизненного опыта наставника и готовность к тому, чтобы самостоятельно пройти все стадии духовного роста и только после этого, вернувшись к учителям в новом качестве и с новым опытом, обратиться к постижению их мыслей всем своим существом.
С середины XIV в. область «митиноку» становится излюбленным местом отшельничества японских художников. Как правило, это были высокообразованные люди. Следует отметить, что идеал художника – скитальца и отшельника формировался не только в лоне даосской традиции. Одним из первых знаменитых поэтов-отшельников стал конфуцианец, бывший государственный чиновник, Тао Юаньмин (Тао Цянь, 365–427): «Был во время Цзинь отстранившийся от службы Тао Юаньмин из Сюньяна. Он жил в уединении на горе Нанюэ. <…> Путь его не сочетался со всем, что окружало его, он бросил службу и последовал тому, что любил», – писал о нём его друг, поэт Янь Яньчжи.[21] Тао считал несправедливыми порядки, царившие в современном ему обществе, и поэтому предпочёл удалиться на лоно родной природы: «Тао Цянь не только вернулся к полям, а ещё воплотил это возвращение в поэтических произведениях. С тех пор синтез трёх элементов – отшельничества, природы и искусства – стал идеалом неофициального поведения конфуцианской личности и наиболее плодотворной основой китайской духовной культуры».[22]
Духовные традиции конфуцианства и даосизма получили в Японии подкрепление в синтоизме. Каждое, пусть самое малое явление природы, почиталось в синтоизме как ками – божественная монада, наделённая собственной душой. В синтоистской традиции возврат к природе – это возврат в стихию родственных душ. Благодаря «природной жизнерадостности синтоизма» (О. О. Розенберг) в арсенале японских средневековых художников появилось понятие «саморадости» – острого переживания счастья погружённости в природу и общения с ней. Однако при этом синтоистской традиции присущи и черты аскетизма: святилища японских божеств возводились в древности в глубине лесов и в горах, и чтобы добраться до них, путнику требовалось затратить немало усилий. По дороге к главному святилищу через определённые промежутки пути располагались священные ворота – тории, символизировавшие ступени развития духа паломника.
В период Камакура – Муромати в буддизме (особенно в его разновидности дзэн, идейно близкой даосизму) ещё более усилилась традиционная направленность на преклонение перед природой. Последняя воспринималась как источник истинного знания, и уход под её сень считался образцом поведения, достойного мудреца. Все ведущие школы Махаяны определяли среду обитания (Природу) как превращенное тело Будды. На окружающий мир естественным образом переносились все характеристики божества. Иными словами, буддийская традиция освящала природу, придавая ей, таким образом, особую ценность.[23]
Ведь природа с её сезонными изменениями наглядно подтверждает основной тезис буддизма махаяны о переменчивости всего сущего: ничто не вечно, кроме вечного изменения. Неслучайно буддийские монастыри, становившиеся не только религиозными, но и художественными центрами, как правило, располагались в весьма живописных местах, чаще всего в горах, покрытых девственными лесами. Их обитатели, монахи-хоси, часто были прекрасными поэтами, художниками, каллиграфами.
В итоге можно сделать вывод, что в Японии идеал художника – скитальца и отшельника – в течение всего периода Древности и Средневековья получал «аксиологическую подпитку» и поощрение из четырёх мировоззренческих источников: синтоизма, буддизма, конфуцианства и даосизма. В результате взаимодействия и переплетения всех смыслов, текстов и подтекстов этих учений, а также исторических и культурных наслоений к XVI в. в японской эстетике сложился идеал странника в природе.
Обратимся теперь к следующему понятию, характеризующему термин «митиноку». Это митиноку-но мадоиюку (от яп. мадоу – «блуждать кругами», «сбиться с пути»; мадои – «заблуждение», «иллюзия» и юку – «идти»). Речь идёт о том, что процесс овладения мастерством никогда не бывает прямолинейным, он обязательно включает в себя периоды замешательства, возвратов, повторов. Успех сменяется упадком, уверенность – сомнениями и колебаниями. Но эти «тёмные периоды» очень важны: это периоды преодоления «сопротивления материала», закалки воли, упрочения духа. В результате художник выходит обновлённым, преображённым, изменяясь как физически, так и духовно.
Многие традиционные художники использовали блуждания в митиноку как средство телесного и ментального укрепления на избранном пути дао. «Эта категория нередко означает личный путь или определённое направление в живописи, живописную школу. Но прежде всего дао представляет собой одно из самых распространённых понятий китайской классической философии… Понятие дао означало также путь подготовки и обучения живописи, предъявляющий особые требования к художнику и уровню его образованности, характеру и поведению, помимо требований высокого технического мастерства».[24]
В китайской эстетической традиции путь художника понимался не как линейное поступательное движение к вершинам жизни и профессионализма, а как некое круговое движение, как постоянноевозвращение к традиции на всех уровнях: природном, мировоззренческом, профессиональном. Подобный подход к творчеству практиковала и японская эстетика гэйдо, о чём свидетельствует опыт всех школ традиционного искусства, так называемых Домов. Система Дома – иэмото – это система воспитания художника в рамках гэйдо, осуществляемого главой – старшим по возрасту и по значению представителем какой-либо творческой династии (живописцев, актёров, мастеров чайного ритуала, каллиграфов, музыкантов). Данная система предполагала абсолютную преданность «пути» своего Дома. Она также предусматривала беспрекословное, граничащее с монашеским, послушание, подчинение учеников воле главы Дома. В системе иэмото профессия передаётся по наследству. При отсутствии родных наследников – усыновлённым ученикам, берущим фамилию главы Дома и таким образом становящимся полноправными членами Дома.
Подобная система, помимо сохранения и упрочения классического канона в традиционном японском искусстве, способствовала приобретению высочайшего профессионального уровня всеми воспитанниками гэйдо. Само слово «гэйдо» состоит из двух иероглифов: гэй (искусство) и до (дао) – путь. В главном трактате основателя театра Но, актёра и драматурга Дзэами Мотокиё (1363–1443), названном «Кадэнсё» (Предание о цветке стиля, 1400–1418), тоже активно живёт такое важное понятие, как «путь» – до. Оно звучит уже во вступлении к трактату, где говорится, что человек, помысливший вступить на наш путь, главное, не должен отклоняться на другие пути. Путь – это расширение и углубление понятия Дома до религиозно-философского звучания, ибо путь в даосском лексиконе есть метафизический символ внутренне обусловленной земной жизни. И одновременно на языке искусства данное понятие является почти техническим термином и заключает в себе следующие конкретные представления:
• профессионализм – владение высокими техническими навыками;
• универсализм – творческая идея, на которой строится узкопрофессиональная деятельность, проявление общей идеи, господствующей и в других искусствах;
• наследование – передача в поколениях добытой первоначальной идеи и высоких технических навыков.
Универсальное значение слово «путь» приобретает в XIII в., когда активно внедряется любимое изречение дзэнских учителей, заимствованное ими у даосов: «одно – во всём, и всё – в одном», – что способствовало полной концентрации усилий человека на одном роде деятельности как способе достижения высшей истины.[25]
Таково единство разнообразия смыслового содержания пути для традиционного художника. Здесь прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что целостность и всесторонность являлись идеалом, который каждый вступивший на «путь гэйдо», стремился претворить в собственной жизни.
Следование «пути» формировало серьёзное отношение к жизни у «путешествующего», настолько серьёзное, что приводило, в конце концов, к сознательному принижению художником самого себя, к чертам юродства. «Великое совершенство похоже на несовершенство, но его действие не может быть нарушено. Великая полнота похожа на пустоту, но её действие неисчерпаемо. Великая прямота похожа на кривизну, великое остроумие похоже на глупость».[26] Последняя сентенция великой книги «Дао дэ цзин» имеет для нас принципиальное значение, коль скоро мы рассуждаем об особенностях поведения художников в ходе странствий в митиноку.
Экстравагантность поведения и юродствование – традиция, пришедшая из Китая вместе с дзэн-буддизмом и даосизмом. Ещё в XI–XII вв. китайские художники и каллиграфы считали юродство проявлением духа Истины.[27] Японцы унаследовали это представление.
Вспомним в этой связи известнейшую поэтессу Оно-но Комати (IX в.). Её красота стала легендой и даже предметом некоторых эстетических трактатов. Тем не менее в пьесе театра Но «Сотоба Комати» (Гробница Комати), приписываемой основателю театра Ногаку Канъами (1333–1384), героиня, её изображающая, так представляется странствующим монахам:
Снисхождения просит Дочь Оно-но Ёсиданэ, Правителя Дэва, Оно-но Комати, Ничтожная побродяжка.[28]Налицо самоуничижительный пафос юродствующей поэтессы, но при этом усматривающей в самом юродстве глубокий смысл.
Певец японских дорог, любимец всех эдокко (коренных жителей Эдо-Токио), знаменитый график Хиросигэ (1797–1858), предчувствуя скорую смерть, написал о себе так:
Отбросив в сторону луну и снег, Приятно закругляться в жизни С головой, более круглой, Чем круглая-прекруглая клёцка.[29]Здесь Хиросигэ демонстрирует пренебрежение к собственным заслугам перед искусством. Он был славен не только как «художник 53-х станций тракта Токайдо», но и как мастер «снежных» и «лунных» пейзажей. Всё это он «отбрасывает в сторону», отказываясь от каких бы то ни было почестей перед лицом Вечности. И вдобавок к этому высмеивает своё недавнее пострижение в монахи, в результате которого его обритая голова уподобилась «круглой-прекруглой клёцке».
Последнее понятие, характеризующее «митиноку», – кокоробосоку нару (букв. «быть одиноким», «покинутым», «заброшенным»). Одиночество путешественника способствовало тому, что он концентрировался на своих переживаниях. Путешествие, где всё внове, становилось «вечным детством» художника. Прежде всего потому, что он начинал буквально воспринимать себя как бы находящимся в утробе матери-Природы. Его телесные и духовные ощущения обострялись, становились «как в детстве». Он чувствовал растянутое время, растянутое пространство так, как мы чувствуем это именно в детстве, когда всем своим существом воспринимаем, ощущаем всю огромность пространственно-временного континуума. Неслучайно детство во «времени судьбы» занимает едва ли не половину, тогда как во «времени жизни» – это совсем небольшой промежуток.
Превращение времени жизни во время судьбы в период скитаний художника способствовало и особому восприятию каждого события, каждой встречи (с каким-либо явлением природы, с новым человеком, невиданным животным или растением) и придавало им статус уникальных. В японской эстетической традиции существует специальное понятие – согу, обозначающее случайную встречу в пути. На узких тропинках в митиноку нечаянные свидания подстерегали на каждом шагу. Часто это были «встречи» с прошлым, с наследием людей, умерших ещё до рождения странствующего художника. Но чем случайнее казались эти встречи, тем значительнее и неслучайнее оказывались они на самом деле, поскольку по буддийским представлениям такая встреча является знаком кармической связи в предыдущих и последующих перерождениях.
«Когда я посетил митиноку, – писал поэт-странник Сайгё (1118–1190), – то увидел высокий могильный холм посреди поля. Спросил я, кто покоится здесь? Мне ответствовали: это могила некоего тюдзё. – Но какого именно тюдзё? – Санэката Асон, – поведали мне. Стояла зима, смутно белела занесённая инеем трава, и я помыслил с печалью:
Нетленное имя! Вот всё, что ты на земле Сберёг и оставил. Сухие стебли травы — Единственный памятный дар».[30]Иногда в скитания отправлялись не в одиночку, а с другом-единомышленником или учеником. Но пути в митиноку, как и жизненные пути, рано или поздно расходились.
Отныне я иду один. На шляпе надпись «нас двое»… Я смою её росой,[31] —написал опечаленный поэт Мацуо Басё (1644–1694) после расставания со своим попутчиком-учеником. «Можно предположить, – отмечает известный американский японовед Дональд Кин, – что Басё совершал свои путешествия в надежде получить новые впечатления не только от пейзажей, вдохновлявших поэтов прошлого, но и из общения с людьми в дороге и на постоялых дворах, которые стали бы стимулом для создания новых стихов.<…> Они порождены не только любовью к странствиям – любовью, проходящей сквозь всю японскую литературу от эпохи Манъёсю до наших дней, – но также стремлением найти в путешествии источник для творчества и в конечном итоге для осознания своего места в жизни как поэта и человека».[32]
Остроте ощущений и восприятий способствовали тяжкие труды и телесная аскеза. Странники сознательно подвергали себя физическим испытаниям и голодовкам, мёрзли зимой, изнывали от жары летом… Всё это непременно имело следствием рост души и вдохновения.
Но временами была и светлая радость. Всё приходило и уходило своим чередом, протекало в гармонии с природными силами. Иногда художники умирали по дороге и их выбеленные солнцем и ветром кости служили для новых странников источником поэтического вдохновения:
Может быть, кости мои Выбелит ветер… Он в сердце Холодом мне дохнул,[33] —писал Басё в путевом дневнике, так и названном – «Кости, белеющие в поле». Великий скиталец по японским дорогам, Андо Хиросигэ, перед смертью оставил жене следующее напутствие:
Не стенай и не плачь Когда я умру! Брось мои кости в поле. Дай голодным собакам попировать. Да-да, попировать на них![34]Удивительно хладнокровие, с которым певцы дорог говорили о собственной смерти. Её тень сопровождала их всю жизнь, её образ причудливо сочетался с образами из сновидений и призраками-мабороси, встреченными в пути.
Вся жизнь скитальца была нацелена на иссушение плоти, на сознательное исхудание «до костей». Голодовки – осознанное «впускание» в себя пустотности мира – и изнурительные зимовки в горах вели к состоянию, которое в китайской традиции называлось «одухотворённые кости». Ещё одна превосходная метафора – «замороженный дух» означает вещную твёрдость сущего. Он оказывается не инертной материей, а конденсатом творческой силы мира. Идея смычки в человеке именно костной основы и высшего духовного опыта прозрения личностью своей «духовной уникальности» в «беспредельном странствии» традиционна для культуры Японии.
Для японской традиционной эстетики гэйдо скитания были тем полигоном, где формировались и «обкатывались» эстетические понятия, обозначавшие новый, более изысканный тип красоты: шероховатой, безыскусной, но в то же время одухотворённой и лаконичной. Так постепенно вырабатывались эстетические понятия: ваби – шероховатость, полная природной энергии; хиэкарэта би – иссушённая красота; хиэясэта би – замороженная исхудавшая красота. К XI в. благодаря подвижничеству таких скитальцев, как поэты Мацуо Басё и Иккю Содзюн (1394–1481), писатель Кэнко Хоси, мастер чайной церемонии Мурата Сюкю (1432–1502) и многих других, часто безымянных мастеров, в Японии сложился новый тип эстетики. Её принципы ощущаются в пьесах известного драматурга Дзэнтику (1405–1470), в стихах Басё и Исса (1763–1827). В лексиконе эстетиков и художников появились нарочито логически противоречивые понятия: «видеть невидимое», «слышать неслышимое», «вкушать безвкусное». Само понятие «смерть» стало буквально означать «возвращение к жизни».
Странствующий мастер испытывал полное доверие к тому великому неописуемому и непознаваемому, что иногда на миг бросало некий чудный отблеск на его творчество и опять уходило в тень. Для обозначения этого «отблеска» был выработан особый эстетический термин югэн – «сокровенная суть», «сокровенно прекрасное», «внутреннее изящество». Принцип югэн связан с категорией японской поэтики ёдзё, означающей, что смысл стихотворения и содержательно, и эмоционально выходит за рамки текста.[35] Таким образом в Японии эстетически осмысливалось понимание непостижимости мира.
В упоминавшейся выше пьесе «Гробница Комати» странствующие монахи поют митиюки – дорожную песню:
Путь недалёкий! Мы в скитаниях передохнём В одичалом поле. Нам ночлегом – простая скала, Наша кровля – небо, В нас прибежище заключено Истинной правды.[36]Иными словами, «странствие в митиноку» для традиционного художника – это медленное, кропотливое, углублённое прохождение через стадии духовного роста. Ему сопутствуют упоение от ощущения вечной раздвоенности и наслаждение мимолётностью бытия. Одновременно приходит осознание всей тщеты такого наслаждения. Воспитание в себе детскости восприятия вместе с умудрённостью старчества; сосредоточенное переживание длительности пространства и времени, а также физическая и духовная аскеза – такой телесный и духовный опыт вёл к внутреннему преображению мастера. Противоречия эстетических понятий, намеренно подчёркиваемые творцами традиционного искусства гэйдо, имеют разрешение только во внутреннем, скрытом опыте преображения в ходе прохождения Пути. Только такой Путь считался истинным, а преображение художника давало ему право быть творцом.
Японская эстетика: от традиции к философии
Знакомство с западной культурой
До встречи и основательного знакомства с западной культурой японская эстетика существовала и развивалась в полном слиянии с практикой и теорией конкретных искусств. Эстетические положения, содержавшиеся в литературных памятниках буддизма, даосизма и конфуцианства, никогда не рассматривались специально как вычлененные из текста и абстрагированные теоретические концепты. Для эстетической традиции японцев был характерен эмоциональный подход к освоению красоты мира, «проникновение вовнутрь» её. Эта традиция не подразумевала рационально-умозрительного, внешне-холодного отношения к окружающей действительности.
Как область научного знания и как философская дисциплина японская эстетика начала складываться в эпоху Мэйдзи (1868–1911). Это был период бурных социально-политических преобразований, перехода феодальной Японии на капиталистический путь развития. Именно в это время произошло первое основательное знакомство японцев – которые в течение предшествующих двух веков пребывали практически в полной изоляции от внешнего мира – с достижениями западной культуры. По образному выражению современного исследователя японской эстетики Микеле Марра, «перед Японией встала проблема: либо суметь переварить двухтысячелетнюю западную мысль, либо столкнуться с непреодолимыми трудностями несварения».[37] В духовной жизни страны получили распространение новые тенденции, связанные с возникшей потребностью осмыслить место и роль Японии в мировом сообществе, выяснить значение японской культуры в контексте достижений всей человеческой цивилизации.
Акцент в области идей был сделан на «объективном постижении действительности» – на научном и философском знании. По словам философа Тосака Дзюн, «цивилизация, просвещение – таков был пароль, который символизировал новые идеи начального периода эпохи Мэйдзи».[38] Поначалу чужеземная духовная культура воспринималась японцами как некое единое целое. Ведь идеи европейской философии, постепенно вызревавшие и формировавшиеся и затем сходившие со сцены, проникли в общественное сознание Японии сразу, за очень короткий срок. Не искушённые в философском теоретизировании жители Японских островов лишь со временем обнаружили, что в открывшемся им богатейшем философском наследии Запада существуют концепции и теории, взаимоисключающие друг друга.[39]
В периоды Мэйдзи и Тайсё (1912–1925) появилось множество философских обществ и кружков, в которых изучались труды западных мыслителей. Страну наводнили переводы произведений Канта и Гегеля, Шопенгауэра и Ницше, Бергсона и Гартмана… Западные эстетические учения проникли в Страну Восходящего солнца как часть западных философских концепций. В периоде Мэйдзи берёт начало традиция переложения на японский язык фундаментальных работ по западной философии и эстетике. В первую очередь переводились сочинения таких классиков, как Платон, Аристотель, Плотин, Августин и др. Попала в поле зрения японцев и русская эстетическая мысль: известным писателем Фтабатэем Симэй (1864–1909) были переведены «Идея искусства» и «Разделение поэзии на роды и виды» В. Г. Белинского. По наблюдению Т. П. Григорьевой, Фтабатэй столкнулся с огромными «трудностями при переводе философских терминов: абстрактных понятий в японском языке не было, а европейскую терминологию ещё не освоили. Больших трудов стоило ему подобрать эквиваленты к таким, например, понятиям, как эстетика, истина, сущность, эмпирическое познание, идеальный, диалектический, субъективный, объективный».[40]
С подобными трудностями сталкивались тогда и другие японские исследователи, стремившиеся подобрать языковые аналоги терминам западной философии. Благодаря их усилиям в отечественной гуманитарной науке постепенно накапливался материал по философской проблематике, в том числе и эстетической.
О философской эстетике можно говорить как о мировоззренческой концепции второго порядка, если подразумевать, что на первой ступени стоят теории конкретных видов художественной деятельности – теория искусства, искусствоведение, литературоведение – более непосредственно, чем философская эстетика отражающие художественную практику. Для возникновения же собственно философской эстетики необходим длительный период разработки эстетических воззрений в рамках данных теорий.
Японская эстетика вплоть до начала XX в. развивалась преимущественно в области искусствоведения и литературоведения, и отечественные писатели и художники зачастую сами выступали в роли теоретиков искусства и эстетиков. Подобно японской, «эстетическая мысль Китая и сопредельных государств, входивших в круг дальневосточной цивилизации, изъяснялась почти исключительно посредством афористических высказываний, часто многозначительно-смутных, лирически окрашенных, откровенно субъективных, но вместе с тем имевших характер практических рекомендаций».[41]
Формирование эстетической науки в Японии с необходимостью сопровождалось разработкой философско-эстетического категориального аппарата, находящегося в органическом соответствии с национальной мыслительной традицией. Как только что было отмечено, японская эстетика была неотделима от непосредственного художественного творчества. Трактаты по теории того или иного вида искусства имели такое же значение, как и практика обучения методом микики (букв. видеть и слышать) в рамках устной традиции, передаваемой из поколения в поколение путём непосредственного контакта мастера-учителя с учеником.
Благодаря этому в японской художественной традиции складывалась оригинальная, по-своему необыкновенно развитая эстетическая «система», уходящая корнями во времена создания первых поэтических антологий «Манъёсю» (758) и «Кокинсю» (910). Но это не была «система» в европейском понимании, поскольку в ней отсутствовали логическая чёткость и определённость; на протяжении веков она зиждилась скорее на метафорах и аллюзиях, нежели на дефинициях и рассуждениях, апеллировала скорее к интуиции и чувству, нежели к логике и рассудку. Однако в эпоху Мэйдзи, когда рационализм и логика стали требованием времени, эстетические теории должны были стать над практикой конкретных искусств. Осуществлению этой задачи японскими «теоретиками» во многом способствовало обращение к достижениям систематизированной философской эстетики Запада.
Основной движущей силой эпохи японского просвещения 1878–1888 гг. были самураи. Именно они, верные и преданные родине и императору люди с крепкими моральными устоями и привычкой к упорному, в том числе интеллектуальному, труду, стояли у истоков академической науки. Первые мыслители-эстетики Японии принадлежали именно к этому классу военной интеллигенции.
Одним из отцов-основателей философской эстетики в Японии принято считать Ниси Аманэ (1829–1897). Он первым предложил несколько переводов западного термина «эстетика»: дзэмбигаку (наука о добре и красоте), касюрон (теория о сущности прекрасного), бимёгаку (наука о таинственно-прекрасном). В это же время широко использовалось и ещё одно название эстетики – симбигаку (наука, исследующая красоту). Все эти термины остались достоянием истории японской эстетики, а в обиход вошёл предложенный журналистом-просветителем Накаэ Тёмином (1847–1901) вариант бигаку (наука о красоте). Что же касается Ниси Аманэ, то нельзя переоценить его вклад в конструирование современной японской научной гуманитарной терминологии: он составил более 700 слов-переводов, без которых усвоение западной философской мысли было бы невозможным. «Философия», «субъект», «объект», «реальность», «феномен», «история», «сознание», «мысль», «идея», «впечатление» – без этих слов, извлечённых Ниси Аманэ из хранилищ прошлого или заново составленных им самим, трудно представить современный японский язык. А ведь каких-нибудь 150 лет назад их просто не существовало.
В 1877 г. в присутствии императора Мэйдзи, придворных особ и кабинета министров Ниси прочитал четыре лекции о важности науки эстетики для создания просвещённого независимого государства. Следствием его выступлений, изданных впоследствии под общим названием «Теория эстетики» (Бимёгаку сэцу) было выделение государственных средств на организационное оформление и обучение студентов Токийского императорского университета по этой специальности. Большой вклад в утверждении эстетики как университетской дисциплины внесли Мори Огай (1862–1922), Такаяма Тёгю (1871–1902) и Ониси Хадзимэ (1864–1900).
Последняя четверть XIX в. ознаменовалась в японской культуре целым рядом попыток активного освоения её деятелями европейского философско-эстетического наследия. Примером может служить трактат «Сокровенная суть сёсэцу», с которым в 1885 г. выступил писатель Цубоути Сёё (1859–1935), объявивший искусство «самостоятельным эстетическим феноменом, выделив его в особую область духовного опыта. Но тем самым Сёё нарушил традиционный взгляд на искусство как неискусство, нарушил связь вещей по принципу интердиффузии всего во всём».[42] Трактат писателя свидетельствовал о переоценке «в западном духе» роли и предназначения искусства.
Аналогичные процессы происходили и в сфере живописи, где противостояние художественных принципов Японии и Запада обна руживается весьма отчётливо. Техника европейской живописи, позволявшая создавать иллюзию реального пространства, поразила японцев ещё во времена «христианского века» (1542–1639).[43] В тот период по стране распространились многочисленные копии картин, привезённых из Италии. Авторы копий со всей тщательностью воспроизводили оригиналы, но это было воспроизведение внешнего – японцы проникались «буквой», а не духом западной живописи. Неслучайно, притом что целью являлось точное воспроизведение техники письма, качество большинства репродукций оставляло желать лучшего. Однако художники «христианского века», а потом и их преемники, через более-менее удачные копии образцов европейской живописи познакомились с западным видением мира, что позволило им взглянуть со стороны на традиционную отечественную манеру письма и по-новому оценить её.
По мнению крупного японского художника Сибы Кокана (1738–1818), принципиальное отличие европейской живописной традиции от японской заключалось в отношении к предмету изображения. Если западные художники стремятся к реалистическому – «как оно есть» – изображению действительности, то для восточных мастеров важно отображение внутренней сути людей и вещей, и потому их картины условны. Сравнивая восточную условность и европейский реализм, Сиба отдавал предпочтение последнему. В своём трактате «Рассуждение о западной живописи» он писал: «Главная цель западного искусства – воссоздание реальности. Японская же и китайская живопись, неспособные к этому, становятся лишь никчёмной игрушкой… Применяя светотень, западные художники могут представить выпуклое и вогнутое, светлые и тёмные стороны, глубину и плоскостность. Их картины – модели реальности и посему могут выполнять те же функции, что и письменное слово, а часто и более эффективно… Слова, употребляемые в тексте, могут, конечно, описывать, но одна реалистически написанная картина равноценна мириадам слов».[44] Из этого высказывания видно, что японского художника восхищает прежде всего западная техника реалистического воспроизведения действительности, т. е. то, что отсутствовало в национальной живописной традиции.
При этом цель западного искусства понимается им однобоко – лишь как подражание природе, и упускается из виду его смысловая составляющая и одухотворённость. Кроме того, Сиба несправедливо принижает собственную живописную традицию, в которой картина всегда имела духовный «подтекст». Совершенно очевидно, что японцы восприняли первоначально лишь внешние атрибуты художественной традиции Запада. Внутреннее её содержание, связанное с эстетическими установками западных художников, некоторое время оставалось непонятым.
Из японских деятелей искусства, стремившихся к более глубокому проникновению в суть западной эстетической традиции, следует назвать прославленного мастера цветной гравюры Кацусику Хокусая (1760–1849). Используя в своём творчестве некоторые элементы европейской техники письма, Хокусай в то же время, в отличие от Сибы, считал, что японская живопись нисколько не уступает европейской и представляет просто иной путь образного постижения мироздания и смысла человеческого бытия. «Каждый подход имеет свои недостатки и достоинства, – писал Хокусай. – Надо понять оба метода. Главное, жизнь и смерть должны присутствовать во всёи, что пишешь».[45]
Заметим, что определённые предпосылки для усвоения эстетической традиции Запада существовали в Японии и на протяжении всего периода закрытия страны (1639–1852) при военном правительстве бакуфу в рамках так называемого голландоведения. «Голландоведение» – широкое понятие, обозначающее процесс изучения западных наук японцами в тот период. Поскольку приток знаний из Европы шёл через голландскую колонию на острове Дэсима близ порта Нагасаки, западные науки получили название рангогаку, «науки на голландском языке», а люди, изучавшие их, – рангакуся, «голландоведы». «Голландоведы» передали эстафету в деле распространения европейских знаний слушателям и служителям основанного в 1857 г. государственного научно-исследовательского и педагогического центра по изучению западных наук – Бансё сирабэсё (букв. «Департамент изучения книг»). На самом деле науки там изучались лишь постольку, поскольку могли служить укреплению оборонного могущества государственного режима. С другой стороны, выпускниками этого заведения были многие культурные деятели эпохи Мэйдзи. Один из них, художник Каваками Тогай (1827–1881), стал директором отделения живописи при этом Департаменте, где изучение западной живописной манеры, «на первый взгляд не имеющее отношения к военному делу, ставило перед собой задачу обучить технике составления топографических карт как одной из основ военной науки».[46] Как отмечает современный искусствовед Кавакита Митиаки, Каваками и его сподвижников вдохновляли отнюдь не эстетические потребности. Более того, по мнению Кавакиты, «во времена Каваками западная живопись не расценивалась японцами как искусство».[47] Лишь в последние годы правления бакуфу у японцев стали раскрываться глаза на суть западной философии и общественной мысли, включая эстетическую традицию.
В 1896 г. возникло общество художников Хакубакай (Общество белой лошади), члены которого стремились использовать западную технику как средство выявления внутреннего духа японца. Основатель общества, художник Курода Сэйки (1860–1924), получил образование во Франции, где был покорён мастерством импрессионистов. По возвращении он стал пропагандировать подобную живопись в Японии, считая, что местные художники должны открыть для себя принципы европейской живописной техники и творчески их переработать.
Одновременно наметилась сильная тенденция к возрождению самобытных японских традиций в искусстве, в связи с чем художники обратились к изобразительным средствам из арсенала художественного наследия дотокугавского периода. У истоков этого движения стоял искусствовед Окакура Какудзо (1862–1913) – первый ректор Токийской Школы искусств и основатель японской Академии художеств. Его работы, посвящённые восточной мысли, не утратили актуальности и по сей день. В своём главном труде «Идеалы Востока» (1896) Окакура наметил для Японии главные направления эстетического развития. С одной стороны, это поиск истоков самобытности, с другой – поиск путей взаимодействия с эстетической мыслью Запада. При этом учёный рекомендовал никогда не забывать, что всё лучшее в Японии создано на основе собственной национальной художественной традиции.[48] Окакура являлся также одним из активистов восточного отдела Бостонского Музея изящных искусств и многое сделал для ознакомления европейцев и американцев с искусством Японии и его традиционными эстетическими установками, внеся таким образом заметный вклад в процесс налаживания взаимопонимания Востока и Запада.
По словам Т. П. Григорьевой, в эпоху Мэйдзи «Япония прошла путь европейской истории за несколько десятилетий, что привело к сосуществованию того, что в европейской литературе развивалось в последовательном порядке».[49] Иными словами, в мэйдзийской Японии параллельно развивались традиционная – искусствоведческая, «слитая» с практикой конкретных искусств, и вновь возникшая, философская, эстетика.
Одну из красивейших концепций философской эстетики на Западе создал, как известно, Гегель. Автор не скрывал главный недостаток своей теории – её отвлечённый характер: «Наука об искусстве… представляется самостоятельными размышлениями о прекрасном и создаёт лишь общее учение, абстрактную философию прекрасного, вовсе не затрагивающую художественного произведения в его своеобразии».[50]
В противоположность этому «конкретная» эстетика искусствоведческого толка – а именно такой была эстетика домэйдзийского времени – стоит в непосредственной близости к художественному творчеству, однако ей недостаёт систематичности. Когда последняя (в эпоху Мэйдзи) стала лозунгом эпохи, эстетика Японии принуждена была выйти на стезю строгого рассуждения. Более того, она должна была научиться говорить «на философском языке» в одной системе координат с Западом.
История Института эстетики и философские взгляды Нисиды Китаро
Рождение японской эстетической науки к периоду Мэйдзи ознаменовалось также оформлением эстетики как самостоятельной области научного знания: на базе филологических факультетов императорских университетов Токио и Киото – крупнейших учебных и научных учреждений страны – были сформированы специальные центры для эстетических исследований. 7 сентября 1893 г. был основан Институт эстетики при Токийском университете Тодай, а несколькими годами позже начал работу аналогичный институт в Киото. Сам факт создания полноценных научно-эстетических центров без преувеличения можно считать событием историческим. Это были не только учреждения совершенно нового типа для Японии, но и единственные в мире научные заведения такого рода. Лишь в 1919 г. в Париже на базе университета Сорбонна открылся первый в Европе Институт эстетических проблем.
Институт эстетики при Токийском университете до сих пор сохраняет лидерство среди японских вузов в преподавании и изучении эстетики, издании соответствующей литературы, в деле перевода эстетических работ западных авторов, а также в подготовке научных и преподавательских кадров для всей страны.
Институт получил широкую известность и за пределами Японии. Здесь читают лекции учёные-эстетики с мировым именем. Крупнейшие деятели эстетической науки принимают участие в проводимых Институтом международных конференциях, публикуют свои работы в его периодических изданиях (в частности, в ежегоднике Института, выходящем с 1976 г. на западноевропейских языках – «Journal of the faculty of Letters, the Univ. of Tokyo, Aesthetics»). История Института эстетики при Токийском университете заслуживает специального, хотя бы сжатого, обзора.
Созданию Института непосредственно предшествовала подготовительная деятельность многих учёных. Курс эстетики в Токийском университете Тодай начал вестись ещё в 1878 г. в рамках филологического факультета. Эстетика тогда именовалась «наукой, исследующей прекрасное» (симбигаку). Первым преподавателем по симбигаку стал Тояма Сёити (1848–1900), впоследствии декан филологического факультета. Он начал с преподавания художественной критики.
Фундамент курса собственно философской эстетики был заложен годом позже, когда в Японию приехал американец Эрнст Феноллоса (1853–1908), выпускник философского факультета Гарвардского университета. Феноллоса читал целый ряд философских дисциплин: историю западной философии, логику, эстетику (главным образом кантианскую). Среди его слушателей были такие выдающиеся мыслители Японии, как Иноуэ Тэцудзиро (1855–1944) и упоминавшийся выше Окакура Какудзо (Тэнсин). После Феноллосы курс эстетики и истории искусств вёл англичанин Чарльз Лоттон, и хотя его лекции носили скорее искусствоведческий характер, они сыграли немаловажную роль в ознакомлении и первичной систематизации знаний японцев о западноевропейском изобразительном искусстве, музыке и литературе. В 1882 г. эстетика получила новое японское название – бигаку (наука о прекрасном), под которым выступает и сегодня.
Период 1895–1901 гг. составил целую эпоху в истории преподавания эстетики в Токийском университете Тодай. Именно в это время были заложены основы практической методологии учебных курсов русским учёным (этническим немцем) Рафаэлем фон Кёбелем (1848–1923), читавшим лекции по эстетике античности (Платон, Аристотель, Плотин), по средневековым эстетическим учениям Запада, а также по эстетике немецкой классической философии и несциентистских направлений новой философии.
Энциклопедически образованный учёный и талантливый педагог Кёбель сыграл значительную роль в процессе становления Института, поскольку именно с его лекций началось преподавание сквозного систематического курса истории основных направлений философско-эстетической мысли Запада. Произведения Кёбеля – первого систематизатора западного историко-философского и эстетического материала для Института эстетики университета Тодай – вошли в золотой фонд японской эстетики. Таким образом, у истоков японской философско-эстетической науки стояли три человека: Тояма Сёити, Эрнст Феноллоса и Рафаэль фон Кёбель.
Представители последующих поколений профессуры Института так же, как и его основоположники, зарекомендовали себя незаурядными учёными. Помимо интенсивной исследовательско-преподавательской деятельности они занимались переводами наиболее выдающихся произведений мировой философской мысли и образцов западной классики. Одним из этих профессоров был Оцука Ясудзи (1868–1931), читавший в течение 1901–1922 гг. курс по эстетике художественной литературы.
В Институте преподавал также известный писатель Мори Огай (1862–1922), автор многочисленных романов и перевода на японский язык «Фауста» Гёте. Вместе с популярным писателем Нацумэ Сосэки он выступил против Цубоути Сёё, автора трактата «Сокровенная суть сёсэцу», объявив его «сторонником голого факта». Своим же художественным методом Мори Огай провозгласил «антинатурализм» (хансидзэнсюги). Получивший образование в Германии, Мори Огай испытал достаточно сильное воздействие западноевропейской философской мысли, особенно феноменологической «философии бессознательного» Э. Гартмана (1842–1906), эстетические труды которого перевёл на японский язык. Вместе с тем, исследования Мори Огая, проникнутые духом восточных учений, велись в русле японской художественной традиции (нерационалистической и посвящённой конкретным искусствам) и носили скорее искусствоведческий, нежели философский характер.
Одновременно с Оцукой Ясудзи в качестве профессора Института на протяжении десяти лет работал Такаяма Риндзиро (псевдоним Тёгю, 1871–1902), переводивший сочинения Ницше. В 1911 г. в его переводе вышла книга «Так говорил Заратустра». Такаяма испытал влияние ницшеанских идей, в частности идеи «инстинктивизма», и являлся адептом философии японизма (нихонсюги). В эстетике Такаяма выдвинул концепцию рукэйгаку (букв. «типология»), основной смысл которой сводился к отказу от философско-логических построений и возврату к традиционному пониманию эстетической проблематики, когда она рассматривалась в русле теории и практики конкретных искусств. Эстетические исследования Такаямы, таким образом, были по сути дела искусствоведческими.
К сторонникам искусствоведческих методов в эстетике принадлежал и Окакура Тэнсин, читавший лекции в Институте во времена Оцуки и Такаямы.
С 1925 по 1944 г. Институт возглавлял сторонник системного подхода в области эстетики доктор Ониси Ёсинори. В определённой степени его принципы преподавания были отрицанием искусствоведческой методологии Оцуки и попыткой сочетания философского и нефилософского подходов к эстетике. Активно используя достижения западной эстетико-философской мысли, Ониси параллельно продолжил исследование традиционной японской эстетики. В своих трудах «Югэн то аварэ» (Югэн и аварэ, 1939) и «Фугарон» (Теория эстетического вкуса, 1940) он выдвинул идею о том, что стержнем эстетического сознания и всех эстетических представлений японцев, начиная с древнейших времён, являлся принцип «естественности» – сидзэнсюги (букв. «натурализм»), в отличие от принципа «культурализма» в понимании прекрасного на Западе. Вместе с тем Ониси стремился найти соотношение объёмов понятий японской и западной эстетики. Например, считал «демоническое» в европейской эстетике и югэн в японской – двумя сторонами понятия «возвышенное» (суко). Ониси осуществил перевод нескольких сочинений европейских философов на японский язык. Заметным событием в духовной жизни Японии стал выход в свет в его переводе «Критики чистого разума» Канта в 1930 г.
Преемником Ониси Ёсинори на посту главы Института эстетики при университете Тодай с 1944 по 1972 г. являлся профессор Такэути Тосио (1905–1982), чьи работы «Теория ценностей у Аристотеля» и «Современное искусство» получили признание как в Японии, так и за её пределами. Выводя общеэстетические закономерности из сферы конкретно-искусствоведческой, Такэути продолжил искусствоведческое направление в японской научной эстетике. Он предложил несколько понятий-образов для использования их при анализе содержания категорий традиционной эстетики.
Такэути придавал огромное значение так называемым «отрицательным категориям» (хитэйтэкина моно) японской эстетики, в которых, по его мнению, воплотилась идея отрицания, присущая всей японской художественной традиции. Согласно Такэути, идея отрицания наглядно проявилась в таких характерных видах национального искусства Японии, как живопись тушью сумиэ, аранжировка сухих садов при буддийских храмах Рёандзи и Дайсэнъин и др. Учёный подчёркивал зависимость характера всей деятельности человека от содержания усвоенных им эстетических ценностей.
В качестве ведущего эстетика Японии Такэути принял участие в работе III Международного конгресса эстетиков в Венеции в 1956 г., был членом оргкомитета. Благодаря его деятельности, достижения современной японской эстетической науки впервые получили мировое признание. Переведённая профессором Такэути «Эстетика» Гегеля стала доступной широкому японскому читателю.
«Звездой первой величины» на философско-эстетическом небосклоне Японии был профессор Имамити Томонобу (1922–2012), возглавлявший после Такэути Институт эстетики на протяжении 1972–1982 гг. Труды Имамити известны мировому философскому сообществу в первую очередь благодаря его деятельности как организатора и руководителя международного движения «эко-этика», объединяющего в своих рядах крупнейших философов и эстетиков современности. Широкий резонанс вызвали в научных кругах и выступления Имамити на многочисленных эстетических конгрессах.
На примере Института эстетики Токийского университета Тодай видно, что научные исследования и преподавательская деятельность в области эстетического знания велись на основе либо философского (Феноллоса, Кёбель, Ониси, Имамити), либо искусствоведческого (Оцука, Такаяма, Окакура, Такэути) подходов.
Если на Западе эстетика как наука сформировалась в результате постепенного синтеза достижений параллельно существовавших «искусствоведческой эстетики» (теорий конкретных искусств) и «философской эстетики» (учения о чувственном восприятии), то в Японии сложилась иная картина. Философская мысль, философская наука как таковая не получила развития в рамках японской духовной традиции, поэтому там отсутствовала и философская эстетика. Поскольку же японцы стали рассматривать эстетику как самостоятельную область научного знания лишь после знакомства с европейской философской эстетикой, то речь пошла не о сосуществовании искусствоведческих и философских путей исследования в эстетике, а о предпочтении какого-либо одного из них в качестве определяющего. В результате, у японских учёных периоды увлечения философской эстетикой сменялись периодами увлечения искусствоведческой эстетикой. Сторонники одного подхода категорически отрицали другой; неудивительно, что методологические споры принимали порой довольно острую форму.
Помимо представителей Токийского Института эстетики, научно-эстетическими изысканиями в Стране Восходящего солнца занимались и другие профессиональные учёные. Ученик Рафаэля фон Кёбеля и выпускник Токийского университета Фукада Ясукадзу (1878–1928) основал кафедру эстетики на филологическом факультете Киотского университета. После Фукады до 1947 г. кафедрой заведовал Уэда Дзюндзо (1886–1973), написавший важные и содержательные работы: «Предмет истории искусства» (Гэйдзюцусино кадай, 1936), «Структура визуального восприятия» (Сикаку кодзо, 1941), «Дух японской красоты» (Нихон-но би-но сэйсин, 1944).
Особо следует отметить деятельность известного теоретика Нисиды Китаро (1870–1945), родоначальника «академической философии» Киотского университета. Отмеченная сильным влиянием неокантианства, эта философия получила распространение в 20-е годы прошлого века. Современник Нисиды, историк Цутида Кёсон называет его «первым, кто показал японцам, что философия составляет наиболее фундаментальную форму мысли».[51]
В творчестве Нисиды, ознаменованном попытками совместить установки национальной духовной традиции с элементами европейской философской мысли, эстетические взгляды явились самостоятельной частью оригинальной мировоззренческой концепции. По сути дела, Нисида Китаро – основоположник современной философской эстетики Японии. Его идеи и по сей день развиваются в работах видных японских учёных-эстетиков философского направления. Предваряя рассмотрение собственно эстетических воззрений Нисиды, остановимся коротко на его биографии и общефилософской эволюции.
Нисида Китаро родился в 1870 г. в маленькой деревушке на побережье Японского моря недалеко от г. Канадзава (префектуры Исикава) в семье школьного учителя. После окончания высшей ступени средней школы способный юноша поступил на филологический факультет Токийского университета и, получив диплом, вернулся на родину в Канадзаву, где преподавал сначала в школе, а затем в колледже, В это время (1899) он серьёзно увлёкся дзэн-буддизмом и провёл немало часов в занятиях медитацией.
Традиционное воспитание и образование (отец его был знатоком конфуцианских классиков и умелым каллиграфом, мать – ревностной буддисткой, поклонницей известного мыслителя Синрана, чьи труды она вслух зачитывала сыну) сыграли важную роль в становлении личности Нисиды. Позднее, испытав сильное влияние европейской философии, он тем не менее посвятил жизнь объяснению глубинной сути именно восточной духовной традиции. Трудно сказать, думал ли он, что наступит время, и его труды будут переводиться на западные языки. Но, как минимум, ему хотелось при помощи «обкатанной» к началу XX в. в Японии западной переводной терминологии дать философское обоснование главным идеям буддизма, и прежде всего – идее иллюзорности личности. С 1910 г. и до конца своей служебной карьеры Нисида преподавал философию и этику в Киотском императорском университете. Уйдя в отставку в 1928 г., он продолжал активную исследовательскую деятельность, отразившуюся в многочисленных трудах по целому ряду философских дисциплин.
К сожалению, в российской философской литературе жизнь и труды Нисиды получили однобокое и часто несправедливое освещение. В частности, читатель, ознакомившийся с его идеями по работе Б. В. Поспелова, приходит к выводу о «реакционной сущности» нисидианства и о полной несостоятельности попыток Киотского философа создать оригинальную концепцию.[52]
На наш взгляд, как жизнь Нисиды Китаро, так и его творчество заслуживают большого интереса. Более того, жизнь и поступки того или иного философа часто помогают глубже понять истинный смысл его концепции. (Тот факт, например, что немецкий философ Фихте умер, заразившись тифом во время ухода за больными в госпитале, по-новому представляет нам его ригористический идеал в этике.) Это относится и к Нисиде Китаро, всегда остававшегося честным и глубоко порядочным человеком. В годы всеобщего шовинистического угара, когда даже дети писали доносы на своих якобы недостаточно преданных императору родителей, Нисида, судя по его дневникам и высказываниям учеников, отверг службу в императорском университете. Хотя и не участвуя в подпольном сопротивлении, престарелый философ имел мужество молчать, что фактически означало неприятие политики японского милитаризма. Искренне желая поражения Японии, Нисида вёл замкнутый образ жизни в маленьком провинциальном городке Камакура, внимательно следя за театром военных действий. Он отмечал по карте, висевшей у него над столом, все наступления и победы Красной армии, радуясь перелому в ходе войны в пользу антигитлеровской коалиции и близкому разгрому фашизма. Ненавистью к войне и правительству были проникнуты беседы Нисиды с приезжавшими к нему в Камакуру учениками. И не его в том вина, что некоторые из них, включая талантливых учёных Танабэ Хадзимэ и Кояма Ивао, всё же стали ярыми националистами. Зато настроения другого ученика, Имамити Томонобу, оказались созвучными антимилитаристским взглядам учителя. Умер Нисида незадолго до окончания Второй мировой войны – 28 июля 1945 г.
Друг и однокурсник Нисиды – известный исследователь буддизма Судзуки Дайсэцу Тэйтаро (1870–1966) в некрологе на смерть выдающегося учёного написал, в частности, следующее: «Это факт – Восток не знает Запада, Запад не знает Востока. Вот почему и происходят конфликты».[53] Эти слова прозвучали как раз накануне атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, поставивших чёрный крест на взаимоотношениях Востока и Запада.
Судзуки, проживший десять лет в США, был «глазами и ушами» Нисиды, никогда не покидавшего Японских островов. Оба учёных видели свою задачу в том, чтобы не только сохранить классическое культурное наследие Японии, не только соотнести его с наследием Запада, переведя его на общепринятый язык западной философии, но и положить начало национальной школе философствования, выявить «мыслительную подоплёку» японской духовной традиции и ознакомить западного читателя с замечательной культурой своей страны.
Главные этапы творческой эволюции Нисиды Китаро, философские взгляды которого менялись на протяжении всей его жизни, ознаменованы четырьмя крупными работами. Первым «краеугольным камнем» в творчестве Нисиды явилось «Изучение блага» (Дзэн-но кэнкю, 1911). Эта работа и все примыкающие к ней произведения основываются на введённом Нисидой понятии «чистого опыта». Явно заимствованный у Э. Маха и У. Джеймса, «чистый опыт» киотского философа претендовал на роль базиса, существующего до всяких противоположностей (в том числе и до противоположности чувства и разума), из которого произрастали все ограничения и дефиниции, определялось различие между «эго» и предметом, субъектом и объектом. В «недифференцированной реальности» чистого опыта были слиты сознание, ощущение и воля.
Введение Нисидой понятия «чистого опыта» свидетельствовало об умалении интеллекта, а, следовательно, и научного познания и рационалистических направлений в философии в пользу так называемой «творческой активности» индивида, объединяющей в первозданном и рафинированном виде объективные качества предмета и его «субъективное переживание» человеком. При этом чистый опыт выступал не только как гносеологическая, но и как онтологическая категория, обозначающая конечную, «истинную реальность», близкую буддийскому «универсуму».
Следующей этапной работой Нисиды стала «Интуиция и рефлексия в самосознании» (Дзикаку-ни окэру тёккан то хансэй, 1917). В ней Нисида задался целью вывести онтологию из единства самосознания, «дополняя и расширяя» И. Канта, для которого абсолютная реальность всегда оставалась непостижимой «вещью в себе». Отдавая должное гению кёнигсбергского мыслителя, Нисида всё же в данном случае предпочёл ему Фихте и пошёл по пути фихтеанского определения реальности через первичное тождество самосознания «я есмь я». В этой работе Нисида рассматривает я как «противоречивое тождество», как, выражаясь словами современного эстетика В. Бычкова, «равное встречное стремление субъекта и объекта».[54]
Третьим важным звеном в цепи работ Нисиды явилась «Самосознающая система общего» (Иппанся-но дзикакутэки тайкэй, 1929). Здесь впервые сформулировано понятие «поля-ничто», несущее на себе следы влияния и буддизма, и платоновского «Тимэя». Большинство исследователей творчества Нисиды указывают на генетическое родство «поля-ничто» прежде всего с понятиями буддийского учения, где «ничто» обладает статусом конечного онтологического принципа. Из-за того что Нисида, подобно буддистам, определял реальность как «ничто», в нём видят продолжателя восточной мыслительной традиции. Не оспаривая этого в целом, мы, однако считаем, что не стоит приписывать факт введения «поля-ничто» исключительно влиянию буддизма. Ведь именно в ту пору Нисида пережил период увлечения Платоном, у которого небытие, ничто также рассматривалось онтологически, как потенция, актуализируемая при взаимодействии с эйдосами.
На завершающем этапе своей деятельности Нисида в «Философских эссе» (1935–1945) конкретизирует концепцию «поля-ничто». «Поле-ничто» получает положительные характеристики, противоположные полюса, «тип напряжённости» и взаимодействия между которыми и определяют принадлежность того или иного явления к одному из трёх миров: к физическому, или «миру механической причинности», к биологическому, или «миру жизни», и к историческому – «миру человека». В последнем, высшем из миров, в результате взаимодействия всех полюсов «поля» раскрывается идентичность всех противоположностей.
Искусство, мораль, наука выступают в качестве идеальных форм в историческом мире, а деятельность ученого или художника – в качестве проявления его формообразующей активности. Исторический мир как «сфера абсолютного ничто» есть конечный пункт самосозерцания «ничто», где реальность осознаёт тождество своих противоположностей посредством человеческой деятельности.
Об особенностях японской художественной традиции и их отражении в творчестве Нисиды Китаро
Теперь отвлечёмся от изложения взглядов Нисиды Китаро и вновь обратимся к особенностям художественных традиций Запада и Дальнего Востока. Запад развивал культуру рассудочного синтеза. Постижение основ мира шло через разделение и соединение понятий. Понятия и законы их сочетаний были объявлены органоном истинного знания. Искусства (artes liberales) вначале приравнивались к знанию: музыка, например, включалась в список искусств потому, что звуковысотные интервалы имеют математическое основание. То же можно сказать о живописи, скульптуре, театре, архитектуре, садово-парковом искусстве, которые были включены в список искусств значительно позднее – в эпоху Возрождения.
На Дальнем же Востоке традиционное искусство гэйдо основано в первую очередь на телесном синтезе, своего рода интеллектуализированной синестезии. Именно развитие чувственного синтеза, телесного синтетического опыта, внимание к различным нюансам телесных ощущений, т. е. их рассудочное отслеживание – лежало в основе дальневосточных искусств. Центром этих искусств становится сам человек с его нервно-костно-мышечной организацией, внимание которого направлено на мельчайшие изменения, как окружающего мира, так и его собственных состояний. Поэтому в основе понимания искусства на Дальнем Востоке лежит стремление к максимальному развитию и рафинированию телесных ощущений, их проникновению за грань самих себя к тончайшим, практически интуитивным взаимоотношениям человека и человека, человека и мира.
Телесный синтез достигается путём неослабевающих на протяжении всей жизни (или её значительной части) специально подобранных упражнений, в ходе которых «отделённый, отстранённый» интеллектуальный глаз фиксирует малейшие изменения, происходящие как в физическом теле, так и в сознании действующего лица. (Так, Дзэами Мотокиё, теоретик театра Но, призывал актёров ни в коем случае не забывать своих изначальных состояний, запоминать их на чувственном, эмоциональном уровне.)
Поскольку главным объектом творчества является сам человек, искусством становятся те сферы его деятельности, которые в ходе их длительного освоения способствовали чувственному преображению изначального человека. Поэтому на Дальнем Востоке, помимо традиционно принятых на Западе видов искусств – живописи (и каллиграфии), поэзии, музыки, театрального, садово-паркового искусства, скульптуры и архитектуры – таковыми являются также искусство составления ароматов, чайный ритуал, а также группа воинских искусств (таких, к примеру, как искусство стрельбы из лука или искусство владения мечом).
Поскольку объект творчества – человек в процессе интенсивных телесных упражнений претерпевает опыт преображения, искусство его жизни неизбежно должно включать и ритуал смерти, когда убийство или самоубийство есть завершающий «мазок» на холсте жизни. «До эпохи Токугава (1600–1867) дети самураев обоего пола обучались способам самоубийства. Мальчики должны были знать, как делать харакири, девочки – как закалываться кинжалом».[55] «Подобно тому, как существует этикет для принятия пищи или питья чая (чайная церемония), так имеется свой этикет и у смерти. Японцы воспитались в этом этикете, выработали с его помощью особые вкусы и душевную настроенность. К людям, не знакомым с «этикетом смерти», они относятся пренебрежительно как к людям невоспитанным. Японцы ещё до настоящего времени (первая половина XX в. – Е. С.) обучаются «этикету смерти»: родители обучают ему детей, наставники – учеников. Он проник в подсознание японца, и молчаливо руководит его действиями».[56]
Рационалистически ориентированная мысль Запада стремилась к полному избавлению от «психологизма» (т. е. от элементов телесно-чувственных) и достижению таким образом истинности, общезначимости своих концептов. «Чувствующая мысль» Дальнего Востока, рождённая «разумом тела», тоже стремилась к общезначимости, называя её «ничто» и полагая «ничто» истинной основой всего сущего. Каким же образом достигался выход к этому «ничто»? Здесь главным учителем является буддизм дзэн (чань), который собственно стал концентрированным выражением дальневосточного пути к истине. В дзэнских монастырях точно так же, как и в Домах традиционного искусства, осуществляется телесно-практическое воспитание послушников-учеников. На первых порах оно имеет вид муштры, совершенно одинаковой для всех учеников, независимо от их умственных и прочих способностей. Муштра – сокровищница опыта и первая ступень духовного роста человека, при условии его внутренней сосредоточенности на своём состоянии.
Если сравнить воспитание дзэнского индивида с формированием карликового дерева – бонсая, то муштра будет, так сказать, «первичной обрезкой», когда безжалостно удаляются самые выступающие ветки, и растению придаётся некая первичная форма, которая должна определить облик выросшего дерева.
Несколько отступая в сторону, вспомним, что любое общество подвергает подобной «обработке» – служба в армии либо послушание в монастырях и т. п. – молодых мужчин (самую агрессивную и эгоистичную социальную группу). Такая практика очень важна для формирования каркаса личности, её упорядочения и организации. Кроме того, такое изобретение, как униформа, также способствует определённому стиранию я и обретению чувства единства, единообразия и общности в микро– и макроколлективах. К примеру, «униформа» дзэнского монаха – бесформенная хламида унылого мышино-серого цвета – в сочетании с обритой наголо «головой-тыквой» как нельзя лучше способствует освобождению от избыточности личных чувств и мыслей.
Хоровое исполнение сутр особым «горловым» пением также ведёт к состоянию полузабытья и самозабвения, к погружению в общее действие, обретению чувства невьгделенности из общего потока, когда «сотворцы-исполнители без слов понимают друг друга, предугадывают малейшие душевные движения и, создавая реальность красоты, искусно синхронизируют творческие воли в едином ритмопотоке».[57]
Огромное значение ритуала – одна из главных характеристик дальневосточной культуры. Действительно, если вдуматься, нормальная стабильная жизнь социума возможна лишь в том случае, если каждый человек правильно исполняет предназначенные ему роли, т. е. если все люди в одинаковых условиях поступают единообразно и в соответствии со сложившейся системой распределения ролей. Общее в человеке, живущем в коллективе, гораздо важнее его личных характеристик, которые могут стать нежелательными в социуме.
Конфуцианская традиция твёрдо стояла на неизменности пяти главных отношений в коллективе: 1) отношения вышестоящего к нижестоящему, подчинённому; 2) отношения отца к сыну; 3) отношения мужа к жене; 4) отношения старшего брата к младшему и 5) отношения между товарищами. Таким образом, стабильность общества фиксировалась и «по вертикали» (начальник – подчинённый, отец – сын, муж – жена, старший брат – младший брат) и «по горизонтали» (начальник – начальник, подчинённый – подчинённый, друг – друг). При этом чисто личностные характеристики при выполнении каждым определённых ему ролей были абсолютно второстепенны.
Даосско-буддийская традиция закрепила подобное предпочтение общего перед личным в человеке. Практика дзэнских монастырей первоначально направлена на «обрезку» слишком выдающихся личностных качеств и амбиций. Жёсткая дисциплина, физические наказания, послушания, тяжкий физический труд, скудная пища, ежедневные многочасовые медитации – всё это средства для умаления телесного и психического я и достижения состояния «бесстрастности – не-я» (мусин-муга). К этому добавляется и особая ментальная практика коанов, нацеленная не только на сведение на нет генерализующих, логически упорядочивающих возможностей языка, но и на унижение самооценки человека.
Впоследствии монахи достигают состояния сатори, или полного отрешённости от я, состояния не-я, – предельной прозрачной открытости для проникновения потоков Дао, которые пронизывают всё сущее, подобно некоей аморфной сетеобразной связи. Тогда монахи обретают бо́льшую свободу, а вместе с тем и возможность совершенствования такого состояния. Для самосовершенствования монахи часто отправлялись в скитания, «вбрасывая себя» в природный Универсум. Претерпевая огромные трудности и лишения, они достигали преображения своего сознания до космического уровня, до ощущения космоса как самого себя.
Больной опустился гусь На поле холодной ночью. Сон одинокий в пути.[58] (Перевод В. Марковой)В этом пронзительном трехстишии больной поэт Мацуо Басё (1644–1694) отождествляет себя и с гусем, и с заброшенным полем, воссоздавая атмосферу космического одиночества, в которую погружено всё живое. Басё не был монахом, однако вел монашеский образ жизни; облачась в монашеские одежды он несколько раз уходил в длительные скитания. Скитания художника – это один из способов достичь высот мастерства.[59] Японская художественная традиция подразумевала длительный – часто длиной в целую жизнь, от детства до старости – путь совершенствования мастера в избранном виде искусства. Такой путь очень напоминал монашескую практику и так же, хотя и в несколько ослабленном виде, выступал в качестве аскетического опыта самоотречения и растворения в профессии, и далее – в природном Универсуме.
Бесформенное подвижное Дао является источником образов – бесплотных «матриц», образующихся при взаимодействии с мельчайшими, почти бесплотными частицами ци (яп. ки). Они пронизывают всё и вся, наподобие невидимой сети. В пересечениях-ячейках этой сети находятся и люди, и животные, и растения, и неодушевлённые предметы.
Основоположники даосизма характеризовали никак не ощутимое, аморфное первоначало как «ничто», «форму бесформенного», «звук беззвучного». Буддисты отождествили Дао-ничто с Дхармакайей – космическим телом Будды, которое также называлось «Ничто».
Даосско-буддийское Ничто напоминает Единое Платона и также является крайним пределом форм – т. е. «бесформенным», которое, тем не менее, содержит в себе зародыши форм-идей. (Правда, есть и существенное различие между Единым и Ничто. В дальневосточной традиции Дао – подвижная субстанция, в то время как для Платона движение означало утрату целостности Единого, так как для движения необходимы разные части.) И тем не менее, дальневосточное Ничто – это не абстракция, не противоположность «бытию» и не торичеллиева пустота, а наоборот, вместилище, полнота всех возможных образов и форм, их неиссякаемый источник, откуда они возникают и куда всегда возвращаются.
Ничто, или «Пустота», в дальневосточной традиции имело ещё одно измерение – это не ощутимые грубыми человеческими чувствами и не постигаемые не менее грубым рассудком отношения между людьми и отношения между человеком и Космосом, Природой. Действительно, каковы «на ощупь» любовь, верность, взаимовыручка, доблесть, долг, восхищение? Хотя эти формы отношений телесно неощутимы и не оформлены («пусты»), они, однако, не являются менее значимыми, чем сам человеческий и природный мир, вполне осязаемый и обладающий весьма определёнными формами.
Такие отношения и есть неотъемлемое измерение Дао-пустоты, пронизывающей всё и вся. Это некое «силовое поле», удерживающее мироздание в порядке. Действия отдельного человека никак не должны подвергать деструкции это поле, нарушая изначальную гармонию Дао.
Мы остановились на этом вопросе столь подробно, чтобы было понятно, почему основоположник японской философской эстетики, Нисида Китаро, уделял большое внимание проблеме «поля-ничто», почему отдавал приоритет изучению не собственно человека, а именно тонкому, неощутимому полю отношений между людьми. «Поле-ничто» и способ существования и взаимодействия в нём подтолкнули Нисиду к формулированию понятия интуиции практического действия.
Прежде чем дать подробный анализ интуиции практического действия, рассмотрим ряд предварительных тезисов. Как уже говорилось, путь художника и путь монаха – это прежде всего путь самостановления. Смысл такого пути состоит в личностном умалении посредством духовных и физических практик, которые упомянуты выше и благодаря которым человек совершенствуется в его телесно-духовном единстве. Только тот, кто достиг определённой ступени совершенства (т. е. личностного умаления наряду с высоким уровнем технического мастерства), может считаться подлинным мастером на избранном пути (додо-но дзёдзу). Иными словами, духовный и физический тренаж мог привести человека к преображению, при котором достигается такая ступень мастерства, когда Дао – форма бесформенного – начинает определять все движения художника, когда он становится «медиумом», наблюдающим за собой «отстранённым глазом» (рикэн-но кэн).
Такое состояние называется в буддизме интуитивным (тёккан) и по сути является неким «тонким чувством», шестым по счёту, протягивающим свои невидимые «щупальца» ко всему: к партнёру по сцене, к партнёру по созданию рэнга – стихотворной «цепочки», к мишени – в случае искусства стрельбы из лука кюдо и т. д. Нисида Китаро назвал это интуицией практического действия (коитэки тёккан).
Формулируя понятие интуиции практического действия, Нисида столкнулся с проблемой передачи её сути в принятой на Западе теоретической форме. Ведь телесное, практическое действие, переживаемое «здесь и сейчас», может быть отображено лишь в языке искусства, и то лишь отчасти. «Мысль изречённая есть ложь», «немыслие» – тем более. Как только Нисида начинает сопоставлять интуицию практического действия с «чистым опытом» Маха, являющимся сугубо абстрактным понятием, она неизбежно интеллектуализируется.
Специально эстетическим и отчасти этическим проблемам у Нисиды посвящена довольно обширная работа «Искусство и мораль» (Гэйдзюцу то дотоку, 1925). В ней рассматриваются две главные категории этики и эстетики – добро, или благо (дзэн), и красота, или прекрасное (би), а также их связь с категорией истины. Показательно, что всё содержание категорий эстетики японский философ выводил из индивидуального сознания, причём трансцендентальный пафос его работы противоречил рационалистической форме философствования и попыткам системного подхода к эстетической проблематике.
Эстетику Нисида ставил выше всех других философских дисциплин, поскольку считал, что эстетический опыт является «чистым опытом», не подразумевающим разделения на субъект и объект, высшее и низшее, простое и сложное. Он вне всяких различий и представляет собой мгновенный переход к трансценденции (в японской традиции – к изначальной природе Будды).[60] С эстетическим опытом по значимости может сравниться лишь опыт религиозного мистицизма. «Чувство прекрасного, – писал Нисида, – это чувство не-Я (муга). Прекрасное, пробуждающее не-Я, – это истина интуиции, которая выше истины разума. Вот почему красота так грандиозна, она может быть понята как единение с великим Дао в результате отказа от мира различений; вот почему эстетика – явление того же порядка, что и религия. Они разнятся лишь в отношении глубины ощущений: не-Я прекрасного – это моментальное, скоротечное не-Я, а не-Я религиозное – это вечное не-Я».[61]
Признавая, что интуиция не только лежит в основании истинного познания, но и составляет стержень творческой активности художника, Нисида Китаро склоняется к кантианскому пониманию эстетики как философской науки, изучающей внеопытные формы чувства. Он пытается провести параллель между априорным пониманием красоты и априорными формами внутреннего и внешнего чувства (каковыми у Канта являются пространство и время). Вообще следует отметить обилие у Нисиды кантианских реминисценций. Кант – наиболее цитируемый автор в упомянутой работе киотского философа.
Хотя Нисида испытал сильное влияние немецкой классической философии, он остался сугубо национальным мыслителем восточного толка. По словам Миякавы Хидэки, современного японского исследователя, «позиция Нисиды, хотя и ориентированного на логический стиль и чистоту, оказывается позицией именно восточной онтологии».[62] Правда, оценка Миякавы слишком категорична и требует уточнения. К примеру, нисидианская «философия тождества» субъекта и объекта в искусстве, несомненно, продолжала японскую художественную традицию. Но если в традиции, как мы уже упоминали выше, приводя мысль Т. П. Григорьевой, искусство рассматривалось как «не-искусство» и постулировалась связь вещей по принципу «интердиффузии всего во всём», то у Нисиды вследствие принятой им формы философствования, оно трактуется как нечто трансцендентальное, субъективно-всеобщее.
Для придания своим рассуждениям общезначимости, «философичности» в западном понимании этого слова, Нисида старался облекать их в рационалистическую, систематическую форму. Однако содержание его основной категории – буддийского по характеру «поля-ничто» противоречило его логико-системному, рациональному подходу. Философская систематичность, возникшая в Европе и достигшая вершины в рамках немецкой классической философии, употреблялась-таки Нисидой. Но употреблялась в качестве, так сказать, формы. По содержанию его концепция была трансцендентальной, причём проникнутой буддийскими реминисценциями.
Дальнейшее развитие философской эстетики
Самыми известными учениками Нисиды стали философ Танабэ Хадзимэ (1885–1962), автор идеи «абсолютной диалектики», который попытался приблизить нисидианскую систему к конкретной общественной деятельности, и Ниситани Кэйдзи (1900–1990), посвятивший памяти учителя монографию «Нисида Китаро. Человек и мыслитель» (Нисида Китаро. Соно хито то сисо). Учениками Нисиды были также Хатано Сэйти (1877–1950), труды которого посвящены философии религии как специфического личного опыта, и Вацудзи Тэцуро (1889–1960), исследовавшего вопросы философии истории и социальной психологии. Учеником Нисиды был и вышеупомянутый Имамити Томонобу.
Под сильным влиянием философии Нисиды Китаро находился работавший на кафедре эстетики Киотского университета видный учёный Куки Сюдзо (1888–1941). Главным его сочинением стала книга «Структура ики» (Ики-но кодзо), где он предлагает в качестве основного эстетического понятия красоты в эпоху Эдо понятие ики как сочетание эротики и резкой прямоты.[63] Действительно, эстетический идеал эпохи Эдо отражал вкусы купечества (эротика) и среднего самурайства (резкая прямота).
В первые десятилетия XX в., как мы уже сказали, в Японии была популярна немецкая классическая философия. Это объясняется прежде всего позицией властей, принявших за образец устройство германского государства и поощрявших интерес к немецкой идеологии. Во-вторых, это было связано с общим умонастроением эпохи: японцы, воодушевлённые примером Запада и своими первыми успехам в экономике, которые приписывались распространению духа рационализма и предпринимательства, выдвинули лозунг «Рационализм!». Разумеется, они не могли не обратиться и к сочинениям корифеев мировой рационалистической мысли – произведениям немецких философов-классиков. Тон задавал гегелевский идеал рационального, упорядоченного человека, выступающего как часть целого (государства) и подчинённого интересам и задачам этого целого.[64] Однако наиболее прозорливые мыслители Японии предвещали неизбежное разочарование в образцах западной духовной традиции, слепо взятых на вооружение.
Одним из таких мыслителей был Окакура Какудзо. Он, в частности, писал: «Задача Азии – в защите и восстановлении азиатских путей. Но чтобы сделать это, она должна сама осознать и развить эти пути. Ведь тени прошлого – это обещание будущего».[65] В этом смысле огромное значение для становления самосознания японцев эпох Мэйдзи и Тайсё имело сформировавшееся к тому времени движение «Возвращение к Японии». «Если мы обратимся к Окакуре Какудзо и Нисиде Китаро как к мыслителям и просто как к людям, то станет ясно, – пишет Миякава Хидэки, – что каждый из них внёс свою лепту в укрепление движения «Возвращение к Японии», возникшего в период Мэйдзи. Первый – своей эстетикой чайной церемонии, второй – эстетикой самоотречения. Мы видим, как в рамках этого движения выяснялась сущность психической структуры японцев, их самосознания, особенности и уникальность японской культуры и японской системы ценностей».[66]
В начале 30-х гг. XX в. Япония вступила в период, впоследствии названный «периодом мрака» (анкоку дзидай), когда во всех областях знаний стали насаждаться национал-шовинистические установки. Эта тенденция достигла апогея в период Второй мировой войны. В печати муссировалась идея «великой Японии», превозносилась верноподданническая мораль самурая. Искусство также было призвано служить целям разжигания гегемонистских, имперских настроений. Работы тех лет, касающиеся эстетической проблематики, «доказывали» духовное превосходство Азии, азиатского искусства над любым другим. В духовной же жизни Азии доминирующая роль отводилась Стране восходящего солнца.[67]
В послевоенные годы националистическая тенденция нашла отражение в творчестве писателя Мисима Юкио (1925–1970). Свое эстетическое кредо Мисима выразил в сочинении «Золотой храм» (Кинкакудзи, 1956), написанном под сильным влиянием философии А. Шопенгауэра. Мисиме оказалась эстетически близка шопенгауэровская концепция элитарности творчества и культуры вообще, его иррационализм, акцент на интуиции, выступающей в качестве основы постижения красоты и творческой деятельности. «Люди полагают, – писал Мисима, – что искусство шаг за шагом начинает развиваться лишь после того, как возникнет человеческая жизнь. Мне же, напротив, представляется, что человеческая жизнь началась лишь после того, как образовалось опередившее её искусство».[68]
Будучи горячим сторонником японского национализма, Мисима всячески подчёркивал избранность и японского искусства как проявления некоей надчеловеческой, божественной сущности. Он призывал использовать искусство в целях воспитания «истинных самураев» из числа молодёжи Японии. Для неё он предлагал следующую максиму: «Двойной путь – просвещение и военное дело в практике, и философия смерти в теории (бумбу рёдо то си-но тэцугаку)».[69] Впрочем, идеи Мисимы не получили особой популярности среди современных японских мыслителей, плодотворно развивающих теоретическое наследие эпохи Мэйдзи.
К вопросу о специфике морального сознания в Японии
Анализ сегодняшней духовной жизни Японии невозможен без учёта двух важных моментов, характерных для этой страны. С одной стороны, Япония является крупнейшей капиталистической державой и в её идеологии происходят процессы, весьма типичные для буржуазных форм общественного сознания. С другой стороны, данные формы носят здесь ярко выраженную национальную окраску, о чём свидетельствуют, например, периодически возникающие «бумы» по поводу феноменов нихондзин-рон (личностных свойств японца) и нихон бунка-рон (японской культуры), которые выдаются за особые, внеисторические сущности, вечные и неизменные.[70] Особенности социального развития Японии, специфика её культуры становятся предметами спекуляции исследователей, «научно обосновывающих» националистическую тенденциозность современной японской идеологии. Это можно наблюдать и в некоторых философских изысканиях, посвящённых сфере японского морального сознания.
Морально-этическая проблематика занимает сейчас умы многих учёных, что вызвано усилением влияния аморальных факторов на общественное развитие. Нескончаемые региональные и локальные войны, милитаризация государств, повсеместное попрание гражданских свобод, терроризм и экстремизм, установление фашистских диктатур – все эти явления современные теоретики считают следствием эрозии моральных ценностей, явственно обозначившейся в межличностных связях. Человеческие отношения, утверждают они, прежде основанные на моральных принципах, ныне подменяются чисто функциональными, где каждое другое я воспринимается лишь как средство, а не как самостоятельная ценность. Неслучайно в сочинениях современных учёных-этиков звучит ностальгия по исчезающей нравственности, они не только констатируют и осуждают аморализм, но и предлагают средства его преодоления, основанные на опыте предшествующих эпох.
Помимо вышесказанного возросший интерес к проблемам морали обусловлен также глобальным процессом углубления и расширения международных связей – и в конечном счёте нравственных отношений – между представителями различных рас, наций, регионов. Всё большие массы людей вовлекаются в общий исторический процесс, для которого не существует «периферии». Всё бо́льшую важность приобретают универсальные моральные требования, в которых фиксируется «то общее и основное, что составляет культуру межчеловеческих взаимоотношений и откладывается в многовековом опыте развития общества».[71]
О двух подходах к толкованию национального своеобразия морали, существующих в этической мысли современной Японии
Не остались в стороне от изучения морали и японские учёные и идеологи. Однако в их этических исследованиях акцент делается в первую очередь на специфичности моральных представлений японцев, при этом не только предлагаются теоретические обоснования националистических тенденций, но и делаются попытки представить японскую мораль как мораль будущего, мораль всемирную и общечеловеческую.[72] В целом все исследования можно разделить на «традиционалистские» и «научные». К первым принадлежат сочинения религиозно ориентированных мыслителей, рассматривающих современность с позиций и в терминах традиционного буддизма; ко вторым – работы авторов (социологов, этнопсихологов, философов), пытающихся использовать категориальный аппарат и методологию современной науки.
Оба столь разные на первый взгляд направления объединяет неисторический подход, признание неизменности, «константности» какого-то одного из параметров японского общественного сознания: представители первого направления утверждают тезис о вечности и неизменности религиозных ценностей, а второго – о вечности психологических понятий.
Наиболее яркая фигура «традиционалистского» направления – Икэда Дайсаку, почётный президент Общества по установлению ценностей (Сока гаккай), целью деятельности которого в Японии и на мировой арене является осуществление так называемой человеческой революции (нингэн какумэй). Человеческая революция в понимании Сока гаккай есть реализация всеми индивидуумами моральных констант буддизма, издревле определявших стиль японской духовной культуры.
Как утверждает Икэда, только буддизм способен противостоять губительным последствиям развития материальной цивилизации, приведшим к воцарению антигуманных капиталистических отношений. В учении буддизма каждое живое существо – воплощение Абсолюта, следовательно, оно само для себя есть высший авторитет и объект поклонения. Надо лишь стараться как можно интенсивнее выявлять в себе исконно присущую каждому человеку природу Будды. «Борьба за выявление и реализацию природы Будды в каждом индивиде, – пишет Икэда, – есть не что иное, как движение за человеческую революцию».[73]
Такая революция, по предсказанию Икэды, совершится в полном соответствии с моральными установками буддизма, причем не буддизма вообще, а «истинного, чисто японского», учения – махаянического буддизма средневекового реформатора Нитирэна (1222–1282), превозносимого адептами Сока гаккай в качестве Будды. «Человеческая революция» есть прежде всего выявление исконно японской буддийской моральности, должное привести к духовному возрождению индивидов. «Путь духовной революции необычайно близок – он находится внутри тебя», – провозглашает Икэда.[74] «Возможность такой, истинно человеческой революции… с самого начала стала рассматриваться как проблема в восточной философии и главным образом в философии жизни буддизма, являющегося квинтэссенцией, сущностью мысли Востока, – рассуждает идеолог Сока гаккай. – Попытки переменить людскую природу путём перемен социального механизма неотвратимо ведут к системе принуждения, давления. Нельзя осуществить революцию, возрождающую сущность индивида, если отдавать предпочтение социальному. Становятся необходимыми бесчеловечные средства, несущие несчастье людям. В противоположность этому человеческая революция, отдающая первенство человеку и проводимая путём религиозного опыта, необходимо сопровождается и социальной революцией. Это то, что мы находим в буддизме».[75]
В теории «человеческой революции», претендующей на роль коренного средства изменения современной общественной нравственности и ратующей за восстановление буддийских моральных ценностей, вечных, неизменных и неотделимых от японской духовной культуры, преуменьшается влияние экономических и социально-политических факторов на жизнь всякого общества. Недостаточно противопоставить возрождение исконной нравственности японцев, моральных констант японского буддизма реальным противоречиям действительности, нужно вместе с тем указать действенные пути преобразований социальных и экономических основ современного несправедливого общества. Однако Икэда обходит данный вопрос стороной.[76]
Что касается «научного» направления современных японских этических концепций, то его характерный представитель, этнопсихолог Дои Такэо, находит объяснение уникальности японской морали в особом, исторически неизменном качестве психики каждого японца, называемом амаэ (потребность зависимости, готовность к обожанию). «Амаэ, – пишет он, – это термин исключительно японского языка, что указывает на особую роль обозначаемых этим термином психических качеств японца. Сама социальная система Японии предполагает наличие таких психических качеств… Амаэ раскрывает не только душевный склад японца, но и является понятием, дающим представление о структуре японского общества».[77] По мнению Дои, амаэ – причина и основа чисто национальных свойств японцев, обусловивших такие черты культуры этого народа, как склонность к заимствованиям, проявившаяся в усвоении достижений китайской (V–VI вв.) и западной (XIX в.) цивилизаций; «групповое мышление» и слабо выраженное личностное начало; живучесть императорской системы; предпочтение эмоционально-интуитивного постижения явлений интеллектуальному.
Однако придание амаэ атрибутов «исконности и постоянства» противоречит фактам истории японского общества. Свойства характера, обозначаемые амаэ, возникли у японцев отнюдь не на заре японской цивилизации, а явились в основном продуктом длительного господства в Японии феодальных отношений. Зависимость человека от человека, потребность в связи существует во всяком обществе, не только в японском, но претерпевает исторические превращения. Это относится и к амаэ, которое, несмотря на кажущуюся устойчивость, подвержено переменам. Разумеется, отношение амаэ, отражающее психическую предрасположенность японцев к тесным межличностным связям, является нравственным в своей основе. Однако сам же Дои Такэо, предложив вначале амаэ в качестве универсального «ключа» для понимания японской личности и японского общества, вынужден в итоге признать, что современные общественные отношения в Японии не способствуют сохранению этой черты национальной психологии, а видоизменяют и даже разрушают её.
В следующем подразделе мы постараемся показать, что константы японского духа, японского морального сознания, о которых говорят представители этической мысли современной Японии, имеют вполне обозримую историю формирования. Принятие определённых характеристик за константы бывает оправданным в каких-то конкретных, локальных исследованиях, при этом совершенно недопустимо игнорировать их преходящий характер, игнорировать диалектику морали в её воздействии на общественную жизнь, как это делается сторонниками двух указанных подходов.
Какие же особенности исторического и социального развития способствовали закреплению в общественном сознании традиционных форм японской морали, и по сей день играющих важную роль в этой стране, где, по словам известного культуролога Анэсаки Масахару, «авторитет и традиция, а не личность и сознание выступают главными основаниями моральности».[78]
Особенности генезиса моральных представлений в Японии
Островное положение и географическая удалённость от центров мировой культуры пагубно сказались на социально-политическом и культурном развитии Японии в первые века её цивилизованной истории. Сравнительное отставание Страны восходящего солнца проявлялось и в дальнейшем, когда были установлены постоянные контакты с могущественным соседом – Китаем. Авторитет Китая породил не только дословное воспроизведение заимствованных идей, но даже перенимание письменности – китайской иероглифики. Таким образом, специфика японской национальной духовной традиции заключается в том, что, хотя её основу составляла внутренняя диалектика общественных отношений, свои исторические формы она приобретала под сильным воздействием иноземной культуры.
Обратимся непосредственно к истории японской морали. Как один из способов регуляции социальной жизни мораль формируется при выходе общества из родового строя, когда индивидуум приобретает определённую личную независимость и освобождается от родовых уз. В Японии IV–V вв. данный процесс протекал параллельно с сословной дифференциацией общества.[79] При родовом же строе нравственного сознания как такового не существовало, были лишь его зачатки. Низкий уровень развития производительных сил обусловливал полную зависимость древнего японца от природных стихий, да и сам он не мыслил себя вне их. Первые протонравственные понятия выступали моментами практически-трудовой деятельности коллектива и отражали не столько оценку человеческого поведения, сколько природные явления. «Среда обитания» жёстко детерминировала поступки людей, неукоснительное выполнение правил быта общины отождествлялось с природной необходимостью. Свободы выбора, характерной для моральной регуляции, не существовало и не могло существовать, поэтому о морали как об основе поведения индивида, самостоятельной форме общественного сознания тогда не могло быть и речи.
Постепенно всё более усиливающееся имущественное и социальное расслоение привело к усложнению общественной структуры и созданию раннефеодального государства Ямато во главе с императором. Позднее появились «законы» («Уложение 17 статей» (604), приписываемое принцу Сётоку Тайси), – в которых правовые и моральные требования ещё чётко не разграничены,[80] но из которых видно, как по мере выхода индивидуума из «естественной» слитности с природой и из узких рамок родового права происходит образование более сложных форм регуляции человеческого поведения.
Период V–VI вв., ознаменовавшийся началом бурного проникновения в Японию китайской культуры, был переходным от родового строя к феодальному. Это отразилось и в переходном характере первоначальных нравственных категорий. Наряду с моральным они имели и космологический смысл, что в настоящее время породило несколько точек зрения на их интерпретацию.[81] В духовной сфере на смену синкретическому мифоритуальному сознанию пришли дифференцированные формы общественного сознания: религиозная, этическая, правовая и др. Из них, по мнению ряда исследователей, только религиозная стала наследницей собственно японской традиции. Произошла своего рода религиозная «специализация» мифоритуального сознания древних японцев. Японские мифы во времена распространения китайского влияния были названы «Синто» (Путь богов) и на протяжении последующих столетий служили основой религиозных обрядов. Собрание синтоистских мифов, систематизированных в 712 г. в свитках «Кодзики» (Записи о деяниях древности) представляет особый интерес для исследования японской морали. Анализ «Кодзики» убеждает в правильности выводов учёных о постепенном выкристаллизовывании моральных воззрений из мифоритуального сознания. Академик Н. И. Конрад, подчёркивающий важность «Кодзики» для изучения нравственности древних японцев, зафиксировал в этом своде мифов наличие категории «должное» в виде понятия «очищения» (xapau).[82] Кроме того, в «Кодзики» присутствуют генетические предшественники первых моральных категорий – понятия «добро» (ёси) и «зло» (acu).[83]
То обстоятельство, что японские мифологические образы использовались в дальнейшем только в религиозной области, нередко приводит к неверной трактовке происхождения собственно японской морали исключительно из религиозного мировоззрения.[84] Однако именно в недрах японской мифологии, ещё до появления развитых религиозных доктрин, возникли протонравственные понятия, нашедшие отражение, в частности, в именах божеств «Кодзики».[85] Следовательно, знакомство с ввезёнными из Китая и получившими широкое распространение буддизмом и конфуцианством не было первотолчком в развитии нравственных представлений в Японии. Превозношение влияния «китайских учений» ведёт к тому, что буддийская и конфуцианская этики выступают в качестве почти единственных факторов формирования японской морали. Последняя же рассматривается не как отражение и выражение стихийно складывавшихся форм общественного сознания (этическая теория или моральный кодекс сами по себе не могли решающим образом воздействовать на практическое формирование нравов), а как просто заимствованная и прошедшая в неизменном виде через века истории.
Достаточная широта и гибкость учения конфуцианства и многочисленных школ буддизма делали возможной их быструю адаптацию к изменявшимся условиям жизни и социальным ориентациям японского феодального общества.[86] «Китайские учения» задавали тон в монастырях и учебных заведениях, стали неотъемлемой частью литературы и искусства. Категории конфуцианской этики служили не только материалом для умственных упражнений, но имели вполне практический смысл: на них ориентировались люди в повседневной жизни. При этом свобода морального выбора в феодальной Японии была весьма ограничена – правила морального поведения приобретали форму обычая и были единообразны для людей данного сословия. Жёсткое сословное деление общества и отгороженность страны от остального мира также способствовали укреплению буддийско-конфуцианской традиции и сформировавшихся в её рамках понятий, идеалов, схем морально одобряемого поведения.
Буддизм и конфуцианство различались по своим социальным функциям. Конфуцианство оправдывало общественное неравенство, укореняло в сознании японцев спокойное отношение к несвободе, к личной зависимости как к естественному порядку результату изначального неравенства людей в добродетели. Справедливость общественных отношений выступала как нравственная и божественно-космическая гармония, воздававшая каждому по его сословному статусу. Даже конфуцианское понятие человечности (дзин) подразумевало неравенство людей в зависимости от их социального положения. «Воля неба», бывшая высшим авторитетом и требовавшая от индивидов гуманности, оправдывала изначальность, незыблемость этого неравенства.
Что касается буддизма, то в нём, наоборот, делался акцент на всеобщем равенстве людей (поскольку каждый обладает потенцией Будды). Такая установка была своеобразным протестом против жестокости сословных рамок феодального общества. В то же время превозносимый и пропагандировавшийся буддийскими проповедниками идеал нравственной личности, отстранённой от мирской суеты и снисходительно взирающей на окружающих, погрязших в мелких заботах и интересах, способствовал выработке пассивно-созерцательного отношения к противоречиям социального бытия. Развитая церковная организация буддизма в Японии обеспечивала контроль над всем населением страны. Нормы буддийской морали пронизывали духовную жизнь всего японского общества, и почти все мыслители феодального периода ориентировались на них в своём творчестве.
Очевидно, таким образом, что буддийская и конфуцианская традиция взаимно дополняли друг друга в сфере этических идеалов, способствовали образованию в моральном сознании японцев ситуации «подвижного равновесия», когда, казалось бы, несовместимые, противоречащие с точки зрения обычной логики идеалы на протяжении веков прекрасно уживались вместе. При этом, конечно же, один из них мог выступать формально лидирующим, а другой – находиться в оппозиции.
Буддизм и конфуцианство неслучайно утвердились в духовной жизни Японии. Их идейные установки соответствовали действительным тенденциям формирования общественного сознания. И хотя общественные противоречия порождали своеобразный «эклектизм» морального сознания, оно тем не менее выступало как целостное, отвечая потребностям складывавшегося общества. И буддизм, и конфуцианство оказались, по существу, готовым концептуальным материалом для обоснования моральной надстройки японского общества.
Искусственная консервация социальных отношений в феодальной Японии, отгородившейся от внешнего мира, влекла за собой закрепление соответствующих нравственных представлений. Следует подчеркнуть, что эти представления являлись не просто сводом отвлечённых, декларативных норм и рассуждений. Глубоко укоренившись в сознании каждого японца, они выступали практическими регуляторами повседневного поведения людей. Данный момент обусловил специфику относительной самостоятельности духовной жизни в Японии, её кажущуюся независимость от качественных сдвигов, происходивших в системе общественных отношений.
Японское моральное сознание и проблема «типа мышления»
Относительная самостоятельность духовной жизни в Японии послужила поводом для заявлений об уникальности и извечности японской духовной культуры, об особых «константах» морального сознания и «типе мышления» японцев. Именно из «типа мышления» выводятся якобы абсолютно не меняющиеся установки сознания, определяющие «постоянство поведения» японского народа, особую японскую мораль.
Понятие «тип мышления» связано с постулированием «иероглифической» японской цивилизации, вместе с китайской кардинально отличающейся от всех неиероглифических культур. Это ярче всего проявляется в само́й иероглифической письменности, в её так называемой грамматической неопределённости, отсутствии чёткости в обозначении единственного и множественного числа и т. д. Кроме того, в японском языке существует много иероглифов, имеющих до двадцати значений, различимых лишь в контексте. Благодаря своей образной конкретности иероглиф вызывает в сознании скорее пучок ассоциаций, нежели строгое понятие. Подобная языковая «расплывчатость» препятствует развитию дискурсивного мышления, что сказалось на японской мыслительной традиции, и в частности, на моральных теориях.
На наш взгляд, следует различать проблему укорененности иероглифики в национальной культуре Китая и Японии и собственно проблему «типа мышления». Показательно, что до сих пор ни один из сторонников «типа мышления» не дал достаточно строгого научного определения этого понятия.
Современные философы Накамура Хадзимэ и Кисимото Хидэо считают, например, что японский «тип мышления» обнаруживает себя именно в японском языке, который «выявляет человеческие переживания в неаналитической форме».[87] Ни тот, ни другой исследователь не предлагают дефиниции «типа мышления», а вводят его понятие неявно, как производное от уровня использования формально-логических законов и принципов в мыслительной традиции.[88] В Японии, констатируют они, система формальной логики или абстрактных понятий почти не разрабатывалась, что свидетельствует о слабости японцев в области спекулятивного мышления и нашло отражение в этических учениях, созданных японскими учёными.
Однако язык не единственный определяющий фактор в развитии мышления или этических представлений. Более того, происходящее с необходимостью развитие мышления приводит к ломке языковых стереотипов. Сегодня японцы вынуждены изменять традиционную структуру своего языка, а опыт XX столетия демонстрирует успехи Японии в разработке новейших отраслей науки, что было бы невозможно без соблюдения законов логики.
Интересны взгляды ещё одного из приверженцев японского «типа мышления», видного теоретика и популяризатора японского буддизма Судзуки Дайсэцу. По его мнению, специфической чертой «типа мышления» и поведения японцев, японской морали является интуитивное постижение бытия, буддийское по своему характеру. «Буддийская философия, – пишет он, – это система саморазвёртывающейся и самодифференцирующейся праджня (интуиции)».[89] Она определяет особую «буддийскую моральность» японского народа. Праджня обладает не только гносеологической, но и онтологической характеристикой. Будучи единосущной с Абсолютом, лежащим в основе мира, праджня выступает высшим родом познания, преодолевающим дихотомию субъект – объект. Именно факт невозможности разделения единой реальности на субъект и объект без привлечения понятия Абсолюта Судзуки считает аргументом в пользу сверхразумности праджня, «трансцендентной всем видам суждения».[90]
Знаки японской иероглифической письменности, неудобные для передачи дискурсивного мышления, буддийский философ оценивает как удобный инструмент для праджня, поскольку каждый иероглиф «пробуждает конкретные представления, полные недифференцированных импликаций, и является наиболее совершенной формой выражения интуитивно-образного типа мышления».[91] Судзуки считает, что буддистов всего мира объединяют особенные мораль (совпадающая с мировым Законом) и «интуитивно-образный тип мышления». В связи с этим уместно вспомнить слова Гегеля, писавшего что «конкретное заимствуется из обычного представления, которое не может содержать в себе логических принципов, работающих именно в теоретическом познании и отнюдь не лежащих в основе интуитивного мышления».[92] Логические принципы используются мыслящим субъектом сознательно, а не интуитивно. Логическое мышление подразумевает усилие, постоянное внимание к соблюдению логических законов; оно вскрывает противоречивость образного восприятия действительности, его непоследовательность и ограниченность путём анализа внутренней связи явлений. Ориентируясь лишь на интуитивные критерии, мышление утрачивает свой действительный объект познания, заменяет его неким Абсолютом и становится субъективным, иллюзорным по характеру.
Значение, придававшееся японцами-буддистами интуитивному познанию, которое противопоставлялось дискурсивному мышлению (как «неистинному», неспособному постичь буддийское единство мира, разлагающему всё на части и расчленяющему субъект-объектное единство буддийского бытия на «мёртвые» противоположности) вполне объяснимо. Японский язык с его иероглификой, естественно, препятствовал возникновению системы формальной логики и даже её усвоению японскими мыслителями, являлся тормозом для распространения абстрактного мышления в Японии, общественное сознание которой веками находилось в русле влияния буддийской традиции. Это наложило отпечаток и на моральные представления японцев.
Интуитивное познание, а точнее своеобразный «нравственный инстинкт», интуитивное воспроизведение индивидами моральных норм – неотъемлемое и необходимое качество всякого общественного нравственного сознания. Этим, в частности, мораль как особая форма общественного сознания отличается, скажем, от науки или даже философии. «Сама мораль есть синтез… чувственного и рационального, конкретного и абстрактного. Это такое чувственное, где есть своя логика, не менее «железная», чем формальная. Это такое рациональное, которое само оперирует эмоционально-волевыми ансамблями. Интуиция здесь выступает в единстве чувственного и рационального моментов, как способ ускоренной, непосредственной ориентации в мире социальных ценностей».[93] В этом плане следует признать, что претензии японских исследователей, подчёркивающих достоинства моральных установок японского народа, не лишены оснований: «нравственный инстинкт» японцев на самом деле необыкновенно силён, впечатляет их способность угадать и прочувствовать тонкости самой деликатной ситуации. Это качество может составить гордость японской нации, её действительно характеристическую черту в мировом сообществе. Но отсюда совсем не следует, что японцы обладают каким-то особым моральным «типом мышления», неизменно сохранявшимся во все времена. В ходе становления и развития капитализма в Японии там вступили в силу и общие закономерности моральной регуляции. Поэтому японская общественная мораль, несмотря на попытки националистически настроенных идеологов представить её вечной, неизменной, одинаковой для всех японцев и независимой от социальных условий, претерпела и продолжает претерпевать значительные изменения.
* * *
При встрече Японии с западной цивилизацией в XIX в. возникла ситуация, которая явилась как бы новым вариантом событий двенадцативековой давности, ознаменовавшихся контактами с Китаем. Тогда, в VII в., Япония, пережив в зачаточном виде рабовладение, познакомилась с китайским образцом феодальной организации общества и успешно заимствовала его. Теперь, следуя примеру государств Запада, Страна Восходящего солнца за столетие совершила резкий скачок и стала передовой капиталистической державой, практически миновав домонополистическую стадию. Установки индивидуального сознания японцев в период утверждения капиталистических отношений не успели в силу краткости этого периода перестроиться полностью на капиталистический лад. Для идеологов же новой Японии «сословно-статусная мораль феодального общества оказалась счастливой находкой. Моральное освящение отношений покровительства, патернализм, корпоративность, иерархичность, ритуализм поведения – все эти особенности феодальной морали можно было эффективно использовать для оправдания и закрепления господства монополий и трестов в условиях своеобразного империалистического неофеодализма».[94]
Наиболее ярко это проявилось в период Второй мировой войны. Милитаристские круги Японии широко использовали моральный код системы обязанностей для разжигания у масс чувства фанатизма во исполнение решения императора сражаться до последнего человека. На щит был поднят моральный кодекс самурайства бусидо, жертвами следования которому стали тысячи японцев.
Авторы послевоенных концепций японской морали отказались от наиболее агрессивных националистических лозунгов «нравственного гегемонизма». Однако в последнее время они всё чаще начинают звучать в работах современных исследователей, стремящихся интерпретировать и использовать традиционные нравственные представления японцев.[95] Причем эти исследователи сознательно смешивают понятия японской общественной официальной морали и нравственные представления японского народа, выдавая их за нечто единое. Прикрываясь целью «духовно объединить» нацию, «встать выше» общественных противоречий, эти идеологи играют на патриотических чувствах японцев, чтобы таким образом способствовать обеспечению стабильности государственной системы и активизации борьбы Японии со своими конкурентами на мировой арене. Однако именно нравственная культура японского народа, ратующая за человечность отношений, взаимное уважение, ненасилие, равенство людей, за их единство в решении общих задач, по сути дела противостоит национализму, на почве которого произрастают идеи шовинизма, милитаризма и гегемонизма. Неслучайно прогрессивные представители японской философской мысли ведут непрекращающуюся борьбу с националистической идеологией, подвергая обоснованной научной критике её мировоззренческие (и этические в том числе) концепции.[96]
«Христианский век» в Японии. К проблеме взаимодействия национальных культур
Будь ты и впрямь европейцем, а я китайцем, говори мы на разных языках, мы и тогда, при наличии доброй воли, могли бы очень многое поведать друг другу и сверх того, очень многое угадав, и почувствовать.
Герман ГессеПроблема взаимоотношения Востока и Запада с их традиционно противопоставляемыми культурами давно привлекает внимание российских и зарубежных учёных.[97] Однако при этом исследуется, как правило, влияние Востока на западную культуру. Нас же, напротив, интересует проблема западного влияния на восточную, в частности на японскую, культуру.
Исследовать воздействие одной культуры на другую довольно затруднительно ввиду необходимости учитывать множество переплетающихся тенденций и факторов, возникающих в процессе взаимоотношений между народами на протяжении истории. Большинство национальных культур давно оказались включёнными в единое мировое культурное сообщество – человеческую цивилизацию. Феномен Японии, долгое время находившейся в изоляции от внешнего мира (вначале – исторически сложившейся, обусловленной островным положением страны, а впоследствии – искусственно созданной правящей феодальной верхушкой с целью сохранения своего политического и духовного господства), кажется нам в этом контексте особенно ценным. Основные контакты японцев с представителями других цивилизаций фиксированы во времени, что делает Японию уникальным объектом для изучения процессов проникновения инородного материала в культуру самостоятельно развивающегося народа. Крайне интересны в этом плане контакты японцев именно с европейцами, с их культурой, значительно отличающейся от восточной культуры соседних народов. Не претендуя на полноту выводов, мы попытаемся рассмотреть некоторые последствия первого, почти столетнего периода (так называемого христианского века) общения японцев с посланцами западного мира в лице сначала португальских миссионеров и торговцев, а затем их коллег из Испании, Англии и Голландии.
Внешние связи Японии до 1542 г. ограничивались контактами с Китаем и Кореей. Более развитый Китай на протяжении нескольких веков выступал в качестве недосягаемого образца культуры, идеала совершенства, к которому следовало стремиться. А всё китайское, начиная с государственной структуры и мировоззрения и кончая планировкой крупных городов и образцами стихосложения, являлось предметом подражания. Знакомство с достижениями китайской цивилизации стимулировало творческую активность и самих японцев, заставляло их пристальнее взглянуть на собственные национальные проблемы. Это привело к возникновению высокой самобытной культуры, ярко проявившей себя в эпоху Хэйан в выдающихся творениях искусства и литературы. Однако для укрепления этнического самосознания, более чёткого определения своего места в мире, невозможного без соотнесения себя с другими народами, для изменения масштаба видения мира японцы нуждались во всё новой информации о Земле, о народах, населяющих другие страны, нуждались в постоянном расширении торгово-экономических и культурных связей с этими народами.
В 40-е годы XVI в. после установления первых контактов с европейцами в Японии наступил так называемый «христианский век». Это время может служить прекрасной иллюстрацией процесса соприкосновения и взаимодействия до сих пор независимо развивающихся народов. Особенно интересна реакция японцев, которые поскольку опять, как в своё время в отношении Китая, стали преемниками достижений иной цивилизации. Конечно, и европейцы многое почерпнули у японцев. Но после первого знакомства с Японией западный взгляд на мир в целом остался прежним – были только внесены уточнения в географические карты и описан ещё один народ. Сознание же японцев претерпело довольно основательные изменения: «В результате общения с европейцами японцы узнали, что кроме государства Кара (Китай) и Тэндзику (Индия), которыми до этого в их представлении и ограничивался мир, существуют цивилизованные страны Запада. Так впервые перед их взором предстала наша Земля. И Нобунага, и Хидэёси, и Иэясу[98] благодаря глобусу и картам мира узнали, какое положение на земном шаре занимает Япония. И здесь необходимо отметить, что взгляд японцев на вселенную с этого времени полностью изменился».[99]
Благодаря торговым операциям состоялось знакомство японцев с материальной культурой Запада, ремеслом, естественнонаучными представлениями и т. п. Японское население восприняло всё это с точки зрения полезности и постаралось усвоить.[100] Европейцы, со своей стороны, помимо чисто экономических стремились добиться и определённых религиозно-политических целей, прежде всего – «христианизации» японцев, вовлечения их в сферу своего духовного влияния. И весьма успешно, доказательством чего служит распространение христианства в Японии в кон. XVI – первой пол. XVII вв. Китайские духовные стереотипы, достаточно прочно укоренившиеся в сознании японцев за долгие годы, не смогли помешать восприятию и усвоению христианских догм.
Первые европейцы попали в Японию случайно.[101] До этого они появились сначала в Китае: в августе 1517 г. корабль португальского купца Фернандо Переса д’Андраде, прибыл в Кантон из Малакки. Невиданное доселе судно и необычные товары вызвали живой интерес у местных жителей, и в первую очередь у китайских купцов. Власти же сначала смотрели сквозь пальцы на бурную деятельность, которую вскоре развернули здесь португальцы, не запрещая, но и не поощряя её. Однако столь мягкое, нейтральное отношение китайских правителей к «южным варварам»[102] продолжалось недолго и было прервано по вине последних.
Первый официальный запрет на торговлю с португальцами последовал уже в 1519 г. Поводом для него послужило недостойное поведение Симао д’Андраде, младшего брата упомянутого выше Фернандо (дебоши, кражи китайских детей с целью продажи в рабство). Китайские власти сочли, что Симао и ему подобные злоупотребляют их благосклонностью и терпением. Тем не менее экономические выгоды китайского купечества, заинтересованного в сотрудничестве с европейцами в морских перевозках (португальские корабли были значительно большего водоизмещения и надёжнее в длительном плавании), оказались выше соображений морали и, несмотря на запреты, торговля продолжалась на неофициальном уровне.
В 1542 г. один из португальских кораблей принесло штормом к японским берегам. А уже в 1543 г. португальцы организовали экспедицию в Японию и их суда бросили якорь у острова Танэгасима.
Япония второй половины XVI в. представляла собой феодальное государство, состоящее из разрозненных удельных княжеств, управляемых крупными феодалами – даймё. Все они стремились к максимальной автономии, но автономию могло обеспечить только могущество, подкреплённое богатством. Одним же из важнейших источников богатства была торговля. Поэтому заинтересованные в торговле с португальцами западные даймё охотно допустили их в свои владения.
В августе 1549 г. в Японию прибыл миссионер-католик, член ордена иезуитов Франциск Ксавье и семь его сподвижников (в том числе трое японцев – выпускников иезуитского колледжа св. Павла в Гоа). Они высадились в г. Кагосима, столице княжества Сацума и, не теряя времени, приступили к проповедям, а затем и крещению местного населения. Дело продвигалось весьма успешно. Ксавье так характеризовал японцев: «Эти – лучший народ, обнаруженный столь далеко, и кажется мне, что среди неверующих нельзя найти народа, превосходящего их».[103] Глава иезуитов познакомился с сацумским даймё Симадзу Такахиса и снискал его расположение своими прекрасными манерами и образованностью. Выяснив, однако, что Такахиса не является правителем всей Японии, Ксавье после десятимесячной деятельности отправился в столицу к самому императору в надежде открыть ему истины христианства и убедить в необходимости крещения всего японского народа. Но к императору он не был допущен, и визит не состоялся.
Всё же Ксавье удалось завязать новые знакомства в столице. Он добился расположения ещё нескольких даймё и увлёк их перспективами дальнейшего экономического сотрудничества с Западом. Как и сацумский правитель Такахиса, эти даймё согласились допустить иезуитов в свои владения. Кроме того, Ксавье имел в столице несколько теологических бесед с монахами буддийской школы Сингон. Несмотря на то, что обе стороны отметили сходство исповедуемых ими религий, Ксавье пришёл к убеждению, что даже в этой, наиболее близкой по духу христианству школе «сатана прочно укоренился».[104] (Основателя школы Сингон – крупного японского мыслителя Кукая (774–835), чьи творчество и деятельность во многом определили стиль духовной жизни Японии хэйанского периода, португальцы стали считать одним из воплощений сатаны.) Поэтому иезуиты упорно развивали свою миссионерскую деятельность ради христианского «спасения» народа Японии. Здесь даже начали возводиться католические церкви, где тысячи вновь обращённых христиан могли беспрепятственно слушать проповеди и молиться.
Первый из великой тройки объединителей Японии сёгун (военачальник) Ода Нобунага (1534–1582), положивший начало укреплению единой централизованной власти, признал христианство и благоволил к иезуитам. Он даже заинтересовался созданием католической семинарии и выделил соответствующее место для неё. Произошло это, вероятно, по двум причинам. Во-первых, привлекали экономические выгоды сотрудничества с заморскими гостями. А во-вторых, нужен был противовес росту духовного и политического влияния буддизма.[105] Такое высокое покровительство христианству способствовало его дальнейшему распространению христианства не только на западе страны, но и в центральных провинциях. Креститься стало модным.
Письма отцов-иезуитов того времени свидетельствуют о стремительном росте числа японских христиан-неофитов. Так, о. Вилем писал, что количество христиан в Японии, главным образом в западных провинциях, в 1571 г. составляло 30 тыс. человек. Миссионер о. Органтино писал тогда же, что за шесть месяцев он крестил около семи тыс. человек. О. Фруа сообщал о наличии только в одном из районов столицы пяти тысяч христиан. К началу 80-х гг. XVI в. в Японии насчитывалось уже 130 тыс. последователей Христа; по данным о. Валиньяно (1582) – 150 тыс., двести церковных храмов и две семинарии. В провинциях Бунсо, Арима и Тоса сами правители были христианами. И это спустя всего лишь 30 лет с момента прибытия в страну проповедников, количество которых в первые десять лет не превышало дюжины! Даже если мы сделаем скидку на преувеличение иезуитами плодов своего миссионерского рвения и сократим цифры вдвое, всё равно картина получается впечатляющая. «Если ранее ввезённый из Китая буддизм насаждался сверху, ибо это соответствовало субъективным запросам господствующего класса Японии, и распространялся почти безотносительно к китайским религиозным организациям как таковым, – пишет историк японской культуры Иэнага Сабуро, – то христианское учение, успешно проповедовавшееся миссионерами из европейских католических орденов, сразу же было обращено к массам и за короткое время привлекло на свою сторону многочисленных последователей».[106]
Захвативший власть в 1582 г. Тоётоми Хидэёси (1536–1598) также поощрял иезуитов. Некоторые его приближённые являлись христианами и занимали высокие ступени в иезуитской иерархии. Таков был, например, советник Кониси Рюса, назвавший своего сына Августином и отдавший его на воспитание иезуитам; а также советник Такаяма Нагафуса, который во времена последовавших гонений на христиан спасал верующих. Тоётоми не раз благосклонно принимал у себя иезуитов высокого ранга. Так, побеседовав с о. Органтино в 1583 г., он пожертвовал в пользу церкви участок земли в г. Осака, где собирался основать новую столицу страны. В 1586 г. состоялась его встреча с большой группой иезуитов. Тоётоми хвалил их деятельность и делился своими планами захвата Кореи и Китая с последующим насаждением там христианства. Интересно, что на нескольких знамёнах этого сёгуна красовался христианский крест. Как и его предшественник, Тоётоми продолжал борьбу с буддийскими монастырями и разрушил некоторые из них. Успешно проведя летом 1587 г. кампанию по подавлению мятежных феодалов центральной Японии, Хидэёси пожаловал там иезуитам земельные участки для строительства церквей.
На фоне столь доброжелательного отношения к христианам тем более неожиданным явился эдикт Тоётоми Хидэёси от 25 июля 1587 г., запрещающий миссионерскую деятельность в стране и обязывающий всех иезуитов покинуть Японию в двадцатидневный срок. Непосредственные причины появления данного эдикта нам не известны. Можно лишь предполагать, что он был издан из-за возникшей обеспокоенности японского правителя слишком уж быстрым ростом влияния христианских проповедников, объединявших верующих вокруг себя в духовные союзы, которые со временем могли бы стать угрозой центральной власти.
Иезуиты вынуждены были прекратить крещение населения и проповеди. Но благодаря всё ещё достаточно либеральному отношению Тоётоми, готовому терпеть западных христиан у себя дома во имя выгод торговли, некоторые из них продолжали жить даже в столице. Постепенно миссионерская деятельность возобновилась, и к 1592 г. появилось ещё 52 тыс. новообращённых.
Такое положение длилось до 1593 г. и было нарушено вторжением в Японию испанских францисканцев. Прибыв с Филиппин, они, невзирая на указ 1587 г., открыто стали проводить массовое крещение населения и самовольно строить церкви. Обеспокоенный Тоётоми попытался было с ними договориться. Он послал представителей к испанскому губернатору Манилы и сам принял испанских эмиссаров. Однако грубость испанцев, безусловная уверенность в собственных «благих» целях, оправдывающих любые средства, отнюдь не способствовали налаживанию добросердечных отношений. Францисканцы демонстративно продолжали свою деятельность, ведя при этом разговоры о грядущем испанском владычестве над Японией. Это было слишком даже для Тоётоми Хидэёси.
В 1597 г. последовал новый, гораздо более строгий эдикт против христиан. Настал час их жестоких гонений. В феврале 1597 г. была арестована, а затем распята на крестах целая группа францисканцев, в том числе и вновь обращённые японцы. Забегая вперёд, отметим, что в последующие годы число казнённых христиан составляло от двух до восьми человек в год (кроме 1605 г., когда был уничтожен целый семейный клан Ямагути – 102 человека) и достигло к 1612 г. 132 человек. Все они были японцами.[107]
Преемник Тоётоми Хидэёси, сёгун Токугава Иэясу (1542–1616), опять же ради выгод торговли, решил восстановить дружеские отношения с европейцами и разрешил им миссионерскую деятельность. Он обратился к губернатору Филиппин, предлагая сотрудничество и давая понять, что не будет строг в отношении христиан. Но вскоре Токугава (а позже и его наследники), как и Тоётоми, видимо, осознал, что распространение христианства, на первый взгляд безобидного, влечёт за собой эрозию религиозно-нравственных представлений синтоизма, конфуцианства и буддизма, на которых зиждилось социальное и духовное единство управляемого им народа.
С 1614 по 1639 гг. последовала серия эдиктов, показывающих, что сёгунское правительство – бакуфу пошло на ослабление своих позиций в экономике ради пресечения «идеологической» опасности. Торговые отношения с Западом, ставшие к тому времени прерогативой бакуфу, были почти полностью прекращены, а все иностранцы выдворены из страны, за исключением небольшой колонии голландцев-протестантов на о-ве Дэсима.
Преследования же собственных христиан возобновились с ещё большей силой и достигли пика в 1625 г.[108] В 1638 г. было жестоко подавлено 37-тысячное восстание на п-ове Симабара, руководимое христианами. Христианство искоренялось огнём и мечом. Казни продолжались до 1660 г., так или иначе подверглись наказанию 200 тыс. человек. Около ста тысяч продолжали исповедовать христианство тайно, их приютами стали небольшие острова Японского архипелага.
Надо сказать, японские адепты Христа стойко вынесли всю тяжесть обрушившихся на них репрессий и на протяжении более чем 220-летнего периода закрытия страны, передавая из поколения в поколение христианские заветы, смогли сохранить свою веру.[109] В связи с этим важно было бы отметить разницу в отношении к европейцам, их культуре, существовавшую между Китаем и Японией как в сфере официальной политики, так и в сознании простого народа. Деловая активность японцев и их очевидный интерес к христианству являют собой контраст равнодушию к европейцам со стороны Китая, где к началу XVIII в. было «христианизировано» лишь 100 тыс. человек – мизерная цифра для такой огромной страны.
Представляется, что заинтересованность японцев была обусловлена особенностью их культурного развития: здесь был очень высок, по крайней мере до X в., авторитет иностранной, прежде всего китайской, традиции. Японцы в течение нескольких веков выступали в роли рецепторов чужеземной (пусть и близкой им по духу) культуры. Вряд ли они восприняли западные образцы как нечто более высокое, по сравнению с их собственной цивилизацией, но их любопытство и любознательность были велики. В то время как китайцы в течение долгого времени находились в привилегированном положении по отношению к соседним народам[110] и смотрели на прибывших европейцев свысока, японцам их более скромное положение помогло правильнее оценить пришельцев: к ним отнеслись не как к чему-то «высшему» или «низшему», а как к просто иному.
Разрыв с христианским миром принес сёгунату и крупнейшим даймё – Симадзу Мацуура, Набэсима и Омура – немалые убытки. Прекратилась практикуемая ими с начала XVII в. выдача лицензий судовладельцам на торговлю с заграницей. Замерла деятельность японских торговых поселений, рассеянных по всей Юго-Восточной Азии. Пустынны стали окружающие Японию морские пространства. Их уже не бороздили европейские суда, перевозившие прежде товары японского экспорта и импорта. В самой Японии особенно большие убытки понёс порт Нагасаки, так как все его жители прямо или косвенно были связаны с внешней торговлей, что обеспечивало им более высокий, чем в других областях страны, уровень жизни. Все торговые отношения Японии с западным миром свелись к курсированию единственного корабля из колонии на о-ве Дэсима, делающего только один рейс в год. Несомненно, и европейцы многое утратили с закрытием для них Японии. И не только материальных выгод – они лишились общения с доброжелательным и самобытным народом, оставившим у многих из них самое благоприятное впечатление.
Среди историков существует мнение, что алчные, ограниченные, не очень образованные европейцы, преследовавшие в Азии свои цели, не считавшиеся с интересами местного населения и не интересовавшиеся оригинальной культурой, не могли дать японцам ничего ценного. Напротив, пришельцы, мол, зачастую грабили местное население и ввергали его в кровопролитные братоубийственные столкновения на религиозной почве. Однако многочисленные свидетельства современников описываемых событий (и европейцев, и японцев) говорят об ином.
На самом деле японцам удалось воспринять от европейцев очень многое. Так или иначе, европейцы были носителями не только совершенно незнакомой, но и высокой культуры. К тому же Японию «открывали» не только своекорыстные купцы и фанатичные иезуиты, но и незаурядные личности вроде талантливого учёного Морейры, в течение двух лет (1590–1592) исследовавшего Японские острова и впервые составившего точную географическую карту Японии и Северо-Восточной Азии.
Соприкосновение с чужой культурой отразилось в произведениях японской литературы. Остановимся для начала на кратком анализе особо примечательной, на наш взгляд, повести о христианах и христианстве в Японии «Кириситан-моногатари», написанной в 1639 г. Дата создания и тенденциозный характер данного произведения ясно указывают на то, что анонимный японский автор (или авторы, поскольку разные части повести написаны в резко отличающейся друг от друга манере) выполнял социальный заказ. Ведь 1639 год – время окончательного изгнания европейцев из Японии. Поэтому основной задачей повести является дискредитация христианства и его последователей всеми доступными средствами.
Сначала автор приглашает читателей посмеяться над христианами и дает намеренно искаженный портрет типичного христианина (в качестве такового выступает португальский монах Батерен), подчёркивая нелепость его поведения: «Из корабля появилось неизвестное существо, сходное по виду с человеком, но выглядящее, однако, гораздо более похожим на тэнгу.[111] После расспросов выяснилось, что это существо называлось Батерен. Длина его носа – вот первое, что привлекло внимание: нос был похож на морскую раковину, хотя и без наростов, присосавшуюся к его лицу. Его глаза были огромны, а внутри – жёлты. Голова маленькая, на руках и ногах – длинные когти. Он был высок и чёрен с ног до головы, лишь нос был красен. Его зубы превосходили по длине лошадиные, а волосы были мышиного цвета. На лбу – шрам от опрокинутой винной чаши. Его речи были вовсе непонятны, голос звучал пронзительно, как крик совы».[112]
Но автору повести недостаточно вызвать у читателей презрительную усмешку,[113] ему надо ещё и попугать их. Для этого он красочно изображает ужасные казни христиан, предостерегая своих соотечественников и грозя неизбежной расплатой всякому, кто осмелится стать христианином.
И наконец, дабы окончательно опорочить христианские идеи, создатель «Кириситан моногатари» описывает теологический диспут между иезуистским монахом-японцем по имени Фабиан[114] и буддийским монахом Хакуо Кодзи из секты Дзэн. Они приглашены вдовой одного из владетельных даймё, с тем чтобы в ходе спора установить единственно правильный путь спасения души этой набожной женщины. Первым слово предоставляется иезуиту. Из его уст мы слышим сначала сжатое изложение событий Ветхого Завета: историю сотворения мира, человека и человеческого грехопадения. Попутно Фабиан отмечает превосходство христианского Бога-творца, вечного, бессмертного и всемогущего, над буддийскими и синтоистскими божествами – Буддами, Бодхисаттвами и ками, являющимися по своей природе просто необычными воплощениями человеческих существ. «Великий Бодхисаттва Хатиман, – говорит иезуит, – на самом деле есть император Одзин, который был человеком».[115] «Всех неверующих грешников, – продолжает он, – ждут страшные муки ада, а идущие по пути добра христиане обязательно попадут в рай».[116] Далее он коротко рассказывает евангельскую историю Иисуса Христа, рождённого непорочной девой Марией, чтобы искупить людские грехи. В заключение монах превозносит могущество огромной страны «южных варваров»,[117] по сравнению с которой все Японские острова – лишь крошечная песчинка. Он поясняет высокий и благородный смысл проповеднической деятельности посланцев этой страны, призванных просветить и спасти погрязший в заблуждении японский народ.
В спор вступает буддийский монах и задаёт своему противнику ряд вопросов-опровержений. Начнём с того, говорит он, что в самых древних буддийских книгах[118] нет никакого упоминания о всемогущем христианском Боге. Из них известно о совсем других богах. Но, предположим, христианский Бог всё-таки существует. Для чего этому Богу нужно было создавать человека? «Это была игра? Или, может быть, Господь почувствовал себя одиноким и сотворил человека, чтобы иметь товарища для бесед или просто шута? – иронизирует буддист. – Далее, если христианский Бог создал людей, то почему же тогда он не смог сразу утвердить своё единое истинное учение среди всего человечества, и его бедные апологеты-миссионеры вынуждены преодолевать громадные расстояния, избегать многих опасностей лишь для того, чтобы распространить это учение на столь маленьком клочке Земли, как Япония? По поводу же Иисуса Христа можно только удивляться, что объектом поклонения выступает слабый, убогий, беспомощный человек, не сумевший воспротивиться истязаниям и распятый на кресте. И может быть, Христос действительно заслужил такое обращение, будучи сыном Бога, создавшего по своей прихоти людей и заставившего их страдать в этом несовершенном мире? Вообще, христианский Бог кажется мне дьяволом»,[119] – заключает буддийский монах и разражается грубой бранью: «Выгоним святую Марию отсюда! Она дала жизнь невоспитанной безотцовщине. Я бы побил её ногами!».[120]
Затем этот монах популярно излагает буддийское учение и завоёвывает расположение вдовы, признавшей истинность его аргументов. Итак, торжествует буддизм. Вот она – настоящая истина, настоящая вера наших предков, резюмирует «Кириситан моногатари», апеллируя к патриотическим чувствам читателей-японцев.
Однако попробуем посмотреть на всю эту антихристианскую апологетику трезвыми глазами незаинтересованного читателя. Начнём с внешнего вида христианина. Действительно, облик изображаемого в повести Батерена смешон и нелеп. Причем нелеп до абсурда – только никогда не видевший европейцев и чересчур наивный человек сможет поверить в то, что они таковы на самом деле. Кроме того, если христианин, этакое чудище, удостоился специального столь подробного описания, то значит он у автора вызывал несомненный интерес.
Что касается изображения страшных казней последователей Христа, то, хоть создатель повести и считает эти казни справедливыми, он в то же время признаёт необычайную стойкость и мужество христиан, готовых за веру пойти на костёр или быть распятыми. Мало того, он свидетельствует, что после казней люди растаскивают кусочки крестов на амулеты, веруя в их чудодейственную силу. Так в повести невольно констатируется вера населения в могущество христианства.
Что касается попытки теологического развенчания христианства на примере диспута Фабиана с буддийским монахом, то здесь важно заметить, что всякую религиозную догматику можно условно разделить на две части. Первая – это сакральные «истины веры», находящиеся на недосягаемой для разума высоте и принимаемые поэтому без доказательств. Вторая – часто выступающие объектом философских спекуляций теологов так называемые истины разума, якобы доступные определённому рациональному обоснованию и пониманию. Но даже христианские философы прекрасно сознают, что истины веры в отличие от «доказуемых» истин разума, не стоит подвергать интеллектуальному анализу, дабы не дискредитировать их.[121] Естественно, любая, даже самая изощренная попытка рационально доказать истинность какой бы то ни было религии обречена в конечном счёте на провал.
Данное обстоятельство часто берется на вооружение не только атеистами, но и теологами в случае необходимости эффективной критики чуждой им религиозной системы. Аналогичную ситуацию демонстрирует диспут в «Кириситан моногатари». Некоторые критические аргументы буддийского монаха в отношении христианских истин веры вполне резонны.[122] Но всё дело в том, что эти же аргументы с равным успехом могут быть отнесены и к самому буддизму, в котором тоже присутствуют недоказуемые рационально истины веры. Правда, христианину не отводится места для подобной критики буддизма, тогда как буддисту дана полная свобода поливать грязью христианство и издеваться над ним. К тому же буддист – в расчете на симпатии читателя – постоянно подчеркивает свои патриотические чувства и свое преклонение перед верой предков. Буддист побеждает в споре только потому, что он должен победить по замыслу автора повести. «Кириситан моногатари» – наглядный пример пропагандистского сочинения, используемого властями с целью опорочить христианство.
Интерес японцев к христианству, помимо прочего, способствовал выдвижению из их числа незаурядных мыслителей религиозного толка. Однако вновь обращённым теологам приходилось преодолевать сопротивление некоторых иезуитских иерархов, ревниво оберегавших свой приоритет в вопросах веры, видящих в местном населении людей второго сорта, пассивную паству, «человеческий материал» для утверждения воли Господней и тем самым отталкивающих японцев от христианства. Таким религиозным снобом был, например, глава иезуитской миссии в Японии в 1570–1581 гг. Франсиско Кабрал.[123] Убежденный в никчемности язычников-азиатов лишь на том основании, что их культурные и религиозные традиции были непривычны и отличны от европейских, Кабрал стремился всячески ограничивать функции японских христиан в церковной деятельности. Он смотрел свысока на японцев, сдерживал их инициативу, не давая продвигаться по ступеням иезуитской иерархии; препятствовал изучению латыни и португальского языка, сохраняя таким образом языковой барьер между высшими (европейцы) и низшими (японцы) чинами иезуитов. Вот почему многие христиане-японцы отчасти из-за колебаний официальной политики японских властей, отчасти из-за обид постоянно уязвлённого иезуитами самолюбия предавали христианство. Показательна в этом отношении судьба одарённого японского теолога Фабиана Фукана, получившего известность сначала в качестве апологета христианства в Японии, а затем в качестве его ярого врага.[124]
Как свидетельствуют отчёты португальских миссионеров, Фабиан Фукан родился в 1565 г. До своего крещения (предположительно в 1586 г.) он был дзэнским монахом-буддистом, что подтверждается и содержанием его работ, демонстрирующих превосходную осведомлённость автора в буддийской догматике. Обратившись в христианскую веру, Фукан стал её горячим поклонником, выучил латынь. Он принимал участие в теологических дискуссиях с буддистами на стороне христиан и сочинял труды, прославлявшие учение Христа. В 1605 г. Фукан создаёт «Мётэй мондо» – прохристианское произведение, описывающее беседу двух монахинь, в ходе которой доказывается и восхваляется истинность христианства в противоположность буддизму, конфуцианству и синтоизму. Через год, в 1606 г., состоялся диспут между Фуканом и ставшим впоследствии очень известным неоконфуцианцем Хаяси Радзаном. Запись этого диспута Хаяси опубликовал под заглавием «Ха ясо» (Против иезуитов).
В своем труде Фукан, ярый адепт христианской религии, достаточно убедительно (даже в интерпретации Хаяси) расправляется с доводами неоконфуцианца. Но следует подчеркнуть, что речь в сочинении идёт не только и даже не столько о преимуществах или недостатках христианства, сколько о приятии или неприятии западной культуры как таковой. Невежественный в области естественных наук, Хаяси Радзан, постоянно апеллирующий к авторитетам конфуцианства, явно проигрывает просвещённому европейцу Фукану Вот как Хаяси пытается, например, опровергнуть заявление Фукана о шарообразности Земли: «Такое обоснование невозможно. Как может быть небо под Землёй?.. Говорить, что нет верха и низа – это отрицание разума… Чжу Си утверждал, что половина неба вращается вокруг дна Земли, но твои взгляды не согласуются и с этим».[125] Хотя победу в диспуте Хаяси Радзан приписывает себе, на самом деле, вероятно, противники разошлись, каждый уверенный в собственной правоте.
В том же, 1606-м, году Фукан участвовал ещё в одной теологической дискуссии. На этот раз его оппонентом был известный знаток буддизма из школы Хоккэ. Фукану и его удалось привести в полное замешательство своими доводами.
В иезуитских записях за 1607 г. о Фабиане Фукане говорится дважды. В этом году он вместе с высокопоставленными португальскими иезуитами нанёс визит первому сёгуну Токугава Иэясу удалившемуся на покой, а также побывал в г. Эдо (ныне Токио) у второго сёгуна из династии Токугава – Хидэтада. Это последнее упоминание о Фукане-христианине. Уже в качестве предателя-отступника, изменившего христианской вере,[126] он фигурирует в письме о. Родригеса в 1616 г. И наконец в 1621 г. в одном из португальских писем рассказывается о Фукане, находящемся при смерти в г. Нагасаки, и о его еретическом антихристианском произведении «Ха Дайусу» (Против Бога).
Данное произведение, написанное в 1620 г., – поворотная и одновременно итоговая работа Фабиана Фукана, эволюционировавшего от буддизма к христианству и в конце концов вновь вернувшегося к прежней вере. Содержание «Ха Дайусу» во многом повторяет текст религиозного диспута из «Кириситан моногатари», поэтому мы не будем останавливаться на его анализе. Отметим только, что в «Ха Дайусу» Фукан пытается более спокойно и аргументировано, нежели автор «Кириситан моногатари», критиковать христианскую догматику и восхвалять преимущества буддизма, конфуцианства и синтоизма. Однако чувствуется, что главным стимулом для написания работы послужила не разочарованность автора в христианстве, а его обида на иезуитов, не оценивших по достоинству его преданности и таланта. Не случайно на закате «христианского века» появилось ещё несколько аналогичных произведений раскаявшихся японских теологов, разделивших, по всей вероятности, судьбу Фабиана Фукана (таких как Кавано Тюан и Судзуки Сёсан).
В заключение хотелось бы отметить некоторые благотворные для японской культуры последствия возникших тогда японо-европейских связей. Как уже отмечалось, к концу XVI в. христианство распространялось в Японии довольно быстрыми темпами. Икон с изображениями христианских святых, доставляемых из Европы, не хватало. Поэтому в 1590 г. состоялось совещание администрации японских иезуитских семинарий, посвящённое вопросу создания художественных мастерских для пополнения фонда икон. В результате, в том же году при нескольких семинариях возникли школы живописи, где молодые японские художники обучались искусству копирования европейских картин.
Так было положено начало образованию школы ёга (букв. «европейская картина»). Один из мэтров школы ёга, талантливый итальянский художник Джованни Никколо, приглашённый иезуитами в Японию ещё в 1583 г., преподавал искусство западной живописи в школах Арима и Хатирао. Он же начал обучать японцев искусству гравюры. Достойный представитель культуры Ренессанса, Никколо был энциклопедически образованным человеком. Известно, что он написал великолепные картины Христа и Богоматери, утраченные впоследствии. Ученики Никколо плодотворно трудились над созданием портретов христианских святых (к которым, кстати, в 1623 г. был причислен и Франциск Ксавье). Интересно, что ими использовалась и светская тематика. Школа ёга дала японцам возможность познать европейскую культуру, так сказать, изнутри. Ведь её художники копировали произведения европейцев, отражавшие, в свою очередь, европейский взгляд на мир. Картины ёга, выполненные посредством западной живописной техники,[127] показывали японцам другие страны и народы Земли с точки зрения европейцев. Это был как бы взгляд на вселенную глазами западного человека.
Выше мы уже говорили о стремлении японцев получить у «южных варваров» сведения, в первую очередь полезные в повседневной жизни. Они сразу же заинтересовались навигацией и географией, необходимыми при налаживании межнациональных торговых и культурных связей. Географические карты, получившие в результате этого распространение на Японских островах, стали изображаться даже на ширмах и веерах. Яркий колорит, красочные детали, высокая техника исполнения делали их настоящими произведениями искусства. Как считают японские искусствоведы,[128] «географические» ширмы по зрительному впечатлению ничуть не уступали лучшим образцам художественных ширм. Характерно, что и на многих художественных ширмах, созданных в рамках искусства, посвящённого «южным варварам» – намбан бидзюцу – имелось в углу изображение глобуса. Таким образом художники пытались передать принадлежность запечатлённых ими мест всему огромному миру. Столь часто фигурировавший на ширмах порт Нагасаки выступал уже не просто в качестве конкретного города Японии, но как частица Земного шара, а на населяющих Нагасаки японцев и европейцев зритель смотрел как на представителей всего человеческого сообщества. «Географические» ширмы, как и искусство намбан бидзюцу в целом, свидетельствовали о стремлении японцев познать другие народы, соотнести себя с ними, определить своё место на Земле.
Кроме того, в конце XVI в. в Японии в связи с ростом популярности христианства создавались католические учебные заведения. Количество учащихся в них постоянно увеличивалось,[129] и возникла необходимость в учебниках на японском языке. На уже упоминавшемся совещании иезуитов 1590 года было вынесено решение печатать такие учебники. Благодаря этому в 1591 г. были изданы «Жития святых», и с тех пор печатание религиозных книг стало регулярным. Хотя японский текст записывался по фонетическому принципу латинскими буквами, подобное начинание явилось важным шагом в деле просвещения народа Японии.[130]
Подведём теперь некоторые итоги. В настоящей статье была сделана попытка осветить историю «христианского века» в Японии, до последнего времени обделённого вниманием со стороны российских востоковедов. В отличие от максималистски настроенных западных исследователей (считающих, что раз связи Японии с внешним миром прервались, и чужеродные влияния были почти полностью искоренены, то не стоит придавать им большого значения), сами японцы признают несомненную значимость первых контактов с европейской культурой. И действительно, вряд ли стоит игнорировать последствия пусть и краткого в масштабах мировой истории культурного диалога до того независимо развивавшихся народов. Ведь результатом в данном случае явилось усвоение японцами многочисленных новых прикладных и естественнонаучных знаний, перенятие некоторых эстетических традиций и довольно глубокое знакомство с духовно-религиозным христианским мировоззрением.
Автора статьи могут упрекнуть в почти полном отсутствии изображения негативных сторон японо-европейских связей XVI–XVII вв., но мы и не ставили перед собой задачи всеобъемлющего описания этих связей. Ясно, что всякое историческое явление многогранно и оценивать его однозначно нельзя. Одно представляется бесспорным – сотрудничество и взаимопонимание возможно только при соблюдении народами и государствами принципа, сформулированного И. Кантом: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему как к средству».[131] Именно такой была наша исходная установка при описании исторического эпизода, где актуальнейшая проблема взаимодействия культур приобрела столь яркие и драматические формы.
Предтечи и начала японской социологии
Японская социология во многом обязана своим появлением заимствованию достижений западной социальной мысли. Напомним, что первые кафедры социологии были основаны в США: в 1876 г. – в Йельском университете, в 1892 г. – в Чикагском университете. Третья в мире социологическая кафедра была образована в Токийском императорском университете в 1893 г. Напомним, что вторая половина XIX века была в Японии временем так называемой реставрации, или эпохи Мэйдзи, когда начали интенсивно формулироваться научные принципы. До этого любое познание мира осуществлялось в рамках господствовавшей буддийско-конфуцианской традиции, теоретическая же мысль и дискурсивное знание не развивались вообще. Лишь с 1868 г., когда на смену военно-феодальной диктатуре пришло в меру прогрессивное правительство во главе с императором Мэйдзи, в жизни японцев стали совершаться перемены. Закончилась двухвековая изоляция страны от мира, поддерживавшаяся силой военных диктаторов – сёгунов. Япония встала на капиталистический путь развития, взяв в качестве ориентиров политическую организацию, юридическую систему и экономическую структуру западных государств. Почти с нуля создавалась современная промышленность (кораблестроение, производство цемента, хлопка и т. д.). «Невозможно отрицать того обстоятельства, – пишет японский учёный Иэнага Сабуро, – что модернизация японского общества внешне представляла собой процесс заимствования западной культуры»[132] (курсив наш. – А. Л., Е. С.). Но что же определяло духовную жизнь Страны восходящего солнца до её встречи с западной цивилизацией?
Духовную жизнь страны определяла тогда национальная духовная традиция, которая и сегодня продолжает оставаться в Японии важным фактором общественной жизни.[133] Живучесть традиции в нынешних условиях обусловлена информативностью и «всеохватностью» категориального комплекса, который сформировался в Японии на основе синтоизма, буддизма, а также конфуцианства и даосизма. Этот своеобразный религиозно-мировоззренческий сплав веками определял самоощущение каждого японца, его отношение к миру, характер отношений между людьми, субординацию в семье и государстве.
Особо подчеркнём, что вышеуказанные учения носили «неличностную окраску»: их целью было избавление человека от его вторичного я во имя выявления изначальной природы. Китайские учения призывали к преодолению личного во имя всеобщего. В буддизме идея нирваны, символизирующая освобождение от страданий, была тесно связана с идеей освобождения индивида от его личного я.
Синтоизм (от яп. синто – путь богов) представлял собой совокупность магических обрядов и мифических преданий, отражавших жизнь родового общества Японии. Это по сути пантеистическое мировоззрение привело японцев к одухотворяющему взгляду на вселенную. «В архаическом синтоистском сознании мир был безграничен и слит с человеком. Всё, обладавшее необычайной силой или красотой, или формой, было предметом поклонения божествам-ками. Список ками бесконечен: внушающая благоговение гора, скала причудливой формы, стремительный горный поток, столетнее дерево».[134] В синтоистской картине создания мира отсутствует описание сотворения человека. Это обстоятельство, на наш взгляд, иллюстрирует принципиально неантропоцентрический характер национальной духовной традиции японцев. Ощущение нерасторжимой слитности с окружающим миром, сохраняющееся у японцев вплоть до сегодняшнего времени, во многом определяет их относительно безбоязненное отношение к смерти (как к очередной форме растворения в природе), а также культивирование черт «неличностности». В наши дни японцы воспринимают синтоизм как нечто принадлежащее только их собственному, японскому, миру и составляющее неразрывную часть их естественного окружения – среды, в которой они живут и действуют. Через синтоистские представления на протяжении всей истории японской цивилизации формировались особые, уникальные черты культуры Страны восходящего солнца.
Однако эту культуру невозможно понять без учёта воздействия на неё со стороны буддизма, образно названного известным религиоведом О. О. Розенбергом ключом к восточной душе. Распространению буддизма в Японии способствовала характерная для японцев склонность к совмещению различных идей и представлений. Через призму буддизма интерпретировалось и конфуцианство как система общественных и семейных отношений, а также происходило оформление синтоизма в полноценную религию («путь богов-коми» по аналогии с «путём Будд»). Буддийские концепции единства индивидуального и универсального и синтоистское понимание вседуховности окружающего мира, особенно в мистической трактовке того и другого, сливались с даосским идеалом жизни на лоне природы с характерным для даосов стремлением к сверхъестественному. Даосизм не разрабатывался японцами как самостоятельное и цельное учение, но идеи его китайских апологетов постоянно присутствовали в духовной жизни Японии и нашли отражение в религиозной буддийской практике.
Будучи важными составляющими синкретического мировоззрения средневековой Японии, буддизм, синтоизм и даосизм – ни в отдельности, ни в комбинациях – не смогли послужить универсальной идейной основой государственного строя.[135] Такую функцию с начала японской государственности выполняло конфуцианство, которое наилучшим образом способствовало упрочению неличностного характера японской духовной традиции, ориентируя каждого индивидуума на выполнение прежде всего жизненных задач, нужных не ему лично, а необходимых для поддержания нормального функционирования общественного организма. Сильной стороной конфуцианства было снятие страха перед смертью, поскольку каждый индивидуум ощущал свою причастность этому в целом бессмертному организму.
Начиная с 1639 г., когда верховный правитель страны – сёгун Токугава Иэмицу издал указ, под страхом смертной казни запрещавший иностранцам въезжать в Японию, а японцам – покидать родину,[136] Япония оказалась практически оторванной от внешнего мира. С одной стороны, это тормозило её экономическое развитие, но с другой – способствовало сохранению национальной самобытности. Весь этот период в Японии продолжало существовать жёсткое сословное деление феодального общества с чётко зафиксированными идеологическими установками и всё более укреплялись сформировавшиеся в данных рамках идеалы и схемы социально одобряемого поведения.[137]
Идейные установки буддизма и конфуцианства соответствовали интересам японских феодалов, отражали действительные тенденции формирования национальной японской идеологии и органично вписались в реальную историческую ситуацию. Важно, что сложившиеся в феодальной Японии мировоззренческие представления стали не внешними навязанными правилами и отвлечёнными нормами, а глубоко укоренились в сознании каждого японца как практические регуляторы его повседневного поведения. Этим объясняется относительная самостоятельность духовной жизни Японии по отношению к социально-экономической сфере, её кажущаяся независимость от изменений последней.[138]
Буддийско-конфуцианская традиция продолжала монопольно господствовать в японском обществе до конца XIX века. Новые тенденции в идеологии наметились после того, как была принята конституция 1889 г. и капиталистические отношения стали развиваться быстрыми темпами. Все за 60 лет Япония превратилась из страны с архаичной производственной базой в современное индустриальное государство. В результате, не только радикально изменились традиционные экономические и социальные связи, но и произошли некоторые перемены в духовной жизни Японии. Свою роль здесь сыграло и усвоение ценностей западной культуры. «Цивилизация, просвещение – таков был пароль, который символизировал новые идеи начального периода эпохи Мэйдзи», – замечает современный японский учёный Тосака Дзюн.[139]
В периоды Мэйдзи и Тайсё в Японии появилось множество философских и социологических обществ и кружков, посвящённых, как правило, изучению трудов какого-то одного западного мыслителя. Страну наводнили переводы произведений И. Канта, Г. Гегеля, А. Шопенгауэра, О. Конта, А. Бергсона. Сам процесс перевода представлял собой особый этап развития научного знания в Японии. Теоретические понятия как таковые в домэйдзийскую эпоху не формулировались, и японцы вполне удовлетворялись буддийско-конфуцианскими представлениями, выступающими основой их мировоззрения. Эти представления были оформлены иероглифической письменностью, весьма конкретной и не предназначенной для выражения абстракций. Для изображения западных терминов японцы пользовались разными методами. Например, «омонимическим», когда подбирались иероглифы, произносящиеся и чисто фонетически совпадающие со звучанием соответствующего переводимого слова. Один из первых японских социологов, Като Хироюки (1836–1919), для обозначения, скажем, христианства пользовался созвучным термином киристо-кё (Киристо – Христо). Между тем, слово киристокё состоит из трёх иероглифов, означающих «основа», «надзирать» и «церковь».
Но появились и «смысловые» переводы. Так, другой известный социолог того времени, Ниси Аманэ (1826–1894), для переложения термина «философия» применил слово из двух иероглифов: тэцу – мудрость и гаку – учение. Кстати, термин тэцугаку прижился в японском языке и до сих пор используется для обозначения философской науки.
Серьёзные трудности для перевода на японский представлял термин «социология». Ниси Аманэ предлагал вначале достаточно общее и широкое слово «ниннэнгаку», буквально означающее «учение о человечестве». По мнению исследователя истории социологической мысли Японии Кавамуры Нодзому для обозначения термина «социология» японский эквивалент сякайгаку поначалу не применялся. Использовались такие слова как косайгаку – «учение об отношениях», ниннэнгаку – «учение о человечестве», сэйтайгаку – «политическое учение».[140]
Иероглифическая письменность с её языком образных понятий наложила отпечаток на всё развитие философской мысли Японии, включая социологическое знание. В иероглифике не содержалось таких абстракций, как на Западе. Иероглифические «абстракции» изображались числом. Пример – знаменитая «Книга перемен» – «И-цзин», с её системой гадания, выраженной своеобразным графическим способом. В то же время делались попытки передачи абстрактного через конкретное. Так, в книге бесед Конфуция «Лунь-юй» содержатся описания поведения человека в семье и обществе и на основе этих конкретных описаний выводятся вполне абстрактные понятия «гуманизм», «справедливость», «человеколюбие». В конфуцианском классическом труде «Чунь-цю» («Весна и осень») часто встречаются описания событий, передающих чувственные впечатления, на языке неопозитивизма называемые «протокольными предложениями».
С другой стороны, само конфуцианское учение давало повод для его философско-социологического комментирования. Из описания поведения конкретного человека в конкретной ситуации выводились всеобщие нормы поведения. При этом существовало различное толкование «общественного порядка», «равенства», «неравенства» и т. д.
Анализируя письменные источники конфуцианства, можно прийти к выводу, что китайцы, а вслед за ними и японцы нашли выход из ситуации зависимости от иероглифического письма. Абстракции, необходимые для развития и упорядочения философского мировосприятия, выражались через «конкретность» и число. Именно метод конкретности оказал влияние на процесс усвоения и переосмысливания в Японии западных теорий.[141]
Первые японские социологи были ещё и просветителями прозападного направления. Они несли в японское общество идеи западной культуры и философии.[142] Упоминавшийся выше Като Хироюки активно занимался издательской деятельностью, был автором множества журнальных и газетных публикаций, стал одним из основателей Токийского императорского университета. Ниси Аманэ также активно печатался, пропагандируя идеи западного просвещения, был членом комитета по созданию Японской Академии наук. Ниси учился в Голландии и в своих ранних работах опирался на концепцию Ж.-Ж. Руссо о государственном устройстве. В социологии он разделял идеи О. Конта.
Основное требование японского просвещения – конституционное правление. Като Хироюки даже считал, что оно является естественным выражением конфуцианских принципов, в частности «добра» и «зла». Согласно Като, «конфуцианское» добро имеет общественный характер, а зло – сугубо личный. Поэтому конституционная система правления, будучи общественной, предпочтительнее личного единовластия императора.[143] В итоге этот японский социолог, взяв западное понятие и обосновав его исходя из принципов традиционной морали, создал некий сплав восточных и западных представлений.
В период Мэйдзи начинается процесс институционализации социологической мысли. Первый его этап ознаменовался появлением социологических журналов, вокруг которых организовывались профессиональные сообщества. Однако надо учитывать следующий момент: понятия сякайгаку (социология) и сякайсюги (социализм) поначалу не очень-то различались. «Теория социализма» и «теоретическая социология» на первых порах выступали как синонимы – они означали теорию, разъясняющую социальные проблемы и указывающую пути совершенствования общественного устройства. Поэтому в социологических журналах сотрудничали и социологи-теоретики, и будущие социалисты-революционеры. Но позже, в течение первых десятилетий XX в., понятия сякайсюги и сякайгаку становятся почти антагонистическими, поскольку размежевание общественных сил предполагало решение противоположных задач: либо кардинального социалистического преобразования, либо постепенного буржуазно-демократического реформирования.[144]
В развитии социологии Японии особую роль сыграло открытие кафедры социологии в Токийском университете в 1893 г., о чём было сказано в самом начале нашей статьи. Кафедра была создана Тоямой Масакадзу (1848–1900), который, заметим, закончил Мичиганский университет и находился под влиянием взглядов Г. Спенсера.
С конца 20-х гг. прошлого века начинается следующий этап институционализации социологической мысли Японии, когда возникают вполне полноценные институты и факультеты социологии. В 1919 г. в Токийском императорском университете открылся социологический факультет. Бурное развитие новой науки привело к созданию в 1923 г. Японского института социологии (Нихон сякайгакуин). Ведущие позиции в то время стал занимать ученик Тоямы и основатель Японского социологического общества профессор Такэбэ Тонго (1871–1945). Так же, как и вышеупомянутый Ниси Аманэ, он испытал сильное влияние позитивистской философии и идей О. Конта. Такэбэ создал «контовско-конфуцианскую» теорию, сыгравшую важную роль в истории японской социологии.[145]
Поскольку социология периода Мэйдзи в большей степени была зависима от просветительского движения, в то время она ещё не вышла за рамки философии и социально-политических учений. Политические разногласия, в частности, вокруг «вопроса о конституционной форме правления», стали предпосылкой теоретических споров вокруг вопроса о «естественных правах».
Со временем происходит постепенный отход японских социологов от просветительства. Такэбэ Тонго формирует свою философско-социологическую концепцию уже вне просветительских рамок. Однако отделить философию от социологии профессору Такэбэ так и не удалось, уж слишком сильным оказалось влияние на его творчество эмпирико-мистического позитивизма Конта. Такэбэ дополнил контовскую теорию конфуцианской идеей субординации в семье и государстве. В свою очередь, использованное им буддийское учение о постижении внутреннего мира личности и о постижении мира вещей оказало мощное влияние на развитие психологической линии в японской социологии.
В Токийском и Киотском университетах было положено начало двум социологическим школам. Развитие «токийской школы» связано с именем Тоды Тэйдзо (1887–1955). Будучи учеником Такэбэ Тонго, Тода высоко ценил эмпирическую составляющую позитивизма О. Конта. Он считал, что наблюдение, эксперимент, опыт могут служить главными инструментами исследования современного ему японского общества, в частности, японской семьи.[146] Отметим, что в Европе на ранних этапах развития социологической науки эмпирические исследования были оторваны от теоретической мысли. В Японии же Тода Тэйдзо в начале XX в. сделал важный шаг к объединению теории и практики социологии в единую систему. Тода выделял два типа таких объединений: «культурное» и «естественное».
Культурное объединение включало в себя культуру, политику и экономику. Ему соответствовали: а) культурные эмпирические исследования религии, морали, здравоохранения, воспитания; б) политические эмпирические исследования права, самоуправления, взаимодействия социальных групп; в) конкретные экономические исследования, предполагающие анализ средств к существованию трудовых и профессиональных отношений. Естественному объединению соответствовали демографические исследования динамики и статики населения, в рамках которых главная роль отводилась эмпирическому изучению японской семьи. Тода Тэйдзо выступил родоначальником эмпирической социологии в Японии.
В Киотском университете ситуация была иной: здесь предпочтение отдавалось формальной социологии. Активными исследованиями в этой области занимались профессор Ёмэда Сётаро (1873–1945), который первым в Японии ввёл в научный оборот термин «философия истории», и Такада Ясума (1893–1975) – сторонник ницшеанства. Ёмэда под влиянием зиммелевской теории предложил аналитическое понимание социологии как общественной дисциплины, отличной от других социальных наук методом и предметом исследования. Он развивал идею о трех формах социологии: чистой, систематической и синтетической. Идея Ёмэды базировалась на допущении существования двух родов наук – познавательного и оценочного.[147] В социологии они совмещены. В качестве «оценочной» социология в трактовке Ёмэды разрабатывает такие нормы, ориентиры, критерии изучения общественных явлений, которыми должны пользоваться социальные науки. Одновременно социология выступает и как «познавательная» наука, потому что сама может изучать общественные явления.
Только «чистая» социология, согласно Ёмэде, имеет свой предмет исследования, отличный от других общественных наук. Это так называемые чистые формы взаимодействия. К ним Ёмэда относит взаимодействие «от сердца к сердцу», источником которого является некий сущностный взаимный интерес. Любые другие взаимодействия – будь то бытовые социальные отношения или чисто эмоциональные контакты между индивидуумами – вторичны. «Чистая социология», давая нормы, критерии, оценки для понимания общественных наук, выступает методологией науки и трактуется Ёмэдой в этом качестве как «систематическая социология».
Если у Г. Зиммеля «материей», носителем социального выступает «переживание», то у Ёмэды в этом качестве выступает сердце как жизненное начало всего сущего. Понятие «сердце» – на японском языке кокоро – в рамках дальневосточной духовной традиции имеет более глубокий и широкий смысл, нежели, к примеру, западная «сердечность». Последняя относится скорее к сфере эмоциональной, психической; у японцев же кокоро – понятие онтологическое, сущностное.
Третья форма социологии – «синтетическая», является «познавательной» наукой и на основе «чистых форм» осуществляет познание конкретных явлений, объясняя развитие человеческой цивилизации. Она опирается на такие науки, как физика, биология и психология, но главный предмет изучения «синтетической социологии» – общество.
Работы Ёмэды Сётаро повлияли на взгляды другого представителя киотской школы – Такады Ясума, ставшего бесспорным лидером в социологическом мире Японии вплоть до Второй мировой войны. Предметом социологии Ясума считал теорию социального взаимодействия. На первый план он выдвигал анализ межчеловеческих отношений как источник понимания причин возникновения общества и различных общественных явлений.[148] Его концепция испытала воздействие идей формальной социологии Г. Зиммеля. Кроме того, японский учёный активно использовал понятия философии жизни Ф. Ницше. Краеугольный камень социологии Такады – «воля к власти», предстающая как «социальная сила», основа общественного развития. Правда, в отличие от Ницше, распространившего свой принцип «воли к власти» не только на человеческий, но и в определённом смысле на животный и даже на растительный мир, Такада трактует «волю к власти» в сугубо социальном смысле, как возникшую в результате взаимодействия индивидуумов.
Согласно Такаде, первоначальная «воля к власти» основывается на двух инстинктах – «самосохранения» и «борьбы». Впоследствии она становится причиной разделения труда и общественного расслоения. Различные «воли к власти» отдельных людей имеют тенденции «присоединения», «впитывания», «всасывания», в результате чего складывается мощная социальная сила, формирующая конкретные общественные образования (группы, сословия, классы). Каждый социальный слой, сложившийся благодаря одинаковой у всех его представителей «воли к власти», растёт и укрепляет свои позиции за счёт браков, заключающихся внутри этого социального образования.
Такада делит историю человечества на «экономическую» и «политическую» стадии. На первой стадии ведётся экономическая борьба различных «воль к власти», где труд и результаты трудовой деятельности есть объекты и продукты завоевания. Политическая стадия знаменуется образованием государства, закрепляющего господство той социальной группы, которая имеет самую высокую в данный момент степень «воли к власти». Несмотря на сильное влияние со стороны ницшеанства, Такада не стал законченным социал-дарвинистом, во многом благодаря тому, что разделял взгляд Г. Зиммеля на общество как на «ассоциацию».
Отметим, что общей тенденцией японской социологии вплоть до Второй мировой войны стал постепенный переход от позитивизма и философии истории к формальной социологии, черты которой можно обнаружить даже у эмпирика Тоды Тэйдзо. Произошло это потому, что в отличие от Запада, где последовательно развивались сначала формальная социология, а лишь затем эмпирическая, в Японию эти два направления проникли одновременно и одновременно же «пустили там корни».
Особняком от «токийской» и «киотской» школ стоит социология Эндо Рюкити (1874–1946), который тоже был учеником Такэбэ Тонго. Эндо развивал идеи психологического эволюционизма, не порывая с натурализмом и биолого-эволюционистскими представлениями Конта и Спенсера. Важно, что, будучи наряду с Такэбэ одним из организаторов Общества по изучению социологии – новой для Японии научной дисциплины, Эндо в то же время создал Общество по изучению традиционной древнекитайской науки, пропагандировавшее идеи Конфуция.
В 1901 г. Эндо Рюкити перевел с английского на японский книгу американского социолога Г. Гиддингса «Принципы социологии» и сделал к ней собственный комментарий. Как и Гиддингс, Эндо полагал, что человеческое общество развивается по законам природы и является одной из ступеней космической эволюции. При этом социум предлагалось считать не просто совокупностью биологических организмов, а некой психической организацией индивидуумов. У каждого из них есть «родовое сознание». Оно вырабатывается в ходе взаимодействия индивидуумов, проявляясь в общественном мнении и в традиции. У Гиддингса читаем: «Всякое существо, какое бы место оно ни занимало в природе, признаёт другое сознательное существо принадлежащим к одному роду с собой».[149] Эндо стремится детализировать понятие гиддингсовского «родового сознания» и выделяет пять «родовых» черт, позволяющих отличить человека от животного: 1) общность ощущений; 2) органическая симпатия; 3) восприятие подобия; 4) подражание; 5) стремление к знаниям. Как он полагает, «родовое сознание» существует благодаря тому, что у всех людей наличествуют одинаковые комплексы ощущений; каждый человек способен воспринимать и понимать чувства других людей; каждый мыслит другого себе подобным; социальное поведение людей отличается определённым единообразием – люди подражают друг другу и в отличие от животных имеют приобретённые знания.
На наш взгляд, в рассуждениях Эндо наглядно просматривается факт заимствования им ряда широко известных наработок таких западноевропейских авторов, как А. Смит, Дж. Болдуин, Г. Тард, Ч. Х. Кули, что, впрочем, нисколько не умаляет его заслуг в деле становления японской социологической мысли.
Подводя итоги анализа возникновения и развития японской социологии, следует обратить внимание на два момента. Во-первых, эта наука зародилась во многом благодаря заимствованию западных идей и теорий. Во-вторых, она благополучно прижилась на почве национальной традиции, «подпитываясь» её духовными установками. Истолкование западных теорий во многом определялось специфическими особенностями японской культуры, в частности, присущими ей естественностью и конкретностью. В ходе усвоения японцами западных абстрактных понятий последние зачастую наполнялись конкретным восточным содержанием.
Япония: кризис культурной идентичности при встрече с западной цивилизацией
Ко второй половине XIX в. в жизни Японии назрела острая необходимость модернизации государства и общества. Находившаяся в двухвековой изоляции страна осталась на обочине мирового культурного и экономического развития. Дело в том, что на протяжении 1639–1853 гг. страна была полностью закрыта для иностранцев. И въезд в Японию, и выезд из неё проживающего там населения карались смертной казнью. Исключение составляла крохотная территория близ о-ва Дэсима, где раз в год швартовался один европейский корабль, и располагалось поселение голландских купцов, занимавшихся торговыми операциями под строгим контролем японского правительства.
Теперь требовалось «открыть» Японию и обрести собственное место в пёстрой и многообразной картине мира. Это и произошло в эпоху правления императора Мэйдзи, в 1868 г., а преобразования той поры получили название Мэйдзи исин. Перед лицом образовавшихся обстоятельств, связанных с невиданным размахом прежде немыслимого цивилизационного взаимодействия с ментально чуждыми, непонятными своим поведением и мышлением «южными варварами» (так японцы стали именовать европейцев при первом знакомстве), стране потребовались новые культурные концепты, объединяющие весь японский этнос. Возникла необходимость формулирования основ своей культурной идентичности. Главенствующую и всеобъемлющую роль в духовном развитии японцев и их самоидентичности исстари играла художественная традиция, но она перестала отвечать интеллектуальным вызовам времени. На мировоззренческое древо древней художественной традиции нужно было сделать научную «прививку» – прививку западной теории.
Традиционно японцы рассматривали всю художественную деятельность как отражение мировоззренческой схемы, хотя и подчинённой принципам конфуцианской морали и долга. Японское искусство осуществляло реализацию поступи Дао, т. е. было одним из важных путей к постижению природы Будды, т. е. к просветлению. Красота, её сущность, считалась бесформенной, текучей, непостоянной, поэтому постижение её в адекватном виде было возможно только аналоговым аспектом разума – так называемым сердцем, или «разумом тела», откликающимся в своём движении на тончайшие изменения в Универсуме.[150] Согласно традиционной имплицитной эстетике, искусство имеет символический характер, оно лишь подводит человека к постижению глубин невыразимой трансценденции. Вот почему японцы всегда знали о неадекватности словесного выражения истины и красоты. Подобное чисто восточное миропонимание, ставящее во главу угла целостное знание-состояние, неизбежно должно было прийти к напряжённому столкновению с научно-теоретическим знанием-информацией, знанием-текстом, утвердившимся на Западе как единственно истинный вид знания о мироздании.
В блистательную эпоху Хэйан выразителями идеалов прекрасного были аристократы. Утончённые кавалеры и изнеженные дамы проводили время в обстановке, где под воздействием традиционного искусства проникались красотой Дао всем своим целостным духовно-телесным существом. Приход к власти сурового военного сословия в эпоху сёгунатов (1192–1867) придал этим идеалам черты ригоризма и религиозного аскетизма. Понимание красоты изменилось, теперь она трактовалась как моральная характеристика главных проводников тогдашней идеологии – воинов и монахов. Верность принципам Дао – высшим принципам бытия теперь воплощалась в конфуцианской этике преданности самураев своим сюзеренам. Эта этика и телесно, и духовно настраивала каждого гражданина на служение Отечеству – как привычка отражает синтез человеческого тела, так ритуалы отражают синтез тела общественного. В период закрытия страны в ней царила ставшая привычной конфуцианская упорядоченность – она обеспечивала стабильность общества, но в то же время вела к его консервации.
К началу эпохи Мэйдзи в первую очередь обнаружилась отсталость Японии в научно-технической, военной и бытовой областях. Перед страной возникла угроза стать жертвой колониальной экспансии Запада. По-своему замечательно, что путь преодоления сложившейся ситуации японские правители усмотрели в усвоении соответствующих западных знаний: нужно было заговорить с европейцами на одном с ними языке – языке дискурсивного мышления. Распространённый в учёных кругах Японии язык конфуцианских классиков и буддийских сутр был либо слишком конкретным – если речь шла о регламентации общественного или семейного поведения, – либо слишком неопределённым, туманным – когда речь шла о мировоззренческих понятиях. Необходимо было создать новые термины, отражающие средний уровень бытия человека, которые бы систематически описывали то, что в дальневосточной духовной традиции (в отличие от Запада) считалось лишь иллюзорной телесной оболочкой истинной реальности.
В прежние времена интеллектуальным донором для Японии был Китай, и в первую очередь огромный корпус классической китайской литературы. Китай дал Японии иероглифическую письменность, конфуцианскую структуру семьи и государства. Из Китая заимствовались даосская мистериальность искусства, магия и медицина, мировоззренческо-религиозные направления буддизма. Ваконкансай (японский дух – китайские знания) – таков долгое время был лозунг Японии. Можно сказать, что китайская учёность стала первой облагораживающей «прививкой» на древо японской культуры. «Дух» в свете данной традиции понимался не просто как сохранение религиозных корней японского этноса, т. е. синтоистского культа предков каждого рода и культа предков императора, но и как сохранение архетипа японской художественной культуры, уходящей корнями в глубины ритуальной магии. Эстетические истоки национальной поэзии вака, ставшей фундаментом японской классической литературы, следует искать не только в близких ей по ритмике молитвословиях норито и указах императора сэммё, но и в китайской поэзии – канси, параллельно которой развивалась поэзия вака. В русле классической поэзии, сформировавшейся под китайским влиянием, появились и первые трактаты по теории стихосложения, воплощающие поэтическое самосознание японцев. Подобные канонические трактаты создавались и в других областях художественного творчества: театрального искусства, живописи, каллиграфии, искусства чайного ритуала.
В эпоху Мэйдзи по аналогии с лозунгом «вакон-кансай» был выдвинут лозунг «вакон-ёсай» (японский дух – западные знания), и саму эту эпоху в целом можно назвать эпохой западного просвещения. Главную тяжесть выполнения определившейся задачи взяло на свои плечи самурайское сословие – самый передовой в культурном отношении класс. Самураи, правившие Японией с XII в., первыми осознали необходимость открытия страны. Вместе с семьями они составляли около 10 % населения, но это была та необходимая живая «закваска», которая смогла поднять всё «тесто» – менее образованное, хотя и не менее самоотверженное население. Именно самураям пришлось создавать новый когнитологический образ будущей страны, который должен был восприниматься каждым простым японцем как его собственный, понятный, вполне достижимый идеал, хотя и требующий для своего осуществления самоотверженного труда. Для японских интеллектуалов наблюдать экономическую, бытовую, а главное – военную отсталость родной страны было большим унижением, они увидели в этом вызов истории и приняли его.
Самураи начали изучение как современных европейских языков, так и древнегреческого и латыни, задав высочайший стандарт высшего образования, сохранившийся и по сей день. Однако мудрость правящих классов состояла в том, что наряду с поощрением быстрого освоения западных знаний, государство сохраняло и упрочивало национальную духовную традицию. Западные знания не рассматривались как основание национальной идентичности. Таким основанием объявлялся «японский дух» – традиционное целостное гуманитарное знание о мире и человеке. Знание невидимых, но от этого не менее важных, чем материальное наполнение, оснований бытия.
При встрече с европейской культурой японцы столкнулись с новым для себя мировоззрением – материалистически-прагматическим. Точка зрения голой выгоды и полезности оказалась созвучна в первую очередь менталитету местного купечества, но не японскому обществу в целом. Подчеркнём, купеческое сословие, несмотря на всё своё богатство, считалось самым низким из четырёх сословий, существовавших в эпоху Эдо. Высшим считалось сословие самураев, воплощавших в себе конфуцианскую и буддийскую идею нестяжания и аскетизма – знание высшей истины Бытия. Материальная составляющая была для них лишь второстепенным измерением жизни и никак не могла стать её целью и смыслом. Собственное существование имело для этих людей смысл не само по себе, а лишь постольку, поскольку становилось примером благородного служения. По сути, самураи играли в Японии роль широко образованной военной интеллигенции. Показательно, что представители именно этого сословия, наряду с аристократией, стали главными творцами духовной и художественной культуры родной страны.
Столкновение с цивилизацией, основанной на материи и расчёте, стало серьёзным испытанием для пребывающих в лоне традиционных представлений жителей Японских островов. Более высокий, чем у японцев уровень развития техники, а также уровень материального потребления европейцев вроде бы доказывали эффективность и правильность их мировоззренческих установок. Японцы испытали определённый комплекс неполноценности, который им хотелось как можно скорее преодолеть, но только не ценой утраты собственной культурной идентичности.
Повторим, что главной целью японского правительства была прагматическая задача: избежать по возможности колонизации страны, а для этого – нарастить современную военную мощь. Чтобы этого достичь требовались самые новые знания, прежде всего по точным наукам. К чести правительства Мэйдзи, оно не ограничилось решением только технических, инструментальных задач, справедливо полагая, что без фундаментального гуманитарного знания инструментальные знания будут непрочными. Надо было выявить ценностные основы западной культуры, способствующие столь высоким научно-техническим достижениям. Был сделан правильный вывод, что достижения Запада в военной и теоретической сферах, гораздо более высокий стандарт жизни, её комфортабельность связаны с общим мировоззренческим фундаментом, с особенностями гуманитарного знания.
Именно в целях повышения национальных жизненных стандартов в Японии была предпринята отчаянная попытка как можно скорее усвоить корпус философских теорий Запада, начиная с Древней Греции. Весь японский народ принял активное участие в образовательной программе правительства. Уже в 1908 г., т. е. вскоре после окончания победоносной войны с Россией, в Японии было введено обязательное шестилетнее образование, соответствующее новым цивилизационным вызовам. Учитывая сложную и громоздкую систему письменности, требующую больших ресурсов памяти и внимания к мелким деталям, точности и координации мелкой моторики, это не могло не привести к значительной «интеллектуализации» населения.
При всей нацеленности на получение западного знания, в идеологической сфере правительственные круги строго придерживались традиционных установок. Следовало оставить неизменной политику опоры на высокоморальную, конфуциански-ориентированную личность. Хотя было понятно, что конфуцианство не совсем подходящий инструмент для постижения науки западного типа, конфуцианские устои самоотверженного служения справедливости, нестяжания, разумной достаточности в потреблении, безусловно, способствовали успешному решению задач модернизации.
Мировоззренческие основания японского менталитета конца XIX в. представляли собой многоуровневую систему образов, сформированную в течение четырнадцати веков и в эпоху Эдо отлившуюся в жёстко иерархическую схему сбалансированных взаимных прав и обязательств правящего класса самураев и остального населения. Страна жила в условиях высшей степени предсказуемости поведения буквально каждого её жителя. Строгая регламентация и ритуал касались абсолютно всех аспектов существования, даже внутрисемейных сторон жизни общества.
Если мы обратимся вглубь веков, то увидим, что японская духовная традиция сочетала в себе весьма неоднородные смысложизненные установки. Они формировались на протяжении долгого времени в общем контексте становления японского мировоззрения под влиянием целого комплекса учений. Последний включал в себя, во-первых, свод политеистических местных культов, структурированных в систему религии Синто; во-вторых, индийский буддизм в его китайской «обработке»; в-третьих, пришедшее из Китая этико – политическое учение конфуцианства, созданное знаменитым религиозным деятелем и философом Конфуцием (551–479 до н. э.); и, наконец, даосизм – китайский пантеистический мистицизм, изложенный в поэтизированной форме в трактатах Лао-Цзы и Чжуан-Цзы (VI–IV в. до н. э.).
Таким образом, японская духовная традиция отличалась сочетанием в себе зачастую противоречивых идейных положений. Буддолог Н. Н. Трубникова отмечает в этой связи, что эти «учения заимствовались и осваивались как содержание текстов, написанных на китайском языке вместе с освоением самих китайских «письменных знаков». При этом взаимная критика трёх учений также была усвоена вместе с ними как готовый жанр, не только возможный, но и обязательный».[151] Противоречие пантеистической основы буддийской философии и политеизма Синто решалось путём создания концепции рёбу-синто. Данная концепция представляла синтоистских богов как воплощения Будд и Бодхисаттв: в частности, главное солярное божество Аматэрасу в буддизме оказывалось ипостасью Будды Солнечного света – Махавайрочана. Аналогичным образом разрешается противоречие между эмпирической наличностью человека как неповторимого индивидуального существа и отрицанием этой индивидуальности на сущностном уровне в буддийском мировоззрении.
Японская художественная традиция также несёт в себе подобное внутреннее противоречие: с одной стороны, красота в произведении искусства обязательно оформляется (катати) по шаблону-образцу (ката), на основании которого происходит и обучение молодых художников; с другой – провозглашается, что глубинная, истинная красота не выразима в языке, жесте или изображении. Это противоречие сознавалось теоретиками традиционного искусства.[152] Мистический, темный эстетический идеал югэн – сокровенная суть искусства – нуждался для своего воплощения в литературе, живописи или на сцене в определенных приемах и способах выражения, но, парадоксально, именно как «невыразимое».
Такое противоречие снималось в условиях художественной практики, где оно являлось необходимым моментом напряжённости, результатом которого становилось вдохновение художника, устремлённого к почти неразличимым вершинам совершенства. Кроме того, считалось, что сам творец в своём внешнем и внутреннем облике должен был нести черты невыразимого совершенства. Молчаливый опыт целостного знания-состояния, гораздо менее чувствительного к противоречию, нежели знание-информация, и лежал в основании традиционной интеллектуальной, и особенно художественной, культуры страны. Обращает на себя внимание тот факт, что «в японском языке, в его грамматике и синтаксисе очень ясно ощущается пренебрежение логикой и акцентирование интуитивного и эмоционального понимания текста. Важно не столько разумно и логично конструировать фразу, сколько создавать эмоциональное и эстетическое впечатление, важно понимание не текста, а контекста. Накамура Хадзимэ указывает, что формы выражения, существующие в японском языке, направлены не столько на логическую точность, сколько на эмоциональную выразительность, что отражает традиционную установку на выделение эстетических аспектов человеческого бытия».[153]
Безусловно, у эстетически ориентированных японцев были существенные основания считать собственную художественную традицию, образовавшуюся в результате воздействия различных духовных источников, высшим достижением всей национальной культуры. Н. Г. Анарина называет японскую культуру «культурой сумм»,[154] указывая, что японцы бережно сохраняют все накопленные достижения художественной теории и практики, передавая их из поколения в поколение методом живой традиции.
Национальное искусство оказалось одним из главных столпов культурной идентичности и в эпоху Мэйдзи. Процесс изменения трансцендентальной дальневосточной традиции (которую за долгие столетия, прошедшие с момента «вживления» китайских знаний в японский менталитет, японцы уже считали своей собственной) под воздействием научно-технических и гуманитарных знаний Запада проходил в несколько этапов. Первый этап, просветительский, занял период с 1868 по 1878 г. Следующее десятилетие было отмечено критицизмом в отношении своей традиционной культуры. Третий этап ознаменовался своеобразной национальной рефлексией, попытками обогатить традиционную японскую культуру терминологией и концептами Запада путём «наложения» европейского понятийного аппарата на содержание (часто трудно– или вообще неартикулируемое) местной моральной, правовой и художественной традиции.
Огромную роль в данном процессе формирования и создания, по сути дела, нового образа Родины сыграл Ниси Аманэ, один из так называемых японских просветителей эпохи Мэйдзи. Выходец из знатной самурайской семьи, профессиональный военный, Ниси понимал, что перед страной стоит комплексная задача, требующая усилий не только и не столько в достижении высокого технологического уровня, сколько в сфере образования, формирования новых дисциплин, новой конфигурации знаний. В этой связи весьма примечательно, что в 1877 г. – в год образования Токийского университета – Ниси выступил с программным циклом лекций, названных при публикации «Теория эстетики», где обосновал необходимость профессионального образования студентов по специальности «эстетика». Важно, что лекции читались в присутствии самого императора Мэйдзи и кабинета министров.
В рамках этого лекционного цикла Ниси Аманэ сделал исторически первый перевод понятия «эстетика» на японский язык – дзэмбигаку (наука о добре и красоте). Получивший традиционное конфуцианское образование, Ниси не сомневался в приоритете морали над искусством и добра над красотой. Его перевод отразил синтетический идеал традиционного японца, для которого не может существовать аморальной красоты. Именно красоту, наряду с добром (изучаемым этикой) и справедливостью (изучаемой юриспруденцией), Ниси Аманэ называет «элементной формой», или «основным элементом» (гэнсо), формирующим общественные устои.[155]
Примечательно, что именно «красота», а не «свобода» или «демократия» становится в Японии эпохи Мэйдзи одним из главных концептов, выдвинутых интеллектуальной элитой в контексте программы по достижению принципиальных идеологических целей. Во-первых, красота – какое бы содержание в неё ни вкладывалось – предмет восхищения и на Западе, и на Дальнем Востоке, и потому изучение западной философской эстетики в Японии, по мнению Ниси Аманэ, приоткрывало дверь в мир западной духовности. (Разумеется, центром западной духовности того времени было христианство, но к его пристальному изучению и широкому внедрению Япония была не готова.) Так что красота оказывалась одним из немногих понятий, объединяющих Японию и Запад. Во-вторых, принятие «красоты» в качестве основного элемента (правда, третьего после добра и справедливости, но всё же основного) давало знак населению, что отныне умеренное проявление чувств и эмоций – неизбежных спутников прекрасного – не будет считаться, как это было раньше в строгой конфуцианской этике, крамолой и нарушением общественной морали. Таким образом, обозначилась идея готовности правящей элиты ослабить конфуцианские вожжи и признать за сферой личных эмоций человека не только право на существование, но и право конструировать новый образ страны, быть важным элементом становления новой культурной идентичности японца в эпоху Мэйдзи.
Неоценим вклад Ниси Аманэ в создание новой терминологии, давшей японцам возможность получать образование западного типа на родном языке. Он придумал сам (скомпилировал) или «извлёк из сундуков» иероглифики 787 (!) слов для перевода корпуса западной научной лексики. Многие из этих слов исчезли вскоре после своего рождения (так, например, произошло с четырьмя японскими аналогами понятия «эстетика»), но многие, пройдя испытание временем, сформировали современный корпус японской научной терминологии. «Философия», «субъект», «объект», «бытие», «феномен», «химия», «история», «сознание», «мысль», «идея», «впечатление» – без этих понятий, фактически созданных Ниси, невозможно представить себе современный японский язык. Более того, эти слова проделали путь в Китай и Корею, и теперь уже не «Срединная страна» (Китай), а «Страна тростниковых равнин» (Япония) стала донором знаний в дальневосточном регионе.
В своих лекциях Ниси Аманэ объяснял необходимость изучения эстетики не просто тем, что во всех суверенных европейских государствах она является обязательной университетской дисциплиной, но и тем, что искусство и красота, которые изучает эта дисциплина, – необходимая мировоззренческая «подкладка», обратная сторона технических и практических знаний даже в области военного дела, физики, химии, медицины. Он прямо указал на необходимость распространения высоко ценимого на Дальнем Востоке гуманитарного знания не только для традиционного, но и для современного, перестраивающегося, японца эпохи Мэйдзи. Значимость гуманитарного знания как знания основ мироустройства и навигации человека в мире не подвергалась сомнению, а, наоборот, утверждалась как опора в поиске новой самоидентичности человека.
Как уже не раз указывалось, переломная по своей сути эпоха Мэйдзи ознаменовалась началом вхождения страны в мировой культурный контекст. Нужно было выбрать из традиции те существенные моменты, которые бы соответствовали вызовам времени. Позиции в отношении выбора были крайне противоречивыми: от полного отказа от собственной традиции как от ненужного хлама, препятствующего прогрессу японского общества, до полного отрицания «меркантильных», материалистических ценностей западной цивилизации, ориентированной, по мнению значительной части японских интеллектуалов, исключительно на богатство и власть. Так или иначе, задачей Японии было войти в клуб развитых государств Запада, принять их правила игры. Поэтому методом проб и ошибок правительство Мэйдзи «нащупывало» набор культурных ориентиров «для внешнего и внутреннего пользования». Что касается внешних культурных ориентиров, то здесь речь шла о создании «экспортного образа» страны, с одной стороны, разделяющей фундаментальные ценности мировой культуры, а с другой – являющейся самоценной и неповторимой частью мирового сообщества. Такой образ должен был предстать на понятном западному интеллектуалу языке. Поскольку тогдашняя Япония даже близко не могла встать вровень с научно-техническим уровнем европейских стран, диалог с Западом следовало вести исключительно на поле культуры, а ещё конкретнее – на поле традиционного искусства. Мировоззренчески японская художественная традиция опиралась на своеобычные концепты имплицитной эстетики, связанные с пониманием трансцендентной основы природного, социального и индивидуального бытия. И традиционное искусство, будучи воплощением этой традиции, стало в конце XIX в. визитной карточкой Японии.
Авторитету японского искусства немало способствовали два обстоятельства. Во-первых, в Европе и США невероятную известность получила японская цветная гравюра укиё-э и в целом японское прикладное искусство. Возник так называемый бум жапонезри, т. е. увлечённости всем японским. Международная популярность искусства Страны Восходящего солнца подчёркивала особую ценность национальной художественной традиции. Вторым обстоятельством явилась активная целенаправленная пропагандистская деятельность авторитетного американского учёного Эрнеста Феноллозы (1853–1908) и первого ректора Токийской Школы искусств, основателя японской Академии художеств Окакуры Какудзо (1862–1913), занимавшихся популяризацией японского искусства как высшего выражения мирового духа.
Что же касается внутренних культурных установок, то они продолжали основываться на истолкованном по-новому кодексе чес ти «Бусидо», служившим нравственным ориентиром каждому японцу. Массовое сознание опиралось на образ религиозной традиции, переформулированный интеллектуалами Мэйдзи. Верность самурая своему сюзерену истолковывалась как верность каждого японца императору и государству, а «самураями» теперь должно было стать всё население. Общим сюзереном объявлялся император, его подданные считались клетками «тела страны» (кокутай), полностью подчинённые интересам этого «тела». Верность императору на местах толковалась как верность рабочему коллективу.[156]
У населения формировался обновлённый образ традиционной Японии как прекрасной и процветающей страны. Всеми мерами поддерживалась решимость этого населения (в основном, крестьянского) воплощать в жизнь такой образ, жертвовать личными интересами в пользу общих. В этом нашла отражение и позиция правящих элит, считавших, что их личное благо неотделимо от блага государства. Разумеется, эстетический момент присутствовал и здесь. В частности, подчёркивалась невидимая красота японского духа, способного к самопожертвованию. Тут будет уместно вступить в полемику с французским исследователем Л. Фредериком. Он полагает, что реформы Мэйдзи «были проведены силами горстки политических деятелей, подчинявшихся интеллектуальной элите. Чтобы создать для себя иллюзию, будто они думают самостоятельно, эти люди безуспешно пытались (и им для этого требовалось мужество) с грехом пополам приспособить философские, религиозные и политические идеи Запада к японской действительности… Народу – производителю благ, выполняющему своё предназначение в обществе – оставалось только следовать прямым указаниям «сверху», принимая реформы и удобства, предлагаемые им (конечно, когда их не навязывали)».[157] На мой взгляд, позиция учёного не совсем верна. «Эти люди» осваивали интеллектуальное наследие Запада вовсе не «с грехом пополам», а с воодушевлённым восторгом, а часто и с любовью, без которой титанические объёмы информации были бы просто неподъёмны. Что же касается населения, то и его роль в модернизации страны была вовсе не пассивной. Тяга простых людей к знаниям, умело направляемая элитой, получила повсеместное распространение. Итогом стала поголовная грамотность населения страны к началу XX в., и в этом была обоюдная заслуга и правительства, и народа. Именно их синхронные действия в едином направлении – предмет восхищения и пример ценного опыта для любой страны, проводящей модернизацию. Этот опыт Японии ничуть не устарел до сих пор и нуждается в пристальном изучении.
Столкновение таких различных и в материальном, и в духовном плане цивилизаций, как Япония и Запад, носило драматический характер. Две противоположные тенденции: интеллектуальное самоуничижение, с одной стороны, и национальный нарциссизм и восторженное самолюбование, с другой – наиболее ярко представляли Ониси Хадзимэ (1864–1900) и Окакура Какудзо.
Ониси Хадзимэ считал конфликт между старыми мировоззренческими системами Китая и Индии, распространёнными в Японии, и западным христианским мировоззрением конфликтом между консерватизмом и прогрессом. Христианство, надеялся Ониси, должно было повлиять в лучшую сторону на всю японскую духовную жизнь, включая художественные представления. По его мнению, отсутствие демонстрации ярких и сильных религиозных переживаний в японской художественной традиции не самым лучшим образом сказалось на качестве национального искусства. Лишённое сильного религиозного чувства, японское искусство не могло быть проводником новых мощных мировоззренческих идей, совершенно необходимых для модернизации страны. «По мере своей японизации, – писал Ониси Хадзимэ, – христианство неизбежно трансформирует Японию».[158]
Представитель другого «полюса», полюса удовлетворённой самодостаточности, Окакура Какудзо, в книге «Идеалы Востока», изданной в Лондоне в 1903 г.,[159] представлял Японию как художественный музей Азии, настоящую сокровищницу где можно найти произведения искусства, созданные двумя ведущими азиатскими цивилизациями – индийской и китайской. Традиционное японское искусство он оценивал как живое выражение конфуцианских, даосских, индуистских и буддийских идеалов. По мнению Окакуры, уникальное географическое положение страны способствовало формированию неповторимого национального характера. С одной стороны, островитяне-японцы имели возможность противостоять насильственному завоеванию соседей, с другой – воспринимать всё лучшее в их культуре. «Священная честь нашей солнечной расы – оставаться непобедимыми не только в политическом смысле, но и в сохранении живого духа свободы, жизни, мысли, искусства. И Япония не должна забывать, что сегодня она стоит лицом к лицу с новыми вызовами, требующими ещё большего воодушевления и самоуважения (курсив мой. – Е. С.)».[160] Гегелевский Абсолютный дух, закончив свой исторический виток в тевтонских землях, считал Окакура Какудзо, должен вернуться к своему истоку – в Азию, а конкретно – в её наиболее интеллектуально продвинутую часть, Японию.
В повседневной жизни восприятие западных цивилизационных ценностей в эпоху Мэйдзи также отмечалось шараханием японцев из крайности в крайность. Европейски ориентированная молодёжь стала непослушной, прекратила уважать мнение старших, которые, не зная ни слова по-английски, демонстрировали в глазах юных «западников» свою интеллектуальную беспомощность. Ещё в 1881 г. публицист Токутоми Сохо в организованном им журнале «Друг народа» писал: «Люди старшего поколения, покачиваясь в повозке прошлого, сходят со сцены. Зато молодёжь новой Японии, оседлав коня грядущих дней, стремительно въезжает на арену будущего. Идите вперёд, молодые энтузиасты, ратующие за преобразования!»[161] Многие горячие головы агитировали даже за отмену иероглифики и замену её на латиницу, а японскую традиционную культуру вместе с её носителями объявляли анахронизмом.[162]
Другой крайностью было мнение о Японии, унаследованное от учёных-почвенников эпохи Эдо. Её сторонники превозносили принципы имперской организации общества, непрерывность (в отличие от западных династий) многовековой линии наследования императорского трона, твёрдые моральные устои японского народа, его высокую культуру и самобытное искусство, подчёркивали ни с чем не сравнимую красоту японской природы. Этот идеализированный образ часто противопоставлялся западной цивилизации, построенной, по мнению японских патриотов, только «на математике и расчёте».[163] Приступы национального нарциссизма сопровождались одновременно переживанием комплекса национальной неполноценности.
Выпускник Токийского университета Миякэ Сэцурэй (1860–1945) основал журнал «Нихондзин» (Японец), на страницах которого начал проводить активную деятельность по поиску архетипической схемы национальной идентичности. Результатом стало появление в 1891 г. двух его парных работ: «Правдивый, добрый и красивый японец» (Синдзэмби нихондзин) и «Лживый, злой и уродливый японец» (Гиакусю нихондзин). Хотя сами названия демонстрируют дихотомически-односторонний подход к сложной проблеме, важно, что обе противоположные характеристики японской национальной идентичности представлены одним и тем же человеком, вполне отдающим себе отчёт в противоречивости структуры социального бытия. Миякэ и его сподвижники по журналу, «не отвергая необходимости заимствований с Запада, отрицали тезис, что японцы должны ограничиваться копированием иноземных образцов, поскольку это путь в никуда. Имитация означает смерть национального духа».[164]
Эпоха Мэйдзи ознаменовалась первыми военными и техническими успехами, показавшимися свидетельством правомерности принятого пути на совмещение самурайского воинственного ригоризма, облагороженного красотой патриотизма, и идеи военно-технического прогресса. Более того, скоро выяснилось, что главной целью японского государства той поры было желание стать «железным кулаком» на мировой арене. Это породило в общественном мнении Запада тезис о «жёлтой опасности». Растущие милитаризация и агрессивность Японии подогревались успешными войнами с Китаем и Россией. Неумеренная гордость японцев и уверенность в правильности избранного пути на силовое присутствие в мире привели к росту в Японии националистических и шовинистических настроений. Великий японский учёный-теоретик, продолжатель национальной духовной традиции и основатель киотской философской школы Нисида Китаро (1870–1945) подвергся нападкам за антипатриотический «космополитизм».[165] Он был вынужден покинуть Киото и жить затворником в небольшом провинциальном городке Камакуре.
Особо следует вспомнить писателя, оставившего заметный след в японской литературе, через судьбу которого прошла мучительная любовь к западной цивилизации. Это Мори Огай (1862–1922) – выходец из самурайской семьи, получивший классическое конфуцианское образование. Такое образование включало также знание древнеяпонской литературы и классической японской литературы вагаку. Родившись в семье потомственных медиков, Мори должен был стать врачом. В эпоху закрытия страны новейшие знания по медицине Запада можно было почерпнуть только из одного источника – голландских книг. Они ввозились в страну через о. Дэсима, о чём говорилось в самом начале. Мори с детства, помимо вагаку, изучил также голландский язык, а потом продолжил образование в столице. В течение 1872–1876 гг. он жил в доме Ниси Аманэ и учился на подготовительных курсах в медицинском колледже. Поступив в колледж, Мори Огай автоматически стал студентом вновь образованного Токийского университета, поскольку в 1877 г. колледж был преобразован в медицинский факультет. Здесь он прекрасно овладел немецким, поскольку преподавание велось специалистами из Германии.
В 1881 г. в звании лейтенанта Мори становится санитарным врачом японской армии. В 1884–1888 гг. он стажируется в прусской армии, изучая санитарию и гигиену. Одновременно будущий писатель знакомится с европейской философией, литературой, искусством (ходит на концерты Вагнера, посещает мюнхенские выставки) и ведёт дневник на китайском языке – традиционное занятие всех образованных людей Японии.
По возвращении из любимой и, как он говорил «комфортабельной» Германии в родную антисанитарную Японию Мори Огай делает стремительную военную, а параллельно – не менее стремительную и блестящую – литературную карьеру. Оказавшись в ссылке из-за интриг завистливых сослуживцев, он, не теряя времени, изучил французский, русский и санскрит, при этом постоянно занимаясь переводами с немецкого. Вернувшись в Токио, Мори издаёт литературный журнал и становится знаменитым писателем, критиком, публицистом. Он перевёл частично на японский язык «Эстетику» Э. Гартмана, «Фауста» Гёте и много других произведений германских поэтов. В 1916 г. Мори Огай вышел в отставку в чине генерала санитарной службы, достигнув высшего поста, какого можно было достичь с его происхождением и образованием.
Всё творчество этой замечательной личности посвящено сотрудничеству между культурами Японии и Запада.[166] Мори стремился объяснить и японскому, и европейскому читателю, какие вещи в культурной традиции своей родины он считает достойными восхищения, а какие предрассудками, с которыми следует как можно скорее расстаться. Особый интерес представляют его рассказы «Случай в Сакаи» и «Семья Абэ». В первом рассказе речь идёт о ритуальной казни группы военных, расстрелявших французских солдат и приговорённых к самоубийству в присутствии французского посланника. Наблюдая, как первые японцы взрезают себе животы, француз оказывается захваченным чувством, никогда им до сих пор не испытывавшимся. Это одновременно смесь чудовищного ужаса, но и глубокого уважения. Потрясённый посланник требует помиловать не успевших совершить самоубийство и покидает место казни. Автор рассказа демонстрирует здесь соприкосновение разных культурных традиций, в частности, экзистенциальной и традиционно японской культуры отношения к смерти. Опровергая распространённое в конце XIX в. на Западе мнение о варварстве японских обычаев, писатель подчёркивает их глубокую философию – философию кодекса бусидо, предполагающую ритуал сэппуку-харакири. Смерть значима для каждого индивидуума – и на Западе, и на Востоке – но значима по-разному.
Смерть оказывается и в центре другого рассказа Мори, «Семья Абэ», где описывается традиционное ритуальное самоубийство вассалов вслед за умершим господином. Спокойное отношение к смерти, сам акт ухода из жизни ещё совсем не старых людей вызывает чувство безысходности, отчаяния, протеста при виде этой напрасной жертвы жестокому идолу самурайской чести, пустому идолу традиции, равнодушно пожирающему жизни людей. Явно критически настроенный к подобному обычаю, Мори Огай с глубоким сочувствием относится к своему народу, приносящему столь бессмысленные жертвы.
Судя по его произведениям, Мори хорошо понимал сложившуюся в мире к концу XIX в. мультиидейную ситуацию и мучительно искал новый образ родины в многоцветной палитре мировых культур. Характерна полемика, развернувшаяся на рубеже веков на страницах многочисленных японских литературно-публицистических и религиозно-философских журналов. Их авторы, очевидно испытавшие интеллектуальное воздействие со стороны ментальной и бытовой культуры Европы и США, фактически переносили на японскую почву борьбу идей Запада. Так, в 1900–1902 гг. в периодической печати развернулась дискуссия между Мори Огаем и писателем Цубоути Сёё (1858–1935) о «скрытом идеале» в литературе и искусстве. Эта дискуссия отражала противоречия между, соответственно, германскими эстетиками (Шеллинг, Гартман), рассматривавшими красоту в искусстве как чувственное выражение абсолютной идеи или воли (эту позицию поддерживал Мори); и позитивистскими взглядами английских и французских эстетиков, сводящих эстетические категории к психологическим состояниям художника и потребителя искусства (такие взгляды разделял Цубоути).
Процесс инкорпорации западного мировоззрения в японскую культуру и сопровождавшая его модернизация национальных смысложизненных установок в русле европейской идеологии привели к изменению всех привычных элементов бытия, что порождало неизбежные стрессы. Иными словами, смена мировоззренческих парадигм вела к психологическому напряжению. В страну «хлынула европейская цивилизация, и не всегда её поток был благотворен. Отход от традиционного не мог не потрясти нацию, не вызвать шока. Чуткие, нервные натуры переживали необычное для японцев состояние неприкаянности особенно остро».[167]
В деятельности Нисиды Китаро, обвиненного в космополитизме, и его антипода, писателя-националиста Мисима Юкио (1925–1970, настоящее имя – Кимитакэ Хираока), жившего в более позднее время, ярко отразился противоречивый процесс адаптации западного знания в Японии. Испытав мощное воздействие западной философской мысли, Нисида занялся проблемой трансценденции и поставил перед собой невыполнимую задачу: научно объяснить на вновь обретённом философском языке истинность знания-состояния (которое он называл «чистым опытом») и вырастить из него не только содержание знания человека о мире, но и знание мира о себе самом через человека. В научном западном информационном сообществе той поры трансценденция отсутствовала, а в традиционном восточном обществе она присутствовала на мировоззренческом уровне, поэтому целостное восточное знание-состояние было гораздо менее чувствительно к противоречию, чем западное знание-информация. Вдохновлённый европейской философией, Нисида хотел показать, как именно интеллектуальное знание Запада о мире, так сказать, проистекает, конкретизируется из фактически единого знания, общего со знанием Востока.[168]
Между тем, вставшая перед всем населением Японии задача восприятия самурайской «этики долга» и самоотверженного служения родной стране вкупе с необходимостью получения образования европейского типа для многих была чревата разрушением привычной культурной идентичности. Подобные трудности не могли не формировать у части японцев черт «человека из подполья», живущего в состоянии психологического срыва, в постоянном внутреннем напряжении и постоянной неуверенности. Вернее, в уверенности в своей незаурядности, которую приходится скрывать под маской «такого как все».
Наделённые подобными чертами персонажи стали несколько десятилетий спустя после эпохи Мэйдзи героями самых известных романов Мисимы Юкио: «Исповедь маски» (Камэн-но кокухаку, 1949) и «Золотой храм» (Кинкакудзи, 1956). Это молодые люди, занятые пристальным самонаблюдением, фиксирующим как некое свидетельство каждое злое или грязное движение души или тела. Если это свидетельство нормальности, то весь мир – просто скопище отбросов, а если ненормальности (люди просто умело скрывают свои пороки), то это – подтверждение собственной ущербности.
Герой Мисимы – человек, подвешенный «между». Между западной и родной культурой, между духом и плотскими желаниями, между любовью к друзьям и острой завистью к ним, между почтительностью к учителю и ненавистью к нему. «Мой склонный к самоанализу ум устроен таким затейливым образом, что я всегда ухожу от окончательной дефиниции – как лист Мёбиуса… Ведёшь пальцем по внешней поверхности, а она вдруг оказывается внутренней. И наоборот… От головокружительных метаний по "листу Мёбиуса" у меня темнело в глазах. А к концу войны, когда казалось, что вот-вот рухнет весь мир, скорость вращения многократно возросла, и я уже с трудом удерживался на ногах. Причины, следствия, противоречия перекрутились в один тугой узел, и у меня не было времени распутать все эти нити. Я лишь видел вертящийся вокруг меня стремительный хоровод парадоксов», – пишет 24-хлетний Мисима в своём первом большом романе «Исповедь маски».[169]
Страшная нагрузка на внутренний мир приводит к расшатыванию жизненных ориентиров, отказу от ценностей, разделяемых большинством обывателей; к спонтанным выбросам агрессии по отношению к миру и себе. И если в «Исповеди маски» юный герой ещё находит временную гармонию рядом с любимой, то герой «Золотого храма» замыкается в «камере своего ущербного я». Раздираемый страстями, не имеющими разрешения, он полностью порывает с нормами морали, воспевая «красоту предательства». Во время войны он наблюдает, как его знакомая девушка сдаёт жандармам своего любовника-дезертира: «У меня хмельно закружилась голова – до того кристально прекрасной была измена Уико в обрамлении луны, звёзд, ночных облаков, пятен серебристого света, парящих над землёй храмовых зданий и гор, ощетинившихся острыми верхушками кедров».[170] Странное спокойствие воцаряется в душе героя, девушка представляется ему такой же, как и он сам, не знающий никаких убеждений: «Я был одним из миллионов и десятков миллионов людей, которые тихо существуют себе в нашей Японии, ни у кого не вызывая ни малейшего интереса».[171] Позиция пристального наблюдателя за своими противоречивыми чувствами приводит героя к тотальному нигилизму, сводящему всю жизнь человека к бессмыслице. «Выходит, благородство – не более чем игра воображения? – весело спросил я. И благородство, и культура, и разные выдуманные человеком эстетические категории сводятся к бесплодной неорганике»,[172] – успокаивает героя приятель.
Простота деструкции часто бывает выходом для подпольного человека Мисимы. Герой завидует обоим своим друзьям: «чёрному двойнику», смелому в своём полном отрицании ценностей жизни, и «белому двойнику», «лучу света», внезапно погибшему, потому что ему «удалось закончить свой жизненный путь, нисколько не утруждая себя тяжким бременем сознания своей исключительности».[173] Ощущение своей бесценной уникальности и, одновременно, своего ничтожества приводит персонаж Мисимы к простой славе Герострата – он сжигает национальное сокровище, «Золотой храм». Творчество и трагический конец националиста Мисимы, покончившего с собой традиционным ритуальным способом, взрезав себе живот, ярко продемонстрировали разрушение привычной культурной идентичности, так или иначе связанное с проникновением в японское общественное сознание западных мировоззренческих концептов.[174]
«Телесность» и «пустотность» как отличительные особенности традиционной японской эстетики
Собственная национальная эстетическая традиция является предметом неослабевающего внимания современных японских философов, стремящихся с позиций сегодняшнего дня показать природу и специфику эстетического знания в Японии. Особый интерес в этом отношении представляют оригинальные взгляды Накамуры Юдзиро (род. в 1925), крупнейшего исследователя, получившего признание в мировом эстетическом сообществе.
В своём сочинении «Интуиция практического действия и искусство Японии» (Коитэки тёккан то нихон-но гэйдзюцу, 1985) Накамура рассматривает проблему традиции и преемственности в японской эстетической и философской мысли,[175] параллельно анализируя концепции двух выдающихся деятелей японской культуры: Дзэами Мотокиё (1363–1443) и Нисиды Китаро (1870–1945). На первый взгляд, такое сочетание имён кажется несколько странным: Дзэами – средневековый актёр, театральный деятель, проживший бурную и полную превратностей жизнь, тогда как Нисида – кабинетный ученый, проведший, по собственному признанию, одну половину жизни лицом к классной доске, а другую – спиной к ней. Объединяет их то, что оба они – каждый по-своему – внесли весомый вклад в сокровищницу японской культуры. Дзэами отразил и развил достижения традиционной эстетики Японии в рамках практики конкретного – театрального – искусства. Нисида предпринял первую попытку философской систематизации японского духовного наследия. Рассмотрение их деятельности в рамках одного произведения обусловлено двойственностью задачи, которую ставил перед собой Накамура: выявить, с одной стороны, национальные корни японской эстетики, а с другой – подвергнуть эстетическое наследие Японии философской интерпретации.
Прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению, отметим различие в отношении к художественному творчеству на Западе и на Дальнем Востоке. На Западе художественное творчество традиционно воспринимается как низшая, чувственная ступень в познании, поскольку считается, что лишь дискурсивное, понятийное, знание может описывать истинное бытие. На Дальнем же Востоке в даосско-буддийской традиции сам художник считается проводником «поступи Дао» или выразителем идеи всеобщности космического Будды. Всё существо художника-медиума является средством для передачи тончайших нюансов Дао или Дхармакайи, непостижимым образом явленных в мире жизненных феноменов. В буддийской традиции весь универсум представляется телом Будды, обнаруживающимся в телах конкретных людей. Поэтому творчество там, с одной стороны, сакрализируется, а с другой – представляется как момент телесного бессловесного постижения Абсолюта. «Речь идёт о приятии мира явлений, иначе говоря, «тела» и телесного опыта человека: нельзя отвергать их при поисках своей истинной природы, тождественной Будде».[176]
Обратимся к работе Накамуры Юдзиро. «Когда мы, современные японцы, оглядываемся на прошлое, – пишет он, – то в глаза бросаются две главные особенности нашего традиционного искусства. Первая – отсутствие чёткой границы между искусством и обыденной жизнью. Вторая – уделение особого внимания непосредственным физическим (телесным) действиям в художественной практике».[177] Действительно, эстетизация повседневной жизни – самая характерная черта японской художественной традиции: Для японского художника «каждый предмет или явление таит в себе особую прелесть, имеет свою, только ему присущую эстетическую ценность, а это означает, что все сущее достойно быть предметом искусства. Искусство приемлет мир без разделения на существенное и несущественное, случайное и неслучайное, ибо в действительности такого разделения нет».[178]
Здесь сразу оговоримся: не следует понимать буквально, что представители японской культуры говорят о неразличении ими искусства и не-искусства. Ведь даже в процессе, к примеру, устройства ландшафтных садов, где материалом для художественного творчества является сама природа, мастер подвергает «естественность» определенной обработке с целью добиться выражения конкретной мировоззренческо-эстетической идеи. Так, буддийская идея непостижимости Универсума в явленных формах продемонстрирована в сухом саде храма Рёандзи, где представлено пятнадцать камней, но с любой точки видно лишь четырнадцать из них. Как подчеркивает историк японского искусства Н. С. Николаева, «по отношению к натурному материалу художник выступает в роли режиссёра. Только через построенные, смонтированные им мизансцены получают эстетическое значение деревья, камни, водоём. Ощущение грани между искусством и неискусством входило в задачу автора сада».[179]
Следование канону, причастность к ритуалу обучения и достижения должного уровня технического мастерства – вот что отличает профессионализм в искусстве от любительства. Природа и искусство имеют одну и ту же ценность, но выразить эту ценность могут только профессионалы. Неслучайно известный японский поэт Мацуо Басё (1644–1694) в письме своему другу (поэту по имени Сугимура Кёкусуй) замечает, что «в Японии истинных поэтов не более десяти человек, остальные графоманы».[180] Тем не менее, благодаря тому, что уровень любительского искусства был высоким, в Японии в течение веков существовала та «эстетизированная среда», в которой развивалось традиционное искусство. Именно этот «питательный раствор» даёт возможность кристаллизации профессионального художественного творчества. Согласно традиционным представлениям, подлинное искусство является не-искусством – ведь художник действует «как природа» – естественно и непринужденно. «Учись сосне у сосны, бамбуку у бамбука», – призывал Басё художника.[181] Результат такого действия – собственно произведение искусства – считается в традиции «следом Дао», оставленным медиумом-художником. Вот почему в изобразительном искусстве Дальнего Востока – живописи тушью и каллиграфии – мастером признавался тот, кто способен создать художественный образ мгновенно, «всеединым штрихом». Широко известно также изречение Басё, что «создание стихотворения должно происходить мгновенно, как дровосек валит могучее дерево или как воин кидается на опасного противника, точно так же, как режут арбуз острым ножом или откусывают большой кусок груши».[182]
Справедливости ради следует отметить, что, помимо дзэнско-даосского способа создания художественного образа, где творческий акт приравнивается к мгновенному сатори, просветлению, и имеет интуитивный характер, существовала и конфуцианская традиция. В русле этой традиции произведение могло создаваться сколь угодно долго, с тщательной проработкой всех мельчайших деталей. Но, как отмечает Е. Завадская, одна тенденция вовсе не исключала другую.[183] Подтверждение этому находим у самого Басё, который признавал, что «к мигу откровения художник идет путем многократных усилий».[184]
С точки зрения того, что изначальная природа Будды присутствует везде, возникновение тайфуна и создание трёхстишия-хокку – вещи однопорядковые. Данное представление определяет особенность японского искусства, которая, по мнению Накамуры, выгодно отличает его от искусства Запада, где служители муз нередко выступали с лозунгами и теориями «чистого искусства» или «искусства ради искусства». В Японии же до самого последнего времени подобные теории были невозможны.
Однако в результате установления контактов с Западом японцы восприняли не только его достижения техники, технологии и естественных наук, но и весь набор гуманитарных знаний, а также и искусство. Принципы этого искусства были поначалу с энтузиазмом встречены японцами, наивно полагавшими, что западная культура превосходит их собственную.[185] В результате, в эпоху Мэйдзи получили распространение живопись в западном духе – ёга, музыка западного типа ёгаку и даже новый театр западного образца – сингэки. Тогда же утвердился новый термин для обозначения понятия искусства – гэйдзюцу, являющийся дословным переводом соответствующего западного понятия и пришедший на смену традиционному понятию искусства – гэйдо. Правда, этот «новый» термин оказался хорошо забытым старым: впервые он встречается в древнекитайской хронике династии Хань – «Хоуханьшу» во II в. н. э. В то время его использовали для обозначения и наук, и искусств. В 1873 г. эстетик Ниси Аманэ предложил этот термин для обозначения искусства в широком смысле слова. Но с 1884 г. ученый-просветитель, автор понятия бигаку (эстетика) Накаэ Тёмин (1847–1901) стал употреблять его только для обозначения изобразительного искусства, а для искусства в целом предложил термин бидзюцу.[186]
Если поначалу термин гэйдзюцу употребляли, говоря об искусстве в западном стиле, то впоследствии им стали обозначать и традиционные виды искусства. Однако перенесение значения понятия гэйдзюцу на традиционное искусство принижало и обедняло, по мысли Накамуры, смысл последнего. Ведь в понятие гэйдо входит иероглиф дао (до) – путь, и само понятие обозначает жизненный путь художника, где его профессиональная и личная судьба слиты воедино. Гэйдзюцу же обозначает просто «искусство как профессию» в ряду других занятий.
Говоря об особенностях японской художественной мысли, Накамура Юдзиро указывает, что искусство в Японии, будучи близким повседневной жизни, рассматривалось здесь прежде всего как определенный телесный (т. е. конкретно-физический) образ действия, жизненный «путь». «Понятие гэйдо, – пишет он, – особенно тесно связано со свойственным традиционному японскому искусству качеством телесного действия и соответствует ему».[187] Составными частями гэйдо являются следующие виды традиционных искусств: кадо – искусство составления пятистиший, сёдо – искусство каллиграфии, кодо – искусство составления ароматов, садо – искусство чайной церемонии, кадо – искусство составления цветочных композиций, а также группа воинских искусств бугэй.
Отметим, что Накамура избегает традиционной дихотомии «рационалистическое – интуитивное», обычно преобладающей при сравнении художественных традиций Запада и Востока. Он акцентирует внимание на противопоставлении другой пары: «интеллектуально-теоретическое, или дискурсивное (Запад), – телесно-практическое (Япония)». Дело в том, что, включая в себя множество аспектов практического знания, гэйдо так и не выкристаллизовалось в чистую теорию искусства. Для гэйдо характерна значительно большая, чем на Западе, роль конкретного телесного действия, как в процессе становления художника, так и в процессе создания им произведения искусства.
Второй, наряду с «телесностью», особенностью гэйдо Накамура считает историчность, т. е. связь этапов развития человека как художника с этапами его физического и духовного развития. По мнению учёного, без длительной физической тренировки, без достаточно жёсткого процесса обучения прошлому опыту нельзя стать полноценным художником гэйдо. Иными словами, Накамура ищет специфику гэйдо именно в художественной практике, а не в абстрактных теориях, и это приводит его к верному акценту на историчности (поэтапности), постепенности, длительности становления художника как на главном моменте процесса творчества.
Данное обстоятельство, как правило, упускается из виду теми исследователями, которые подходят к искусству только с абстрактно-теоретических позиций. Абсолютизируя, скажем, влияние мировоззрения буддизма Дзэн на художественное сознание средневековых японцев, они не принимают во внимание практическую и историческую подоплеку разнообразных «наитий», «просветлений» и «спонтанных озарений» художника.[188]
Японский философ считает, что специфику гэйдо следует искать в особенностях самого процесса обучения художников в рамках гэйдо. В качестве наиболее репрезентативного вида традиционного искусства Накамура анализирует театр Но. Характеризуя особенности формирования актёра, учёный справедливо отмечает известную общность воспитательного процесса для всех искусств гэйдо. «Их истинная суть, – пишет он, – заключается в длительном процессе приобретения опыта, в самосовершенствовании художника путём изучения классического наследия и практических упражнений. Таким образом, путь – это ещё и решение человека посвятить свою жизнь приобретению опыта в определённой области».[189] Так, «настоящий драматург познавал законы создания драматического произведения путём игры на сцене, т. е. в процессе непосредственного телесного опыта, и лишь затем переносил их на бумагу»,[190] а не наоборот.
Обычно исследователи принимают во внимание лишь конечный результат процесса становления художника, что приводит к абсолютизации интуитивных моментов в творчестве зрелого мастера. При этом природа данных моментов приобретает мистическую окраску, поскольку мастерство появляется как бы из ничего, на пустом месте. Согласно данному подходу, только склонность к созерцанию способствует появлению состояния мусин-муга (бесстрастности – не-я), когда художник вдруг начинает спонтанно творить. Данное состояние многие авторы трудов по японской художественной традиции и японскому буддизму характеризуют как «единство субъекта и объекта», слитность художника с Универсумом, невыделенность индивидуума из него – и видят в этом специ фический источник, своеобразную форму проявления эстетической сущности японцев.
Такая позиция характерна и для некоторых авторов, анализирующих свою духовность и – как бы изнутри – свою эстетическую традицию. Согласно такой позиции, мастер, действующий по наитию, спонтанно, выявляет саму «спонтанную» природу. Но ведь между спонтанностью природы и спонтанностью художника стоит многолетний и многотрудный период тренажа, овладения техническим мастерством, обучения у старых мастеров, овладения историей и теорией создания произведения.
Художник создает «вторую природу», не только как минимум вмешиваясь в первую и заимствуя у неё материал, но и преобразуя этот материал по законам красоты, существующим в его сознании и определяющим сам способ и характер вмешательства. «Вторая природа» возникает даже в тех видах искусств, где материалом служит почти необработанная «первая» (искусство ландшафтных садов, искусство составления ароматов, частично – искусство аранжировки цветов).
И уж совсем явственно проявляется «вторая природа», когда художник использует материалы, не существующие в естественном виде в природе (бумагу, шёлк, тушь, глину специально подобранного состава, лаки и пр.). В обоих случаях художник выражает своё отношение к окружающему миру, организуя этот мир по законам красоты, которой нет и не может быть в природе как таковой. Ведь природа тождественна самой себе, у неё нет истории, нет культуры – в отличие от человеческого общества, смену эстетических вкусов и идеалов которого выражает художник.
Продолжая развивать свои рассуждения о главных свойствах японского традиционного искусства, Накамура Юдзиро обращается к авторитету Дзэами – основоположника японского мистериального театра Но. Ведь всё творчество Дзэами служило подтверждением первостепенного значения собственно художественной практики как источника своеобразия искусства Японии. Сам Дзэами был прежде всего блестящим практиком и создал теорию «ногаку» (теорию театра Но), исходя из собственного практического опыта актера и драматурга. Поскольку для достижения истинного совершенства актер Но должен пройти через несколько физических, эмоциональных и ментальных этапов, Дзэами акцентирует внимание на историчности таланта актера. По мнению учёного, данное положение эстетики «ногаку» верно не только для всех традиционных искусств Японии, но и для всей восточной мыслительной традиции вообще.[191]
Согласно Дзэами, следовало стремиться к тому, чтобы физическое (актерский тренаж) и духовное совершенствование актера шли как единый процесс. Игре в театре Но нельзя научиться один раз и навсегда. Человек меняется на протяжении всей жизни, поэтому и само таинство Но (хана – «цветок») меняется вместе с ним, согласно смене, так сказать, времён года человеческой жизни. Только в зрелом возрасте, когда физическое и духовное уравновешиваются, возникает истинный цветок, актер достигает подлинного мастерства. «Думаю, что правильно понимаю Дзэами, – поясняет Накамура, – видя в истинном цветке символ раскрытия внутренней жизни, что тождественно таинству экспрессии».[192] Степень воплощения истинного цветка соответствует достижению состояния мусин-муга, когда актёр, прошедший длительный и тернистый путь обучения и тренажа, способен играть и при этом наиболее адекватно выражать сокровенную суть спектакля без сознательного душевного напряжения, действуя интуитивно. Состояния мусин-муга можно достичь лишь тогда, когда технические приемы становятся настолько органичны мастеру, что для их воплощения ему не требуется дополнительных эмоциональных затрат. Всё происходит как бы инстинктивно, благодаря чему внимание концентрируется на передаче тончайших нюансов чувств.
Таким образом, согласно Накамуре, «телесность и историчность», будучи основными характеристиками японского искусства, приводят в области сознания к состоянию мусин-муга, а в области художественной практики – к «интуиции практического действия» (коитэки тёккан), или «общему чувству» (кёцу кандзё). Общее чувство не сводится ни к одному из пяти человеческих чувств и, тем не менее, оно носит телесный характер. Примером появления такого чувства является единство действий партнеров по сцене в театре Но, создающих художественный образ на основании указанного «общего чувства», или «интуиции практического действия».
«Интуиция практического действия» является, с одной стороны, реализацией, воплощением состояния мусин-муга, а с другой – выступает основой, на которой зиждется единство художественного образа спектакля на сцене. «Интуицию практического действия» и предлагает Накамура в качестве специфического стержня, духовной основы всего традиционного искусства Японии гэйдо. Именно потому, что театральный художественный образ создается в процессе (историчность) непосредственного физического (телесность) действия, искусство театра Но рассматривается японским учёным в качестве наиболее характерного из традиционных видов искусства: процесс и результат художественного творчества в театральном искусстве совпадают.
Японский эстетик даёт четыре определения коитэки тёккан: «Определяя интуицию практического действия коротко, можно сказать, что это – постижение вещей телесно»;[193] «интуиция – это видеть вещи исторически и телесно»;[194] «интуиция означает непосредственное отражение субъектом мира».[195] И, наконец, несколько туманное описание интуиции: «Мы, действуя, видим вещь. Вещь, ограничивая нас, в то же время ограничена нами. Это и есть интуиция практического действия».[196]
Учёный пишет, что обычно под интуицией понимают нечто мистическое, поскольку не связывают её с человеческой практикой. По его мнению, смысл всех определений коитэки тёккан заключается в том, чтобы, представив её как итог творческого пути актера, одновременно выдать её за духовную основу японского традиционного искусства в целом. Однако для того, чтобы перейти от рассмотрения практики конкретных традиционных искусств к собственно духовной области, Накамуре необходимо обратиться к философскому анализу. Но поскольку учёный базирует свои выводы лишь на театральном искусстве и не может в полной мере распространить их на другие виды традиционного искусства (например, пространственные), ему не удаётся сделать полноценных эстетических обобщений. В поисках философского обоснования своей концепции, он обращается прямо к философии Нисиды Китаро, крупнейшего японского мыслителя, родоначальника «академической философии» в Киотском университете. Мировоззренческая система Нисиды, отмеченная сильным влиянием неокантианства, получила распространение в 1920-е годы. Современник Нисиды, историк Цутида Кёсон, назвал его «первым, кто показал японцам, что философия составляет наиболее фундаментальную форму мысли».[197] В творчестве Нисиды Китаро, ознаменованном попытками совместить установки национальной духовной традиции с элементами европейской философской мысли, эстетические взгляды явились самостоятельной частью оригинальной мировоззренческой концепции. По сути дела, Нисида Китаро – основоположник современной философской эстетики Японии.
Специально эстетическим и, отчасти, этическим проблемам Нисида посвятил монографию «Искусство и мораль» (Гэйдзюцу то дотоку, 1925). В ней рассматриваются две главные категории этики и эстетики – добро (благо) и красота (прекрасное), а также их связь с категорией истины. Показательно, что всё содержание категорий эстетики японский философ выводил из индивидуального сознания, причём трансцендентальный пафос его работы противоречил рационалистической форме философствования и попыткам системного подхода к эстетической проблематике.
Эстетику Нисида ставил выше всех других философских дисциплин, поскольку считал, что эстетический опыт является «чистым опытом», не подразумевающим разделения на субъект и объект, высшее и низшее, простое и сложное. Эстетический опыт стоит вне всяких различий и представляет собой мгновенный переход к трансценденции (в японской традиции – к Дао, или изначальной природе Будды).[198] С эстетическим опытом по значимости может сравниться лишь опыт религиозного мистицизма, «Чувство прекрасного, – писал Нисида, – это чувство "не-Я " (муга). Прекрасное, пробуждающее не-Я – это истина интуиции, которая выше истины разума. Вот почему красота так грандиозна: она может быть понята как единение с Великим Дао (не-Я) в результате отказа от мира различений; вот почему эстетика – явление того же порядка, что и религия. Они отличаются лишь областью ощущений: не-Я прекрасного – это моментальное, скоротечное не-Я, а не-Я религиозного – это вечное не-Я».[199]
Нисида Китаро считал, что интуиция не только лежит в основании истинного познания, но и составляет стержень творческой активности художника. Понятие интуиции было сформулировано Нисидой в работе «Изучение блага» (Дзэн-но кэнкю, 1911) и привлекло к себе внимание Накамуры Юдзиро, увидевшего тождественность этого понятия своему собственному. Что же понимал Нисида под «интуицией» и какую роль играло это понятие в его системе? Согласно свидетельству его ближайшего ученика и самого авторитетного комментатора Ниситани Кэйдзи (1900–1990), Нисида полагал, что «система мысли, выраженная понятиями, имеет истоки в неоформленном, бесформенном, которое не может быть облечено в понятия. Мы открываем его непосредственно в рамках нашего общего чувства, которое делает нас способными к самопознанию… Ориентиром в этом бесформенном служит общее чувство, которое Нисида называл интуицией».[200]
Таким образом, Нисида пытался с помощью интеллектуальных, дискурсивных средств объяснить фактически невыразимый с помощью этих средств характер истинно-сущего. На это истинно-сущее можно только указать, но описать его понятиями – нельзя. Его можно, говоря словами Нисиды, лишь «прочувствовать общим чувством». Действительно, в основании дальневосточной культуры лежит невербализуемое знание. Действуя в природном континууме, дальневосточный художник в своем непосредственном «аутопоэзисе» не просто создает некое произведение искусства, а одновременно познаёт и творит самого себя и окружающий его Универсум.
Отметим в этой связи определённую перекличку восточной и западной духовных традиций, когда в XX в. европейская философская мысль в лице феноменологии и экзистенциализма обратила внимание на аналоговый аспект разума, подразумевающий, в частности, «буддийскую» погружённость человека как целостного ментально-телесного существа в мировой континуум. «В этом случае, – отмечает философ Л. Г. Пугачёва, – индивидуум получает доступ к знанию, связывающему его индивидуальное существование с онтологическим источником – природой, космосом, универсумом, абстрактным архэ, Богом, Дао, Брахманом и т. д., в зависимости от избираемой идеологии».[201] Именно это целостное знание лежит в основании понимания человеком себя и мира, именно оно является фундаментом дискурсивного знания, но не тождественно ему.
Преобладание «даосско-буддийской» традиции спонтанности в создании произведения искусства основано на культивируемом «разуме тела», недискурсивном целостном знании, присутствующем в самоощущении каждого индивида: «я живой». В этом смысле обыденная жизнь и искусство, действительно, неразличимы для проживающего в режиме «здесь и теперь» человека. Субъективно он может проживать тот и другой аспект своей жизни с одинаковой интенсивностью или, наоборот, расслабленностью. Существенная разница заключена в необходимости длительного, трудоёмкого, целенаправленного тренажа, процесса «подгонки» телесных состояний (в нашем случае состояний актёра) под требуемые параметры, в то время как проживание в сфере повседневных занятий таких сложных упражнений не требует. «Естественность», «спонтанность» творческого акта в искусстве, таким образом, легко может быть принята за естественность проживания психофизических состояний в обыденной жизни.
Тем не менее, Нисида Китаро пытался представить позицию участника жизненного процесса, непосредственно включенного в его ход и потому воспринимающего этот ход непротиворечиво, с позиции наблюдателя, противопоставляющего себя мировому континууму и описывающего этот континуум в знаковой форме. Впрочем, эти противоречивые попытки так и не получили разрешения в рамках философской концепции Нисиды Китаро.
Наряду с понятием интуиции Накамура Юдзиро рассматривает также важную для восточной духовной традиции проблему сущности пустого пространства, пустоты – ма. Японский ученый полагает, что совокупность теоретических вопросов, связанных с ма, может быть представлена как «эстетика пустоты» (кухаку-но бигаку).
Западные искусствоведы обнаруживают проблему пустого пространства ма обычно в области каллиграфии и живописи тушью, особенно в монохромном пейзаже. Однако это, утверждает Накамура, лишь частный случай общемировоззренческого, традиционно японского принципа, согласно которому наличие, форма, а также расположение «пустот» имеет большое значение. Оказывается, «пустоты» присутствуют не только в изобразительном искусстве Японии, но и в японской музыке, архитектуре, даже в театре.
«В театре Но, – пишет, к примеру, Накамура, – по мере роста мастерства актер постепенно приближается к состоянию «бесстрас тия» (мусин) и в дальнейшем опирается преимущественно на него. В связи с этим начинают проявляться парадоксальные вещи: умение вызвать интерес при отсутствии видимого действия (сэну токоро га омосироки) и отстранение (рикэн-но кэн или ханарэмино ми). Хотя эти проблемы поднимались только в театре Но, они являются основополагающими для всего японского искусства и культуры».[202]
Феномен сэну токоро га омосироки, т. е. отсутствия видимого действия как вещи привлекательной, наполненной глубоким смыслом, – чисто японский. По наблюдению Н. Г. Анариной, «в театре Но движение обязательно завершает пауза-поза, фиксирующая его в состоянии полного покоя, недействия. Смятение души, смена настроений изображаются обычно проходами по сцене; их темп и направление меняются, что призвано передать душевное беспокойство, на смену которому должно прийти успокоение – замирание в позе».[203] Накамура называет такое замирание «промежутком между действиями, недеянием», которое заключает в себе коитэки тёккан – «интуицию практического действия», выступающую духовной основой сценического действия. По словам японского учёного, недеяние представляет интерес «из-за действия души, т. е. из-за невидимого действия. Или, по-другому, из-за видимого отсутствия действия, когда душа изнутри просачивается вовне».[204]
Но почему «невидимое»? Мы же видим актера на сцене в течение всего спектакля. Актера – да, душу спектакля, его «нерв» – нет. Только ощущаем, благодаря искусности исполнителей, отвечает Накамура. Мы видим энги – сценическое действие. «И вот актёр входит в состояние мусин-муга, когда он сам не сознает порывов своей души, но именно промежутком, паузой, вызванной подобным состоянием, он соединяет одно действие с другим. Работа внутреннего чувства собирает воедино разнообразные действия».[205] (Заметим, однако, что для воплощения на подмостках чередующихся поз-пауз от артиста требуется скорее незаурядная физическая подготовка, нежели работа души или интуиции.)
Однопорядковым феноменом является, по мнению учёного, и пауза – ма в японской музыке. Учёный определяет такое ма как «состояние ожидания звука». Вот как он описывает появление ма в музыке: «Для того, чтобы мелодия обладала чёткостью, была необходима упорядоченность, умиротворение в звуках… Следовало исключить звуки, вносящие хаотичность, поэтому-то и возникла экономия звучания в японской музыке. Благодаря такой экономии, звуки воспринимались вместе с беззвучием, что и означало чувство ма».[206]
Показательно, что японцы, впервые слышавшие европейский симфонический оркестр, воспринимали его музыку как чрезмерно, до хаотичности насыщенную. По их мнению, в ней отразилась «боязнь пустого пространства в звуках» (подобно тому, как в западной живописи отразилась боязнь пустого пространства в красках), или боязнь сосредоточиться на одной-единственной теме мелодии, на одном-единственном звуке. В результате, японцам кажется, что все мелодии европейцев перенасыщены многими одновременно звучащими темами. Естественно, что в западной музыке не оказалось места для ма, «отправным пунктом для которого является ситуация восприятия музыки как ожидания единственного звука».[207]
Утверждая однопорядковость «пустоты» в живописи, «недеяния» в театре Но и паузы – ма в музыке, Накамура Юдзиро подводит их под общий знаменатель «интуитивности», или общего чувства. Все они являются его производными. В чём же усматривается проявление принципа ма, или кухаку-но бигаку, в традиционном японском жилище и на сцене Но? Каково принципиальное единство художественных ориентаций в этих сферах? «Если посмотреть на театр Но с точки зрения пространства, – пишет эстетик, – то по аналогии вспоминается японское жилище, которое на удивление точно воплощает сущность японского понимания пространства. Его основные черты заключаются в следующем. Во-первых, пространство не ограничивается каким-то определённым образом – за счёт сёдзи и фусума (раздвижные перегородки. – Е. С.) оно открыто, развёрнуто по отношению к природе. Во-вторых, оно складывается в процессе телесных действий, как бы заново формируется в ходе его освоения человеком посредством производимых им событий – дэкигото. В традиционном японском доме, например, дзасики (помещение, размеры которого моделируются при помощи раздвижных перегородок. – Е. С.) становится то спальней, то гостиной, то столовой – так свойства пространства меняются в зависимости от характера происходящих в нём в какой-то данный момент конкретных действий… Чем больше размышляешь, – заключает свою мысль Накамура, – тем больше убеждаешься, что японское сознание воспринимает пространство через телесную активность, иными словами, во многом зависит от интуиции практического действия общающихся».[208]
«Пустотность», возведённую в мировоззренческий принцип, учёный считает чисто национальным вкладом Японии в общечеловеческую культуру. Как раз влиянием японского театра объясняется тот факт, что «европейский театр пришел в лице Питера Брука к мысли: истинное театральное пространство – это пространство, где ничего нет».[209] Следовательно, согласно философу, к своим главным открытиям западный театр XX в. пришёл именно благодаря использованию достижений театрального искусства Японии, процветавшего еще в Средние века. Однако утверждая превосходство в данной области японской культуры, Накамура ссылается лишь на историю «театро мунди», основанного Андреа Палладио в эпоху Ренессанса и действительно отличавшегося пышностью декораций и чрезмерностью бутафории. Но японский эстетик при этом почему-то упускает из виду пустые пространства цирков античности, театр Софокла и Аристофана, Сенеки и Нерона.
Действительно ли принцип пустоты ма является привилегией лишь Японии, её, так сказать, монополией в мировой культуре? Чтобы объективно ответить на поставленный вопрос, вернёмся к рассуждениям Накамуры, провозглашающего наличие принципа ма во всех видах традиционного японского искусства и даже в сфере повседневной жизни. Ма, считает он, появляется благодаря интуиции практического действия. Причем в случае с ма японский философ обосновывает интуицию практического действия с позиции феноменологического метода. Так, он активно использует гуссерлевский термин «интенциональность» вместо употреблявшихся им ранее метафор типа «душа просачивается наружу» и т. п. В своё время Гуссерль писал, что сознание человека – это всегда «сознание о», т. е. сознание интенциональное, направленное на объект и потому распространяемое за пределы я. Накамура разделяет эту точку зрения и с этой позиции анализирует трактаты Дзэами.
В частности, он интерпретирует концепцию Дзэами «кожа – костяк – мясо» (концепция взаимодействия актера со зрителем во время спектакля, где «кожа» – это контакт со зрителем, «костяк» – техника актёрской игры, «мясо» – индивидуальные особенности исполнителя). «Эта концепция, – пишет ученый, – находит свое подтверждение в феноменологии, указывающей, что биологическое тело не ограничивается поверхностью кожи, а распространяется с помощью интенциональности на широкий ареал деятельности человека».[210] Здесь Накамура в рамках своей трактовки «общего чувства», или интуиции практического действия, апеллирует к феноменологии, рассматривающей явления сознания, а вовсе не конкретные телесные действия (о которых писал Дзэами).
Подводя итог, отметим, что «разум тела», лежащий в основании жизни каждого человека, в японском искусствознании концептуализируется. Такие понятия, как ма – телесно воспринимаемый пространственно-временной промежуток, или коитэки тёккан – интуиция практического действия, описывающая ментально-телесную включенность актёра (или музыканта ансамбля хаяси) в драматический континуум, создавались эстетиками и теоретиками искусства для обоснования первичности (и исторической, и теоретической) «телесного разума» по отношению к дискурсивному знанию. Вся система воспитания и образования актера средневекового театра Но (точно так же, как и художника в любом ином виде традиционного искусства) направлена на максимальную актуализацию и осознание именно этого, «телесного» аспекта человеческого разума (что, разумеется, нисколько не умаляет духовного и текстуального, дискурсивного момента в обучении).
В заключение ещё раз подчеркнём, что, на наш взгляд, искусство и на Западе, и на Востоке основано на целостном – телесном и ментальном – а отнюдь не чисто дискурсивном постижении невыразимого характера бытия.[211] Для описания этого характера художественная традиция использует чувственную метафорическую форму. В основе любого классического искусства лежит тот самый аналоговый аспект разума, о котором мы говорили выше. Творец здесь выступает как некий медиум, создающий произведение искусства и одновременно познающий и творящий себя и Универсум. При этом творец вовлекает зрителя в процесс целостного невербализуемого познания Универсума и посредством искусства возвращает человеку чувство аутентичности, непосредственно связанной с ощущением его неразрывного единства с мирозданием.
Японская духовная традиция в свете проблемы «телесного модуса» разума
Каждому человеку ясно, что картина мира и его собственная жизнь в нём далеко не исчерпываются научными, религиозными и философскими текстами. Существует нечто, не умещающееся в рамки дискурсивного знания, знания, транслируемого при помощи слов, – аспект мира «не замечаемый именно потому, что он дан с предельной очевидностью каждому взору».[212] Более того, суть бытия имеет невыразимый характер, но она остро ощущается художниками и постигается каждым человеком непосредственно «немым» опытом тела, являющегося частью мирового континуума. Как указывает С. А. Арутюнов, «параллельно с речевым языком существует и язык внеязыковой, т. е. материальной, или поведенческой, части культуры».[213] Это «бесформенная» часть, передаваемая «по воздуху».
Такой индивидуальный опыт непосредственного взаимодействия с мировым континуумом в режиме «здесь и теперь» является первичным в онтогеническом становлении человека: человеческий ребёнок, как и любое животное, уверенно существует в этом режиме «участника», т. е. отсутствия «прошлого», «настоящего» и «будущего» времени, в постоянном телесном взаимодействии с мировым континуумом.[214] Но данный опыт является базовым также и при формулировании категорий и понятий научных теорий. Это становится очевидным, если мы обращаемся к толковым словарям, где сложные научные термины, объясняются с помощью более простых представлений. Следует, однако, заметить, что опыт непосредственного знания-переживания, самопознания-самостановления в мире, хоть и предшествует исторически знанию дискурсивному, без участия дискурсивного знания «неуловим»: невыразимое переживание своего присутствия в мире должно быть замечено, осознано и зафиксировано индивидуумом именно в отношении общезначимого, дискурсивного знания, поскольку рассуждать о нём мы можем только в текстуальном виде. Вот почему невыразимый, телесно-воплощённый аспект знания о мире логически вторичен, несмотря на то, что дискурсивное знание возникает на основе и в контексте непосредственного знания, включённого, благодаря воплощённости человека, в подвижный узор Бытия. Таким образом, получается, что человек как телесно воплощённое и в то же время разумное существо одновременно принадлежит к миру постоянной динамики – миру Космоса и природы и к миру статики – миру Культуры с его фиксированными языковыми, поведенческими и вещественными формами. Лучшими выразителями «невыразимого» аспекта человеческого разума являлись поэты: они чувствовали, насколько важен такой «непередаваемый» другому опыт жизни:
Что наш язык земной пред дивною природой? С какой небрежною и лёгкою свободой Она рассыпала повсюду красоту И разновидное с единством согласила! Но где, какая кисть её изобразила? Едва-едва, одну её черту С усилием поймать удастся вдохновенью… Но льзя ли в мёртвое живое передать? Кто мог создание в словах пересоздать? Невыразимое подвластно ль выраженью? (В. А. Жуковский «Невыразимое», 1819)С середины XX в. в европейской философии появились исследования, посвященные традиционно находившейся в тени области индивидуального, недискурсивного, знания, лежащего в основании самоощущения любого живого существа, но осознаваемого только человеком. В философии феноменологии, экзистенциализма, а также в новейших исследованиях радикального конструктивизма, философии аутопоэзиса, кибернетической эпистемологии постепенно обозначилась проблема несводимости разума человека к его коммуникативному, дискурсивному, социальному, «измерению».[215] Российский философ Л. Г. Пугачёва, одна из первых обратившая внимание на современный аспект этой проблемы, предлагает ввести в феноменологический дискурс термин «разум» в качестве объединяющей концептуальной метафоры. По её мнению, «это позволит выделить при помощи языка феноменологии (Э. Гуссерля и М. Мерло-Понти) сферу осознания бытия „здесь – и – сейчас“, принципиально не вписывающуюся в схему трансцендентального единства апперцепции классического мышления, двигающегося по шкале мыслящее эго – чувственное многообразие восприятия ».[216]
По сути дела, это попытка сформулировать альтернативу взгляду на истинное знание как на текст, транслируемый в неизменном виде вне зависимости от качеств его носителей и средств коммуникации. В рамках данной традиции живой человек, как конечное и соматическое существо, не признаётся в качестве независимого творца знания о мироздании. Его чувственный опыт в лучшем случае рассматривается как некая «подпорка» для теоретизирующей функции разума.
Отметим, что источником любого нового знания, обретающего словесную форму, является конкретный индивидуум, т. е. не некий обезличенный разум, существующий в ничего не значащем телесном носителе, а целостное телесное существо во всей полноте его индивидуального бытия. В религиозно-философской практике многих народов непосредственное индивидуальное знание человека о мире всегда играло большую роль. Особенно отчётливо понимание важности такого индивидуального знания-становления осознавалось в практике обучения традиционным искусствам и ремёслам в странах Индийского и Китайского культурного ареала. Безвременно ушедший из жизни индолог В. С. Семенцов так обозначил важность нетекстовой передачи жизненно важных аспектов знания: «Священный текст, при всём безграничном к нему уважении, играл в обучении скорее подчинённую, инструментальную роль: главной же целью было воспроизводство не текста, но личности учителя – новое, духовное рождение от него ученика».[217]
Дальний Восток также уделял этому личностному (присущему всем людям без исключения и потому наиболее общему) аспекту знания о мире много внимания. В учении даосов (Лао-Цзы, Чжуан-Цзы) прокламируется такой идеал поведения, как увэй – недеяние. В понятии увэй подчёркивается ненарушение естественной природной процессуальности, частью которой является «истинный человек» (мабито), понимающий всем своим существом, что уместно, а что идёт вразрез с природным порядком. Такое внутреннее знание того, «как надо», считалось результатом улавливания мудрецом бесформенных дуновений Дао, не выделенных из динамики природных метаморфоз. Чжуан-Цзы обозначил две ступени непосредственного знания о мире: первая – это «встроенность» в мировой природный континуум, вторая – деятельность профессионала, прошедшего длительную выучку и вследствие этого поднявшегося на новую ступень непосредственного знания о себе и мире. Знание профессионала, действующего свободно, «как природа», но тем не менее включившего в свой арсенал и текстуально или словесно сформулированные правила мастерства, – это высший тип знания о мире. По словам учёного XX века, американца М. Полани, «приобретая интеллектуальный или моторный навык, мы достигаем молчаливого понимания, родственного тому внеязыковому пониманию, с которым мы сталкиваемся у животных».[218]
Изучение классиков китайской мысли позволил С. М. Эйзенштейну сформулировать ценную идею: «Науки Китая построены не по типу научных систем, а по образу и подобию художественных произведений».[219] Эйзенштейн не мог знать, что, например, даосские трактаты распевались, но тем удивительнее глубина его видения проблемы: он обосновывает тезис, что логическое, научное мышление, считающееся истинным видом знания на Западе, вовсе не является таковым в Китае, где преобладает «эстетическое», чувственно воплощённое измерение знания о мире. В буддийской практике монастырской жизни, как и в практике традиционных искусств, в том числе боевых, непосредственно, от учителя – ученику, передаваемое знание также считалось основополагающим, тогда как тексты отцов-основателей, хотя и почитались как сокровище, охраняющее Дом (школу), выполняли вспомогательную роль.
В учении отцов православия тоже содержится немало свидетельств признания тесной связи состояний ума и тела. Сама практика аскетической жизни (ограничения главных телесных потребностей) являлась одним из действенных средств совершенствования и одухотворения «внутреннего человека», открытого для Бога и мира в добромыслии и добродетельности. В этом было его отличие от «внешнего человека», соблюдающего религиозные правила на чисто «внешнем», формальном уровне.
В обычной, так сказать, профанной, жизни мы часто оказываемся в ситуации, когда надо действовать «всем телом», не раздумывая, в рамках «аутопоэзиса» – самосозидания и одновременно самопознания, в едином «жизненном акте». В этот момент истина жизни становится нашим внутренним переживанием. По точному наблюдению Л. Г. Пугачёвой, «в режиме актуального бытия, когда нет времени для логического анализа, именно тело тонким изменением своего состояния показывает, что следует говорить и делать, а что нет».[220] Таковы ситуации выбора в экстремальных условиях («пограничные ситуации» в экзистенциализме), поединков в боевых искусствах, общения в непредсказуемых обстоятельствах и пр.
«Телесный модус» разума важен и в ситуациях обучения мастерству или овладения сложным навыком (например, обучения иероглифической скорописи или навыком вождения автомобиля), когда текста инструкции совершенно недостаточно. В таких случаях мастер обучает не только и не столько словом, сколько собственным примером, буквально «вживляя» своё знание-умение в целостное, телесно-разумное бытие ученика. Например, «при традиционном обучении письму наставник также, выводя идеограммы, брал руку ребёнка в свою, чтобы "дать ему почувствовать". Ребёнок усваивал ощущение, возникающее при управляемых ритмичных движениях, прежде чем начинал узнавать иероглифы и тем более писать их».[221] Наиболее полно представление о роли невербализуемой основы мироздания и человека реализуется в учении дзэн (кит. чань) – буддизма. Согласно этому учению, переживание синхронности индивидуальной жизни и природного континуума приводит к сатори – просветлению и является актом преображения индивидуума, обретения им нового качества. Хотя подобное состояние является итогом внутреннего переживания буддийского монаха, опытный мастер дзэн по мельчайшим, ему одному видимым нюансам поведения, может оценить меру такого преображения.
Традиция непосредственной невербализуемой – от учителя к ученику – передачи сакрального знания в начале VI в. была перенесена из Индии в Китай. В Китае данная традиция обогатилась идеями даосского увэй, о котором мы упоминали выше, – учения о невмешательстве в естественный порядок Дао и о том, что совершенный природный человек способствует гармонизации Поднебесной («Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок»[222]). Это учение стало основой мировоззрения художников «ветра и потока» – фэнлю, которые считали, что цель искусства состоит в передаче по-детски непосредственного, индивидуального постижения-переживания художником тончайших изменений природного континуума.[223]
Такое переживание, синхронизированное с движением универсума, находит отражение в спонтанном творческом акте, происходящем без оглядки на какие-либо нормы или ритуалы, в акте самостановления-самопознания, когда факт обретения знания проявляется в жесте и поступке и не нуждается в словесном выражении («знающий не говорит, говорящий не знает»). Тем не менее, адепты даосизма и дзэн-буддизма, утверждая таким образом первичность недискурсивного знания, признавали и значимость текстов, принадлежащих почитаемым учителям. Что же касается конфуцианства, то оно воплотилось главным образом в системе этики и социальной организации стран Дальнего Востока и опиралось на сакральные тексты «Девятикнижия», оформившегося к эпохе Тан (VI – X вв.). Конфуцианство прокламировало идеал совершенномудрого правителя, который своим праведным, человеколюбивым и ответственным поведением гармонизирует положение дел в Поднебесной. Несправедливый, жестокосердный, жадный правитель, наоборот, нарушает данный Небом порядок и становится причиной стихийных бедствий.
Обратим внимание на тот факт, что дальневосточная мысль выделяла позицию «участника» как истинную, противопоставляя ей позицию «наблюдателя», характерную как для обыденного сознания, так и для знания текстового, информативного. В рамках японской духовной традиции данная тенденция наиболее ярко представлена в даосизме и дзэн-буддизме. Дзэнские практики монашеской дисциплины способствовали актуализации истинного знания человека о мире и о себе. В результате таких практик (а сюда входили и рутинный труд, и беседы с мастером, и раздумья над парадоксальными задачами, и даже жестокие физические наказания), внимание адепта дзэн-буддизма направлялось в сторону «подкладки» бытия, незаметной в обычной жизни и даже в теоретических рассуждениях о мире; направлялось на личностное, не передаваемое другому, но безусловно присутствующее в каждом живом существе целостное «телесное» знание.
В мыслительной традиции Запада такое знание тоже существовало и культивировалось в практиках отцов церкви (в исихазме). Проблемы «живого телесного знания», знания «участника» коснулся в романе «Война и мир» и Л. Н. Толстой. Рассуждая о неправомерности критических оценок войны 1812-го года со стороны современных ему историков, он отмечает разницу позиций непосредственных участников событий (Кутузов и Александр), принимавших решения в режиме ответственности «здесь и теперь» и наблюдателя, склонившегося через 50 лет над картой боевых действий и описывающего события прошлого.
Следуя логике тогдашней науки, Толстой рассматривает в тексте романа соотношение знания отчуждённого, объективно-безличностного, дискурсивного, научно-теоретического, т. е. знания-информации, с одной стороны, и знания непосредственного, обыденного, личностного, знания-состояния – с другой, как соотношение необходимости и свободы в жизни человека. Ему удаётся сформулировать суть проблемы: несводимость одного типа знания человека о самом себе и о мире к другому. Толстой обозначает позицию «участника» как «сознание», как «мгновенное, неопределимое ощущение жизни», а позицию наблюдателя – как «разум»: «Сознание это есть совершенно отдельный и независимый от разума источник самопознания. Через разум человек наблюдает сам себя; но знает он сам себя только через сознание. Без сознания себя немыслимо и никакое наблюдение и приложение разума. Для того чтобы понимать, наблюдать, умозаключать, человек должен прежде сознавать себя живущим».[224]
То есть русский гений тонко подметил, что и в онтогенезе, и в филогенезе непосредственное, «телесное» осознание человеком своего живого присутствия в мире («я здесь») исторически предшествует любому другому, опосредствованному языком и текстом, знанию о себе и окружающем. Осознание себя живым присутствием отождествляется автором «Войны и мира» со свободой: «Вопрос состоит в том, что, глядя на человека, как на предмет наблюдения с какой бы то ни было точки зрения, – богословской, исторической, этической, философской, мы находим общий закон необходимости, которому он подлежит так же, как и всё существующее. Глядя же на него из себя, как на то, что мы сознаём, мы чувствуем себя свободными».[225] И далее: «Если бы сознание свободы не было отдельным и независимым от разума источником самопознания, оно бы подчинялось рассуждению и опыту; но в действительности такого подчинения никогда не бывает».[226] Однако сознание «я здесь» – это и есть внутренний опыт, являющийся основой всякого другого, более сложного и систематического знания человека. Вследствие интровертности установок чань– или дзэн-буддизма интуиция почитается на Востоке как вершина познавательных способностей человека. Неслучайно здесь так распространена практика психотренинга, нацеленная на постепенное «снятие» всех слоёв личного я вплоть до полного элиминирования я-сознания и погружения в глубины «телесного модуса» разума, где все преграды между миром я и не-я растворяются.
Главным способом постижения мирового континуума на Востоке, как мы уже сказали, считается сатори – мистическая интуиция. Однако, по свидетельству немецкого учёного Е. Херригеля (1884–1955), существует тонкая грань между сатори и мистической интуицией в западно-христианской традиции. «В европейской мистике, – пишет Херригель, – самость не растворяется окончательно – в Боге, в Божестве, в том, с чем и где совершается unio, как бы оно ни называлось… Напротив, самость спасается, получает прощение и подтверждение своего бытия».[227] Человек даже после акта unio продолжает быть «наблюдателем» над природой. Единение с изначальной природой в даосско-дзэнской культуре постоянно, и чем больше самость растворяется в природном континууме, тем истинней становится её, самости, изначальное бытие.
Человек, как малая часть природы, чувствует и воспринимает природные метаморфозы сердцем. Сердце, воспринявшее движение дао в ритмах природы, исполнено её подвижного очарования и стремится выразить его. Японские живописцы-теоретики следовали в этом китайским трудам по живописи и каллиграфии, трактующим сердце как источник, корень искусства.[228] На сердце как на ментально-сенситивный центр творчества указывали также основоположники театрального искусства Но и отцы-основатели чайного ритуала тяною.[229]
На Дальнем Востоке одним из способов погружения в природный континуум считалось странствие.[230] Пускаясь в путешествие, монах или художник из сторонних наблюдателей за чередованием времён года и картин природы превращались в непосредственных участников её тончайших перемен. Труд путешественника активизировал телесный аспект разума, заставляя забыть о лишних прихотях ума, о тщете мирской славы. «Телесный модус» разума и выступал тем необходимым творческим зарядом, который, постепенно накапливаясь в процессе тяжелого рутинного труда Пути, выплёскивался в спонтанном характере творческого акта. «Вхождение» в поток природного бытия, как проявление смирения, самопринижения индивидуума, в действительности расширяло его я, стимулировало творческую активность. Поэтому выходило, что художник творит как природа. В традиционной эстетике гэйдо художник только тогда становится истинным мастером, когда, осознав разумом своего тела единство с природным континуумом, начинает действовать как проводник «бессчётных утончённостей» жизни, как самый прилежный её ученик.
В эстетике гэйдо образ природы – центральный в полном смысле слова. Это касается не только тематики творчества традиционных художников, т. е. сугубо содержательного момента. Сама художественная форма также тяготеет к природным образцам. Буддийская эстетическая традиция гэйдо основана на концепции Пустотности истинно-сущего, а также на идее тождества сансары и нирваны – основной идее самой почитаемой в Японии «Сутры лотоса». Суть её заключается в том, что «в эмпирическом мы встречаемся с тем же абсолютным, только в другой форме, а, следовательно, сансара и нирвана в сущности одно и то же».[231] Дальнейшим развитием этой идеи была разработка доктрины о Будде в теле Закона как едином абсолютном, а значит, безграничном и безвременно́м начале, которое является истинным видом всех дел и вещей.
Среда обитания выступает в мировосприятии средневековых художников и литераторов Японии как манифестация Будды, одно из его превращенных тел (кэдзин).[232] Прозаические и драматургические произведения традиционного искусства восприняли прежде всего содержательную сторону буддийского учения, поэтому персонажи пьес Но или герои средневековых романов открыто цитируют наиболее популярные сутры.
Что же касается Пустотности буддийского Абсолюта, то она непостижимым образом явлена в мириадах дел и вещей, и задача художника гэйдо – отобразить эту в высшей степени абстрактную идею в конкретном образе. Для обозначения идеи Пустотности в различных видах традиционного искусства гэйдо были найдены специальные приёмы. В монохромной живописи это ничем не заполненное пространство. Пустая сцена, паузы и фиксированные позы – в традиционном театре. Однако ничто не может сравниться в этом отношении с образным строем буддийских сухих садов. В архитектонике японского сада, как и во всей дзэнской эстетике роль паузы-молчания – очень значительна. Неслучайно среди всех типов садовой композиции особое значение имеют «пустые» сады, состоящие в основном из простой площадки, засыпанной белой галькой.[233]
На Востоке взаимодействие с природой отражало дорефлексивный, дотеоретический, дознаковый контакт с невыразимой основой Бытия. Оно сознательно осуществлялось на Пути, являющемся одновременно истинным путем жизни и путем профессионального становления. Однако было непросто достичь «истинного знания» человеку, переставшему быть чисто природным, животным существом и достигшему определённого культурного уровня, воспринимающего мир главным образом в знаковом, текстовом виде. Нелегко было ощутить себя непосредственной частью невыразимого порядка бытия как основы мироздания.
Достижение истинного знания требовало долгого подготовительного периода, рутинного, тяжёлого «послушания» (наставнику – в монастыре, главе «Дома» – в традиционном искусстве). Безупречное владение техническими навыками мастерства и соблюдение принятых в монастыре или Доме ритуалов достигалось при постоянном контроле со стороны признанного авторитета и сопровождалось духовным ростом ученика. Это было совершенно необходимое условие для наступающего неожиданно просветления, «глубокого видения» мира и себя в нём в непрерывном текучем становлении. При этом происходил «скачок» с уровня рассудочного дискурсивного знания на уровень телесного осознания единства мирового континуума.
«Эстетическое перетекание» Идзири Масуро как главный атрибут традиционного искусства
Видный учёный-эстетик, представитель так называемой Киотской школы Идзири Масуро (род. 1932), известен эстетической концепцией, получившей признание в академических кругах Японии.[234] Стержневое понятие эстетики Идзири, каёи, т. е. перетекание, имеет целый спектр оттенков смысла. В общекультурном измерении это прежде всего синто-буддийская контаминация, произошедшая в эпоху Хэйан: взаимопроникновение синтоистских и буддийских воззрений. В сфере искусства это нефиксированная форма традиционной японской архитектуры, где перетекание означает не только возможность моделирования внутреннего пространства помещения, но и открытость природному ландшафту Перетекание в собственно эстетическом контексте – это, во-первых, многоуровневость произведения искусства, подразумевающая, помимо внешних, видимых форм, ещё и глубокий, явно не выраженный, но тем не менее, присутствующий духовный уровень, связанный с даос ско-буддийской и конфуцианской основой мировоззрения. Таким образом, понятие перетекания имеет отношение и к мировоззренческой сфере, и к сфере культурного восприятия, придавая этому восприятию многомерность и объём.
Теория эстетики перетекания Идзири Масуро во многом перекликается с понятием «колеблющегося способа существования эстетического предмета» немецкого философа Н. Гартмана (1882–1950). «Эстетическое созерцание, – писал Гартман, – это только наполовину чувственное созерцание. Оно возвышается над чувственным созерцанием в качестве созерцания второго порядка, такого созерцания, которое совершается через чувственное впечатление, но не растворяется в нем и существует в явной самостоятельности по отношению к нему.
Такое другое созерцание не является чем-то вроде созерцания сущности, или платоновского понимания всего общего, или интуиции в смысле высшей ступени познания. Оно, скорее всего, остаётся обращенным к единичному в его неповторимости и индивидуальности, но оно видит в нём то, что не схватывает непосредственно чувствами: в ландшафте – момент настроения, в человеке – момент душевного состояния, страдания или страсти, в какой-нибудь разыгрываемой сцене – момент конфликта».[235]
Взаимодействие двух планов восприятия ощущается субъектом как некая многомерность самого воспринимаемого произведения, когда сквозь «поверхностный слой» (краски, звуки, объёмы, движения тела) проступает «слой» эмоций, настроений, идей и прочего – невербализованного и непосредственно не явленного. Эти два слоя восприятия равноценны и не существуют один без другого. Воспринимаясь одновременно, они «сливаются» в единое восприятие художественного произведения. «Прекрасное есть предмет двоякого рода»,[236] – говорит Гартман. И отмечает «в высшей степени своеобразный, как бы неопределённый, колеблющийся способ существования эстетического предмета».[237] К аналогичным выводам приходит и Идзири Масуро, вводя в оборот понятие перетекания-каёи для отражения «колеблющегося способа существования» произведения искусства.
По мнению Идзири, каёи помогает определить особенность японского эстетического сознания и реальной практики в искусствах гэйдо. Чтобы, с одной стороны, подчеркнуть, а с другой – объяснить специфику гэйдо, Идзири наделяет один из составляющих это слово иероглифов – до «новым измерением», новым смыслом: согласно японскому эстетику, иероглиф до в сочетании гэйдо следует трактовать не просто как «путь» (мити), но как «путь перетекания одного в другое» (каёи мити).
Если Н. Гартман в своём исследовании колебания-перетекания имел в виду лишь сферу эстетического, то у Идзири каёи становится универсально-мировоззренческим принципом, характеризующим уникальность японского менталитета. Наиболее наглядно, утверждает Идзири, феномен каёи представлен в двойственном характере божеств, почитаемых японцами. К примеру, многие буддийские святилища посвящены отнюдь не буддийскому, а синтоистскому богу Хатиману «В подобном способе почитания – примирении богов синто и буддийских божеств, – свойственном японцам, и нашел наглядное отражение принцип каёи. Здесь мы видим перетекание одних богов в другие».[238]
Конечно, мирное сосуществование религиозных верований (и как следствие – своеобразный синтез божеств разных религий) наблюдается во многих регионах мира и история знает немало подобных примеров. Вспомним перетекание греческих и римских богов, «нетождественное тождество» ипостасей Святой Троицы. В Древнем Риме помимо полного слияния божеств практиковалось также и частичное прибавление к местному пантеону различных иноземных богов: Озириса, Астарты, Мирты, Яхве и др. К перетекающим божествам можно отнести и индуистских Брахму, Шиву и Вишну, составляющих триединство тримурти.[239] Частичное отождествление языческих божеств и христианских святых определённое время бытовало в разных странах при введении христианства. Некоторые «совмещенные» обряды – например, Пасха, вобравшая в себя и языческие, и христианские черты, – прочно укрепились в собственно христианской традиции.
В каждом конкретном случае форма и характер такого религиозного перетекания имели и имеют свои политические, экономические и духовные причины. Но для Японии, по мнению профессора Идзири, такое перетекание – одно из проявлений универсального принципа каёи, присущего всем сферам японской жизни: «Примирение богов и Будд было в определенном смысле размыванием границ. Нечто подобное прослеживается у нас и в плане перетекания китайского и японского моментов в нашей национальной культуре; в отношениях человека с божеством и в отношениях человеческой души и природы; и в отношениях между отдельными индивидуумами, а также в отношении личности и общества».[240]
Эта мысль выглядит скорее как метафора, тем не менее, мы считаем нужным отметить неправомерность приписывания подобной «культурной эндемичности» – одной лишь Японии, или главным образом Японии. Даже самый поверхностный экскурс в историю культурного взаимодействия народов убеждает нас в несостоятельности подобной точки зрения. Влияние индийской, византийской, римской и других культур на материальную и духовную культуру сопредельных государств было весьма широко. Поэтому житель Непала, Индонезии, Шри-Ланки может с не меньшим, чем японец, основанием говорить о перетекании в рамках своей культуры не только богов – персонажей индийских религий и местных культов, но и мифологических сюжетов, художественных приемов и т. д.
Впрочем, Идзири Масуро эту мысль не развивает и не обосновывает. Свою главную задачу он видит в том, чтобы показать феномен перетекания в традиционном японском искусстве гэйдо. Согласно учёному, перетекание составляет саму сердцевину художественного отношения японцев к окружающему миру.
Прежде всего, это касается феномена каёи в быту японца, организации жилого помещения, его традиционной полифункциональности, а также свободного моделирования не только внутреннего, но и (частично) внешнего пространства в народной архитектуре. Вот что пишет об этом Идзири: «Каждый чувствует, что особенностью японского жилища по сравнению с западным является (будь то гостиная или чайный домик) редкостное отношение перетекания между внутренним и внешним».[241] В отличие от западного жилища, где стены резко отделяют домашний интерьер от внешнего мира, в Японии внешнее и внутреннее пространства «организованы таким образом, что глубоко проникают друг в друга, обнаруживая тесную взаимосвязь».[242] Эта взаимосвязь локализуется в специальном месте нокисита или нокиба (под карнизом), образованном крышей, которая выступает в виде навеса на 1,5–2 метра от стены дома, и деревянным настилом, опоясывающим дом по периметру. Именно здесь пространство оказывается отчасти замкнутым (сверху – карниз, снизу – настил, с одного из боков – раздвижные стены-перегородки фусума), а отчасти и открытом (всегда отсутствует вторая боковая стена, зачастую бывает открыта фусума). И именно эта часть жилища использовалась традиционной архитектурой для расширения связи между внутренним и внешним пространствами, раздвигая границы жилища вплоть до сада, окружающего пейзажа и даже до Луны.
Перетекание пространства происходит и внутри японского жилища. Размеры и форма комнат не являются чётко зафиксированными. Они могут изменяться благодаря использованию скользящих панелей: перегородок сёдзи, ширм бёбу и бамбуковых штор сударэ. Последние создают ощущение большей или меньшей связанности с внешним миром путём игры света и тени. Сударэ то целиком открывают помещение, предоставляя солнцу и ветру пронизывать его насквозь, то, наоборот, отгораживают пространство дома, «укутывая» его в покровы темноты. «Жилище, где одно и то же пространство имеет несколько измерений, – подчеркивает Идзири Масуро, – соответствует японскому мироощущению. Японец испытывает в таких условиях особый комфорт».[243] Аналогичное значение для организации пространства сада и его перетекания во внешнюю среду имеет так называемый плетёный мир изгородей, хворостяных дверей и прочих атрибутов традиционного японского дворика нива. Таким образом, пространство в народной японской архитектуре как бы расслаивается, множится, перетекая в другие пространства и переплетаясь с ними.
Если в быту идея каёи осуществляется в восприятии и устроении пространства как полифункциональной структуры, то в сфере искусства она обретает временное и идейно-эмоциональное измерения. Последнее, подчеркивает Идзири, сформировалось под непосредственным влиянием религии: произведения, создававшиеся в рамках гэйдо, имели в качестве духовной подоплёки буддийско-синтоистские идеи, и в сознании японца восприятие такого искусства, непременно вызывало соответствующие религиозные образы. Осуществлялось перетекание от явленного, феноменального слоя произведения к глубинному, идейно-эмоциональному, намёк на который всегда, так или иначе, содержался в явленном «слое».
На роль религии в развитии искусства учёные указывали неоднократно. По верному замечанию Н. Гартмана, «большое искусство исторически вырастало преимущественно на почве высокоразвитой религиозной жизни, даже возникая первоначально как её выражение».[244] Тем не менее, природа религиозного и художественного различна и осознание этого приходит к мыслителям, в том числе и японским, давно. Кукай (настоящее имя Кобо Дайси, 774–835), основатель эзотерического буддизма Сингон, чётко различал истину (сфера религии) и красоту (сфера искусства) на бытовом уровне и объединял их в эзотерической области, поскольку искусство тоже наделено изначальной природой Будды.[245]
В средневековой Японии духовная жизнь страны определялась буддизмом, синтоизмом и конфуцианством (идеи даосизма также имели место, но в сочетании, как правило, с дзэн-буддизмом), и эти учения находили постоянное отражение в японском искусстве, иногда явное – когда имело место прямое включение священных текстов в ткань художественного произведения. Цитирование сутр (особенно Лотосовой), изречений патриархов и т. п. являлось одним из действенных средств создания художественного образа. Иногда религиозная основа произведения не была явной, но звучащие в душе мастера духовные мотивы привносили в его творения особую, прекрасно улавливаемую средневековым японцем атмосферу. Пользуясь гартмановской терминологией, можно сказать, что здесь каёи обнаруживается как взаимообогащение религиозного и художественного в рамках «созерцания второго порядка».
На своеобразную религиозность японского традиционного искусства указывают многие отечественные и зарубежные учёные. Так, академик Н. И. Конрад, размышляя о японской средневековой культуре, писал, что в ней всегда обнаруживается мудрая сентенция, «звучащая отзвуками голосов мудрецов или учителей буддизма своих и зарубежных, или же из соседнего Китая. Проникновенное вещание буддийских пастырей, отшельников, монахов, апостолов, богословов, а то и чёткие бесспорно здравые формулы китайских моралистов, политиков и социологов, – они то и дело находят себе прибежище в строчках письма, иные в буквальной форме, иные несколько претворённые, приспособленные, иные же только дают жизнь мысли самого автора, вдыхают душу в его телесное творение».[246]
В. Н. Горегляд приводит мнение известного религиоведа Анэсаки Масахару о том, что Сутра Лотоса играла в японской литературе «роль очень похожую на роль Библии в английской литературе».[247] Н. Г. Анарина, анализируя пьесы театра Но, отмечает, что все религии и учения наслаиваются и взаимопроникают в этой средневековой японской драматургии, порождая неисчислимое количество вариантов идейных и эмоциональных ассоциаций, некое «духовное мерцание» за пределами самого действия.[248]
Если обратиться к теории Идзири Масуро, то здесь мы имеем дело с одним из вариантов перетекания, когда внутренний план – религиозные идеи – воплощаются в плане явленном – в эмоциях и настроениях героев художественного произведения. Но согласно Идзири, чуть ли не самую важную роль перетекание играет в традиционных видах японского искусства (чайная церемония или искусство составления букета): «…если говорить о „мире цветка“, хана-но сэкай, то поначалу это был «цветок, приносимый на жертвенный алтарь Будде». Но в конце периода Намбокутё (XIV в.) его предназначение стало меняться так же, как и менялся архитектурный стиль. На протяжении периода Муромати мир цветка отделялся от религиозной формы и стал видом искусства – цветком».[249]
Действительно, искусство икэбаны, называемой Идзири Масуро «миром цветка», прошло период, так сказать, эмбрионального развития в ритуале пожертвования аранжированных цветов Будде (букет ставился перед его статуей или изображением). Сам ритуал пришел в Японию из соседнего Китая вместе с буддийской церковной организацией. Народная память крепко и прочно связывает это искусство именно с буддизмом и отчасти – с китайскими учениями. Вот почему богатство эмоциональных и идейных ассоциаций в икэбане имеет широкий спектр: от космологических представлений древних китайцев о соотношении потенций Неба, Земли и Человека до иллюзии буддийского алтаря. По замечанию философа, искусство икэбаны, «воспринимаемое как чистое прекрасное искусство, отделившееся от религии, в то же время остаётся исполненным глубокой религиозности».[250] Слияние в нём внутреннего «религиозного» плана с внешним вызывает у японца, созерцающего «цветочное произведение», сложные ассоциации. Они придают как его восприятию, так и самому художественному произведению многомерность, слоистость, где каждое измерение соотнесено с другими и перетекает в другое.
Духовная подоплёка чайной церемонии тяною оказывается ещё более сложной. Разумеется, как правильно отмечают все исследователи, на этот вид традиционного искусства оказал влияние Дзэн-буддизм. Его присутствие ощутимо в самом духе печальной изысканности, предельного лаконизма убранства чайного домика и чайной утвари. Но Идзири утверждает, что тяною гораздо ближе связана не с буддизмом, а с синтоизмом, причём эта связь прослеживается не только на эмоциональном, но и, так сказать, на материальном уровне.
В старину синтоистские святилища располагались в лесной чаще. Классический пример – одно из древнейших в Японии святилище богини Солнца Аматэрасу в городе Исэ. Такое же расположение храмов по возможности сохранялось и в Новое время. Так, синтоистский храм Мэйдзи Дзингу построенный в конце XIX в. в центре Токио, находился в глубине лесного массива. Разумеется, путь, преодолеваемый посетителем, направляющимся к главному зданию храма, здесь несравнимо короче, чем аналогичная дорога к храму в Исэ. Когда-то на пути к главному зданию храма – сядэн человеку предстояло преодолеть пешком изрядное расстояние. Считалось, что при этом он отрешается от бремени повседневности. Ворота – тории, которых было несколько на этом пути, не только указывали правильность дороги, но и символизировали ступени духовного освобождения от обыденной суеты. Здесь, по словам учёного, «совершалась подготовка к тому важному, с чем не приходится сталкиваться в быту».[251]
Этот путь пешком, как своего рода аскеза, в сочетании с интенсивной работой души предполагал понимание пути как духовной работы. Путь к чайному домику – это символ того пути, который должен был проделать каждый, совершающий паломничество в синтоистский храм. «Чайная комната, – пишет японский учёный, – это в прямом смысле слова сцена, подмостки чайной церемонии. Это такое место, которое не просто физически наличествует в определённом пространстве, но как бы превосходит материальную ограниченность, как бы выходит за свои пределы в другое измерение… Сюда входят, сгибаясь и садясь на корточки, как бы преодолев – в душе – долгий и извилистый путь опыта и аскезы, начавшийся с отстранения души – от повседневности – при входе в ворота».[252]
Идзири подчеркивает качественно иной, «одухотворенный» уро вень чайной церемонии по отношению к повседневности, и это очень важно. Процесс чаепития отнюдь не ограничивался физическими потребностями участников. Терпкий вкус чая сообщал им особое настроение заброшенности, мягкой грусти, просветлённости, очищенности души. Терпкость чая – это один из необходимых компонентов для возникновения состояния ваби-саби,[253] наряду с каллиграфической надписью в токонома, наряду с шершавой поверхностью чайной чашки, наряду с увядшим цветком в изысканной вазе, наряду с полными печального артистизма движениями мастера, ведущего церемонию подобно дирижеру.
На наш взгляд, приведенный перечень элементов чайной церемонии выражает не что иное, как определённый художественный идеал. Несомненно, религии всех регионов Земли активно использовали искусство для эмоционального воздействия на человека, но это вовсе не означает, что религиозная догма играет определяющую роль для формирования основных принципов используемого ею искусства. Сама «религиозная жизнь, – утверждает Н. Гартман, – более всего другого нуждается в выражении при помощи искусства, потому что её содержание не выразимо средствами непосредственного познания. Искусства обладают волшебным свойством придавать зримый облик неведомому, они выражают то, что простая проповедь или иная формулировка – собственно говоря, догма – выразить не могут».[254]
Оставим теперь религиозный компонент «вторичного созерцания» и обратимся к собственно искусству. Пример с проходом к чайному павильону демонстрирует нам один из вариантов именно такого перетекания-каёи в область другого искусства – а именно, храмовой архитектуры.
В самой чайной церемонии присутствуют (но не сливаются) разные компоненты, воздействующие на эмоции человека. Это заимствования из других искусств: живописи, каллиграфии, икэбаны, архитектуры, искусства аранжировки сада, а также разных прикладных искусств (гончарного и т. п.).
Если в таких синтетических искусствах, как театр или чайная церемония для создания «вторичного созерцания» используются иные виды искусства, то в традиционной поэзии с этой целью используются разные жанры, в частности, жанры танка, рэнга, хокку. Жанр рэнга предполагал участие сразу нескольких мастеров стихосложения, из которых один слагал первое трёхстишие, второй продолжал и развивал его идею и слагал следующее двустишие, третий, опять же, исходя из темы, слагал трёхстишие – и так далее. При этом каждое двустишие служило концовкой для предыдущего и началом для последующего трёхстиший. Для создания объёмности образа в рэнга активно использовались приёмы заимствования из других поэтических жанров. Основная, явленная часть перетекающего стиха имела «эмоциональную подкладку», глубинный уровень, намёк на который давался в первом, внешнем, стихотворном слое. Приведём пример перетекания в иной жанр. Поэт VII в. экс-император Готоба, живший монахом в окрестностях столицы, сочинил, находясь на берегу реки Минасэ, известное пятистишие танка:
Весенний день миновал, Дымкой застланы горные склоны За рекой Минасэ. Как же думать я мог: «Лишь осенью вечер прекрасен»?[255] (Перевод В. Марковой)В 1488 г., находясь на том же самом месте, три поэта – Соги, Сёхаку и Сотё – сочинили знаменитую рэнга, поводом для которой и послужило приведённое пятистишие-танка экс-императора. Процесс перетекания мы наблюдаем в первом трёхстишии, принадлежащем Соги, который начал рэнга, практически с цитаты Готоба. (При этом в данном стихотворении проявился ещё один вид перетекания: на индивидуальном уровне – от мастера к мастеру).
Вершина в снегу, Но дымкой овеяны склоны. Вечер померк. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Соги Льются талые воды вдали Пахнет сливовым цветом селенье. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Сёхаку Там, где, дрожа на ветру, Теснятся прибрежные ивы, Где так заметна весна… $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Сотё Чуть слышные всплески багра — Лодка плывет на рассвете. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Соги Что там? Проблеск луны? Еще осталась в туманах, Темных, как ночь. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Сёхаку Иней осыпал луга. Осень уже на подходе. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Сотё[256] (Перевод В.Марковой)Такой вид каёи в японской поэтике получил название хонка дори (букв. «взятие оригинала», т. е. использование части произведения другого поэта, обычно замечательного мастера прошлого). Целью такого приёма является, по определению И. А. Борониной, «воссоздание атмосферы поэтического прошлого и расширение ассоциативного фона стихотворения за счёт содержания произведения-прототипа».[257] В хонка дори нашел воплощение один из главных заимствованных японцами приёмов китайской художественной мысли – следование «благородному духу старины».
Примером жанрового перетекания пятистишия в трехстишие может быть танка поэта Кагава Кагэки (1768–1843):
Пусть я не постиг Сокровенной глубины Старого пруда, Но и нынче различаю Всплеск в тишине.[258] (Перевод А. Долина)При прочтении этих стихов каждый японец мысленно обратился к знаменитому хокку гениального поэта Мацуо Басё (1644–1694):
Старый пруд! Прыгнула лягушка. Всплеск воды.[259] (Перевод В. Марковой)Очевидно, что трёхстишие Басё послужило хонка дори для пятистишия Кагавы.
Как утверждает Идзири, понятие хонка дори является конкретизацией в японской традиционной поэзии общемировоззренческого принципа каёи. Причём хонка дори жёстко «привязывает» основное произведение к совершенно определённому, единственному первоисточнику.
Для более мягкого «привязывания» существует ещё один прием – это макура котоба, или «постоянный эпитет». «Постоянные эпитеты» возникли уже в период создания поэтической антологии «Манъёсю» и активно использовались поэтами вплоть до эпохи Мэйдзи. (Впрочем, и в наши дни традиционалистски – ориентированные авторы нередко пользуются обоими приемами: и хонка дори, и макура котоба.) Канонизированные «постоянные эпитеты» и их варианты – ута макура (постоянный топоним) и дзё (постоянное введение) помимо функции обыгрывания темы, времени года, настроения, выполняли ещё одну не явную, но существенную задачу. С их помощью в ассоциативный слой сознания читателя внедрялись образцы поэзии, в которых эти макура котоба были использованы ранее.
Макура котоба ведут свое происхождение от литургических корней японской литературы, их можно встретить в древнейших хрониках «Кодзики» и «Нихонги», а также в канонических текстах молитвословий норито, произносимых синтоистскими жрецами. Всего насчитывается около 1200 таких устойчивых словосочетаний.
Приведём для наглядности пример использования макура котоба «чёрные, как ягоды тута». Вот танка анонимного автора IV–VI вв. из национального литературного памятника «Манъёсю»:
Ночью, чёрной, как ягоды тута, Пусть туман всё от глаз скрывает И к ней далеки дороги. Передайте только скорее Весть от моей любимой.[260] (Перевод А. Е. Глускиной)Сравним с произведением другого анонимного автора VI–VIII вв., также опубликованном в «Манъёсю»:
Словно чёрные ягоды тута Черный волос твой влажен. И хоть падает снег, словно белая пелена, И бушует метель, ты пришел, мой любимый. Не напрасно тебя я так сильно любила.[261] (Перевод А. Е. Глускиной)Теперь прочтём стихотворение поэтессы Оно-но Комати из поэтической антологии IX в. «Кокинсю»:
Порою нестерпимой Становится любовная тоска. В такие ночи, Тёмные, как ягоды тута, Я надеваю наизнанку свое бельё.[262] (Перевод И. А. Борониной)И, наконец, приведём пятистишие, написанное в X в. поэтом по имени Ки-но Цураюки:
Как ягоды тута, черны Волосы были мои. Как могли они так измениться? Увидел в зеркале Белый снег.[263] (Перевод И. А. Ворониной)Традиция постоянного возвращения к старым, овеянным ветрами веков, словосочетаниям, использовавшимся многими поколениями известных и безымянных авторов, придавала стихам чувство вечности, связи с древностью. Авторы последующих эпох выбирали из творческого наследия прошлого всё, созвучное им, и актуализировали его, наделяя устоявшиеся образы новыми смысловыми и чувственными оттенками. Использование приема макура котоба создавало атмосферу пространственного, временно́го, эмоционального диалога перетекания – каёи разных авторов разных эпох.
Идзири Масуро в связи с этим замечает, что «именно там и тогда, где и когда происходило подобное перетекание, японцы переживали возвышенное, сильное чувство – и поэтому сами же создавали произведение с текучими, наслаивающимися формулами. Определённо, японцы обладают именно таким художественным сознанием».[264]
О своеобразной подвижной синтетичности японской классической культуры у Н. Г. Анариной есть точное наблюдение: «В театре Но, как и во всей классической культуре Японии, – пишет она, – искусство синтезируется неслитно, т. е. каждое из составляющих искусств остается самим собою и не образует смешанной природы с другими. Вместе с тем, искусства в нём соединены нераздельно, не составляют обособленных искусств и наиболее ярко проявляются именно в условиях спектакля».[265]
Подчеркнём, что в традиционных искусствах Японии даже отдельная деталь произведения какого-либо мастера прошлого играет гораздо более самостоятельную и активную роль, нежели аналогичная деталь в искусстве Запада.[266] Эта «слитная неслитость» целого и части в индивидуальном произведении порождает в зрителе активную «игру созерцания», продуктивного воображения, ощущение перетекания феноменального и сущного планов произведения друг в друга. Таким образом, в понятии каёи Идзири фиксирует насыщенность искусства Японии относительно большим количеством самостоятельных и активных деталей, которые, умножаясь, дают огромное количество вариантов утончённых эмоций и настроений.
Под понятие каёи философ подводит ещё несколько видов художественных феноменов, имеющих место в традиционных искусствах Японии. Прежде всего это касается «размывания границ» пространства и времени в само́й явленной части произведений. В качестве красноречивого примера такого «размывания» Идзири предлагает искусство театра Но и традиционную японскую живопись на свитках и ширмах. По его мнению, оба вида этого искусства дают образцы как пространственного, так и временно́го «размывания».
Что касается живописи, то наиболее наглядным примером являются те свитки и ширмы, где последовательно изображаются времена года, составляющие единую живописную композицию. (От себя добавим, что однопорядковым является и изображение развёрнутых панорам храмовых праздников, видов знаменитых городов и их окрестностей, эпизодов военных сражений, где также имеют место пространственно-временные переходы. Эти переходы присутствуют и при изображении на горизонтальных свитках знаменитых рек и всего того, что находится на воде и вдоль по берегам.) «Размывание границ» можно обнаружить и в каллиграфии, особенно в её скорописном варианте, когда один знак перетекает в пространстве свитка в другой, связанный с первым единым штрихом.
Что касается театра Но, то, как полагает Идзири, сама его сцена служит примером пространственно-временно́го перетекания. И мост хасигакари, по которому главный герой шествует на сцену, и ступени, спускающиеся оттуда в зрительный зал, воплощают перетекание из обыденного – в сценическое пространство. По словам японского философа, театральные подмостки Но «являют собой перетекающее многослойное пространство и время».[267] Помимо всего прочего, они символизировали прорыв в мир иной, олицетворением которого выступает сосна на задней панели сцены. Хотя это изображение совершенно конкретной сосны, росшей возле храма Касуга-дзиндзя в г. Нара, в то же время она играет роль символа божественного пространства – ками-но ёрисиро.
По мнению учёного, принцип перетекания воплощается в театре Но не только в концепции художественной образности, но также и в технике тренажа актёра, и во взаимоотношениях актёра с публикой во время спектакля. Основоположник театра Но, Дзэами Мотокиё, к примеру, в качестве одного из условий совершенствования мастерства актера выдвигал принцип рикэн-но кэн (букв. «взгляд удалённого глаза»). Он обозначает специфику самоконтроля актёра, когда последний как бы видит свою игру со стороны, представляя себя на месте зрителя, сидящего в зале. «Рикэнно кэн, – пишет Идзири, – есть перетекание актёра в зрителя».[268] И наоборот, перетекание зрителя в актера выражается в более активном поведении публики во время спектакля: она не только могла подавать реплики во время действия, но и прикасаться к костюму актера, дарить ему подарки и пр.
Таким образом, второе значение каёи у Идзири – это размывание пространственно-временных и межиндивидуальных границ как сознательный художественный приём в японском традиционном искусстве.
И, наконец, третья ипостась каёи – это перетекание в глубину хаоса непознанного, неоформленного, неявленного, таинственного. Практическим выражением такого перетекания стало странничество митиноку. Эта категория является в данном отношении особо показательной. Её более ранними вариантами считаются мити-но оку (букв. «глубь страны»), а также мити-но куни (глубинные территории страны). Мити-но куни первоначально означало совершенно конкретные провинции, знаменитые прежде всего тем, что сюда совершали паломничество буддийские монахи, бродившие в рубище, соломенных сандалиях и с сумой за плечами. Территориально мити-но куни соответствовали пять провинций, где в настоящее время находятся префектуры Фуксима, Миядзаки, Иватэ, Акита и Аомори. В древности это были относительно дикие и малонаселённые места к востоку от г. Эдо (совр. Токио). Скитаясь по горам и чащобам, монахи переносили там тяготы телесной жизни, что считалось одним из главных условий возвышения духа. Там же они могли вести отшельнический образ жизни, находя успокоение и просветление души в размышлениях и молитвах.
Трудно сказать, кто был первым художником Японии, сознательно подвергшим себя тяготам митиноку для шлифовки своего таланта и религиозного чувства и создания совершенного искусства.[269] В Японии их множество, однако, самым известным странником является, пожалуй, Мацуо Басё – знаменитый мастер трёхстиший. Случай с Басё наглядно демонстрирует перетекание высшего порядка (третьего рода по классификации Идзири). Это взаимоперетекание духовного поэтического действия и сугубо материальных скитаний; перетекание художественного творчества в образ жизни самого мастера, и наоборот. Митиноку вошло составной частью и в жизнь средневекового художника, и в жизнь его произведения: в виде ли «песни странствия» в театральном искусстве; в самой ли тематике литературных произведений, поэзии. Благодаря влиянию митиноку произошло определенное изменение художественного идеала. На смену гармонии и очарованию аварэ и тёва-би пришли более аскетичные, зато и более глубокие югэн, ваби и саби, подразумевавшие таинство и неявленность искренней красоты.
Итак, Идзири Масуро предлагает теоретической эстетике новую (правда, имеющую глубокие исторические корни) категорию – каёи, т. е. «перетекание». Это подвижная, колеблющаяся жизнь искусства как в рамках собственного существования – перетекание в другой вид, жанр, в поэтический мир другого художника-коллеги, так и за пределами собственно художественной сферы – перетекание его в другие сферы жизни, в быт и религиозную практику. На основе феномена перетекания-каёй учёный попытался объяснить специфику синтеза искусств и шире – специфику относительной «открытости» этих искусств в Японии. Однако, на наш взгляд, категориальный аппарат японского учёного недостаточен, он действует понятием каёи как «универсальной отмычкой». Но слишком широкая область применения этой категории неизбежно снижает её действенность и размывает границы её значения. Тем не менее, киотский эстетик поставил и наметил пути решения проблемы понимания специфики традиционного искусства и эстетической мысли Японии.[270]
К вопросу об особенностях дальневосточной эстетики
На исходе XX в. один из самых известных японских философов, Имамити Томонобу (1922–2012), выпустил в свет фундаментальную монографию «Эстетика Дальнего Востока», посвященную традиционной эстетике Китая и Японии.[271] Согласно позиции автора, в теоретическом осмыслении своей художественной традиции нуждается прежде всего сам Восток, чья эстетика не нашла адекватного отражения в сознании Запада и тем самым не смогла воспринять себя со стороны, объективно; обрести бытие не только «в себе», но и «для себя». Притом, что эстетика Дальнего Востока и её специфика всё ещё остаются малоизученными, до сих пор существует необходимость противостояния пока ещё влиятельному (хотя и утрачивающему былое значение) европоцентризму. Фактически, на Западе дальневосточная эстетическая мысль (я не говорю о собственно искусстве) продолжает игнорироваться. Несмотря на возрастание интереса к ней и неуклонное увеличение соответствующих публикаций (в таком, например, авторитетном издании, как «Journal of Aesthetics and Art Criticism»), до сих пор «западная» и «восточная» части единой по идее эстетической науки остаются инородными по отношению друг к другу и их сопряжение, как правило, осуществляется чисто механически.
Причина подобной несовместимости кроется (помимо разности языковой «системы координат», особенно важной для региона иероглифической культуры) ещё и в ориентации эстетики Дальнего Востока прежде всего на практику в широком смысле этого слова. Так понимаемая эстетика выступает не только в виде художественной теории, но и как практика чувств обыденной жизни человека, «разум тела», практика нравственности мастера.[272] В результате, дальневосточные эстетические категории оказываются шире западных, они обладают большей эмоциональной окрашенностью и относительностью; в них больше интуитивности и логической расплывчатости, что вызывает неприятие у рационалистических западных исследователей, воспринимающих и трактующих подобные проблемы дискурсивно.
Имамити Томонобу стремится наладить культурный диалог между Востоком и Западом и проявляет в этом деле замечательный талант владения в равной степени обоими эстетическими подходами. Играя роль переводчика, он создает и использует своеобразный «восточно-западный метаязык». В «Эстетике Дальнего Востока» Имамити вполне заслуженно называет себя систематиком.[273] Корректно, тактично, без насилия над материалом он представляет дальневосточное эстетическое наследие так, как это не удавалось другим японским эстетикам. Теоретический уровень его исследований естественно вырастает из эмпирического материала, а не навязывается извне с высоты какой-либо односторонней концепции.
Профессор рассматривает воззрения мыслителей и деятелей искусства Китая и Японии со времён древности и вплоть до XIX в., затрагивая фактически все теоретические проблемы дальневосточной культуры, покоящейся на фундаменте преимущественно китайской художественной практики и китайских общемировоззренческих концепций. В отличие от большинства исследований современных японских учёных, посвящённых как правило, тем или иным частным вопросам традиционной эстетической мысли, «Эстетика Дальнего Востока» – сочинение лаконичное, но одновременно ёмкое – является энциклопедичным трудом.
Свою задачу японский учёный видит в том, чтобы «следуя древним текстам, теоретически объяснить, каким образом художественное мышление проявилось в китайских и японских классических произведениях».[274] Предмет книги – «наука о прекрасном в строгом смысле слова»,[275] которая, как подчёркивает автор, рассматривается систематически и с общечеловеческой точки зрения. Собственно Японии отводится здесь шесть глав из девяти.
В главе «Обзор истории японской эстетики» Имамити даёт периодизацию эстетической мысли Японии и одновременно ставит проблему возможности вычленения элементов протоэстетического сознания древних японцев на основании анализов текстов первых историко-мифологических хроник Японии «Кодзики» (712), «Нихонсёки» (720) и поэтической антологии «Манъёсю» (758). В этой же главе рассматривается эволюция некоторых эстетических категорий исходя из их предлагаемых архаических вариантов.
В главе «Основополагающие качества японцев и искусство» учёный прослеживает этимологию японского понимания прекрасного, анализируя при этом феномен иероглифической письменности. Особое место отводится проблеме синтеза этического и эстетического моментов в протокатегории прекрасного. Здесь же поднимается и подробно исследуется под эстетическим углом зрения актуальная для сравнительной культурологии проблема «личность на Востоке и на Западе».
В главе «Эстетическое сознание японцев – традиции и логика» автор продолжает рассуждение о протоэстетическом знании древних японцев, нашедшем свое отражение в первых письменных памятниках VIII в. В частности, он останавливается на феномене цветовой символики, оказавшей воздействие на всю последующую историю искусства Японии. Здесь же Имамити развивает тему, впервые заявленную ещё в начале XX в. одним из основателей Токийского Института эстетики, доктором Ониси Ёсинори (1888–1959), в его работах, посвящённых, в частности, растительной природе японского понимания красоты.[276] Как и его предшественник, Имамити считает, что многие особенности японского искусства, его эстетический идеал и эстетические категории вызваны «растительным» характером японской художественной традиции.
Глава «Эстетические размышления о поэтике» – одна из самых аналитических во всей книге. Она посвящена проблеме формы в искусстве Японии. А в главе «Мацуо Басё: странствие и сон как представители ничто» рассматриваются творчество великого японского поэта и его вклад в разработку категориального аппарата японской эстетики.
Последняя глава, «Песня как посредник между классическим искусством и реальным бытием», посвящена Мотоори Норинаге (1730–1803), выдающемуся деятелю культуры эпохи Эдо, поставившему проблему самоопределения японской культуры относительно китайской и скрупулёзнейшим образом исследовавшему с этой целью все письменные памятники Японии, начиная с «Кодзики». Мотоори Норинага первым предпринял попытку научного анализа феномена японской духовности. Он не только прекрасно знал конфуцианские источники, но изучал также буддизм, синтоизм и памятники древней литературы Японии. С другой стороны, он занимался «голландоведением» (изучением западных наук) и был – насколько это было возможным в условиях полной изоляции страны – знаком с европейской мыслью. Столь весомый интеллектуальный багаж позволил ему создать произведения, которые не утратили своего значения до сих пор.[277]
В Заключении Имамити вновь подчёркивает непреходящую ценность художественного наследия Дальнего Востока и огромную важность его изучения.
Одна из главных проблем, находящихся в центре внимания Имамити, – проблема периодизации японской эстетической мысли. В мировом японоведении она до сих пор не решена до конца. Суть её японский философ формулирует так: «Можно ли писать историю искусства и эстетики, основываясь на принципе смены правящих династий, т. е. на принципе чисто политическом?».[278] Сам автор отрицательно относится к подобной методике и предлагает привести периодизацию в соответствии с принципами, близкими западной периодизации истории, положив в основание периодизации смену не династий, а способов производства и выход на авансцену новой социальной силы. При этом японский эстетик желает сохранить за этими периодами названия, принятые не на Западе, а в Японии.
На мой взгляд, данный вопрос не является принципиальным, поскольку и в Китае, и в Японии смена правящих династий обычно сопровождалась крупными сдвигами в базисном слое социальной жизни. К тому же «династийный» принцип периодизации больше соответствует историографической традиции этих двух стран. Что же касается собственно художественной и эстетической мысли, то она, развиваясь по своим автономным законам, была связана с экономико-политической жизнью лишь косвенно.
Какую же периодизацию истории японской культуры предлагает Имамити Томонобу? Первый период, Кодай – с глубокой древности до V в. – отмечен господством древних культур: Дзёмон и Яёй. Главная его особенность в том, что при отсутствии письменности, налицо уже устная литература.
Следующий период – Тюсэй. Это времена раннего феодализма (прибл. VI–VIII вв.). В традиционной периодизации им соответствуют эпохи Асука – Нара – Хэйан. «Тюсэй ознаменован появлением письменности, ярко выраженным влиянием Китая на духовную жизнь страны, культивированием утончённости в быту родовой знати. Это период возникновения и расцвета нескольких видов искусства: живописи, архитектуры, скульптуры, литературы, поэзии, музыки. По сути дела, его можно считать периодом становления японской художественной мысли и прежде всего – пиком развития национальной поэтики в лице таких мыслителей, как Ки-но Цураюки (? – 945), Фудзивара Кинто (966–1041) и Фудзивара Садаиэ (1162–1241)».[279]
Третий период, Кинсэй (ближнее Средневековье или развитый феодализм, XIV–XVII вв.), характеризуется, по словам философа, «в первую очередь влиянием на художественную мысль и творчество буддизма, особенно школы Дзэн».[280] Это было время, когда в поэзии расцвел новый жанр рэнга, в области сценических искусств – театр Но; возникло искусство чайной церемонии, искусство составления растительных композиций – кадо, искусство создания ландшафтных садов. Исключительное развитие получила архитектура. Это было время великих теоретиков Дзэами и Синкэя, поэтика которых прочно связана с мировоззрением Дзэн-буддизма. Имамити высоко оценивает значение эпохи Кинсэй, поскольку искусство именно тогда обретает серьёзность, торжественность, отрешённость, оно создаётся как бы под знаком смерти и почти всегда печально. Изысканная простота, меланхолическая утончённость стали с тех пор неотъемлемыми атрибутами традиционной культуры Японии.
Тогда же, в эпоху Кинсэй, на авансцену истории выдвинулось воинственное самурайство, и японское искусство, «напитавшись» стоицизмом и ригоризмом военного сословия, обрело новое качество. В его определение вошло понятие дао (до) – «путь», заимствованное из кодекса самурайской чести «Бусидо». Влияние глубоко духовного содержания дао на художественную практику обогатило японское искусство, поставив его наравне с традиционными религиозно-философскими учениями. Автор пишет об этом так: «Бусидо в хорошем смысле слова религиозно «очистило» искусство от игрового момента… Теория гэйдо обрела прочную связь с понятием дао».[281]
Сама этимология названия искусства – гэйдо указывала на его однопорядковость с буддизмом (буцудо) и синтоизмом (синто или синдо). Именно в этот период не только гэйдо – искусство как род занятий и образ жизни, но и его виды также приобрели в написании свои иероглифы дао. (Например, кадо – путь цветка, садо – путь чая и т. д.)
Четвёртому периоду, относящемуся к эпохе позднего феодализма (сер. XVII – сер. XIX в.), Имамити дает название Киндай или «Новое время». Во времена Киндай в поэзии появился новый жанр трёхстиший-хайку, в литературе – жанр короткого рассказа, в области сценического искусства – городской театр Кабуки, тогда же достиг расцвета кукольный театр Дзёрури. Главным теоретическим достижением эстетики данного периода стала поэтика знаменитого стихотворца Мацуо Басё. Кроме того, появилась теория живописи Такэда Таномура (1777–1835) и сравнительная культурология упоминавшегося выше Мотоори Норинага.
Последний, пятый период – Гэндай (современность) – философ отсчитывает со времени реставрации Мэйдзи (1868) и до наших дней, оспаривая мнение тех японских историков, для которых современность начинается лишь с XX в. (Впрочем, среди российских японоведов существует мнение, отличное от мнения Имамити.[282]) Ученый полагает это не совсем правильным, поскольку качест венных перемен на рубеже веков не произошло, а продолжались преобразования во всех областях жизни общества, начатые именно с периода Мэйдзи. Что же касается «эстетического измерения» пятой эпохи, то оно имеет свою специфику. «Период Гэндай, – пишет японский философ, – представляет собой время знакомства с искусством Запада, подражания ему, его потребления и его преодоления».[283]
В историческом разделе работы главным является вопрос о том, возможно ли воссоздание «протоэстетических» воззрений японцев на основании изучения древнейших японских памятников письменности – поэтической антологии «Манъёсю» и двух историко-мифологических хроник – «Кодзики» и «Нихонги», появившихся на Японских островах в начале VIII в.
Учёные, ставящие перед собой решение этой задачи, чаще всего начинают с рассмотрения легенды о героине «Кодзики» – богине Амэ-но Удзумэ. Своим пением и танцами она выманила из небесного грота скрывающуюся там богиню солнца Аматэрасу (Озаряющая небо) и тем самым вернула в мир свет и порядок.[284] Научные трактовки данного эпизода, по словам Имамити, как правило, ограничиваются констатацией: «…с помощью танца и пения удавалось разрешить национальный и общественный кризис – в этом состояла значимость искусства».[285] Сам он отнюдь не довольствуется подобным выводом. Подвергая древние литературные памятники углублённому анализу, учёный «извлекает» из них новые сведения, меняя в целом философский ракурс рассмотрения хроник. При этом он выделяет как принципиальные и взаимосвязанные следующие вопросы: о протоэстетических понятиях, фигурирующих в ранних письменных памятниках; о символике цвета, важной для понимания раннего искусства Японии; о протоэстетическом идеале.
«Интерпретируя «Кодзики», – предупреждает философ, – я хочу поразмышлять об искусстве древнего периода Японии подробнее, чем это делалось до сих пор».[286] Разумеется, его исследование – пример авторской реконструкции протоэстетического сознания древнего японца. Однако ценность данной реконструкции в том, что она осуществляется на основании практически всего текста, а не отдельных эпизодов летописей.
Как пишет Имамити, «оказывается, понимание прекрасного выделить из «Кодзики» не так уж и невозможно».[287] Первая протоэстетическая находка учёного касается трактовки света как идеала красоты у древних жителей Страны восходящего солнца. Он замечает, что не только в «Кодзики», но и в других старых японских хрониках свет и связанные с ним понятия: огонь, день, ясность, отчётливость, прозрачность, вода, чистота, ветер, движение, жизнь, порядок – относились к доброму и прекрасному. И наоборот, тьма, ночь, грязь, разруха, беспорядок, болезнь, смерть считались чем-то злым, вредным, безобразным. Когда, как повествуют «Кодзики», самая главная и светлая богиня – богиня солнца Аматэрасу удалилась в небесный грот, тогда в наступившей тьме стали происходить различные мерзости. Они исчезли только благодаря возвращению богини, соблаговолившей явить миру свой сияющий лик.
Из других фрагментов, свидетельствующих в пользу эстетической значимости света, философ приводит эпизод гибели богини Идзанами в тот самый момент, когда она рожает своего сына – бога огня. «Идзанами умирает, породив огонь. Этим подчеркивается, что свет (представленный огнем) важно защищать, вплоть до принесения ему в жертву старой жизни».[288] Свет имел своим символом белый цвет. Это явствует из хроник «Нихонсёки». Персонаж этих хроник бог Яоёродзу рассказывая о жизненной силе и ликующей радости своих товарищей-богов, говорит: «ана омо сиро» – «их лица белы». Белый цвет как символ солнечного света выступает и в других древних летописях. Впоследствии белый цвет стал ассоциироваться с ветром и водой. Поскольку при помощи этих двух стихий осуществлялось, согласно религии синто, очищение от скверны, постепенно происходила синтоистская сакрализация белого цвета. Символика белого цвета с древних времен нашла отражение в архитектуре синтоистских храмов. Для их отделки применялось неокрашенное оструганное дерево, изначально имевшее почти белый цвет. Для внешнего убранства храма использовалась также белая галька, а для сёдзи и фусума – скользящих панелей-перегородок храмовых интерьеров – белая плотная бумага. Обязательное омовение (михараси) рта и рук при входе на территорию храма тоже связано с белым цветом – через стихию воды.
Эстетика белого цвета как атрибута водной стихии обнаруживается не только в синтоистских, но и в буддийских святилищах. Классическим примером является буддийский храм VIII в. Киёмидзу-дэра (Храм чистой воды) в г. Киото. Во многих буддийских храмах до сих пор предписывается плескать водой в лица изваянных Будд и Бодхисаттв – считается, что подобным способом можно достичь их благосклонности.
Таким образом, белый цвет, как эстетический символ, обозначал в первую очередь близость к божеству. «Белый – это цвет связи человека с божеством», – пишет Имамити.[289] При этом профессор задается вопросом: какова же была связь белого с другими цветами и что символизировали последние? Ответ он ищет всё в тех же древних хрониках. В «Кодзики», помимо белого (сиро), упоминаются ещё только три цвета: куро (черный), ака (красный) и ао (сине-зеленый). Впоследствии, в поэтической антологии «Манъёсю», появляются еще семь названий цветов: мидори, мурасаки, ханэдзу и ханада, обозначавшие оттенки сине-зеленого (ао), а также ни, сохо, курэнао, входившие в группу красного – ака.
Имамити замечает, что в «Кодзики» отвратительная Страна мрака (Ёми-но купи) называется чёрной; злое, неправедное сердце также называется чёрным. И, наоборот, Аматэрасу говорит своему брату, что с чёрным, загрязнённым сердцем невозможно попасть в белую и светлую обитель богов Такамагахара. Чёрное, несомненно, выступало символом зла, несправедливости, грязи, смерти. В этой дихотомии тёмного и светлого, считает Имамити, участвовал и красный цвет. В древней Японии красный цвет тесно связывался с ранами, кровью, войной, смертью, грязью, землёй. Он символизировал ненависть, загрязнённость, греховность, являлся как бы ослабленным вариантом чёрного и так же, как чёрный, противостоял белому. Отрицательное отношение у японцев к красному несколько изменилось в ходе знакомства с континентальной культурой. «Красный, – пишет Имамити, – стал употребляться в японской архитектуре после заимствований из китайской и корейской культур».[290]
Сине-зелёный цвет, нейтральный по отношению как к чёрному и красному, так и к белому, Имамити называет «цветом человеческой жизни». Впрочем, учёный отмечает и определённую вариантность содержания цветовой символики. Так, белый иногда выступал не только атрибутом жизни, но и использовался при обозначении смерти, например, когда чистота сердца праведника освещала внутренним светом и факт его успения.
Обратим внимание, что в последнем случае наглядно демонстрируется тесное переплетение эстетического и этического моментов в мировоззренческих оценках древних японцев. В летописях «Кодзики» и «Нихонги», указах – сэммё, а также в молитвословиях норито в качестве синкретического этико-эстетического идеала фигурирует акаруки киёки наоки кокоро – «светлое, чистое, праведное сердце».[291] «На языке Ямато, – пишет Имамити, – иероглиф «красота» имеет несколько значений, из которых основными являлись уцукуси (красивый) и ёси (добрый, праведный)».[292] Причём более важным было ёси. У этого иероглифа, которым теперь принято обозначать категорию «прекрасного», имеется верхнее (би) и два основных нижних (уцукуси, ёси) чтения. В то же время, как было подмечено ещё Ниси Аманэ, автором японского слова бигаку для обозначения понятия «эстетика», ряд иероглифов: «добро», «творческие способности», «любовь» – также имеют нижнее чтение ёси. Данное обстоятельство свидетельствует о неразрывном единстве красоты, любви и добра в представлении японцев. Единстве, нашедшем отражение в языке этого народа.
Иероглифические примеры, во множестве предлагаемые учёным в разделе, посвящённом синкретизму протоэстетического сознания древних японцев, чрезвычайно важны. Иероглифы гораздо более наглядны, образны и в то же время гораздо консервативнее в хорошем смысле слова, нежели фонетическое письмо. Они хранят в своей памяти, т. е. в своих архаических – а зачастую и современных – чтениях информацию о ранних исторических пластах мировоззрения человека, и поэтому иероглифический анализ терминологии, проводимый философом, становится важным источником сведений о процессе формирования художественной мысли в Японии.
В свете представлений о красоте добра, определивших в известной мере культурное сознание в древней и средневековой Японии, становится понятным, почему, например, красивый голос японцы того времени называли утагоэ-ёси, а красивую форму ёси-сугата (у современного японца ёси ассоциируется скорее с «добрым», нежели с «прекрасным»). По всей видимости, в древности существовало невероятное богатство оттенков в отмеченном синкретическом единстве представлений о добром и прекрасном. Идеал «благородной красоты» – ёси в древней Японии аналогичен соответствующей идее калокагатии в Древней Греции.
Специфика японского сознания, в его отличии от западного, во многом обусловлена особенностями иероглифической письменности. Как правило, иероглиф, обладая определённым смысловым значением, в зависимости от ситуации как бы поворачивается той или иной гранью своего значения, обретая в зависимости от контекста ту или иную смысловую окраску. Скажем, упоминавшиеся Ниси Аманэ четыре иероглифа, отмеченные смысловым единством по знаку ёси, играли роль не только синонимов, но и дополняющих друг друга омонимов. Каждый из них придавал новый оттенок содержанию понятия ёси. Анализируя этимологию старой иероглифики, можно увидеть, что внутри синкретического мировоззрения японцев звучала целая полифония оттенков чувств и мысли.
Нередко представление о «доброй красоте» сочеталось с любовным переживанием, направляющим человека на добродетельно-прекрасные поступки (что также получило отражение в соответствующих протоэстетических категориях). Подтверждение тому можно найти в многочисленных песнях, превозносящих как истинно прекрасный поступок самоубийство жены, оставшейся одной после смерти мужа. Имамити цитирует, в частности, фрагмент песни, записанной шаманом по имени Абэ-но Ирацумэ из четвертого свитка поэтической антологии «Манъёсю»: «…в огне и воде я буду с тобой». «Здесь красота любви, – отмечает учёный, – достигает вершины в самопожертвовании, самоотверженности любящих».[293]
Именно в подобных поэтических творениях впервые обнаруживается то, что получило дальнейшее развитие в Средние века и Новое время: приоритет духовного измерения идеи художественного произведения над материальным воплощением этой идеи. Процесс постепенной, так сказать, «дематериализации» понимания прекрасного нашёл отражение в развитии эстетических категорий. Самые ранние стадии такого «восхождения» обнаруживаются уже в «Манъёсю».
Интересно, что первое художественное суждение, зафиксированное письменно, имеет любовную модальность. Имамити нашёл его в хронике «Кодзики» в том эпизоде, когда члены божественной четы основателей Японских островов – Идзанаги и Идзанами оценили друг друга как яси (ёси), в более позднем чтении – уцукусики. Уцукусий – это основное, нижнее, чтение упоминавшегося иероглифа би и в настоящее время означает «красивое», «прекрасное». Однако в древности, отмечает учёный, уцукусики в гораздо большей степени означало «любимый», нежели «прекрасный», и было окрашено сильными личными переживаниями.
Хотя уцукусики – одна из протокатегорий прекрасного и даже омонимична его нынешнему обозначению, она стоит дальше от объективного понимания прекрасного в его современном смысле, чем другая зафиксированная в «Кодзики» протокатегория – уруваси. На страницах памятника эта категория впервые появилась в сочетании уруваси отоко (отоко – мужчина) и имела оттенки смысла «красивый», «правильный», «прямой», «честный», «изящный». Уруваси можно отнести к категориям эстетического ряда. Но, по сравнению с современным иероглифом би – уцукусий, её объём шире. Она включала в себя также этические элементы «праведного» и «честного»; поэтому сегодня эту категорию нельзя употреблять в качестве чисто эстетической.
Ещё одним протоэстетическим понятием прекрасного, фигурирующим в «Манъёсю», принято считать куваси. В настоящее время данный иероглиф применяется для обозначения чего-то тщательно сделанного, тонкого, детально разработанного. В «Манъёсю» куваси используется как эпитет для описания конкретного объекта (например, куваси-мэ – изящная женщина) и как самостоятельное существительное для обозначения определённого свойства (кувасимоно – изысканность, совершенство): «Хотя в древности слова не имели абстрактного смысла и обычно обозначали нечто конкретное, куваси, тем не менее, содержало и элементы абстрактного, выражая полноту, законченность и совершенство как таковые».[294]
Любопытно, что в сознании древнего японца совершенство было связано с полным раскрытием жизненных сил, символом которых выступали растения. На эту важную особенность японского мироощущения указывал, как было отмечено выше, ещё Ониси Ёсинори. «Растительное мировоззрение» – повышенное внимание японцев к жизни растений нашло отражение и в художественной традиции этой страны. «Растительной образностью» отмечены все виды японского искусства. Тут и поэзия, как нигде в мире связанная с описанием переживаний, вызванных сменой времен года и соответствующими изменениями в растительном наряде земли. Тут и живопись с её попытками изобразить мимолётную, хрупкую красоту цветущей сакуры или передать очарование «одетых в багрец и золото» кленовых рощ. А разве станет кто-нибудь отрицать влияние формы, цвета, фактуры дерева на японскую скульптуру и архитектуру? Ту самую архитектуру, которая до сих пор черпает вдохновение в красоте окружающих гор и лесов и которая бережно сохраняет природную естественность деревянных материалов в лучших образцах самых современных построек. «Ботанической символикой» пронизано также всё прикладное искусство Страны восходящего солнца.
Весьма ощутимо влияние растительного мировоззрения и на древнее искусство каллиграфии. Недаром причудливая вязь иероглифов или рукописной азбуки хираганы напоминает сплетения экзотических цветов и трав. И недаром каллиграфическая скоропись получила название «травяного письма», сосё, а в состав многих обиходных иероглифов вошли растительные элементы: дерево, бамбук, трава… Понятие «цветок» выступает ключевым в теоретических трактатах Дзэами, основоположника театра Но. В художественной практике средневековой Японии «путь цветка» – кадо обрел статус полноценного искусства, составной части гэйдо (и в наши дни получил широкое распространение под названием икэбана).
В свете сказанного понятно, почему при определении протоэстетической категории куваси Имамити Томонобу пишет, что «её можно соотнести с жизненной силой могучего густого зеленого дерева, и с активным чувством, которое пробуждает вид такого живого дерева».[295] Растительной трактовке подвергает японский учёный и другое протопонятие – намамэкаси: «Намамэкаси, – пишет он, – употреблялось для обозначения нераскрытости, подобной набухшему бутону, выражало, таким образом, потенцию, намёк на будущий расцвет – куваси».[296] (В современном японском языке этот иероглиф читается юкасий и переводится как «восхитительный», «пленительный».)
Итак, профессор Имамити осуществил реконструкцию ранней эстетической мысли Японии, определив круг её главных проблем – символика цвета, синкретизм протоэстетических представлений, существование и функционирование эстетических протопонятий, и, наконец, влияние на эстетическое сознание древних японцев «растительного мировоззрения». «Разумеется, эта реконструкция не может претендовать на стопроцентную истинность, поскольку современный человек не в состоянии переживать и видеть мир таким, каким он представал перед его далёкими предками. Тем более важно, чтобы при интеллектуальной реконструкции, соблюдалось корректное обращение с материалом».[297] Исторические изыскания Имамити в полной мере отвечают этому требованию, и в результате читатель получает по-настоящему научно обоснованное представление о зарождении и развитии японской протоэстетической мысли. Теперь вместе с автором перейдём к общим, или «сквозным», для всей японской эстетики вопросам. Первый из них – это вопрос о взаимосвязи между особенностями самосознания японцев, сформировавшимися в ходе становления, эволюции общественных отношений, с одной стороны, и особенностями мировой художественной жизни – с другой.
Не вызывает сомнения тот факт, что специфика художественной практики и вырастающей на её почве теории определяется в том или ином регионе личностными качествами, менталитетом населения этого региона. Наиболее яркой чертой социальной психологии японцев, по Имамити, следует считать «неличностность». «Отсутствие понятия личность, – пишет он, – есть общая особенность дальневосточных культур».[298] Исходя из этого тезиса, он делает ошибочный вывод: раз не было понятия, то не было и его денотата – т. е. личности как таковой. Здесь автор разделяет мнение некоторых западных учёных, отрицающих наличие личностного начала в странах Дальнего Востока.
Своё рассуждение о неличностной эстетике Имамити Томонобу начинает с иероглифического экскурса и доводит до сведения читателей, что ни одно из традиционных понятий японского языка, близких по значению западному понятию «личность» (persona), не может считаться адекватно передающим смысл последнего. Сходные по содержанию японские слова могут обозначать индивидуума или его характер (соответственно: кодзин, хитогара). Однако они скорее указывают на человеческую особь и на наличие у неё некоторых характеристик, нежели на личность – т. е. на человека как на особое социальное и разумное существо, обладающее особой духовной сущностью.
Профессор подчёркивает, что отсутствие слова «личность» в японском языке свидетельствует о том, что в нём не было нужды: личностей в стране не было. Отсутствием личностного начала в домэйдзийской Японии Имамити объясняет пресловутый комплекс неполноценности японцев. «Но свидетельствует ли данный факт о превосходстве западных культур?», – задаётся он вопросом и даёт на него отрицательный ответ.[299] Действительно, притом что личности на Дальнем Востоке не существовало, тем не менее, высшей добродетелью человека со времён Конфуция признавался «долг», «ответственность» (ги, совр. сэкинин) как ответственность по отношению к социальному коллективу, общине (кёдотай). Нарушение ги в самурайской среде, например, требовало совершения самоубийства сэппуку, простолюдин же мог скончаться от одних только переживаний по этому поводу. В Китае для прелюбодеев также подразумевалось самоубийство как форма ответственности за нарушение долга.
Особенно наглядно драматургия ответственности представлена у знаменитого автора Тикамацу Мондзаэмона (1653–1724). Самые острые моменты его пьес связаны с нарушением героями долга – айдагара по отношению к обществу, а также с их мучительными попытками выбрать между долгом – гири и чувством – ниндзё. Что же касается Запада, то, по мнению учёного, тамошние жители не знали ответственности вплоть до Нового времени. Современное понятие «ответственность» (фр. responsabilite, англ. responsibility) возникло лишь в 1787 г., когда оно стало необходимым в условиях развивающихся контрактных капиталистических отношений: «Следовательно, японцы должны гордиться – у них было то, чего не было на Западе».[300]
Традиция соблюдения японцами высокой степени ответственности, как в межличностных контактах, так и в социальных отношениях не могла не сказаться на специфике их национальной художественной традиции. В искусстве «ответственность» требовала от художника душевной чуткости, поисков не самоутверждения, как это было принято на Западе, а стремления войти в контакт со зрителем или коллегами.
Нацеленность на достижение «эмоционального отклика» характерна для всех видов традиционных искусств Японии. В области художественной практики это особенно ярко воплотилось в поэзии, в жанре рэнга, возникшем как песня-диалог, результат совместного творчества нескольких авторов. В теории же он нашёл выражение в категории ма (букв. «между», «промежуток»), обозначающей не просто пространственный или временной интервал. «Ма, – пишет Имамити, – есть некое пространство эмоционального отклика <…> Всё японское искусство было пронизано светом душевного взаимодействия, сотворчеством сторон, чем разительно отличалось от западного самовыпячивания».[301]
Здесь стоит ещё раз остановится на двух только что сформулированных философом тезисах: о том, что на Западе была развита личность, а на Востоке её не было, зато была развита «ответственность»; и о том, что именно «ответственность» как форма эмоционального отклика составляет характерную особенность традиционных искусств Японии по сравнению с западным искусством. Действительно ли это так?
Начнём с того, что понятие «личность» присутствует в арсенале различных западных наук – психологии, философии, социологии, юриспруденции и даже логики, причём каждая из этих дисциплин вкладывает в данное понятие свой смысл, отличный от остальных. Кроме того, слово «личность» активно используется на Западе и в обыденном языке, где оно весьма многозначно. Неслучайно в последнее время в рамках относительно новой дисциплины – сравнительной культурологии – развернулась дискуссия о значении личности на Западе и на Востоке. Сама же сравнительная культурология находится пока в фазе становления и деятельной выработки собственного понятийного аппарата.
Тем не менее, представителями западной философской мысли (в психологической теории прежде всего) и западной юриспруденции (в практике уголовного законодательства, где существует понятие «личной идентичности» – personal identity), написаны тома исследований на тему личной ответственности. Можно сказать, что юридическая и моральная ответственность входила в само определение понятия «личность» в указанных дисциплинах. Следовательно, ответственность нельзя считать сугубо дальневосточным атрибутом. Сам факт противопоставления ответственности и личности, тем более разведение их по разным регионам – нонсенс. Еще в античной Греции, когда личность находилась в зачаточном состоянии, Аристотель, проводя различие между рабами и свободными гражданами, считал первых «одушевлёнными орудиями»,[302] а вторых – полноценными людьми именно потому, что свободные граждане были наделены юридическими правами и обязанностями, т. е. несли ответственность за принятые решения и их практические последствия.
Становлению личности на Западе во многом способствовало христианство, особенно протестантизм, который определил волю всех без исключения людей как свободную и поставил каждого индивида перед лицом ответственности за совершённые им на протяжении земной жизни поступки. Историческое развитие личности западного человека обусловливалось возникновением различных видов ответственности – экономической, юридической, моральной – по отношению к общественным группам, к которым человек принадлежал. Так, для Средневековья характерно наличие многочисленных писаных и неписаных «кодексов чести» у рыцарей, ремесленников, крестьян (круговая порука), монахов и т. д.
Капитализм на Западе, дав личности огромные возможности материального обогащения, разорвал также «пёстрые феодальные путы» (Маркс), привязывавшие индивидуума к определённой социальной группе и заставил западного человека самоопределиться по отношению к целому миру. Это в свою очередь углубило самосознание индивидуума, вызвало усложнение его внутреннего мира, в том числе усложнение форм его ответственности перед обществом и своей совестью. Однако противопоставление жителя Европы, прошедшего школу четырехсотлетней «капиталистической индивидуализации», жителю Японии, где капиталистические отношения утвердились относительно недавно, имеет смысл только в том случае, если исследователь задался целью продемонстрировать социально-психологические различия формирования личности на Западе и на Востоке.
Эти различия сами по себе ни в коем случае не могут служить доказательством отсутствия в японской духовной культуре личностного начала как такового. Просто в Японии сложилась личность несколько иного типа, более соответствующего общественному устройству этой страны, её традициям. Серьёзное сравнительное изучение типов личности на Востоке и на Западе нуждается в продолжении.[303] Равно как заслуживает серьёзного отдельного рассмотрения проблема реализации принципов «неличностного мышления» в японском искусстве, поставленная Имамити Томонобу.
Впрочем, подчеркну, что и здесь с точки зрения философско-эстетического анализа важным является выявление процесса зарождения и эволюции соответствующих категорий национальной эстетики в рамках художественной традиции. Тема эта не нова, но, к сожалению, как в мировой, так и в отечественной японоведческой литературе до сих пор нет работ, где бы она была раскрыта достаточно полно. На мой взгляд, наивысшие результаты достигнуты здесь в книге Т. П. Григорьевой «Японская художественная традиция».[304] Сами японские учёные ограничиваются, как правило, анализом отдельных наиболее ярких и популярных эстетических понятий – таких как моно-но аварэ, югэн, ваби-саби, ма и некоторых других. Между тем данные понятия появились не вдруг и имели длительную историю формирования. Выражаясь образно, они имели «родителей», «родственников» и «соседей», хотя малоизвестных ныне, но не менее интересных и содержательных, чем они сами. Замечательно, что именно этим малоизвестным категориям посвящены многие страницы «Эстетики Дальнего Востока» Имамити Томонобу.
Попробуем вместе с автором проследить, в какой последовательности и кем именно из японских мыслителей развивались те или иные эстетические принципы. Причём преимущественное внимание уделим, как и он сам, «обойдённым» и «малозаметным» категориям.
Предтечей эстетической мысли Японии философ называет составителя и автора Предисловия к поэтической антологии «Кокинвакасю» (Собрание старых и новых песен Ямато, 905) Ки-но Цураюки. Однако первым, кто «теоретизировал» поэтику, был Фудзивара Кинто (966–1041), испытавший сильное воздействие китайской теории живописи и каллиграфии. Именно он ввёл в поэтический обиход категорию сугата (форма), получившую развитие в дальнейшей истории искусства. В своих трудах «Новая антология основных поэтических принципов» (Синсэн дзуйно) и «Девять достоинств поэзии Ямато» (Вака кюхин) Фудзивара предложил считать лучшими те поэтические произведения, в которых максимум чувств выражен в предельно сжатой форме. Мастерство поэта, считал он, заключается в способности вызвать у читателя амари-но кокоро (букв. «избыток сердца»), т. е. такие эмоции, которые хотя и присутствуют в самом стихотворении, но присутствуют неявно, в подтексте, между строк. Понятие амари-но кокоро Фудзивары Кинто явилось предшественником ёсэй и ёдзё, основных приёмов древнеяпонской поэтики.
Категория ёдзё, обозначающая «избыточные», суггестивные, невыраженные эмоции, призванные разбудить воображение читателя, вошла в искусствоведческий обиход благодаря теоретическим разработкам поэтов и писателей Фудзивары Тосинари (1114–1204), Мибу Тадаминэ (XII в.) и Камо-но Тёмэя (1155–1216). В своём появлении она предшествовала более поздней известной категории югэн. Эти же, только что названные поэты предложили и забытые ныне категории окаси, такэ, такэтакаси, тёкоё. Окаси означало красоту, происходившую от интересного замысла песни-стиха, а на основе последних трёх понятий впоследствии сформировались категории соби («величественность») и суко («возвышенное»).
Наибольшего расцвета в эпоху Средневековья концептуальные поиски теоретиков японской культуры достигают в творчестве Фудзивары Садаиэ (Тэйка, 1162–1241). Развивая поэтику Мибу, он предложил в работе «Избранное по месяцам» (Майгэссё) сначала десять, а затем восемнадцать «стилей» поэзии Ямато. Названия этих «стилей» одновременно обозначают и эстетические принципы стихосложения, а некоторые стали играть роль собственно эстетических категорий. Фудзивара Тэйка выделял четыре базовых поэтических принципа: югэн, котосикарубэкиё, рэйё и усинтай.
Югэн в данной классификации всего лишь омоним позднейшего югэна и имеет совсем иное значение: «тишина», «спокойствие». Котосикарубэкиё – это принцип естественности, согласия с природой; рэйё символизирует грациозность, изящество; наконец, усинтай, или «глубина сердца», – принцип, по мнению Фудзивары, самый важный. В соответствии с требованиями данного принципа, сложение песни или стиха должно происходить только как результат сильного переживания, эмоционального напряжения, каковое нужно адекватно передать читателю или слушателю. «Под усинтай, – пишет Имамити, – Фудзивара Тэйка понимает высочайшую форму стиха, где глубина пафоса и высота логоса слиты воедино».[305]
Помимо четырёх перечисленных базовых принципов, Фудзивара рассматривал ещё шесть производных: тёкоё (возвышенное), миё (наглядность), омосироё (увлекательность), хитофусиаруё (единство пафоса), ноё (сжатость, концентрированность) и кираттай (демонизм). Последний принцип самый трудноопределимый. Видимо, как полагает Имамити, он выражает нечто противоположное юби – (рафинированному, изысканно-элегантному).[306]
Воззрения Фудзивары Тэйка стали очередным звеном в непрерывной цепи развития японской эстетической мысли, для которой, как я уже отмечала, ещё со времен «Кодзики» было характерно представление о единстве красоты и добра. Неслучайно Фудзивара писал, что «красота песни-стихотворения находится в тесной связи с праведностью содержания, в единстве прекрасного и доброго, поскольку в дао нераздельно переплетены искусство и мораль».[307]
Следующий этап развития понятийного аппарата японской эстетики, по Имамити, связан с творчеством таких крупнейших практиков и теоретиков искусств, как Сётэцу (1381–1459), Синкэй (1406–1475), Дзэами и Мурата Сюко (1422–1502). С одной стороны, эти мыслители развивали категориальный аппарат своих предшественников, с другой – они привнесли в него переосмысленный эстетический опыт буддийских учений Сингон, Тэндай и Дзэн. Синкэй, теоретик поэзии, в произведении «Сасамэгото» (Слова, сказанные шёпотом) ввёл понятие гудо (праведность) в отношении поэзии, её идеального облика. Достичь в поэзии нравственной высоты, уверял он, можно только за счёт приобщения поэта к религиозному опыту, в частности, к опыту школы Тэндай. Требование «праведности», распространившееся из поэзии и на другие виды искусства, знаменовало поворот от игрового момента к серьёзности религиозного толка. Именно буддизм придал пониманию прекрасного оттенок глубокой тайны, неявленности в феноменальном мире, лишь намека на мир ноуменальный. Перед «праведным искусством» встала проблема: можно ли художественными средствами отобразить буддийское понимание жизни как движение от неявленного, скрытого к явленному, оформленному и обратно? Каким образом можно художественно определить буддийский пафос квазиистинности феноменального мира? Пафос, постигаемый сердцем и умом и почти не поддающийся адекватному словесному описанию.[308]
Характеризуя искусство того периода, Басё писал, что «танка Сайгё, рэнга Соги, пейзажи Сэссю и чайное искусство Рикю едины в своей основе».[309] Под «основой» подразумевалась, конечно, по-буддийски понятая реальность, которая одновременно присутствует и не присутствует – как бы пульсирует – в феноменальном мире. Следует отметить и единство группы приемов, применявшихся буддийски ориентированными художниками для обозначения вечно ускользающей и не имеющей постоянной формы «истинной реальности». Как подчеркивает ученый, в рамках каждого вида искусства вырабатывалось своё главное средство, свой главный метод выражения такого «ускользания».
Ярче всего подобный принцип обнаруживается в живописи. Имеется в виду так называемое ёхаку – эффект пустого белого пространства на плоскости картины. Ёхаку придавало живописи ноуменальную значимость, будило в зрителе чувство неисчерпаемости источника космической жизни. В поэзии аналогичным средством стало уже упоминавшееся ёсэй, или ёдзё. Несколько подобных принципов фигурировали и в искусстве театра Но, в частности, сэну токоро га омосироки – умение вызвать интерес при отсутствии видимого действия. В искусстве чайной церемонии таким принципом выступает такэкурами (таинственность, неявленность). Основоположник японской чайной церемонии Мурата Сюко (1422–1502), например, видел в таинственности главный смысл действа.
Кроме того, указывает Имамити, в рамках буддийских представлений о прекрасном появились три общие для всех искусств характеристики, соответствующие вкусам той эпохи: карэру, хиэру и ясэру. Эти три глагола, буквально означающие «увядать», «застывать от холода» и «худеть», передают образ утончённой, почти бесплотной, но одухотворённой красоты.
Вершиной осмысления религиозного опыта в искусстве является категория югэн. Как я уже писала, впервые сам термин югэн возникает в поэтике Фудзивары Садаиэ, но окончательно его содержание оформилось позднее, в трудах поэта и теоретика искусства Сётэцу и в пьесах и эссе драматурга Дзэами Мотокиё. Категории югэн посвятили свои изыскания многие японские, а также зарубежные учёные, поэтому не будем останавливаться на её подробной характеристике. Укажем только, что это – квинтэссенция понимания прекрасного как таинственно-далёкой, скрытой, глубинной реальности, ощущение которой вызывает своим мастерством художник. Подобно перечисленным выше принципам, югэн имеет сложную структуру, означая в одно и то же время и превосходное качество мастерства художника, и качество произведения, и сильное, близкое к религиозному чувству, переживание зрителя-слушателя.
Следующий этап развития эстетики связан, согласно Имамити, с именами Мацуо Басё и мастера чайной церемонии Сэн-но Рикю. Басё глубоко осмыслил даосизм Лао-Цзы и Чжуан-Цзы. Именно от китайских даосов он перенял принципы самоуглублённости, грубоватой простоты, «естественности», безыскусности. Эти принципы нашли воплощение и в страннической жизни Басё, и в его поэзии, в рамках которой, по словам учёного, он «увидел горизонты новых эстетических категорий».[310]
Вклад Басё в сокровищницу японского искусства чрезвычайно велик и состоит, в частности, во введении в художественный и теоретический оборот категорий саби и ваби. Первоначально поэт трактовал их как «спокойствие» и «умиротворённость». Однако в ходе развития его творческих взглядов развивались и эти категории, приобретая всё новые и новые смысловые оттенки. Саби и ваби посвящена обширная литература. Но при этом обычно упускается существенная характеристика, дополняющая палитру ваби: тот факт, что данная категория имеет оттенок возвышенного. Наряду с ваби и саби в работах исследователей творчества Басё часто фигурирует понятие каруми (букв. «лёгкость»). В. Санович, к примеру, трактует каруми как «высокую простоту».[311] Обратимся к тем категориям Басё, которые обладают высокой степенью эстетической общности, но в работах о японской художественной традиции упоминаются редко. Такова категория уцури – эстетический принцип, характеризующий исключительно искусство поэзии и означающий «естественное перетекание» верхней строки – в нижнюю (по-японски – правой – в левую). Более универсальная категория – хибики, означающая не только «отзвук», возникающий в сердце от красоты стихотворения, но, по-видимому, и отзвук в сердце поэта на красоту окружающего мира. Понятие сиори тесно связано с саби и часто употреблялось вместе с ним. Сиори-саби можно перевести как «просачивание» чувства поэта сквозь строки стихотворения, вызывающие в свою очередь эмоциональный отклик в душе слушателя или читателя. Для описания изысканной утончённости употреблялась сначала категория хосоми, которая впоследствии стала означать вхождение идеи стихотворения в таинственную сферу югэн. Наконец, самая синтетическая и потому труднопостигаемая, по-моему, категория – ниои (букв. «запах»). Она заимствована из искусства изготовления меча и первоначально обозначала налёт, который образуется на лезвии в результате его закалки огнем и водой.
На примере Басё история эстетических категорий в Японии предстаёт как плавно текущая полноводная река, где островками кристаллизовывались категории, обладавшие разной степенью обобщённости. Однако все они имели одну характерную особенность – неоднозначность, многослойность, разнообразие оттенков, что отражало синтетический характер японского искусства.
Остановимся в связи с этим на характеристике Имамити вклада, который сделали мастера чайной церемонии в развитие эстетической мысли Японии. Такэно Сёо (1504–1555) и особенно Сэнно Рикю (1521–1591) придали искусству садо (букв. «путь чая») более светский, нежели это было первоначально у Мурата Сюко, характер. В то же время они разработали строгий канон церемонии, ставшей образцом подлинного синтетического – пожалуй, самого синтетического – искусства Японии.
В основу канона лег принцип саби, который, так же как и ваби, носил в рамках садо более природно-материализованный характер. С XVI в. чайная церемония приобрела такой авторитет в качестве образца канонизированного синтетического японского искусства, что её эстетические идеалы впоследствии оказали глубокое воздействие на все составляющие её синтез виды искусства. Влияние мировоззрения чайной церемонии – тяною ощутимо в устройстве ландшафтных парков со всей их атрибутикой, в архитектуре, в убранстве токонома, в оформлении чайной утвари. По наблюдению Г. Б. Навлицкой, «детальная разработанность канона чайной церемонии, с одной стороны, впервые обнаружила ансамблевый подход к сознательной, планомерной организации всей предметной среды, окружавшей человека, с другой – в дальнейшем закрепила в искусстве (включая всё его разнообразие) отсутствие деления на сферы утилитарного и изящного».[312]
Сквозная тема, поднимаемая Имамити – это тема специфики формы в японском искусстве. В современном японском языке существует несколько вариантов иероглифов, одинаково переводимых как «форма» – ката, катати и сугата. Однако в древней и средневековой Японии каждый из них имел свой определённый оттенок смысла. Причём в искусстве и эстетике Японии имело хождение и развивалось понятие формы типа сугата. А вот форма типа катати не получила теоретического развития.
Понятие катати выражает чёткую структурированность, относительную статичность, внешнюю выразительность (будь то форма поэтическая языковая или живописная, архитектурная, музыкальная). Главной характеристикой катати, считает учёный, является то, что она представляет собой материализованное обстоятельство.[313] Одновременно с общими качествами она выражает и идеальную форму, присущую определённому виду предметов, и в этом смысле примыкает к аристотелевскому понятию «энтелехия». Иероглиф катати был знаком японцам издревле, однако частотный анализ терминов показывает, что ни в классических произведениях древности, ни в произведениях средневековых теоретиков искусства Японии этот иероглиф практически не употреблялся при оценке произведений искусства.
Ката получается как бы изъятием, извлечением из катати жёсткого, математически измеримого шаблона-модели. В качестве таковой форма-ката используется в первую очередь в массовом производстве (машин, типовой одежды и пр.), но имеет значение «традиции, обычая» и в таком виде служит основанием для форм ритуального поведения, принятого в обществе. В области искусства художник должен долго упражняться, используя традиционные модели-ката как образец, прежде чем создаст своё произведение – новую форму-катати.
И, наконец, сугата – форма-образ, возникающий в сознании (в памяти) человека при восприятии (воспоминании) обеих вышеупомянутых форм. Эта форма наиболее эмоционально насыщена, у неё нет чётких очертаний и она имеет отношение скорее к сущности вещи, а не к её внешнему облику. Это некое «послевкусие», «след на воде», оставленный подвижным фрагментом бытия. В древнеяпонском языке семь иероглифов читались именно так. Два из них играют особую роль в истории японской культуры. Первый употребляется для обозначения формы до сих пор. Второй имеет ныне основное значение «ветер», что очень важно, поскольку это сообщает понятию сугата через общее чтение оттенок подвижной, невидимой, нематериальной энергии.
Начиная с эпохи Хэйан, теоретики искусства противопоставляли форму (в любой её ипостаси) – сердцу-кокоро. Как уже говорилось, именно сердце в традиционной эстетике Дальнего Востока постигает «форму бесформенного», «звук беззвучного» – т. е. тонкость бесчисленных и непрерывных метаморфоз Дао, – встраиваясь в невидимые сети перемен, которые опутывают бытие. Таинственная глубина первоосновы Универсума, из которой всплывают все вещи вместе с их формами, доступна сердцу. Форма по отношению к сердцу выступает как материал.
Продолжил эту тенденцию «невидимой», «неявленной» красоты Мацуо Басё, который концептуализировал понятие «странствие» как одну из традиционных форм целостного, телесно-ментального восприятия действительности. Переживание длительных неудобств, связанных с пешим паломничеством, чередование времен года, встраивание в их неспешный, но неуклонный ритм, давало художнику право говорить от имени природы, творить «на границе» своего я и универсума. Для современного японца, привыкшего иметь дело с чётко структурированной теорией, объясняющей человеческую природу при помощи статичных категорий и представлений, такие «телесные» понятия традиционной эстетики, как саби, ваби, ниои, хибики, уцури, хосоми, темны и непонятны. Теория «разума тела» Басё располагает свои понятия «на границе я» и природы, пронизывающей я на всех уровнях и потому не отделённой невидимой стеной от художника.
Наиболее красноречиво в этом отношении понятие сиори, означающее «просачивание», «проникновение». Оно демонстрирует нечёткость, расплывчатость, подвижность границы я и мира, субъекта и объекта. Подобно сиори, и другие категории средневековой японской эстетики описывают целостный опыт «разума тела», являющийся неотъемлемой подчинённой частью общего разума Природы (Универсума), который называется Дао в конфуцианстве и даосизме, и Дхармакайя (тело Закона) – в буддизме. Создавая произведение искусства, художник «удерживает» оба плана бытия: явленный (в формах разной степени отчётливости и исчислимости) и неявленный, глубинный. Этот невидимый бег бытия – всегда «между»; между ставшим и становящимся, настоящим и будущим, тьмой и светом. Скрытое, неявленное содержание в художественном произведении неизмеримо важнее внешней формы. (В театре Но, например, есть амплуа «актера без маски», особо трудное для исполнения. Лицо актера должно без напряжения сохранять нейтральное выражение, несмотря на стоящую перед ним задачу донести до публики обуревающие его чувства. Здесь наиболее очевидно противостояние внешнего – внутреннему и их синтез в едином теле актера.)
Немалое место Имамити Томонобу уделил «эстетике движения», в рамках исследования которой он противопоставил традиционную эстетику Китая и Японии «эстетике формы» Древней Греции. На Дальнем Востоке, пишет ученый, главное в произведении искусства – это отнюдь не внешняя форма; и зрение, посредством которого эта форма постигается, – вовсе не главный орган восприятия красоты. Главное в восприятии – это сердце, кокоро. Красота заключается не в форме, а в том, что лежит «под» формой, что зависит от формы, но никоим образом ею не исчерпывается. Форма – лишь знак, символ навеваемого чувственного образа, не имеющего по сути определённой видимой формы. Таким образом, задача художественного произведения – вызвать при помощи формы некое эмоциональное состояние.
Японский философ называет классическую национальную эстетику «эстетикой ветра». «Ветер» в данном случае аналогичен форме – сугата в японском искусстве. «Форма ветра», как поэтично пишет Имамити, познается через шелест и колебания листьев на деревьях: «…так растительное художественное мировоззрение получает своё завершение в эстетике ветра».[314] В данном случае форма колеблющихся листьев и их шелест не имеют ничего общего с происхождением природы ветра, однако о его подвижной сути мы узнаём именно по принимаемым листьями зрительным и звуковым формам.
Подобный взгляд на искусство Япония унаследовала от Древнего Китая, где одним из главных эстетических принципов был «одухотворённый ритм живого движения» (термин Е. В. Завадской). Безусловно, «эстетика ветра» возникла под влиянием взглядов, сформировавшихся в русле, прежде всего, даосизма. Понятие «ветра» как метафоры Дао – тёмной бесформенной силы, определяющей бесконечную череду и порядок перемен в мироздании, впервые появилось в трактате Чжуан-цзы вслед за подобной же метафорой «воды» из трактата Лао-цзы.
Обе эти стихии не имеют постоянных очертаний, статичной формы, и об их природе мы можем судить лишь по косвенным признакам. Именно вокруг понятия «ветер» сложился круг терминов, описывающих эстетический опыт средневекового японца. Неявный порядок Дао проявлялся посредством воспитания и использования утончённых чувств, способности различения мельчайших нюансов и оттенков в традиционном искусстве (в линии и цвете картины художника, жесте актёра, рисунке роли или нюансе выражения лика маски, в узоре ткани и т. д.).
По сути дела, «эстетика ветра» является метафорой «разума тела», постигающего движения Универсума в режиме «здесь и теперь», т. е. в подвижной форме. Центром такого постижения выступает сердце-кокоро – сенситивный и одновременно рефлексивный орган. Кокоро – источник «общего чувства» (кёцу кандзё), сводящий в живое подвижное единство данные всех пяти чувств человека. В этой связи Имамити ссылается на исторически первые в Японии средневековые труды по теории искусства – на «Поэтики», к которым, в частности, относятся трактаты Мибу Тадаминэ (Х в.), Фудзивары Кинто, Ки-но Цураюки, Ки-но Ёсимоти, Фудзивары Садаиэ. «Эти теоретики японской поэзии вака подчёркивали значение формы – сугата, которая облекает невидимые движения сердца в видимые образы словесных конструкций и таким образом достигает вершины мысли».[315] Имамити подчёркивает, что авторы «Поэтик» рассматривают не жёсткие формы организации словесного материала и не звуковой строй. Формальному совершенству они предпочитают бесформенное, подвижное переживание и способность поэта вызывать такое переживание у слушателя.
Таким образом, главное отличие дальневосточного понимания формы, по сравнению с западным, берущим начало в Древней Греции (эйдос, энтелехия) – это сравнительно малое значение внешнего по сравнению с внутренним, точнее, формы по отношению к бесформенному. Ещё в добуддийской и доконфуцианской Японии красота ассоциировалась прежде всего с чувством любви и самопожертвования (о чём свидетельствуют древние хроники и первая поэтическая антология «Манъёсю»), а в качестве «прекрасного» оценивалось в первую очередь движение души.
От материковой культуры японцы унаследовали понимание истинного знания не как дискурсивной системы словесно оформленных текстов, а как некоего «сердечного отклика» на неуловимые, неявленные грубым человеческим чувствам образы, которым ещё только надлежит воплотиться в формы вещественного мира. «Существует как бы «врождённое», изначально заданное откровение жизни, ибо каждому человеку в глубине его опыта доступна правда бытия, которая столь же очевидна, сколь и неуловима для логических формул. И чем более она внятна внутреннему опыту, тем более сокрыта в мире всего овеществлённого и внешнего».[316] Читая знаменитый трактат «Даодэцзин», приходишь к выводу, что «реальность обладает как бы двойным дном, некоей внутренне сокровенной, лишь символически обозначаемой глубины».[317] Дэ – это воплощение Дао в себе; мудрец обладает полнотой Дэ, т. е. всей своей телесной организацией улавливает ещё не воплотившиеся веяния Дао: «…о пути нельзя составить знания – его можно только пройти».[318]
Древние мастера обучали своих учеников не столько искусству воспроизведения отчеканенных традицией форм (хотя это и было обязательным этапом обучения), сколько постижению того, что «над», «до», «вне», «сверх» границ формы. Стать мастером означало достичь такого состояния «одухотворения тела, когда в одном движении должна осуществиться духовность всего тела».[319]
В заключение я хочу ещё раз подчеркнуть непреходящую ценность эстетического опыта Дальнего Востока. В настоящее время, когда в европейской эстетической теории возникает настоятельная потребность развития не только дискурсивного, но и чувственного, так называемого телесного мышления, изучение японской художественной традиции с её приоритетом «разума тела» может оказаться весьма полезным.
Восток и Запад в новой эстетике японского философа Имамити Томонобу
Имамити Томонобу (1922–2012) – крупнейший эстетик Японии XX века, автор многочисленных трудов, посвященных анализу японской художественной традиции и созданию новой системы эстетических взглядов под названием эко-этика. Он является также основателем Международного центра сравнительной философии и эстетики, издающего фундаментальный ежегодник «Эко-этика» и ежеквартальный аналитический журнал «Эстетика Японии», и почетным профессором ряда мировых университетов, в том числе Вюрцбургского и Парижского.
До последних десятилетий прошлого века на Западе практически игнорировалась восточная эстетическая мысль. Сейчас интерес к ней возрос и число соответствующих публикаций в таком, например, авторитетном издании как «Journal of Aestetics and Art Criticism», увеличивается. Тем не менее, должной теоретической базы для адекватной оценки восточной эстетики у западных учёных пока не существует.[320]
До сих пор превалирует точка зрения, согласно которой несовместимость восточной и западной эстетики, обусловлена не только разностью языковых систем координат, но и разной направленностью векторов этих систем. Так, эстетика Дальнего Востока ориентирована прежде всего на практику в широком смысле этого слова. Такая эстетика выступает и как художественная теория, и как практика чувств обыденной жизни человека, практика нравственности мастера. Этим объясняется широта дальневосточных эстетических категорий: их зависимость от контекста, эмоциональная окрашенность, интуитивность и логическая расплывчатость – непривычная для рационалистического Запада. В данном контексте имеют особое значение усилия Имамити Томонобу по созданию эстетической метатеории, которая могла бы служить мостом между Востоком и Западом. Здесь Имамити проявил себя как талантливый учёный, в равной степени владеющий как западным, чисто философским подходом к эстетической теории, так и традиционно восточным подходом, основанным в первую очередь на художественной практике.
Стремясь совместить оба подхода, Имамити создаёт своеобразный восточно-западный философский метаязык. В одной из главных своих работ, «Эстетика Дальнего Востока»,[321] японский учёный вполне обоснованно называет себя на западный манер систематиком, поскольку представляет здесь эстетическое наследие Дальнего Востока, используя западный метод. Тогда как подавляющее большинство сегодняшних японских эстетиков до сих пор остаются в плену национальных описательно-эмпирических представлений. Тем не менее теория у Имамити органично вырастает из эмпирического материала, а не является некой созданной им и далекой от жизни умозрительной концепцией.
По мнению профессора, глубокий теоретический анализ дальневосточной эстетики необходим как самому Востоку – для развития самосознания, так и Западу – для более адекватного представления о Востоке и о себе самом как о части мирового целого; а им обоим – для создания универсальных общечеловеческих эстетических концепций. Имамити считает, что понимание особенностей самосознания японцев невозможно без понимания своеобразия их художественной жизни, всей эстетической традиции.
Специфика художественной практики того или иного народа и вырастающей на ее почве теории, полагает профессор, определяется особенностями национального менталитета, наиболее существенными чертами национального характера.[322] Что касается японцев, то главной чертой их оказывается… личностная невыраженность. «Отсутствие понятия «личность», – подчёркивает Имамити, – есть общая особенность дальневосточных культур».[323]
В подтверждение этого он обращается к японской иероглифике. По мнению ученого, ни одно из традиционных понятий японского языка, близких по значению западному понятию личность, не может считаться адекватно передающим смысл последнего. Сходные по значению японские слова обозначают человеческую особь с некоторыми личностными характеристиками, но не личность как таковую. Факт отсутствия слова «личность» в японском языке не случаен: он свидетельствует о том, что раз не было слова, значит, в нём не было нужды.
В традиционном японском обществе гораздо более значимыми для характеристики отдельного человека были такие понятия, как «долг» и «ответственность» (ги, сэкинин). Именно они со времен Конфуция считались высшими добродетелями человека. Имамити подчёркивает, что здесь имеется в виду ответственность в первую очередь перед коллективом, общиной. Запад не знал такого понятия вплоть до Нового времени. Западное понятие ответственности (англ. responsibility) возникло лишь в 1787 г., как название необходимого основания контрактных капиталистических отношений. «Таким образом, японцы должны гордиться – у них было то, чего не было на Западе» – заявляет профессор.[324]
Высокая степень социальной ответственности японцев во многом определяла специфику национальной художественной традиции. В искусстве ответственность требовала от художника не самовыражения или самоутверждения, а установления контакта со зрителями или коллегами. Достижению этого служит, в частности, поэтический жанр рэнга – песнь-диалог, создающаяся совместным творчеством нескольких авторов. В теории же этот феномен нашел выражение в эстетической категории ма (букв. «между», «промежуток», т. е. некий пространственный или временной интервал), означающий, по словам Имамити, «некое пространство эмоционального отклика». «Всё японское искусство, – поясняет учёный, – было пронизано светом душевного взаимодействия, сотворчества сторон, чем разительно отличалось от западной традиции самовыпячивания».[325]
Сказанное выше не означает, что в японской духовной культуре личностное начало начисто отсутствует как таковое. Просто в Японии сложилась личность иного типа, нежели на Западе, и для понимания японской культуры необходимо предпринять серьезное сравнительное изучение этих двух типов личности.
В целом рассуждения нашего философа сводятся прежде всего к доказательству того, что в японском искусстве существует своё, в значительной мере отличное от западного, понятие художественной формы. Форма в японской художественной традиции обладает большей подвижностью, нечеткостью, нефиксированностью, неявленностью.
Проблемы японской художественной традиции Имамити так или иначе связывает с общефилософскими проблемами современности. Неслучайно важное место в его творчестве занимает разработка эстетической теории «философии будущего». Для этого Имамити Томонобу вводит ряд новых мировоззренческих терминов. Один из них – «метатехника». «Подобно тому, как в прежние времена, когда в качестве среды обитания человека выступала природа (physike) и наукой о высших принципах природы являлась метафизика, ныне, когда человек стал жить в мире техники (technike), на смену метафизике должна прийти метатехника».[326] Имамити правильно считает, что метафизика – наука о первых началах и причинах бытия – была в значительной степени философией формы. В прежнем, природно-естественном мире форма выражала функцию, указывала на сущность. Между восприятием формы предмета и осознанием сущности его предназначения не было пропасти. В нынешнем, искусственно-техническом мире форма превращается лишь в объект дизайна, почти не имеющий отношения к сущности.
«Существует великое множество технических приспособлений, – иллюстрирует свою мысль ученый, – имеющих одну и ту же форму при разных функциях. По виду маленького черного ящичка мы не поймем, что он собой представляет: зажигалку? фотоаппарат? бомбу замедленного действия? или радиоприемник? Даже если внутреннее устройство двух одинаковых по форме предметов идентично, при выходе из строя батарейки один из них тут же превращается в простой муляж, имитацию формы».[327] Но имитации в природе – исключение, в природе форма предметов тесно связана с их сущностью. Техника же, вторгшись в естественный мир, заполняет его предметами, сущность и предназначение которых понять, исходя из их формы, невозможно. Таким образом, техника увеличивает расстояние между восприятием и сознанием.
Следовательно, заключает Имамити, метатехника необходима как философия, которая должна помочь преодолеть это расстояние. Частью метатехники в системе профессора Имамити является урбаника, философия города. «Я начал провозглашать философию города в противоположность национальной философии», – пишет учёный.[328] Цель его урбаники – зафиксировать и объяснить сущность и особенности противостояния города национальному государству. Здесь имеются в виду прежде всего не мелкие или средние города, а мегаполисы, города-гиганты, увеличение числа которых является устойчивой тенденцией во всем мире. Такой город, рассуждает профессор, является местом формирования интернациональной общности людей в современных условиях, в нём складываются качественно новые социальные отношения.
Город – это источник и средоточие свободных индивидуумов, центр «технической среды» обитания. Взаимоотношения между людьми, воспринимающими друг друга как функции, здесь практически анонимны. Это место, где формируется принципиально новый тип отношений и между полами, где трансформируется институт семьи и брака и многое другое. Практика управления разнообразной и многоуровневой жизнью мегаполисов должна опираться на некую рациональную теорию, обосновывающую принципы взаимоотношений людей с природой, техникой и другими людьми в больших городах.
Уже великий Ле Корбюзье в середине XX в. осознавал необходимость создания концепции организации городского пространства. «Художественная концепция личности в архитектуре Корбюзье утверждает равенство, индивидуальную свободу, коллективную организацию, связь личности с природой и другими людьми и, наконец, известный рационализм человека, – пишет Ю. Б. Борев. – Архитектура Корбюзье выдвинула идею техницизма – художественную концепцию личности, исходящую из успехов новейшей индустрии и опирающуюся на строительный гений человека».[329] Урбаника Имамити Томонобу выглядит как развитие взглядов французского архитектора. Кстати, Ле Корбюзье, как и Имамити, был обеспокоен утратой связи между формой предмета и его функцией, в связи с чем старинную формулу зодчества «польза – прочность – красота» он преобразовал в другую триаду: «конструкция – функция – форма».
Необходимость «городской философии» Имамити обосновывает, исходя из простой констатации факта качественных изменений в образе жизни современного горожанина. Наиболее актуальным на данном этапе, по его мнению, является комплексный социально-экономический, а не чисто философский подход к проблемам городской жизни человека.
Метатехника Имамити претендует на переворот во всей традиционной философии, точнее на замещение традиционной «метафизики». В современной философской науке бытуют два основных значения слова «метафизика»:
а) со времен античности – наука о первых основах и причинах бытия;
б) метафизика как синоним метафизического, антидиалектического метода, критиковавшегося Гегелем и даже Кантом (т. е. «метафизика» у них и у следующих за ними философов означает «антидиалектику»). Имамити имеет в виду первое значение, тем более, что и в настоящее время его зачастую употребляют в качестве синонима философии вообще. Ядром, вокруг которого профессор хочет сложить тело будущей философии – метатехники, служат у него весьма остроумные выводы из наблюдений за трансформацией в области соотношения «форма – функция – сущность» в окружающем человека технологическом пространстве. Само введение термина метатехника в арсенал современной философской науки представляется нам и правомерным, и актуальным. Однако, судя по работам ученого, «метатехнический» раздел его системы находится пока на начальном этапе. Исчерпывающая оценка метатехники будет возможна лишь после того, как этот материал подвергнется большей концептуализации и тем самым «поднимется» до уровня, необходимого для философского анализа.
Пожалуй, наиболее четко сформулированными компонентами системы Имамити, составляющими аксиологическое ядро его будущей философии, являются понятия «эко-этика» и «калонология». Как считает профессор, в прежние времена среда обитания человека была природной, и этические интенции индивида были направлены в первую очередь на окружающих его людей. Сама этика была межчеловеческой, межличностной, «этикой лицом к лицу» (ethica inter homines). Однако теперь, когда в сферу среды обитания людей входят и культура, и техника, эта среда стала «многослойной». Назрела необходимость «этики по отношению к продуктам цивилизации» (ethica ad res), в роли которой выступает эко-этика. Эко-этика призвана отразить и то обстоятельство, что в условиях нынешней эпохи субъектом новых этических отношений должен выступать не просто индивидуум, но индивидуум в единстве с природой. Это, несомненно, даст природной среде значение новой, дополнительной ценности.
Что касается калонологии, то этот термин японский философ образовал от греческого слова to kalon – прекрасное. Главная функция калонологии у Имамити – воспитательная. «Смысл калонологии, – утверждает профессор, – в изучении прекрасного как высшей ценности современного мира. Это теория ценности, выходящей за пределы существования».[330] Согласно Имамити, человек только тогда станет человеком, когда «выйдет за пределы» собственного «вещественного существования». Появление новых философских концепций обусловлено, согласно Имамити Томонобу, коренным изменением аксиологической ситуации в индустриальных странах. Пытаясь осмыслить эту ситуацию, ученый прибегает к оригинальной интерпретации «Никомаховой этики» Аристотеля. Имамити считает, что процесс морального выбора в «Никомаховой этике» схематично можно представить в виде классического силлогизма (умозаключения):
Большая посылка: я желаю достижения цели А.
Меньшая посылка: для достижения цели А мне необходимы средства: В либо С, либо Д…
Вывод: я выбираю средство В для достижения цели А.[331]
В промежутке между посылками и выводом субъект морального выбора мысленно «проигрывает» возможные варианты достижения цели А, исходя из многих соображений (например, собственной выгоды, легкости достижения, красоты поступка и др.). При этом усилия, которые субъект затрачивает для достижения своей цели, носят подчиненный по отношению к цели характер. Так было до недавнего времени, однако жизнь внесла в эту схему свои коррективы, в силу чего, утверждает Имамити, аристотелевский силлогизм приобретает совершенно иной вид:
«В вышеприведенном умозаключении меньшая посылка определяет горизонт свободы выбора. Поэтому объектом выбора выступают средства, необходимые для достижения цели. Иными словами, идеальная цель занимает, по сравнению с действенными средствами, превосходящее место. Господствующее положение такой цели действует как катализатор в процессе развития техники как средства для своего достижения, – рассуждает Имамити. – В результате техника достигла огромной мощи. Произошел качественный скачок в сфере прогресса эффективности средств: очевидно, что из просто механизированных орудий они превратились в механизированный мир. Другими словами, они сделали скачок от гетерономных инструментов к автономной мощи. Следовательно, благодаря развитию технических средств, возникло превосходство средств (мощи) по отношению к цели, причём это наблюдается как современный феномен в различных сферах человеческой деятельности. Древняя рациональная структура поведения, таким образом, сталкивается со значительными трудностями. В настоящее время человечество обладает колоссальной мощью, такой, например, как атомная энергия или сила мирового капитала. Учитывая это обстоятельство, в аристотелевской формуле поведения необходимо произвести перемену мест большей и меньшей посылок.
Большая посылка: мы обладаем мощью Д (бывшее средство).
Меньшая посылка: употребив мощь Д, мы можем осуществить: цели А, либо В, либо С…
Вывод: следовательно, по таким-то и таким-то соображениям мы выбираем цель А применительно к средству Д».[332]
Если даже мы, не углубляясь в комментарий данного хода рассуждений, подставим в силлогизм Имамити вместо «мощи Д» «ядерную энергию», а вместо «цели А, B, С» «атомную войну», «политический шантаж» или «источник дешёвой энергии», то получим картину, свидетельствующую о резонности и актуальности поисков японского учёного. Трудно не согласиться с его мыслью относительно перемен, происходящих в сфере ценностного освоения действительности сегодняшним человечеством, когда, выражаясь словами Имамити, «цель уже не господствует над средствами. Это – само собой разумеющийся вывод из имеющейся в наличии мощи. Оценивая мощь, которой обладает, субъект ищет себе цель. Тенденция преобладания средств над целью достигла пугающего влияния на комплекс эстетических проблем, и, в частности, на художественное творчество как на нравственную деятельность».[333]
Отметим наблюдательность японского философа, уловившего и обозначившего коренные перемены, происшедшие в сознании человечества. Однако следует, вероятно, дополнить рассуждения Имамити следующими соображениями. Традиционный аристотелевский силлогизм имел смысл в отношении индивида и общества в качестве субъектов морального выбора. Силлогизм же в том виде, в каком он представлен у профессора Имамити, правомерен для социумов, владеющих, скажем, «мощью Д». При этом на первое место выходит коллективная ответственность людей, в рамках которой индивидуальная ответственность как бы нивелируется. Тем не менее, поскольку индивид в акте морального выбора все же относительно свободен (даже от диктата общества), старая формулировка отнюдь не утрачивает своего значения. Основная проблема состоит в том, как заставить социального, коллективного субъекта поступать в соответствии с принципом нравственной красоты, который гораздо легче сформировать на уровне индивидуума, чем на уровне «коллективного субъекта действия».
Имамити справедливо считает, что перемены в установках морального сознания самым непосредственным образом влияют на сферу художественного творчества и восприятия. Средства, которыми владеет современный художник, отличаются огромным разнообразием, выработанным в ходе истории всех видов искусства всех времен и народов. В практике традиционных искусств мастер был ограничен как тематически, так и технически (каноном). В начале XX в. произошел коренной переворот, состоявший в том, что арсенал средств, применяемый художником, стал гораздо разно образнее. Любую, даже самую отвратительную, идею теперь возможно выразить эстетически привлекательными средствами.
Однако, по мнению японского философа, подлинно художественное творчество по-прежнему должно основываться на принципе «калокагатии», т. е. нравственной красоты. В системе Имамити «калокагатия» (прекрасное и благое) есть объект исследования уже упомянутых новых дисциплин: «эко-этики» и «калонологии». «Калонология, – пишет профессор, – это философия прекрасного. Я оживляю это классическое слово».[334]
Имамити Томонобу был переводчиком на японский язык «Поэтики» Аристотеля и не мог не обратить внимания на то, что в этом труде понятие прекрасного является не просто эстетической, но этико-эстетической категорией. Вспомним в этой связи рассуждение А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи: «"Прекрасное" и «благое», – отмечают они, – реализуясь в человеческой жизни, настолько сближаются, что между ними теряется решительно всякое различие. Оба этих термина у Аристотеля безраздельно сливаются в новом термине «калокагатия» (единство этически «хорошего»» и эстетически "прекрасного")».[335] У самого Аристотеля читаем: «В отношении человека вполне добродетельного есть неплохое имя – нравственная красота (kalokagatia)».[336] Аристотель утверждал, что поступки, сообразные добродетели, прекрасны и совершаются во имя прекрасного (to kalon).[337] Синтетический характер античного понимания прекрасного привлекает Имамити, поскольку он полагает, что настал такой момент в истории человечества, когда «необходимо понимание красоты, которая не есть чувственное удовольствие… Я не считаю, что красота реализуется только в искусстве. Я не думаю, что цель искусства – только красота».[338]
Имамити понимает искусство как конкретное средство для поиска нравственной красоты. Последняя есть предмет изучения бигаку – «калонологии», наукой о красоте в античном понимании этого слова. Имамити, можно сказать, восстаёт против обособления эстетического от этического. В античной традиции ethos означало «привычку», а этика имела изначальный смысл «науки о нравах», или стереотипах поведения. Японский философ уверен, что в условиях сегодняшнего мира стереотипы утрачивают социально-нравственную роль, поэтому он пересматривает как предмет науки о морали, так и саму эту науку. Таким образом, Имамити Томонобу ратует за пересмотр всей системы философского знания и за создание философии, способной занять ведущее место в сфере духовной ориентации современного человека. В центре такой системы находятся такие ценностно-ориентирующие компоненты как «экоэтика» и «калонология».
Категория «прекрасное» (to kalon) – ключевая в системе. В ней сопрягаются этическое и эстетическое измерения жизни индивидуума (а также прошлое с будущим, поскольку интерпретация Имамити – возврат на новом этапе к философии Античности). Японский ученый считает эстетическое удовольствие исключительно чувственным, а дисциплину «эстетика» рассматривает как науку о чувственном удовольствии. Но поскольку чувственное удовольствие – вещь крайне субъективная, она не может лежать в основании философской дисциплины. Поэтому Имамити занят поиском интерсубъективных оснований красоты и отказывается от западного термина «эстетика».
С другой стороны, в разработке «калонологии» учёный демонстрирует в значительной степени возврат к пониманию красоты, сложившемуся в дальневосточной мыслительной традиции. Он неоднократно обращается к конфуцианским категориям, в частности, к категории ли, связанной с этико-эстетическим идеалом учения Конфуция. Носителем, олицетворяющим этот идеал, является цзюньцзы – «благородный муж». Его жизнь – реализованное ли, единство морального добра и красоты.[339]
Таким образом, предлагая новую аксиологическую систему «экоэтика – калонология», Имамити Томонобу пытается в ее рамках осуществить синтез по трём основным параметрам: синтез дальневосточной и западной философских традиций (Конфуций – Аристотель); временной синтез (единство прошлого, настоящего и будущего категории «прекрасное» путем возврата к истокам аксиологии); синтез собственно аксиологический, а именно этико-эстетический.
В связи с вышесказанным, следует также остановиться на обосновании японским философом новой роли искусства в современном мире.
Свои рассуждения на эту тему Имамити начинает с положения о новом виде абстракции, появившемся в технологическую эпоху: «Техническая среда и современная технология создают до сих пор неизвестную форму абстракции. Что это за форма? Это абстракция результата, которая игнорирует, выбрасывает сам процесс».[340] Данное положение иллюстрируется красноречивым примером восхождения на гору. Раньше, каких-нибудь 50 лет назад, человек, совершая путешествие до горного хребта, оставался на ночлег у его подножия и лишь на следующий день рано утром начинал длительное и трудоёмкое восхождение. Спуск с вершины и возвращение домой занимали столь же долгое время и были сопряжены с неменьшими трудностями. Сегодня к услугам путешественников – скоростной поезд Синкансэн и фуникулёр. Восхождение на гору занимает теперь от силы несколько часов и является одним из видов приятного и спокойного отдыха: час на Синкансэне до горы, час на фуникулёре до вершины, и в обратном порядке – назад. Вечер можно провести сидя у телевизора. От прошлого альпинизма остался лишь результат, а именно: любование видом с вершины горы.
Теперь посмотрим, к чему привело столь быстрое достижение результата, а вместе с тем и исчезновение процесса. Какими последствиями чревато технологическое оснащение жизни современного человека, затрагивающее все ее стороны и изменяющее её стиль? Сократилось время восхождения, отпала необходимость в затрате физических усилий. Ненужными, выброшенными за борт оказываются и такие качества как терпение, взаимопомощь, настойчивость. В конечном итоге развитие технических приспособлений способствует процветанию гедонизма, идеалом которого становится пустая красивость. Даже сам результат обесценивается вследствие редукции трудового процесса, который ранее обязательно ему предшествовал.
Таким образом, на самом простом примере Имамити показывает, как технология, давая человеку известные преимущества, одновременно награждает его и многочисленными пороками. Сокращение, фактически исчезновение трудового процесса приводит, считает японский эстетик, к катастрофическим последствиям для природы человека. Ведь трудовой процесс, который всегда должен разворачиваться во времени – это одна из составляющих развития интеллекта. Элиминируя время, техника ведёт к утрате привычки упражнять интеллект. Кроме того, она ведёт к элиминации многих непосредственных чувств и эмоций, веками присутствовавших как неотъемлемая сторона полноценной человеческой жизни. «Поскольку технология сокращает время, она представляет собой существенную угрозу человеческому существованию <…> Здесь, – предостерегает Имамити, – кроется опасность для человеческого мышления. В самом деле, в технической среде мы должны демонстрировать стремительную реакцию на сигнал машины и тут размышление выступает синонимом замешательства».[341] С другой стороны, техника не только лишает человека временных процессов (темпоральности), а с ними вместе и способности полноценно мыслить и чувствовать, но и активно способствует появлению у человека новых «машинных добродетелей», таких как «точность» и «быстрота бессознательной реакции на сигнал». Получается, что техника активно формирует человека в качестве придатка машинного мира, основной целью которого является эффективность. Эффективность, таким образом, активно вторгается в аксиологическую сферу жизни человека, становясь одной из основных добродетелей. Таков закономерный итог оскудения временно́го опыта современного человека.
«С точки зрения «эко-этики», – пишет Имамити, – сегодня необходимо найти новое средство, которое могло бы компенсировать вовлеченность человека в антиинтеллектуальные реакции. Прежде всего мы должны вернуть темпоральность, а для этого подходит эстетический опыт искусства, потому что природа эстетического опыта состоит в темпоральности, он сам по себе – процесс».[342] Иными словами, Имамити считает, что искусство должно стать панацеей от превращения человека в живой придаток машины. Никто не станет отрицать, рассуждает философ, что в развитых странах техника приобретает вид относительно самостоятельной и как бы самовоспроизводящейся сферы: «Существует самостановление технических связей, поскольку они имеют свою логику (а именно: калькулированный язык знаков) и свою собственную аксиологию (а именно: иерархию эффективности без жизни, в которой могут быть найдены некоторые новые добродетели, такие, например, как правильность без истинности, ответственность по отношению к знаку или пунктуальность). Мы уже увидели, что через влияние самостановления технических связей существует опасность внутренней дегуманизации. Но ведь и без этого вынужденная реакция, совершенно неосмысленная, является насущной необходимостью жизни индивида в условиях машинной среды».[343]
Естественно, что возврат к ремесленному производству, при котором темпоральность присутствует на всех этапах трудового процесса, исключен. Машинное производство будет и дальше прогрессировать, освобождая человека от многих трудоемких операций, но попутно лишая его «времени для размышления» со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.[344] Этот процесс необратим, однако искусство может стать противовесом силе техники, деструктивной по отношению к сознанию человека: «Чтобы возродить темпоральность, мы должны открыть культурный феномен, сущность которого заключается в процессе. Эстетический опыт – по сути процесс, темпоральность. Ведь мы не можем иметь эстетический опыт без времени ни в области творчества, ни в области восприятия. Следовательно, искусство, вынуждающее нас восстанавливать темпоральность, является на сегодняшний день важнейшей сферой деятельности человека, который чахнет в технической среде. Вот почему нам совершенно необходимо иметь эквивалентное самостановление искусства как средство для спасения человеческой природы, как оружие против самостановления технических связей».[345]
Таким образом, Имамити высказывает два важных положения: искусство, как в процессе своего производства, так и в процессе восприятия, требует работы сознания и чувства во времени; чтобы эффективно противостоять технике, искусство должно формировать как минимум такую же реальность, как и техника, т. е. обладать независимым, автономным содержанием и языком, вследствие чего данная реальность должна регенерироваться.
Порочность, на наш взгляд, концепции «автономии искусства» Имамити Томонобу заключается в том, что он рассматривает искусство, научную технологию, политику и т. п. как борющихся за место под солнцем субъектов социального действия. Действительно, истинное искусство всегда будет противостоять машинной среде, точно так же, как любая индивидуальность противостоит унификации. Но искусство не существует само по себе, оно, так же как и машина, является продуктом деятельности человека. И вопрос об «автономии», по нашему мнению, должен стоять иначе: как не допустить, чтобы в человеке унифицирующее, машинное начало взяло верх над индивидуальным, самобытным? Сохранив самобытность и уникальность человека, мы сохраним и закономерный результат такой самобытности – полноценное живое искусство.
Профессор Имамити известен мировому философскому сообществу благодаря своему «новому силлогизму» и своей «философии будущего». «Силлогизм» остроумно отразил произошедшие в XX в. кардинальные изменения в жизни человечества. Он наглядно демонстрирует необходимость нового мышления не только на индивидуальном, но и на государственном уровне.
Вариантом такого нового мышления выступает «новая философия» Имамити, состоящая из четырех компонентов. У этой «философии» два ядра. Первое, вокруг которого формируются метатехника и урбаника, отражает проблемы, вызванные появлением новейших технологий. Второе ядро состоит из эко-этики и калонологии.
«Новая философия» претендует на всеобщность и общезначимость, однако в своей метатехнике японский эстетик исходит из технического уровня, достигнутого Японией, США и ещё пятью-шестью приближающимися к ним странами. Подавляющее же большинство государств находится в настоящее время на качественно ином уровне, поэтому ни о какой общезначимости метатехники не может быть и речи.
Что касается урбаники, то философское осмысление городской жизни, конечно же, нужно. Но гораздо важнее на данном этапе накопить позитивный опыт решения экономических, социальных, экологических, медицинских и других проблем больших городов. Кроме того, современная компьютерная техника последних поколений и Интернет обусловливают (пусть пока ещё слабо) обратную росту городов тенденцию – отток населения из мегаполисов в провинцию. Легкость связи с любым информационным центром, возможность для человека работать, не выходя из дома, как бы далеко он ни находился от главного офиса – приметы сегодняшнего дня.
Проблемы, рассматриваемые в рамках метатехники, характерны для наиболее развитых в техническом отношении стран, в то время как урбаника больше отвечает ситуации, складывающейся в развивающихся государствах, где как раз и происходит неумеренный рост городов.
Если же рассматривать проблемы эко-этики и калонологии, то они действительно актуальны. Имамити ставит крайне важный вопрос – о новом, экологическом, мышлении человека, когда он, как часть живой природы, впервые в истории должен выступить с нею заодно против злоупотреблений наступающей техносреды. Своевременность эко-этической проблематики очевидна: природа подвергается систематическому разрушению как в передовых в техническом отношении странах, так и в более отсталых.
Логике сторонников развития техносреды любой ценой должна противостоять гуманитарная наука, могущая оценивать такую логику, находясь за ее пределами. Имамити прав, что ядром такой гуманитарной дисциплины является аксиология.
Эстетическая равноценность всех чувств человека в японской культурной традиции
Прежде чем перейти непосредственно к теме нашего исследования, нужно обозначить ряд принципиальных моментов в истории духовной жизни Японии. Островное положение страны и изоляционистский характер политики её властей (на протяжении 1639–1867 гг. страна была закрыта для въезда иностранцев, а местным жителям запрещалось покидать её пределы) привели к закреплению в общественном сознании японцев канонических форм искусства, возникших в эпоху Камакура-Муромати (1192–1574) под влиянием буддийской философии. Как верно замечает Т. П. Григорьева, «естественность, ненавязчивость сопутствуют искусству Дзэн, которое и искусством можно назвать лишь условно. Это метаискусство, или Путь к самому себе, трудно объяснить словами, они не могут вместить полноту чувства или сверхчувства (ёдзё), позволяющего проникать в мир невидимый, истинно-сущий».[346]
Теоретики таких искусств, как мистериальный театр Но (Дзэами Мотокиё), чайный ритуал (Сэн Рикю), стихосложение (Соги) и составление цветочных композиций, в своих трактатах и устных наставлениях подчеркивали, что действия художника, творящего подлинное искусство, способны не только гармонизировать отношения между людьми, и отношения с природным Универсумом, но и обеспечить мир и процветание страны и её народа в целом. Такое понимание свидетельствует о сохранении черт весьма древнего синтоистского ритуального отношения к искусству. Иными словами, синтоистский религиозный ритуал до сих пор остаётся архетипом, духовной основой для всего позднейшего традиционного искусства, воспринявшего, кроме буддийских идей, также идеи даосизма и конфуцианства.[347]
Особенностью ритуализированной культуры является полная эмоциональная вовлечённость индивида в коллективные действия. Такие действия синхронизируют жизнь общины и природного континуума (персонифицированного в образах предков и божеств Неба), обеспечивая процветание общины. Индивидуум, принимающий участие в подобных действиях, вовлекается в происходящее всеми своими пятью чувствами и ощущает свою жизнь как единую с жизнью природы и общины, не выделяя себя из этого единства. Эта полнота бытия воспроизводится традиционным каноническим искусством в его синтетических формах, когда данные нескольких чувственных анализаторов человека активно выступают проводниками идеи изначального единства Человека и Универсума.
Заметим, что особенности традиционного искусства, наследуемые от древнего ритуала и вовлекающие индивидуума в общий поток жизни, который основан на природных ритмах, не являются особенностями лишь японского искусства. Примером подобного синкретического искусства выступает также индуистская храмовая архитектура и традиционное театральное искусство Индии.[348] Ещё раз повторим, что характерной чертой такого искусства является переживание художником полного слияния с мирозданием, происходящего на уровне тела и телесных ощущений, когда сердце мастера начинает биться в унисон с ритмом космоса. При этом художник ощущает себя неотъемлемой частью всей истории своего рода, начиная с глубокой древности.
Тело художника играет роль микрокосма и чутко откликается на малейшие воздействия потока природной жизни собственными изменениями (физическими, ментальными, эмоциональными, возрастными). При этом все органы его чувств являются открытыми «вратами восприятия» мира и основой надрационального синтетического знания об Универсуме. Через эти «врата» постигается и эстетическое знание. Важно отметить, что все пять чувств субъекта (если они не вызваны «грубой практической потребностью») могут выступать в качестве одухотворённых человеческих чувств и становиться неотъемлемыми компонентами чувств эстетических.
Показателен тот факт, что на Западе и в России в конце XIX в. сами творцы искусства – художники и поэты, а не философы-эстетики – остро почувствовали потребность применения всей чувственной палитры при создании и усвоении произведений искусства. Они пришли к выводу, что эстетические переживания и шире, и глубже только слуховых и зрительных ощущений и стали использовать синестезийный подход. «Синестезия» – это психологический термин, означающий эффект, образующийся, когда при раздражении одного органа чувств, наряду со специфическими для него ощущениями, возникают и ощущения, свойственные другому органу чувств.
Действительно, зрение и слух связаны крепче всех чувств с мышлением и деятельностью рассудка. Но остальные чувства сильнее связаны с такой способностью человека, как память. Они глубже укоренены в душе человека и способны ярко воскрешать картины, оставшиеся в далёком прошлом – в детстве, юности (вспомним О. Мандельштама, одной фразой возвращающего читателя к вкусовым ощущениям детства: «Так глотай же скорей // Рыбий жир петербургских // Ночных фонарей»). В эпоху наиболее активных творческих поисков в кон. XIX – нач. XX вв. многие крупные художники осознали исчерпанность традиционных выразительных средств в искусстве и осуществили ряд более или менее удачных синестезийных экспериментов в искусстве. П. Клее, А. Рембо, А. Крученых, В. Хлебников, В. Кандинский, И. Стравинский, А. Скрябин и другие творцы создали ряд замечательных художественных произведений, ориентированных на расширенное эстетическое поле восприятия.
В связи с этим хочется вспомнить имя выдающегося немецкого теоретика романтизма эпохи «Бури и натиска» Гердера (1744–1803). В своей статье «Пластика» он сделал ряд тонких и принципиальных наблюдений «синестезийного» характера, касающихся осязания как полноценного художественного чувства. Он не был согласен с устоявшимся мнением, будто живопись и скульптура воспринимаются зрением и только зрением. «Везде и всюду я видел, – пишет Гердер, – что живопись и ваяние рассматриваются вместе и прекрасное в них понимается как нечто единое, творимое и воспринимаемое одним чувством, одним органом души, а потому и действует одинаковым образом».[349] Учёный пришел к мысли, что в восприятии скульптуры главную роль играет не зрение, а осязание.
Для обоснования своей позиции Гердер обращается к конкретным примерам: а) слепорождённых людей (т. е. тех, для кого основной источник ориентации в мире – это осязание, а зрение не существует вообще, так как отсутствует соответствующий орган чувств); б) людей, из-за глазных болезней на долгие годы лишившихся зрения (т. е. тех, для кого зрение было, но перестало выступать в качестве важного чувства); в) людей в период младенчества, когда главными чувствами для ребёнка, осваивающего окружающее пространство, являются осязание и вкус, а зрение как полноценное чувство ещё только формируется. Гердер приводит суждение слепорожденного человека о зрении: «Зеркало представлялось ему машиной, отражающей объемные предметы; при этом он никак не мог понять, почему нельзя осязать этот объём».[350]
Гердер полагает, что осязание – это основополагающее чувство, которое дает человеку знание объёма, тяжести, фактуры, температуры предметного мира. Зрение на первых порах служит «подпоркой» в процессе человеческого познания, даёт знание о цвете и светотени. С течением времени этот «подпорочный» опыт забывается и зрение выходит на первый план, всё более широко используется «видящим индивидуумом», предоставляя информацию о гораздо более рафинированных областях. Однако осязание все равно подсознательно присутствует при зрительном восприятии.
Для более наглядного доказательства своей мысли Гердер предлагает вообразить человека, наделённого только зрением и лишенного осязания; он называет его офтальмитом. «Офтальмит, наделённый тысячью глаз, но лишённый осязающей руки, остался бы навеки в пещере Платона, и не имел бы понятия ни об одном из свойств объёмного тела как такового».[351] То есть без данных осязания мир предстал бы перед офталъмитом как некий цветной узор на плоскости, как подвижная цветная тень на сетчатке глаза. «Что такое непроницаемость, твёрдость, мягкость, гладкость, форма, очертание, выпуклость? – развивает свои идеи Гердер. – Об этом не может дать никакого живого телесного понятия ни глаз человека с помощью света, ни человеческая душа посредством самостоятельного мышления. Этими понятиями не обладают ни птица, ни лошадь, ни рыба, они присущи лишь человеку. Причем присущи только потому, что, наряду с разумом, человек обладает ощупывающими, осязающими руками. Чем больше он осязает предметы как таковые… тем живее будет его чувство».[352]
Тем не менее, А. В. Гулыга в своей монографии о Гердере отвергает любую возможность рассмотрения осязания как основы полноценного духовно-художественного переживания. Германский эстетик, по словам Гулыги, «не видит разницы между эмоцией эстетической и практической. Об эстетическом значении осязания можно говорить только в переносном смысле, как об осязании глазами».[353] Но ведь это не так! Немецкий философ приводит свои аргументы о формировании человеческих чувств именно с целью «реабилитации» осязания как полноценной основы для духовной эмоции. «Зрение, – заявляет Гердер, – разрушает прекрасную статую, а не создает её, оно превращает её в углы и плоскости и хорошо еще, если её прекраснейшая задушевная сущность, её полнота и округлость её форм не превратятся в сплошные углы отражения; совершенно очевидно, что зрение никак не может называться матерью этого искусства».[354] Размышления Гердера о том, что искусство в идеале должно активизировать всё чувствующее поле индивида, созвучны идеям современных ученых. Как отмечает А. С. Мигунов, «речь идёт о синестезии всех пяти человеческих чувств, умении легко и свободно переводить одно чувство в другое, представлять слово или образ в эквивалентном выражении, в звуке, в цвете, обонянии, осязании и вкусе».[355]
Обратим внимание, что элементы синестезии, лишь к XX в. (не считая гениальных прозрений Гердера) дошедшей до Запада, были, фактически, укоренены в японской художественной традиции. Приведём в этой связи характерный случай синестезии в творчестве известного поэта Мацуо Басё, о котором пишет исследователь японской культуры Дональд Кин: «Крики диких уток, что долетают с темнеющего моря, Басё воспринимает как белые всплески на чёрном фоне. Подобная взаимозаменяемость зрения и слуха присутствует в ряде знаменитых стихотворений Басё. Вот пример:
Аромат хризантем… В капищах древней Нары Тёмные статуи Будд. (Перевод В. Марковой)В этом позднем стихотворении (1694) Басё рисует облик старинного города Нара, упоминая одновременно терпкий и благородный аромат хризантем и покрытые пылью скульптуры с осыпающейся позолотой. Здесь зрение и обоняние словно дополняют друг друга, создавая незабываемый образ города, живущего прошлым» (курсив мой. – Е. С.).[356] Басё можно назвать непревзойденным мастером синестезии, смело сочетавшим в своих стихах вкусовые, звуковые и обонятельные ощущения:
Холодный горный источник. Горсть воды не успел зачерпнуть, Как зубы уже заломило. * * * Едкая редька… И суровый, мужской Разговор с самураем.[357] (Перевод В. Марковой)Напомним, что до широкого вторжения в Японию западной идеологии никто здесь даже не сомневался в принадлежности, например, чайной церемонии к полноценному искусству. Чайная церемония тяною, точно так же, как живопись, каллиграфия, теат ральное искусство, была неотъемлемой частью гэйдо – традиционного японского искусства. Однако под влиянием культурных авторитетов Запада японские деятели искусства вдруг засомневались в этом и чайную церемонию не включили во вновь появившееся понятие гэйдзюцу (искусство как профессия). На положении «бедного родственника» чайная церемония лишь условно вошла в семью искусств гэйдзюцу, получив название второсортного квази искусства.
А между тем всякий, кто хотя бы раз присутствовал на чайной церемонии мастера-профессионала, убеждается в правильности традиционно-японской точки зрения. Это вполне полноценное синтетическое искусство, специфика которого состоит в умножении художественно воздействующих факторов. Во время чайной церемонии на человека оказывается в несколько раз более сильное эмоциональное влияние, поскольку воздействие осуществляется сразу на все виды его чувственных анализаторов. Здесь на индивида активно направлен целый «синтетический пучок» искусств. Каждое из них само по себе высокоорганизовано, но их сплав дает новое качество, становится самостоятельным видом синтетического искусства.
Высокопрофессиональные, лаконичные, но исполненные своеобразной грации движения мастера церемонии, как его называют в Японии, ваби-тя; посуда, изготовленная прославленным художником прошлого; особенности архитектуры чайного домика и аранжировки сада, вид на который открывается из-за раздвинутых перегородок фусума; изысканный вид каллиграфической надписи или монохромного пейзажа, проступающих сквозь полумрак в нише токонома; изящество единственного цветка в уникальной вазе, стоящей в этой нише; терпкий вкус специально приготовленного чая (используется не любой чай, а лишь один специальный сорт); тонкий намёк на вкус изысканно сервированных традиционных сладостей – всё это создаёт ту самую «эстетическую ситуацию», в рамках которой только возможно восприятие деятельности мастера вабитя как истинного искусства. Отличие от искусства западного типа характеризуется здесь прежде всего двумя моментами.
Во-первых, субъект восприятия в традиционном японском искусстве выступает как гораздо более активный, нежели, например зритель в музее или театре европейского типа. Участник церемонии приближается, если провести аналогию с музыкой, к исполнителю, воплощающему нотную запись композитора в полнокровный звук. Данное обстоятельство не есть нечто необычное для традиционных японских искусств. Каждый, кто присутствовал, например, на спектакле театра Кабуки, знает, что поведение зрителей здесь отличается от поведения зрителей в европейском театре (мы имеем в виду общепринятые правила поведения, а не то, что может происходить в современном авангардистском театре, превращающем театральное искусство в хепенинг). Зритель чувствует себя здесь гораздо более «вовлечённым» в действие. Он иногда громко комментирует игру любимого актера, по ходу действия предвосхищает его реплики и т. д. Причём это не вызывает ни малейшего недовольства у самого актёра.
Участники, а точнее, исполнители-участники чайной церемонии, воспитанные в атмосфере традиционного искусства, знакомы с её каноном, и выступают не как пассивные потребители, но как настоящие сотворцы церемонии, без которых она теряет смысл, как теряет смысл музыка без исполнителя-слушателя. В данном случае, как и в случае с исполнителем-музыкантом, наблюдается своеобразный синтез рецептора и творца искусства.
Второй отличительный момент представляется нам гораздо более важным и специфическим, поскольку благодаря ему и объясняется бо́льшая активность японских зрителей-исполнителей, например, чайной церемонии: художественное воздействие на зрителя осуществляется через каналы всех пяти чувственных анализаторов.
Попробуем распутать синтетический «клубок» действующих факторов в чайной церемонии. Начнём с любого его материального компонента, ну хотя бы с чайной чашки, поданной нам мастером. Она делается из глины, абсолютно непрезентабельна с виду, к тому же – как бы недоделанная, несимметричная, стенки у неё разной толщины, шершавые. «Поставив чашку на татами, рука не должна двигаться по траектории следующего действия, но медленно прощаться с чашкой в режиме удержанного сознания (дзансин), как нехотя расстаются два близких друга. Для этого существует даже специальная техника дыхания – аибака, столь непростая, что её во избежание искажений сообщают начинающим мастерам только изустно (кудэн)».[358] Интересно, что красивой японцы считают не ту чашку, которая выглядит красиво, а ту, в которой целуют чай, ощущая губами приятную шероховатость поверхности чашки, при этом согревающей руку своим теплом. И впрямь, профессионализм создателя чайной посуды для церемонии следует оценивать не только и не столько глазами (в помещении царит полумрак, поэтому цвет и его оттенки неразличимы), сколько руками. Чашка говорит пальцам больше, чем глазам.
Соответственно и осязательный анализатор развит у японцев (в жилище которых всегда было темновато) не в пример тоньше, чем у западного человека. Вот почему внешний вид чашки столь уместен в полумраке чайного домика, когда её шершавая и неровная поверхность наилучшим образом приходится «по руке» участнику чайной церемонии. Однако та же чашка, помещенная в музей, при ярком направленном свете может привести в недоумение западного туриста своей вызывающей непрезентабельностью. Таким образом, чайная церемония вовсе не простое утоление физической или практической потребности. Здесь уместно говорить об особой работе осязательного анализатора в отношении созданного на его основе подлинно художественного произведения.
В произведениях классиков японской литературы можно обнаружить красноречивые примеры того, насколько бывает одухотворён и опоэтизирован осязательный анализатор. Так, известный японский писатель Танидзаки Дзюнъитиро (1886–1965) очень убедительно пишет о своём предпочтении деревянной посуды фарфоровой: «Прикосновение рукою к фарфору даёт ощущение тяжести и холода. Кроме того, фарфор быстро нагревается и неудобен для помещения в нем горячего. Неприятно для уха и его звяканье. Лакированные же изделия дают ощущение лёгкости, мягкости и не издают тревожащих ухо звуков. Я ничего не люблю так, как эту живую теплоту и тяжесть супа, ощущаемые ладонью сквозь стенки лакированной суповой чашки, когда берёшь её в руки. Ощущение это подобно тому, когда держишь в руках нежное тельце новорождённого младенца. Вполне понятно, почему до настоящего времени посуда для супа делается из лакированного дерева: посуда фарфоровая не в состоянии вызвать таких ощущений».[359]
Разумеется, можно возразить, что такая феноменальная осязательная чувствительность, присущая японцу, фигурирует у Танидзаки не в художественной, а в сугубо бытовой сфере. Но это не совсем так. Бытовая сфера сама по себе ставит условие функционального соответствия предмета прежде всего его утилитарному назначению. Этот аспект в мысли писателя, конечно, имеется. Однако не меньшее, а куда большее значение, по сравнению с потребительскими качествами суповой чашки из лакового дерева, писатель придает тем духовным ассоциациям, которые она способна пробудить в человеке.
Очевидно, что осязательный анализатор даже здесь, в бытовой сфере, выступает в одухотворённом виде, где чисто физиологический момент наличествует в «снятом», второстепенном виде. (Красноречивым подтверждением данного тезиса является опыт работы психологов со слепоглухорождёнными детьми, у которых не только эстетическое, но и все прочие чувства формируются лишь на основе осязательного анализатора.) Для того, чтобы осязательный канал восприятия выступил в качестве полноценного «воспринимателя» произведения искусства, надо, во-первых, чтобы существовало такое произведение; и, во-вторых, чтобы была создана соответствующая духовно-художественная ситуация. И то, и другое присутствует в искусстве чайной церемонии.
Отметим попутно, что европейская художественная мысль напрасно открещивается от осязательного анализатора как от принципиально «неэстетизируемого», грубого, неспособного к подлинному восприятию искусства. Скульптура, в частности, воспринимается не только через зрительный анализатор, хотя он, несомненно, выступает здесь ведущим. Сам скульптор, создавая произведение, в полной мере ощущает и тяжесть, и плотность, и шершавость, и гладкость своего творения. Он заставляет внимательного зрителя почувствовать все эти качества тоже, правда, не в тесном, физическом, непосредственном контакте со скульптурой, а в «снятом» виде. Осязательные характеристики выступают в данном случае в качестве средства передачи духовных характеристик художественного образа. Вероятно, в несколько меньшей степени это касается и работы живописца, стремящегося воспроизвести на полотне и донести до рецептора осязательные характеристики фактуры. Но, конечно, в японском искусстве чайной церемонии осязательный анализатор выступает не в пример активнее.
Более всего западная эстетика ополчается на обоняние и вкус, совершенно не допуская, что они могут служить каналами восприятия прекрасного. Основывается она при этом на положении И. Канта, что эстетическое чувство бескорыстно (незаинтересованно), удовлетворяет не биологическую, а духовную потребность. Вот что, например, пишет по этому поводу М. С. Каган: «Все искусства обращены только к зрительному и слуховому восприятию или к вырастающему на их почве воображению. Духовный смысл, идейно-эмоциональная содержательность искусства не могли бы быть восприняты носом, языком или рукой. Лишь глаз и ухо способны уловить и передать сознанию заключенную в художественных творениях духовную информацию».[360] Учёный также указывает, что немногочисленные попытки уравнять в правах все пять анализаторов ни к чему, кроме курьёзов, не приводили. Разве не нелепо утверждать, говорит он, что кулинария и парфюмерия – такие же искусства, как живопись и музыка? Кулинария и парфюмерия призваны удовлетворять прежде всего практические потребности людей. Тем не менее, я считаю, что человек является целостным одухотворенным существом, у которого все без исключения анализаторы выступают проводниками эстетического чувства. Другое дело, что в каждом конкретном случае не все они задействованы в равной степени (или их действие не всегда воспринимается нашим сознанием и проходит неосознанно), но всё же они всегда задействованы одновременно, как аспекты целостного человека. Мы уже говорили о том, что в эстетическом восприятии, например, скульптуры явно задействованы и зрительный, и осязательный анализаторы (естественно, в их одухотворенном виде). В искусстве составления ароматов явно – обонятельный и зрительный анализаторы, менее явно – все остальные. В искусстве чайной церемонии явно задействованы все пять анализаторов, что составляет её уникальность даже для стран Востока.
Теперь о самом «одиозном» для западного эстетика анализаторе – вкусовом. Обратимся к творчеству Танидзаки Дзюнитиро. Вот что он пишет о японском мармеладе ёкан: «Не находите ли вы, что цвет его тоже располагает к мечтательности? Это матовая, полупрозрачная, словно нефрит, масса, как будто вобравшая внутрь себя солнечные лучи и задержавшая их слабый грезящий свет, эта глубина и сложность сочетания красок – ничего подобного вы не увидите в европейских пирожных. А когда ещё ёкан положен в лакированную вазу, когда сочетание его красок погружено в глубину «темноты», в которой эти краски уже с трудом различимы, то навеваемая им мечтательность ещё более усугубляется. Но вот вы кладете в рот холодноватый, скользкий ломтик ёкана, и вам кажется, как будто вся темнота комнаты собралась в этом сладком кусочке, тающем сейчас у вас на языке. И вы чувствуете, что вкус этого не бог весть какого вкусного ёкана приобрел какую-то странную глубину и содержательность».[361]
Таким образом, мы видим, что в Японии, например, вкус мог выступать не только индикатором «съедобного – несъедобного», а и выполнять гораздо более универсальную, можно сказать, духовную функцию. Ничего общего с кулинарией здесь, на этом уровне, конечно, нет, Танидзаки сам говорит, что ёкан невкусный. Точно так же и подаваемые в ходе чайной церемонии сладости каси почти безвкусны, в них есть только намёк на вкус, а не вкус как таковой.
Существует и ещё одно обстоятельство, позволяющее отнести вкусовые ощущения к духовной сфере. Дело в том, что даосская традиция в Китае с древнейших времен была тесно связана с практикой врачевания. Именно даосы положили начало китайской медицине. Она, как часть континентальной учености была воспринята и в Японии, где даосизм был весьма влиятельной силой в культуре и искусстве. «С VII в. среди отшельников и части буддийского духовенства начала приобретать популярность даосская магия… Даосские влияния ощущаются и в традиционной японской медицине»,[362] – пишет А. Н. Игнатович. В Японии культура чая возникла не раньше IX в., и чай тогда воспринимался как одно из лекарственных снадобий. «Аристократам чай представлялся целебным напитком и, кроме того, ассоциировался с отшельниками и магами».[363] Чаепития практиковали и буддийские монахи. Эта традиция также пришла из Китая, где считалось, что «если долгое время потреблять горький чай, будет польза для намерений и мыслей».[364]
Даосы прославились поисками «элексира бессмертия». Считалось, что существуют «бессмертные», живущие высоко в горах. Средством поддержания здоровья до глубокой старости признавался, наряду с другими травами и минералами, горький чай. Согласно традиционной китайской медицине, у человека есть пять главных органов, которые лечатся пятью разными вкусами. Сердечную мышцу следовало укреплять именно горьким вкусом, каким и обладал чёрный чай. Напомним, что сердце на Дальнем Востоке считалось не только главным чувствующим, но и главным мыслительным органом, и поэтому чай обретал популярность как средство для укрепления разума и очищения чувств. Считалось, что чай придавал организму, наряду с чисто материальными, ещё и духовные качества.
В первоначальный период распространения чаепития в Японии оно культивировалось лишь малочисленными группами населения (аристократия, даосские отшельники, буддийские монахи). Настоящий расцвет чайный ритуал пережил в эпоху Камакура – Муромати, когда стал неотъемлемой частью культурного досуга самураев и утратил непосредственную связь с даосско-буддийской литургикой. Именно тогда были созданы его каноны, разработанные до мелочей. Смысл ритуала стал многослойным. Его суть – таинственно прекрасное, югэн, его природа – скудость, простота (ваби); его действие – холод (хиэта би); его вкус – тонкий (хосоми). Напряжённое огненное содержание (сущность) и холодное скудное проявление (форма) – это квинтэссенция понятия югэн (сокровенно-прекрасного), в которой внутренняя напряжённость контрастирует с внешним бесстрастием. Под знаком югэн создавались классические виды искусства Японии: мистериальный театр Но, монохромная живопись тушью, искусство ландшафтного сухого сада, а также группа воинских искусств.
Искусство чайного ритуала вобрало в себя несколько видов традиционного искусства: элементы театрального действия; искусство каллиграфии и монохромного пейзажа; искусство составления ароматов; начальную ступень искусства икэбана; архитектуру; искусство ландшафтного сада. Само чаепитие с его горьким послевкусием является, как и все перечисленные компоненты, именно духовным переживанием, полным богатых культурных ассоциаций.
Ещё раз повторим, что человек как субъект художественного восприятия отнюдь не выступает лишь как обладатель зрения и слуха. Напротив, богатство всех без исключения ощущений и чувств, «снимаясь» в одухотворённом чувстве, определяет возможность полноценного восприятия искусства. Другой вопрос – доля участия этих одухотворенных чувств: она разнится в зависимости от вида искусства и в ещё большей степени – от конкретного региона и его художественных и прочих традиций.
Существует и ещё одно, весьма важное обстоятельство, позволяющее понять значение трёх якобы не совсем полноценных анализаторов. Прав современный японский эстетик Кобата Дзюндзо, считающий практику религиозного опыта источником своеобразного синтеза традиционных восточных искусств.[365] В местах, священных для синтоизма, и в буддийских храмах (как, впрочем, и в христианских, и в мусульманских) практиковалось возжигание благовоний – считалось, что так создается духовный мост между человеком и божеством. Возжигание благовоний во время чайного ритуала имеет определённо храмовое происхождение. О глубокой семантической связи «мотивов благовония и молитвы» пишет культуролог Ш. М. Шукуров: «Благовония – это указание на духовное миро, благодать Святого Духа».[366]
Подобно обонятельным, духовную окраску приобретают тактильные и вкусовые ощущения. Ш. М. Шукуров напоминает в этой связи об опыте Святого Причастия у христиан, о тактильном опыте иудеев и мусульман: «Евреи дотрагиваются в плаче до скалы Мориа. Так же ведут себя и наиболее экзальтированные мусульмане во время обхода Каабы».[367] Тактильные, обонятельные и вкусовые ощущения в ситуации соприкосновения со святыней – это переживания, весьма далёкие от бытовых, утилитарных.
Но даже в «светском» употреблении запахи отнюдь не были лишь индикаторами, имеющими сугубо практическую ценность. Отметим, что способность воспринимать запахи дана человеку от рождения и сильнее всего выражена у новорожденного младенца. За первый год жизни эта способность теряется на 40–50 % и в дальнейшем только ослабевает. Лишь некоторые люди – «нюхачи» обладают в зрелом возрасте «абсолютным нюхом», подобным абсолютному слуху музыканта. Они могут раскладывать запахи на составные части.
Приведём для наглядности несколько профессиональных описаний запахов всем известных эфирных масел: Ветивер. «Основной аромат дымно-земляной, сухой, терпкий. Оттенки тональности: верхний – горький; средний – пыльный, песочный; нижний – сладковатый». Вербена. «Основной аромат утончённо-леденцовый, свежий, слегка терпкий. Оттенки тональности: (вербена – редкое масло, имеющее два дополнительных тона) тон льда – леденцовый; верхний – зеленоватый, средний – зеркальный; нижний – звонкий, прозрачный; тон жара – терпкий, песчаный». Мандарин. «Основной аромат праздничный, тёплый, фруктово-сладкий, сухой. Оттенки тональности: верхний – весёлый; средний – свежей моркови; нижний – пушистый».[368] Характеристики эфирных масел – этих молекул, из которых собираются ароматы, взяты из арсенала всех пяти чувств, плюс еще кое-что, не поддающееся чувственной классификации. «Зеленый, прозрачный, яркий, светлый» – это от зрения; «звонкий, приглушённый» – от слуха; «леденцовый, горький, терпкий, сладкий» – от вкуса; «сухой, холодный, пушистый» – от осязания; «кожаный, талого снега, свежей моркови» – это от главного анализатора – обонятельного. А вот к какому анализатору отнести весёлый и зеркальный – сказать сложно.
В Японии в эпоху раннего Средневековья существовало искусство составления ароматов. Оно имело свою любительскую модификацию – игру «угадай аромат», когда аристократические дамы и кавалеры должны были разложить предлагаемый аромат на его составляющие оттенки. Неслучайно имена героев знаменитого романа Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари» (ок. 1008) – Ниоу и Каору означают, соответственно, «аромат» и «благоухание». Считалось весьма престижным иметь свои собственные духи, аромат которых составлен самостоятельно. Отметим, что у этих двух молодых героев духи были отменного качества. Японские профессионалы выделяют такие оттенки запаха как «земляной», «песчаный», «пыльный». Эти оттенки ведут своё происхождение от следующего обычая. В старину паломники, воины и странники носили на груди в качестве талисмана мешочек с родной землей. Затосковав по родным местам, они вдыхали аромат отчизны, а если умирали, то эта земля помещалась к ним в могилу. Между прочим, индейцы Северной Америки также с помощью запахов умели «ловить» воспоминания. Мужчина носил на поясе герметические коробочки с сильно пахнущими веществами: маслом из коры каскариллы, ароматической смолой, горсткой земли из родного края. Когда ему хотелось вспомнить что-то давно забытое, он подносил к носу одну из коробочек и ностальгировал.
Запах накрепко связан с памятью. «Любая ситуация имеет фоновую ароматическую нагрузку… И именно поэтому нам чисто ассоциативно могут быть неприятны некоторые милые и простые ароматы, неосознанно воспроизводящие в нашей долгой памяти негативные ситуации».[369] Так что запахи, будучи теснейшим образом связаны со значимым прошлым, вполне могут стать основой если не для существующих, то для возможных в будущем новых форм искусства.
Интересно, что Ниси Аманэ (1829–1897), японский автор понятия «эстетика» (бигаку) подобно западным философам считал обоняние (наряду с осязанием и вкусом) второстепенным чувством, но совсем не потому, что оно якобы не столь прочно, как зрение и слух, связано с рассудком. Ущербность обоняния, считал он, в том, что «удовольствие, получаемое от глаз и ушей, может быть разделено многими людьми одновременно, а от остальных трех – зависит от органов каждого человека».[370] Однако с нашей точки зрения, именно то, что эти три анализатора прочнее, чем зрительный и слуховой, связаны с личной памятью человека, т. е. с его значимым прошлым, – именно это обстоятельство позволяет видеть в них основу всякого эстетического опыта.
Отчего же европейские учёные решили выделить только два анализатора и отдать им предпочтение перед остальными? Вероятно, все дело в их европоцентристской, методологически ограниченной точке зрения на культуру и искусство. Среди многочисленных примеров, используемых западными (и российскими) эстетиками при выстраивании своих концепций, нет ни одного, взятого из сокровищницы искусств Востока. Если бы в арсенале современной западной науки содержались наблюдения, касающиеся особенностей формирования эстетических чувств на Востоке, её положения и выводы были бы гораздо содержательнее и объективнее.
«Бесформенность и форма» в традиционной японской эстетике как основание национальной культурной идентичности
В последнее время необычайную остроту приобрела проблема цивилизационной идентичности, указывающей на принадлежность индивидуума к определённой общности, привязанной к географическому ареалу и выступающей носителем «таких религий, идеологий, социальных практик и культурных стилей, которые в совокупности составляют особый образ „человечества“».[371] Есть и чисто субъективные вопросы, связанные с идентичностью. Каждый человек воспринимает свою идентичность в рамках соблюдения этнических, религиозных, гражданских, профессиональных, семейных обязанностей.
Однако существует и другая, необъективируемая часть личной, подвижной идентичности в «вечном настоящем» – не измеримая, но выражаемая ощущением «я живой». Этот аспект идентичности имеет различные перетекающие друг в друга модусы-состояния (любовь, привязанность, восторг, сомнение, досада, обида и т. д.), которые через тело и телесные ощущения связаны с мировым континуумом. В дальневосточной философии непосредственное, постоянно меняющееся личностное знание-состояние, органично вписанное в перемены Универсума, постулируется как основа всякого знания о мире.
Выявление такого непосредственного знания-состояния есть главная цель духовной традиции и эстетической мысли Дальнего Востока. В ней подчёркивается приоритет «бесформенного», текучего аспекта Бытия над его фиксированными формами. Это явственно звучит в древних трактатах китайских мудрецов Лао-Цзы (VI–V вв. до н. э.) и Чжуан-Цзы (369–286 до н. э.), а также в произведениях известных японских теоретиков искусства, таких, например, как Кукай (774–835) и Камо-но Тёмэй (1153–1216).
Японская эстетическая традиция, испытавшая сильнейшее влияние китайской мысли, опиралась на идею о том, что скрытый подвижный порядок бытия – Дао постигается человеком не рассудочным познанием (хотя и не без участия последнего), а всем его целостным телесно-духовным существом. Одухотворённое тело человека, понимаемое как средоточие, с одной стороны, «форм», сообщаемых органами чувств, а с другой стороны – «бесформенного», на невидимые и неслышимые токи которого отзывается сердце-кокоро – является неким телесно-ментально-сенситивным органом. Органы пяти человеческих чувств – «врата восприятия» вещного мира – нацелены на схватывание вещных «форм»; кокоро же предназначено для восприятия «бесформенного», для проникновения в бесчисленные метаморфозы тёмного динамического первоначала Универсума – Дао. В пантеистическом учении даосизма постулировалась невозможность постижения сути Дао в знаковой форме. Следуя этому учению, теоретики японского искусства пришли к мысли об относительной второстепенности формы художественного произведения по сравнению с его содержанием – неявленным, мерцающим, неопределённым. Именно «бесформенное» – чувства, эмоции, тончайшие переливы природных сезонных превращений – главная тема японского традиционного искусства. Поэтому интерес искусства направлен в сторону не того, что меняется, а в расплывчатую область между: между природными объектами, промежутки которых заполнены текучими, бесформенными водными и туманно-воздушными потоками; между словами (котоба), лишь «приоткрывающими щёлки» для шествия смысла и чувства (кокоро). Вот почему в художественных трактатах основной упор делается не на то, что должно быть выявлено в произведении, а, напротив, на то, что должно быть скрыто.
Исторически первым видом искусства в Японии была поэзия, изначально неразрывно связанная с ритуальными и магическими практиками, чем объясняются её ритм, размер и структура. Наиболее ранними известными нам произведениями устного творчества являются тексты молитв (норито) и указов императора (сэммё), которые восходят ко II в. н. э. и содержат устойчивые сакральные словосочетания. Они передавались из поколения в поколение как магические клише, способствовавшие гармонизации ритмов природы и соотносимых с ними ритмов жизни общественного человека.
То, что непосредственная передача сакральных текстов в дописьменной традиции необходимо приобретала черты формульности, неслучайно. «Ведь именно формулы представляют собой важнейший, мнемонический приём, позволяющий сохранить память о чём-то. Такой способ передачи информации во времени предполагает употребление многочисленных вариантов формул, за которыми скрывается инвариант – информация, подлежащая хранению и передаче».[372] Иными словами, сквозь символические формы текстов здесь как бы «просвечивала» текучая бесформенность инварианта, отражавшего сущность Дао и заключавшего в себе его красоту.
Интересно, что после усвоения японцами иероглифической письменности, пришедшей из Китая, первый свод мифов и одновременно первая историческая хроника «Кодзики» подразумевал именно устную форму воспроизведения.[373] Даже после возникновения собственной фонетической системы письма в художественной традиции Японии продолжало сохраняться представление о магическом источнике формул. Поэтически организованная речь воспринималась как «божественная»: «…это слова богов, которые «надиктовываются» их жрецу-медиуму».[374] Испускаемые его сердцем, эти магические слова достигают пределов большого и малого, движут Небом и Землёй, способны затронуть чувства мужчин и женщин и даже воздействовать на богов и демонов.
Истоки эстетических воззрений японцев содержатся в древнекитайских текстах: даосских, конфуцианских и буддийских. Широкое проникновение на острова всех трёх учений началось в VI в. Хотя тексты часто противоречили друг другу, китайская учёность воспринималась японцами как единое целое. Эти «учения заимствовались и осваивались как содержание текстов, написанных на китайском языке, вместе с освоением самих китайских "письменных знаков". При этом взаимная критика трёх учений также была усвоена вместе с ними как готовый жанр, не только возможный, но и обязательный».[375] Книга-поэма «Дао-дэцзин», принадлежащая по всей видимости перу китайского мыслителя Лао-Цзы и посвящённая по сути описанию, выражаясь словами современных учёных, «невыразимой, бесформенной подложке бытия, прасреде»,[376] стала одним из главных сочинений, составивших теоретический фундамент традиционной японской эстетики.
Основным источником творческого процесса и целью искусства японская художественная традиция объявляла Дао – непередаваемую в конечной форме, но ощутимую «подложку Бытия», пронизывающую тело и разум художника-медиума. Прикосновение к Дао оставляет тень, след, послевкусие и аромат, которые передаются аудитории в спонтанно, экспромтом созданном произведении.
Главной задачей дальневосточной эстетики было выявление праосновы Бытия в той форме, которая бы не скрывала, а, наоборот, обнажала непрерывную текучесть, зыбкость жизни, её вечный круговорот. Говоря об этой праоснове, автор «Даодэцзина» восклицает: «В хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! О! Беззвучная! О! Лишённая формы!».[377] Здесь используется иероглиф дзяку, обозначающий зыбкость, неясность, невыраженность, смутность; впоследствии этот же иероглиф с чтением саби стал обозначать одну из центральных: «Я не знаю её имени. Обозначая иероглифом, назову её Дао».[378] Дао невидимо, неслышимо, неощутимо. Оно бесформенно: «И вот называют его формой без форм, образом без существа».[379] Буквально речь идёт об образе без «вещности», т. е. о невоплощённом образе. Неслучайно в «Даодэцзине» подчёркивается, что обычный человек может познавать только конечные, вещественные, т. е. воплощённые формы.
Последователь автора книги «Даодэцзин», Чжуан-Цзы, указывает на присутствие этой бесформенной «пустотной» силы Дао в одинаковой степени и во внешнем мире, и в человеке. Однако не каждому удаётся уловить её молчание: «Веселье и гнев, печаль и радость, надежды и раскаяние, перемены и неизменность, благородные замыслы и низкие поступки – как музыка, исторгаемая из пустоты <…> И неведомо, откуда всё это? Но да будет так! Не от него ли то, что и днём, и ночью с нами? Как будто бы есть подлинный господин, но нельзя различить его примет (букв.: его форма невидима и неощутима. – Е. С.)».[380] У Чжуан-Цзы уже есть градация форм: это воплощённая, «вещественная», форма, форма речи и форма мысли. О них можно поведать, им можно научить: телесная форма – это, что может быть выражено словами, – грубая [сторона] вещей; то, что может быть постигнуто мыслью, – тонкая [сторона] вещей; за пределами тонкого и грубого – то, что словами выразить нельзя; то, что не обладает телесной формой, не может быть разделено для подсчёта».[381]
Эманации Дао абсолютно аподиктичны, но поскольку постижение этих эманаций – дело личностного познания мира, мудрец в состоянии лишь обозначить направление движения к такому познанию. Чжуан-Цзы пишет о Дао: «Путь существует доподлинно и внушает доверие, даром что не действует и не имеет облика. Его можно воспринять, но нельзя передать, можно постичь, но нельзя увидеть».[382] Дальневосточное знание, таким образом, есть знание практическое, приобретаемое совокупным телесно-ментально-сенситивным образом.
Органический сплав собственной индивидуальной жизни с жизнью Универсума при высоком профессиональном мастерстве – то, к чему стремится художник-неофит, – должен быть преподан в непосредственной форме – «от учителя к ученику». Вот почему тексты трактатов, созданных в цеховых рамках главами так называемых художественных Домов – иэмото, являются лишь «информационной составляющей» знания о профессии. Другая, важнейшая часть – это знание о «чувственных состояниях», ведущих обучаемого вверх по лестнице профессионализма. Такое знание буквально «впитывается» новичком из атмосферы живой традиции, созданной главами иэмото.
В наибольшей степени это проявляется в каллиграфии, которая всегда считалась «портретом души» автора. Как отмечает искусствовед С. Н. Соколов-Ремизов, в странах иероглифической культуры: в Китае, Корее и Японии – «искусство каллиграфии было разработано в деталях и с древнейших времён занимало особое, первенствующее среди других видов искусства место».[383] Искусство каллиграфии, заключённое, с одной стороны, в жёсткие формальные рамки, с другой стороны, являлось «прорывом к бесформенному» через работу руки, т. е. тела каллиграфа. Последний фактически пишет свой живой образ. По характеру письма опытные мастера могли определить настроение, возраст, состояние здоровья и даже пульс автора. Каллиграфия – это след спонтанного движения (тушь наносится единожды и без поправок, как и в искусстве монохромного пейзажа), и написанное делает очевидным, насколько достойным человеком является автор, насколько у него чистое сердце. Ведь именно сердцем он улавливает токи Дао, передаваемые руке. «Гармония и равновесие», «тяжесть и лёгкость», «жирность и костлявость», «скелет и мясо», «ритм и сила», «плоть и дух» – вот как характеризуются произведения каллиграфии.
Почерк человека западной культуры свидетельствует о многом: о его поле, возрасте, характере, состоянии здоровья, настроении – всё это может расшифровать опытный графолог. Но во сколько же раз большее знание даёт иероглифика! Ведь след кисти – это тень движения жизни, прошедшей сквозь тело каллиграфа, и в этом смысле это тень самого человека. Она не одной с ним природы, но о многом в отношении него свидетельствует. Неслучайно иероглифы могли быть «живыми» или «мёртвыми», «здоровыми» или «больными».
В идеале иероглиф должен быть похож на здорового человека, наделённого большим запасом внутренней силы. В иероглифе различаются «голова» и «ноги», «грудь и позвоночник». Будучи написан рукой мастера, в совершенстве владеющего кистью, иероглиф обладает чёткой формой, но всё же говорит о главном – о бесформенном, т. е. о живом синтезе целостного человека с подвижной целокупностью мирового континуума.[384]
Канон, полускоропись и скоропись – три способа письма, соответственно которым форма иероглифов меняется от жёсткой, угловатой, резкой по своим очертаниям – до текучей, зачастую почти нечитаемой (травяная вязь – сосё). Эти формы суть матрицы не только для каллиграфии и живописи. В искусстве ландшафтных садов канон (син), полускоропись (гё) и скоропись (со) – те же три вида форм, используемых художником для решения соответствующих эстетических и мировоззренческих задач.[385]
Мы уже отмечали, что в VI в. в Японию из Китая через Корею пришёл буддизм, для которого характерно представление о текучести и непостоянстве явленных форм бытия, одна из которых – человек со всей его телесно-ментальной организацией. Под влиянием буддизма мировосприятие японцев обрело новые черты. «То, что обычно человек принимает за своё неизменное Я и за внешний мир, доступный ему, буддисты описывают как поток, где нет «меня» и «мира», а есть изменчивые сочетания дхарм».[386]
Непостоянство (мудзё, хаканаси) как главная характеристика жизни человека, стало основной темой поэзии и прозы блистательной эпохи Хэйан (784–1195). Знаток этой эпохи, учёный-искусствовед и эстетик Караки Дзюндзо утверждает: «Литература „женского потока“», в деталях разработавшая эстетику моно-но аварэ – печального очарования, одного из ликов «прекрасного» в Японии, не менее активно обращалась к теме непостоянства такого очарования».[387]
Главным средством гармонизации душевной жизни стала, по мнению крупнейшего философа Японии первой половины XX в. Ониси Ёсинори (1888–1959), эстетизация настроения печали, преодоление его в творчестве и обыгрывание в реальной жизни.[388] В результате у японцев сложилось особенное мировоззрение, для которого характерно находить горькое очарование в любовании самыми непрочными формами Бытия: облетающим при дуновении ветра вишнёвым цветом весной или яркими, но недолговечными кленовыми листьями осенью.
Глубины буддийской философии вряд ли были интересны аристократам, создававшим художественную атмосферу Хэйана. Их интересовала главным образом его эстетическая сторона. Школы хэйанского эзотерического буддизма, Сингон и Тэндай, разделяли общебуддийское положение о единосущности духа и тела (синдзин итинё) и о недвойственности вещественности и разума (сикисин фуни). Это положение рассматривалось в практическом ключе, скорее как отсутствие чётких границ между тремя «измерениями» человека: вещественным (формы деяний), словесным (менее грубые звуковые формы), и ментальным (текучие, слабо оформленные потоки мыслей).
Основоположник учения Сингон, поэт, каллиграф, теоретик искусства и просветитель Кукай (Кобо Дайси), во Вступлении к «Списку привезённых и преподносимых вещей» писал: «Дхарма не имеет речи, но без речи выражена быть не может. Вечная истина превосходит чувственное, но лишь посредством чувственного может быть постигнута <…> В действительности сокровенное учение столь глубоко, что трудно выразить его на письме. Однако с помощью картин неясности могут быть рассеяны».[389] В каком же случае художественное произведение может «рассеять неясности»? Только в случае, если сама неясность, дуновение непостижимой сути бытия, просочится сквозь внешнюю форму.
В известной буддийской сутре «Праджняпарамита хридая» цитируются слова Шакья Муни, с которыми в бытность свою Бодхисаттвой он обратился к ученику:
О, Шарипутра! Обладающие формой вещи Не отличны от Пустоты, Пустота не отлична от формы, Форма и есть Пустота. Пустота и есть форма.[390]Таким образом, наиболее истинная форма в буддизме – это бесформенное Тело закона (хоссин). Однако для непросветлённого сознания оно проявляется в нескольких разновидностях формы: от почти неопределённой текучей формы мысли – через форму слов – до отвердевшей вещественной формы ощутимого мира.
Со времен эпохи Хэйан теоретики искусства противопоставляли форму (в любой её ипостаси) «сердцу» – кокоро. Как уже говорилось, именно сердце в традиционной эстетике Дальнего Востока постигает «форму бесформенного», «звук беззвучного» – т. е. тонкость бесчисленных и непрерывных метаморфоз Дао, встраиваясь в невидимые сети перемен, опутывающих бытие. Иными словами, таинственная глубина первоосновы Универсума, из которой «всплывают» все вещи вместе с их формами, доступна только сердцу. Интересное развитие представления о познании человеком «невидимой», «неявленной» красоты мира получает у известнейшего поэта Мацуо Басё (1644–1694), который концептуализировал понятие «странствие», превратив его в один из традиционных символов целостного, телесно-ментального восприятия действительности. Переживание длительных неудобств, связанных с пешим паломничеством, непосредственное наблюдение смены времён года, «встраивание» в неспешный, но неуклонный ритм природы, давало художнику ощущение того, что он творит «на границе своего я и Универсума, сливаясь с природой».
Для современного японца, привыкшего иметь дело с чётко структурированной теорией, объясняющей человеческую природу при помощи статичных категорий и представлений, такие «телесные» понятия традиционной эстетики, как саби, сиори, ваби, ниои, хибики, уцури, хосоми, достаточно темны. Все эти категории средневековой японской эстетики описывают целостный опыт «разума тела», который является подчинённой частью общего разума Природы (Универсума), называемого Дао в конфуцианстве и даосизме и Дхармакайя (тело Закона) в буддизме. Наиболее характерным в этом отношении является понятие сиори, означающее «просачивание», «проникновение». Оно демонстрирует нечёткость, расплывчатость, подвижность границы между я и миром, субъектом и объектом.
Начиная с Хэйанской эпохи и вплоть до XIX в. изображение неявленного считалось главной задачей искусства; подобная же задача ставилась и перед поэтами. Авторы поэтик X в., такие как Ки-но Цураюки, Ки-но Ёсимоти, Мибу-но Тадаминэ учили, что главное в художественном произведении – его скрытое содержание, навеваемое стихотворной формой, но не сводимое к ней. Их представления получили воплощение в стиле ёдзё, или амари-но кокоро (букв. «избыточность, переполненность сердца»). Написанное в этом стиле стихотворение должно оставлять после своего прочтения эмоциональный след, долго сохраняющийся аромат. «Обусловленная сжатостью стихотворного поля, эта суггестивная форма выражения становится со временем неотъемлемым элементом поэтики японской микроформы – танка и хайку».[391]
Тогда же впервые появляется и понятие югэн (скрытая красота; прекрасное, как таинственное и неявленное) в отношении песен, особенно старинных, с неясным для современников смыслом. Мибуно Тадаминэ указывал, что «путь речи прерывист, и тайное остаётся тайным».[392] По его мнению, смысл стихотворения должен просачиваться сквозь промежутки между словами, как вода сквозь сито.
Писатель и поэт, известный под именем Камо-но Тёмэй (1153–1216), считал наличие свойства ёдзё обязательным признаком истинного произведения искусства. В трактате «Мумёсё» (Записки без названия) он сравнивает понятия ёдзё и югэн: «Ёдзё – это то, что не определяется словами и не раскрывается в форме стихотворения <…> Все аспекты формы в поэзии трудны для понимания. Хотя старинные коллекции устной поэтической традиции и поэтики подробно наставляют читателей, когда доходит дело до понимания формы, мы не находим в них ничего конкретного. Особенно это справедливо по отношению к понятию югэн, одно название которого обескураживает. И я тоже, не очень хорошо понимая его, нахожусь в замешательстве, пытаясь описать его в приемлемом виде. Хотя, согласно мнению тех, кто глубоко проник в таинственную сферу югэна, главное находится в ёдзё, которое не может быть выражено словами, и в той атмосфере, что не может быть раскрыта посредством формы стихотворения. Это непостижимо для нечувствительных людей или людей с мелким сердцем».[393]
Подобно большинству традиционных японских теоретиков искусства, Камо-но Тёмэй предпочитает не давать эстетическим понятиям точных определений. Он скорее очерчивает область, к которой относится их значение, и даёт пространные описания конк ретных ситуаций, где значение сложного понятия может быть не осмыслено, а прочувствовано читателем. Обратимся к тексту трактата «Мумёсё»: «Осенним вечером, например, небо пусто, птицы не поют, и хотя мы не видим особой причины для грусти, но всё же бываем растроганы до слёз. Человек, лишённый чувствительности, не находит ничего особенного в таком пейзаже, он восхищается только цветением вишен или алыми осенними листьями <…> Это можно понять только внутренним чувством. Опять же, если вы смотрите на осенние холмы сквозь сетку мелкого дождя, то можно уловить лишь намёк на алые листья, и вы, недовольный, в нетерпении пытаетесь в своём воображении представить, как приятно было бы видеть их в полной красе – но так ведь лучше, чем сказать о них прямо».[394]
Составители императорских поэтических антологий и авторы собственных поэтик, Фудзивара Сюндэй (1114–1204) и Фудзивара Тэйка (1162–1241), также утверждали, что в настоящей «песне» достигается понимание того, что творится за пределами явленного, и раскрывается недоступная обычным чувствам красота.
Следующие поколения авторов продолжают развивать и осмысливать эту традицию. Поэт и теоретик искусства, известный под именем Ёсимото Нидзё (1320–1388), высказал такую мысль: «В древности поэты слагали много длинных песен потому, что они не могли выразить глубокие чувства, переполнявшие их сердца».[395] Поэты Сётэцу (1381–1459) и Синкэй (1406–1475) стремились возродить стиль Фудзивары Тэйка – югэн тэй или стиль чарующей глубины, которому они отдавали предпочтение перед стилем аварэ тэй, или стилем печальной красоты поэта Ки-но Цураюки. Сётэцу определял югэн как «то, что находится в глубине сердца, но невыразимо в словах» или как «утончённое туманное мерцание, о котором ничего не скажешь».[396] Синкэй в своём трактате «Сасамэгото» («Слова, произнесённые шёпотом») продолжает мысли Камо-но Тёмэя: «Таинственная глубина и печальная красота, – пишет он, – находятся там, где нет логики и действуют сами вещи – моно».[397] Обращает на себя внимание тот факт, что при характеристике основополагающих категорий ёдзё и югэн поэт Синкэй говорит именно о форме – форме сердца (кокоросугата), или «сердечных образах». Философской теме взаимосвязи формы и бесформенного основания Бытия уделено внимание и в кодексе воинских наставлений «Бусидо» (Путь воина, 1716), известном под другим названием «Хагакурэ» (Сокрытое в листве). Он был написан Ямамото Цунэтомо, военачальником клана Набэсима. Путь воина, согласно кодексу, должен быть безупречен. Чтобы достигнуть этого, воин обязан «жить так, словно тело его умерло».[398] В этом жизнь воина сродни монашеской. Неслучайно те из воинов, кто доживал до 50–55 лет, т. е. возраста, когда в те времена наступала старческая немощь, принимали монашеский постриг и начинали заниматься духовным воспитанием молодёжи своего клана. Ямамото Цунэтомо, следуя традиции, в конце жизни также стал монахом. В своём трактате он почти дословно цитирует сутру «Праджняпарамита хридая», будучи уверен, что жизнь и смерть самурая суть иллюстрации следующей буддийской мудрости: «Жизнь в наших телах возникает из середины небытия. В существовании там, где нет ничего, заключается смысл фразы „форма – это пустота“. В том, что все вещи рождаются из небытия, заключается смысл фразы „пустота – это форма“»,[399] притом что всё возникает из бесформенного, крайне важны формы мысли, речи, поступка. Форма жизни на краю гибели – «путь самурая лежит через каждодневное переживание смерти»[400] – главная тема кодекса воина. Отчаянная, в условиях «здесь и теперь», решимость нацелена на «бесформенное», но проявлению решимости необходимо предшествует длительная «формальная» подготовка, такая, при которой наличествует не только форма действий воина в боевых и мирных условиях, но и форма его речи – обращения к выше– или нижестоящим воинам, к народу, к детям и другим членам семьи – и форма его мысли.
Сумма принципов поведения самурая выражалась общим понятием «достоинство». «Кажется, что для того, чтобы определить достоинство человека, достаточно одного беглого взгляда <…> Есть достоинство в безукоризненности манер. Достоинство может выражаться в движениях и жестах. Но всё это отражение на поверхности того, что скрывается в глубине. В конечном счёте, в основе всего этого лежит простота мышления и сила духа».[401] Так трактат давал представление о почти бесформенном – мышлении, и о фактически бесформенном – силе духа.
На примере «Хагакурэ» видно, что средневековый японец фиксировал внимание на двух сторонах жизни: бесформенной и оформленной, из которых первая отливается во вторую. Основные характеристики воина – верность, искренность, храбрость, гуманность, решимость – не имеют конкретной формы, но как бы «просвечивают сквозь» ритуализированные клише поведения.
Скрытую бесформенность прекрасного постоянно воспевали японские художники. Представитель старинной школы живописи Тоса, мастер Тоса Мицуоки (1617–1691) в трактате «Хонтё гахо тайдэн» (1690) указывал на необходимость наличия в произведениях искусства недосказанности ёдзё: «Хорош лишь тот художник, который не принимает живописи, где всё представлено в подробностях, где нет места недосказанности; этот художник скромен в самовыражении, но исполнен вдохновения. Неумелый художник – тот, чья живопись из-за нехватки вдохновения лишена какого бы то ни было содержания, кроме того, что изображено им на бумаге. Умелого художника отличает избыток чувства ёдзё, выходящий за рамки скромного изображения».[402]
Характеризуя художественную традицию Японии, современный учёный-эстетик Кусанаги Масао отмечает: «Красота чувственной избыточности – ёдзёби есть суть японского искусства, начиная с периода средневековья».[403] В XVIII в. Куваяма Гёкусю (1737–1812), представитель Южной живописной школы нанга-будзинга, в своём трактате «Кайдзи хигэн» (Критические слова о живописи, 1799) ратует за продолжение традиций древних мастеров: «Живопись художников Южной школы нацелена на возвращение древней утончённости, на поиски высшей красоты, когда чувства сердца выходят за пределы эфемерных форм».[404] Когда в середине XIX в. началось активное проникновение в Японию западного художественного вкуса, многие деятели японского искусства стали в противовес этому проводить традиционные национальные идеи. Художник Накабаяси Тикуто (1776–1853) уже в своей ранней работе «Гадо кангосё» (Записки о пути в живописи, 1802) определял цель искусства как «достижение изящных и глубоких откликов сердца, витающих вне картины, за пределами кисти и туши».[405]
Художественные поиски, связанные с эстетикой формы и бесформенного, затронули и сферу традиционного японского театра. Ещё в Средние века Дзэами Мотокиё, актёр и теоретик, основоположник мистериального театра Но заявлял, что буквальное подражание (мономанэ) – это низший вид подражания по сравнению с подражанием духу, идее. Технические приёмы, по Дзэами, не должны бросаться в глаза зрителю; зрительское восприятие как бы скользит над актёрскими приёмами. Называя суть театральной игры сокровенным «цветком», Дзэами писал: «Сокроешь – быть цветку; несокровенное цветком стать не может».[406] Его трактат «Фусикадэн» (Предание о цветке стиля) содержит ценные сведения о порядке достижения мастерства актёрами театра Но. К «истинному цветку», т. е. к вершине мастерства, синтетически сочетающей духовное и физическое совершенство с чарующей глубокой красотой югэна, актёр идёт по ступеням возрастного, духовного и профессионального становления. Постигая технические навыки и специальные формы (ката), он постоянно преодолевает сопротивление тела. Совершенное владение формами ката считалось обязательным достижением актёра. В театре Но существует трудное амплуа – роль с открытым лицом, без маски. Актёр, исполняющий эту роль, должен сохранять бесстрастное, спокойное выражение лица, проявляя эмоции не мимическими, а другими, скрытыми средствами. Именно такое «скрытое» воздействие на зрителя оказывается наиболее эффективным. Оно воплощает эстетику таинственного бесформенного югэна – эстетику живой одухотворённой красоты противоречивого тождества света и тьмы. Дзэами вывел некое подобие формулы, определяющей верховенство «невыразимого», «бесформенного» над оформленным: «Десять долей бесформенного душевного движения – семь долей внешнего оформленного выражения».[407]
Аналогичными были пути эстетических поисков и у теоретиков искусства чайной церемонии, таких как Мурата Сюко (1432–1520) и Такэно Сёо (1502–1555). Можно отметить их последовательную приверженность к духу вышеупомянутого поэта и теоретика искусства Синкэя, провозгласившего приоритет неявленной, глубинной красоты, не нуждающейся в усложнённой форме и открытом выражении. Отсюда и аскетический стиль чайного ритуала, в котором важен не физиологический процесс чаепития, а сопровождающая его церемония, направленная на духовно-телесное совершенствование человека; церемония, которая получила название «привязанность, любовь к безыскусному» (ваби ски).[408]
Понимание красоты как феномена, остающегося недопроявленным, не до конца явленным человеку в определённых формах, просуществовало вплоть до эпохи Эдо – Токугава (1603–1868). Тогда на авансцену истории стал выходить класс торговцев, до некоторой степени упростивший эстетический идеал средневековой эстетики ёдзё. Демократические вкусы этого быстро разбогатевшего класса, стремившегося купить за деньги всё, что продаётся, породил поверхностный идеал чувственной красоты (ики, суи), ориентированный на эффектность внешних форм. Тем не менее, идея о том, что и эта красота имела скрытую, неявную «подкладку», играла весьма важную роль в процессе восприятия художественных произведений.[409]
На рубеже XIX–XX вв. проблемами формы и бесформенного в Японии занимался родоначальник национальной философской эстетики Нисида Китаро (1870–1945). В предисловии к трактату «Даодэцзин» он, в частности, писал: «Спору нет, в ярчайшем развитии западной культуры, для которой форма есть Бытие и Добро творится, немало того, что заслуживает уважения и чему нам надо учиться. Но не скрыто ли в основе восточной культуры, доведённой нашими предками до совершенства, стремление видеть форму бесформенного и слышать голос беззвучного? Наша душа постоянно к этому стремится, и я хотел бы создать философию, отвечающую этому стремлению».[410]
Ученик Нисиды, профессор Имамити Томонобу (1922–2012), на основании подобных рассуждений своего учителя называет эстетику Дальнего Востока «эстетикой ветра», ведь ветер, наряду с водой, относится к главным философским метафорам Дао, предложенным основоположниками китайской традиционной эстетики Лао-Цзы и Чжуан-Цзы. Ни ветер, ни вода не имеют собственной формы; мы узнаём о присутствии ветра лишь по колебаниям ветвей деревьев и шуму листвы в их кронах, а изменчивость водной стихии наблюдаем по извивам гибких водорослей, покорных движению потока.[411]
Сквозная тема, поднимаемая Имамити, – это тема специфики формы в японском искусстве. В современном японском языке существует три варианта иероглифов, одинаково переводимых как «форма» – ката, катати и сугата. Однако в древней и средневековой Японии у каждого из них был свой определённый оттенок смысла, причём в искусстве Японии имело хождение и развивалось понятие формы типа сугата. А вот форма типа катати не получила теоретического развития.
Понятие катати выражает чёткую структурированность, относительную статичность, внешнюю выразительность (будь то форма поэтическая, языковая или живописная, архитектурная или музыкальная). Главной характеристикой катати, считает учёный, является то, что она представляет собой материализованное обстоятельство.[412] Одновременно с общими качествами она выражает и идеальную форму, присущую определённому виду предметов и в этом смысле примыкает к аристотелевскому понятию «энтелехия».
Ката получается как бы изъятием, извлечением из катати жёсткого, математически измеримого шаблона-модели. В качестве таковой форма-ката используется в первую очередь в массовом производстве (автомобилей, типовой одежды и пр.), но имеет значение «традиции», «обычая» и в таком виде служит основанием для форм ритуального поведения, принятого в обществе. В области искусства художник должен долго упражняться, используя традиционные модели-ката как образец, прежде чем приступать к созданию своего собственного произведения – новой формы-катати.
И, наконец, сугата – форма-образ, возникающий в сознании (в памяти) человека при восприятии (воспоминании) обеих вышеупомянутых форм. Эта форма наиболее эмоционально насыщена, у неё нет чётких очертаний; она имеет отношение скорее к сущности вещи, а не к её внешнему облику. Это некое «послевкусие», «след на воде», оставленный подвижным фрагментом бытия. В древнеяпонском языке семь иероглифов читалось именно так. Два из них играют особую роль в истории японской культуры. Первый употребляется для обозначения формы до сих пор. Второй имеет ныне основное значение «ветер», что очень важно, поскольку это сообщает понятию сугата через общее чтение оттенок подвижной, невидимой, нематериальной энергии.
Эпохи Мэйдзи и Тайсё – революционное время открытия мира японцами, более двух веков жившими в самоизоляции. Это было время утверждения японской нацией собственной идентичности, формулируемой в западных понятиях и противопоставленной идентичности Запада.[413] Оно потребовало «героев умственного труда» для усвоения огромного корпуса научного и философского знания Запада, неведомого доселе жителям Страны восходящего солнца. Нужно было овладеть западными языками и создать особый тезаурус, пригодный для перевода произведений западных авторов на японский язык.
На перекрёстке культур заметную роль сыграл Куки Сюдзо (1888–1941), ученик вышеупомянутого Нисиды Китаро. Во время путешествия по Европе Куки удалось посетить лекции Э. Гуссерля, завязать дружеские отношения с М. Хайдеггером и под руководством Ж.-П. Сартра изучить художественную жизнь Франции. Вернувшись в Японию и обобщив свой европейский философский и житейский опыт, Куки Сюдзо написал сразу ставшую популярной на родине книгу «Структура ики» (Ики-но кодзо, 1930). В ней он попытался представить в понятийной форме противоречивую структуру японского эстетического сознания.
М. Хайдеггер хранил добрую память о «графе Куки» (этим титулом у европейцев наш герой обязан своему отцу – тот был самураем высокого ранга, правда, мать Куки Сюдзо была гейшей). Германский философ беседовал и с другими японскими учёными. В частности, в 1953 г. с профессором Токийского университета по имени Тэдзука Томио. Об этом сохранились собственные воспоминания Хайдеггера.[414] Как и в разговорах с Куки Сюдзо, Хайдеггер высказал сомнение в возможности описания японского текучего чувственно-эстетического опыта языком западной эстетики. Последняя, по словам Хайдеггера, «происходит из европейской мысли, из философии», которая, по его убеждению, «чужда восточноазиатскому мышлению».[415] Японский собеседник возражает: «После встречи с европейской мыслью делается очевидной недостаточность нашего языка лишь в одном отношении, ему недостаёт разграничительной силы, чтобы представлять предметы в однозначной взаимоупорядоченности друг с другом».[416] Хайдеггер продолжает упорствовать в своих сомнениях: «Вряд ли японцам стоит гнаться за европейской понятийной системой».[417]
В заключение можно сделать вывод, что для японской духовной традиции характерен культ бесформенного, эстетизация эфемерного, текучего бытия мира и человека. Оппозиция «форма – бесформенное» в дальневосточной культуре соответствует западной оппозиции «форма – материя» (или «форма – содержание»). Первая рассматривает ткань бытия мирового континуума как «лицевую сторону» пустотной «основы», порождающей и определяющей все явные подробности бытия, воспринимаемые чувствами человека. Поскольку пустотная основа пронизывает и человеческое бытие, каждому индивиду «изнутри», непосредственно знаком этот неявный порядок. Принципиальной задачей человека дальневосточная мысль считает специальное культивирование чувствительности к «дуновениям» пустотной основы. Это практикуется в рамках культурной традиции – не только через усвоение текстов трактатов, но и через живое постижение «атмосферы», через непосредственное – от учителя к ученику – следование каноническим формам. Таким образом, дальневосточная традиция считает «формой» и собственно «форму», и «содержание» (вещество, материю).
Культивирование, бережное сохранение традиционных форм как в специальных школах японского искусства (по стихосложению, каллиграфии, живописи, музыке, театру, национальным ремёслам), так и в обычных средних школах позволяет с уверенностью принять эту «эстетическую составляющую» как одну из главных опор культурной идентичности современных японцев.
Японская художественная традиция и романтизм (в свете проблемы взаимодействия восточного понимания «разума тела» и дискурсивного знания Запада)
Я понял, что для того, чтобы жить полной жизнью, мало науки мало одних книжных знаний<…> Для меня открылась красота природы, глубокая связь художественных созданий с родиной их творцов.
И. А. БунинСсередины XX в. в европейской философии появились исследования, посвященные традиционно находившейся в тени области индивидуального, недискурсивного, знания, лежащего в основании самоощущения любого живого существа, но осознаваемого только человеком. В философии феноменологии (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти), экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр), а также в новейших исследованиях радикального конструктивизма (П. Вацлавик), философии аутопоэзиса (У. Матурана и Ф. Варела), кибернетической философии (Г. Бейтсон) постепенно обозначилась проблема несводимости разума человека к его коммуникативному, дискурсивному, социальному, «измерению».[418] По сути дела, это была попытка сформулировать альтернативу взгляду на истинное знание как на текст, транслируемый в неизменном виде вне зависимости от качеств его носителей и средств коммуникации. В рамках данной традиции живой человек, как конечное и соматическое существо, не признавался в качестве независимого творца знания о мироздании. Его чувственный опыт в лучшем случае рассматривался как некая «подпорка» для теоретизирующей функции разума.
Начиная с Аристотеля, в западной философии человек с его внутренним миром и всё окружающее его, был объектом безличностного научного знания. Постепенно из враждебной человеку среды обитания мир превратился в огромную мастерскую, в средство доставления телесного и душевного комфорта – источник полезных ископаемых, пищи, кислорода, а также впечатлений. По отношению к миру (объекту) человек (субъект) неизменно находился в позиции стороннего наблюдателя, чьи индивидуальные особенности никак не соотносились с качествами этого мира и не могли влиять на его характеристики.
Такая позиция отвечала стремлению индивидуума создать систему универсального знания о мире. Позиция «наблюдателя» позволила Аристотелю сформулировать аксиомы и правила формальной логики, остающиеся незыблемыми и до сих пор используемые при формулировке научных теорий. Только в XX в. идея создания непротиворечивой «теории всего» была развеяна К. Гёделем, доказавшим средствами самой же формальной логики две теоремы о неполноте формализованных систем (1931), к которым относятся все известные религиозные, научные и философские системы.
Тем не менее, каждому человеку ясно, что картина мира и его собственная жизнь в нём далеко не исчерпываются научными, религиозными и философскими текстами. Существует нечто, не умещающееся в рамки дискурсивного знания, знания, транслируемого при помощи слов – аспект мира «не замечаемый именно потому, что он дан с предельной очевидностью каждому взору».[419] Более того: «Мысль изреченная есть ложь» (Ф. Тютчев) – иными словами, суть бытия имеет невыразимый характер, но она остро ощущается художниками и постигается каждым человеком непосредственно, «немым» опытом тела, являющегося частью мирового континуума. Такой индивидуальный опыт непосредственного взаимодействия с мировым континуумом в режиме «здесь и теперь» является первичным в онтогеническом становлении человека: человеческий ребёнок, как и любое животное, уверенно существует в этом режиме «участника», т. е. отсутствия «прошлого», «настоящего» и «будущего» времени, в постоянном телесном взаимодействии с мировым континуумом. Но этот опыт является базовым также и при формулировании категорий и понятий научных теорий. Это становится очевидным, если мы обращаемся к толковым словарям, где сложные научные термины, объясняются с помощью более простых представлений.[420] Кроме того, источником любого нового знания, обретающего словесную форму, является конкретный индивидуум. Это не некий обезличенный разум, в ничего не значащем телесном носителе, а целостное телесное существо во всей полноте его индивидуального бытия.
В религиозно-философской практике многих народов непосредственное индивидуальное знание человека о мире являлось весьма существенным моментом. Вспомним учение Каббалы, практику переживания единения с Божественным в суфизме, идеал Дао-человека в древнекитайской философской практике, ведическое представление об Атмане, буддийское учение о Дхармакайе. В учении отцов православия также большое внимание, уделялось становлению «внутренней личности» (2 Кор. 4, 16). Именно религиозный опыт духовных наставников свидетельствует об органической, теснейшей связи состояний ума и тела. Практика аскетической жизни (ограничения главных телесных потребностей) являлась одним из действенных средств совершенствования и одухотворения «внутреннего человека», открытого для Бога и мира в добромыслии и добродеятельности. В этом было его отличие от «внешнего человека», соблюдающего религиозные правила на чисто «внешнем», формальном уровне, что никак не меняет мир к лучшему.
Но и в обычной, так сказать, профанной, жизни мы часто оказываемся в ситуации, когда надо действовать «всем телом», не раздумывая, в рамках «аутопоэзиса» – самосозидания и одновременно самопознания, в едином «жизненном акте». В этот момент истина жизни становится нашим внутренним переживанием: «В режиме актуального бытия, когда нет времени для логического анализа, именно тело тонким изменением своего состояния показывает, что следует говорить и делать, а что нет».[421] Таковы ситуации выбора в экстремальных условиях («пограничные ситуации» в экзистенциализме), ситуации поединков в боевых искусствах, ситуации общения в непредсказуемых обстоятельствах (встреча влюблённых, разговор с начальством, чтение лекции заинтересованной аудитории, вождение автомобиля в сложной дорожной обстановке, актёрская импровизация).
«Телесный разум» важен и в ситуациях обучения мастерству, когда дискурсивной инструкции совершенно недостаточно, чтобы овладеть сложным навыком (например, навыком вождения автомобиля или иероглифической скорописи). В таких случаях мастер обучает не только и не столько словом, сколько собственным примером, буквально «вживляя» своё знание-умение в целостное, телесно-разумное бытие ученика.
Наиболее полно представление о роли невербализуемой основы мироздания и человека реализуется в учении дзэн (кит. чань) – буддизма. Согласно этому учению, переживания синхронности индивидуальной жизни и природного континуума, приводящее к сатори – просветлению есть акт преображения индивидуума, обретения им нового качества. Хотя подобное состояние является итогом внутреннего переживания буддийского монаха, опытный мастер дзэн по мельчайшим, ему одному видимым нюансам поведения, может оценить меру его преображения. Наличие невербализуемого истинного знания является аксиомой для адепта дзэн, и способ передачи такого знания берёт начало от «цветочной проповеди» Шакья Муни, когда он на вопрос ученика об истинной природе, молча показал ему цветок.
Традиция непосредственной невербализуемой – от учителя к ученику – передачи сакрального знания в начале VI в. была перенесена в Китай. Там она обогатилась идеями даосского увэй (букв. «недеяния») – учения о невмешательстве в естественный порядок Дао и о том, что совершенный природный человек способствует гармонизации Поднебесной («Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок»[422]). Это учение стало основой мировоззрения художников «ветра и потока» – фэнлю, которые считали, что цель искусства состоит в передаче непосредственного, индивидуального постижения-переживания художником тончайших изменений природного континуума. Такое переживание, синхронизированное с движением Универсума, находит отражение в спонтанном творческом акте, происходящем без оглядки на какие-либо нормы или ритуалы, в акте самостановления-самопознания, когда факт обретения знания проявляется в жесте и поступке и не нуждается в словесном выражении («знающий не говорит, говорящий не знает»). Тем не менее, адепты даосизма и дзэн-буддизма, утверждая таким образом первичность недискурсивного знания, признавали и значимость текстов, принадлежащих почитаемым учителям. На эту противоречивость их позиции обратил внимание еще знаменитый китайский поэт и мыслитель Бо Цзюй-и (772–846), который иронизировал:
«Кто говорит – ничего не знает, знающий – тот молчит». Эти слова, известные людям Лао принадлежат. Но если так, и почтенный Лао именно тот, кто знал, — Как получилось, что он оставил книгу в пять тысяч слов?[423] (Перевод Л. З. Эйдлина)Бо Цзюй-и – представитель не даосской, а другой духовной традиции, конфуцианства. Последнее воплотилось главным образом в системе этики и социальной организации стран Дальнего Востока и опиралось на сакральные тексты «Девятикнижия», оформившегося к эпохе Тан (VI–X вв.). Конфуцианство прокламировало идеал совершенномудрого правителя, который своим праведным, человеколюбивым и ответственным поведением гармонизирует положение дел в Поднебесной. Несправедливый, жестокосердный, жадный правитель, наоборот, нарушает данный Небом порядок и становится причиной стихийных бедствий. В древнейшей книге конфуцианского канона «Шу цзин» (Книга истории, составлена ок. 97 г., содержит материалы XXIV–VIII вв. до н. э.) мы читаем: «Если должная сезонность (действия пяти явлений природы) нарушается в течение дня, месяца и года, то различные злаки не имеют возможности созреть, управление страной ведётся вслепую и глупо, выдающиеся люди отодвигаются в тень, а страна пребывает в состоянии беспокойства».[424]
Таким образом, две главных философских традиции Китая, во многом противоположные, сходились в очень существенном моменте: в обеих удостоверяется взаимозависимость состояния природного континуума и человеческого знания-поведения. В центре обеих систем находится человек с его психофизической конституцией, данной ему природой (Небом). Обе системы, несмотря на внешне различающийся идеал человека (в одном случае это добродетельный образованный чиновник, воплощающий собой упорядоченность ритуала, в другом – созерцатель-отшельник, отрицающий достижения культуры и правила жизни, зафиксированные в тексте), ратовали за внимательное, осторожное, даже любовное отношение к природе, исходя из представления о глубоком, на уровне сущности, телесном родстве с нею человека.
Оба эти учения попали на Японские острова как часть континентальной культуры почти одновременно с первыми сутрами, завезёнными основателями так называемых «шести южных сект» буддизма. В буддизме взаимосвязи и взаимозависимости человека и его среды обитания придаётся сакральный смысл. Природа в нем – как живая, так и неживая – есть «превращённое тело Будды». Человек – как и всё в природе – есть единое и неразличимое в своей глубочайшей основе актуальное Бытие «здесь и сейчас», которое лишь по видимости и неосознанности выглядит разделённым на множество «дел и вещей».
Задача осознания глубокого родства, и даже тождественности, всех элементов мироздания являлась одновременно и онтологической задачей обретения изначальной природы Будды – достижения всеми людьми и всем мирозданием состояния спокойствия и света – Нирваны. Одним из способов продвижения по пути буддийского и даосского знания-самостановления и обретения просветления считалось странствие в природе. «Занятие Дао-человека – странствие (ю)».[425] Действительно, традиция монашеского бродяжничества из Индии перекочевала в Китай, где получила «идейную поддержку» со стороны даосских отшельников. Они проводили в горах и лесах значительную часть жизни в поисках трав для «эликсира бессмертия» и галлюциногенных грибов, которые вводили человека в особое состояние транса, дававшее ощущение самоотсутствия и полноты всеобъемлющего – на уровне всего организма – переживания единства с Дао.
В Японии тоже прижились традиции странничества как одной из форм (наряду с медитацией) постижения единства с мирозданием при помощи «разума тела». Буддийские монастыри и скиты возводились в горах, среди лесов, и путешествия от одного святилища к другому практиковались во всех сектах японского буддизма. Особую поддержку эта традиция получила в секте Сюгэндо, известной с VIII в. Как свидетельствует исследователь японской средневековой культуры Е. Штейнер, «в религиозную практику всех конфессий входили странствия по обету, например, в годовщину смерти учителя, паломничества по святым местам, отправление календарных циклических культов разных местностей и т. д. Некоторые, главным образом монахи-ямабуси, примыкавшие к горной секте Сюгэндо, большую часть жизни проводили в дороге».[426] Учёный подчеркивает, что «путешествия были прежде всего религиозным актом, и посему чаще всего странника окружала мистическая атмосфера, в которой существовали идеальные, от века данные модели макрокосма – Реки, Горы, Водопады».[427]
Однако не только монахи, но и художники восприняли традицию долгих странствий в Китае и Японии. Наиболее яркий пример невербального опыта соединения с универсумом мы находим в так называемых дзэнских искусствах – тех, что считаются репрезентативными классическими формами художественной практики и сложились под патронатом дзэнских монастырей. Главной фигурой здесь стал монах-странник и одновременно каллиграф, живописец, поэт и знаток театра и чайного действа Иккю Содзюн (1394–1481). Его огромное идейное и эстетическое влияние на таких основателей новых видов и жанров японского традиционного искусства гэйдо, как Мурата Сюко, Дзэнтику (1405–1470) и др. не вызывает сомнений.
Дао – не только физическое странствие, но и путь самостановления человека. Иероглиф «путь», до, обозначает и профессиональную деятельность человека в традиционном искусстве гэйдо (путь творчества), сопрягавшем профессиональное мастерство с этапами самосовершенствования художника. Теоретики гэйдо считали, что вершин мастерства можно достичь лишь в случае осознания единства своего индивидуального пути с изначальным путем Дао.
Группой дзэнских искусств гэйдо (и боевых в том числе) в качестве идейной эстетической базы было принято положение об изоморфности человеческой природы и макрокосма. Именно принятие такой точки зрения на мир, унаследованной дзэн-буддизмом от великих китайских учений и традиционного буддизма, давало право теоретикам гэйдо утверждать, что их искусство способно не только умиротворять сердца людей, но и гармонизировать саму природу. Так, выдающийся поэт и теоретик искусства Ки-но Цураюки (ок. 882–945) в Предисловии к антологии «Кокинсю» (905–922 г.) пишет: «Без всякого усилия движет она (песня. – Е. С.) небом и землёю, внушает сострадание невидимым глазу богам, духам, демонам».[428]
Ученик неокантианца Г. Риккерта (1863–1936), немецкий учёный Е. Херригель (1884–1955), преподававший философию в Гейдельбергском университете, специально прожил шесть лет в Японии с целью изучения дзэн-буддизма. Он проделал длинный путь, чтобы через прохождение так называемого «пути лука – кюдо» на своём собственном опыте познать труд обретения «изначального состояния сознания», т. е. постижения «не-двойственности», единства Универсума. Свидетельства профессионального западного философа, приобщившегося к чисто восточной духовной практике, представляют исключительный интерес. Херригель прошёл путь от ученика до мастера боевого искусства кюдо и изнутри описал все этапы самопреображения в ходе овладения техническими приёмами. Он проник вглубь таинственной связи сугубо телесной – на грани чисто механической муштры – практики с состояниями сознания, возникающими при сопротивлении тела такой муштре. Только безграничное доверие к своему мастеру удержало его на трудном пути к просветлению, достигаемому в процессе осознания единства с изначальной природой мироздания. В итоге Херригель обрёл способность выхода за пределы своей самости, опыт трансцендирования, единства себя, мишени, лука и стрелы.
«Наблюдатель воспринимает вещи только через их отношения друг с другом, и то, что находится внутри воспринимаемого множества вещей, он чётко разделяет на прошедшее и будущее. Видящий, напротив, ничего не знает об этом; его способ видеть существует в не имеющем отношений настоящем, в нерефлектируемом «теперь» практически бесконечного события»,[429] – пишет Херригель. И делает следующий вывод: «Непосредственное понимание порождает новое, необычное измерение бытия – первосферу в оптическом смысле, в которой всё имеет форму, образ и смысл, но ещё продолжает находиться за пределами любого теоретического обоснования (курсив мой. – Е. С.)».[430]
Отметим, что и в ранних сектах японского буддизма существовало представление об истинном бытии, лежащем в основании мироздания и не имеющем никаких пространственно-временных характеристик. Так, стержень тайного учения секты Сингон (основатель – Кобо Дайси, 774–835) составляет проповедь Шакья Муни, которую он «произнес-промыслил в теле Закона», т. е. вне пространственных и временных координат: «Эта проповедь, – пишет современный буддолог Н. Трубникова, – происходит неким вне-временным образом (соответственно вневременности самого тела закона), она никак не соотнесена с какой-либо точкой в трёх мирах (прошлом, настоящем, будущем). Нельзя её связать и с внутренним временем проповеди закона, с такими вехами, как просветление Будды Шакья Муни под деревом бодхи, проповедь в Бенаресе, на Орлиной Горе или последняя проповедь перед Нирваной».[431]
Вследствие интровертности установок чань– или дзэн-буддизма (мировоззренческой основы классической японской художественной традиции гэйдо) интуиция почитается на Востоке как вершина познавательных способностей человека. Не случайно здесь так распространена практика психотренинга, нацеленная на постепенное «снятие» всех слоёв личного я вплоть до полного элиминирования я-сознания и погружения в глубины «телесного разума», где все преграды между миром я и не-я растворяются.
Главным способом постижения мирового континуума на Востоке считается сатори – мистическая интуиция. Однако, по свидетельству того же Херригеля, существует тонкая грань между сатори и мистической интуицией в западно-христианской традиции. «В европейской мистике, – пишет Херригель, – самость не растворяется окончательно – в Боге, в Божестве, в том, с чем и где совершается unio,[432] как бы оно ни называлось… Напротив, самость спасается, получает прощение и подтверждение своего бытия».[433] Человек даже после акта unio продолжает быть «наблюдателем» над природой. Единение с изначальной природой в даосско-дзэнской культуре постоянно, и чем больше самость растворяется в природном континууме, тем истинней становится её изначальное бытие.
В своё время К.-Г. Юнг (1885–1961) пристально изучал философские системы Востока и пришел к выводу, что для них самое важное – это психика. «Она – всепроникающее дыхание, сущность Будды; это дух Будды, Единое, дхарма-кайя. Всякая жизнь струится из неё, и все множественные формы явлений вновь растворяются в ней. Это и есть основополагающая психологическая предпосылка, пронизывающая восточного человека до дна, определяющая все его мысли, ощущения и поступки, к какой бы вере он себя ни причислял».[434]
Как и многие другие исследователи, Юнг задавался вопросом, возможно ли взаимодействие Востока и Запада? Различия между ними, по его мнению, столь велики, что для такого взаимодействия не видно разумных оснований. «Нельзя соединить огонь и воду. Духовный склад Востока отупляет западного человека и наоборот. Лучше принять конфликт таким, каков он есть – ведь если вообще существует решение, то лишь иррациональное».[435] Скептицизм Юнга относительно возможности взаимопонимания между восточным и западным стилями мышления вполне оправдан. То, что западный человек постигает с помощью разума и логики, по восточным меркам считается лишь одной из оболочек истины.
Тем не менее, уже в романтизме (кон. XVIII – первая треть XIX в.), в рамках воспевания природной естественности и непосредственного чувства, была сделана попытка «снять» противоречие между Востоком и Западом.[436]
Тема природы – одна из основных в творчестве романтиков; ещё никогда в истории европейской эстетики природа-стихия не играла столь важной для образного строя роли – вполне сопоставимой с ролью природы в искусстве и эстетике японской художественной традиции гэйдо.
У даосско-буддийской эстетики гэйдо, как и у эстетики романтизма, не было формализованной эстетической теории. Восток не знал эстетики как отдельной теории, художественная традиция вырастала из одного мировоззренческого корня – дао (кит.) или до (яп.), т. е. пути.[437] Дао – это не постижимый разумом принцип мироздания, суть которого состоит в непрерывном отрицании созданных им самим форм, в постоянной текучести и изменчивости. На наличие Дао может указать только символ. Самый близкий Дао символ – это Природа с ее чередованием времен года, атмосферных явлений, расцветом и увяданием, пробуждением и замиранием.
Человек, как малая часть природы, чувствует и воспринимает эти метаморфозы сердцем. Сердце, воспринявшее движение Дао в ритмах Природы, исполнено её подвижного очарования и стремится выразить его.
Японские живописцы-теоретики воспроизводили китайские труды о живописи и каллиграфии, трактующие сердце как источник, корень искусства Но особенно настойчиво роль сердца подчёркивают мастера чайного искусства – Такэно Дзёо (1502–1555), Мурата Сюко (1432–1502) и Сэн Рикю (1522–1591), подробно рассматривающие «сердце» в двух его ипостасях – как чувствующий и мыслящий (син, кокоро) и как физический, телесный орган (синдзо). (Заметим, что ещё древние даосы и конфуцианцы считали терпкую чайную горечь полезной и для бодрости ума, и для ритмичной работы сердечной мышцы.) На сердце, как на ментально-сенситивный центр творчества указывали также основоположники театрального искусства Но и отцы-основатели чайного ритуала тяною.[438]
Через сердце художника проходят те бесчисленные тонкие перемены бесконечной реальности, частью которых он сам является и которые он может воплотить только в символическом виде. Хотя и не всегда явно, даосизм присутствовал в миросозерцании всякого японского художника и находил выражение в разных видах традиционного искусства. Само общее понятие традиционного искусства – гэйдо содержит иероглиф дао (до), как и понятия, обозначающие конкретные виды искусства: кадо – искусство стихосложения, садо – искусство чайного ритуала, ногакудо – искусство театра Но и т. д.
Главными поэтами гэйдо являлись основоположники даосизма Лао-Цзы (VI–V вв. до н. э.) и Чжуан-Цзы (369–286 до н. э.), чьи тексты почитаются в дзэн-буддизме так же, как «Ланкаватара-сутра» и «Сутра Помоста 6-го Патриарха». Эти поэты-философы в афористически-художественной форме мастерски воспевали красоту ускользающих образов природы. В их текстах Дао уподобляется то «вратам бессчётных утончённостей», то «подвижной тени», то сети, улавливающей всех в свои ячейки. Изначальными образцами художественно-теоретических трактатов на Дальнем Востоке можно считать написанные основателями даосизма книги «Даодэцзин» и «Чжуан-цзы», в которых заложена вся традиция гэйдо. Основоположники ближе всего подошли к пониманию изначальной трансцендентной реальности, составляющей основу всего сущего, в том числе и искусства. С даосизмом связано и постулирование роли художника не как автономного «творца», а как транслятора тонких метаморфоз дао. Художник не творит, а, пропускает бесконечную цепь превращений через своё сердце. Он улавливает их ритм, запечатлевает их тень, их след – в слове, жесте, иероглифе, пейзаже, полёте стрелы, взмахе меча. Вот почему многие произведения японского искусства эпохи Средневековья анонимны: невыпячивание я – это норма.
Прежде чем творить, мастер должен своей жизнью воплотить дао, стать его проводником. Требуется соблюдение строгих правил и табу, обязательных для всякого, кто хочет достичь мастерства в том или ином виде искусства. «Назвать несомненным мастером, – писал основатель театра Но, Дзэами Мотокиё, – можно только того, чьи речи не бывают низменны, чей облик несет в себе сокровенную красоту».[439] Чтобы соответствовать предъявляемым требованиям, надо было соблюдать три строгих табу: не пьянствовать, не прелюбодействовать, не играть в азартные игры. Мастер был обязан сохранять верность дао – избранному пути в искусстве – всей своей жизнью.
Традиционный художник создается в рамках системы иэмото, или Дома, где он постепенно проходит все – от неофита до мастера – стадии приобщения к искусству сообразно своему биологическому возрасту. Обучение происходит непосредственно телесным методом микики (букв. «видеть и слышать»), когда мастерство передается путем личного общения учителя с учеником – от сердца к сердцу (кокородзукэ). Так передаются не просто профессиональные навыки. Поскольку понятие «дом» подразумевает родственные отношения, от учителя к ученикам из поколения в поколение передается и образ жизни, и особенности личности мастера. Частица его сердца, его профессиональные навыки усваиваются учеником с детских лет, они воплощаются в ученике. Причем творческий взор ученика всегда направлен назад – к мудрости учителя, а взор учителя – к мудрости первых учителей.
Обучение проходит в строго ритуализированной форме при полном подчинении воли ученика требованиям учителя; так послушный ребенок выполняет все поручения строгого отца, так монах подчиняется воле настоятеля монастыря. Поэтому в искусстве гэйдо, несмотря на антирационалистическую установку, индивидуальная свобода художника была ограничена, во-первых, строгой дисциплиной и ритуалом, принятым в системе Дома и, во-вторых, правилами канона, принятыми в данном Доме. «Древность есть орудие познания: преобразовывать – значит, познавать это орудие, но не делаться его слугой»,[440] – говорится в трактате о живописи «Хуа Юйлу» (1670). Новое органично вырастало из привычно-традиционного, как молодой побег – из глубоко укоренённого в родной почве старого дерева. Вот почему, если точно не знать имени средневекового автора, то не различить, кому принадлежит та или иная «песня» в японских поэтических антологиях, или тот или иной монохромный пейзаж на ширмах и раздвижных стенах монастырей. Даже в текстах пьес театра Но вместо подписи автора просто указывалось: «записал такой-то…».
Но вернёмся к романтизму. У Александра Блока есть важное для нас сегодня определение романтизма: это «есть не что иное, как способ устроить, организовать человека, носителя культуры, на новую связь со стихией».[441] Блок замечает, что «романтики выдвинули, между прочим, странно звучащий (курсив мой. – Е. С.) для нашего уха лозунг «спасения природы», лозунг, близкий одному из глубочайших наших романтиков – Владимиру Соловьёву».[442] Сегодня спасение природы уже давно перестало быть романтическим требованием и является необходимым условием выживания человека. Романтики даже не подозревали, насколько окажутся правы в своём интуитивном прозрении.
Отношение романтиков к природной стихии внутренне противоречиво. Это противоречие весьма наглядно в приводимом ниже отрывке из эстетического трактата Ф. Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии»: «Чем мог бы привлечь нас сам по себе невзрачный цветок, родник, обросший мхом камень, чириканье пташек, жужжание пчёл и т. д.? Что могло дать им право… на нашу любовь? Мы любим в них тихую созидательную жизнь, спокойную самобытную деятельность, бытие по своим собственным законам, внутреннюю необходимость, вечное согласие с собой».[443]
Этот фрагмент вполне можно принять за эстетическое эссе какого-нибудь японского поэта или художника. И на первый взгляд может показаться, что он служит подтверждением идеи родства японской художественной традиции гэйдо и эстетики романтизма. Но только на первый взгляд. Ведь если у японцев природа – самоценная сущность, бесконечная Вселенная и человек – лишь её ничтожная часть, то у романтиков природа – только объект самоутверждения личности художника, отразивший его идею.
Обратите внимание, как характеризуется природа, например, в «Исповеди» Шарля Бодлера: «Природа, безжалостная чаровница, вечный соперник и победитель, оставь меня! Не искушай мои стремленья и гордыню! Постижение прекрасного – это дуэль, где художник кричит от ужаса, прежде чем пасть побеждённым».[444]
Здесь ярко выражен страх личного я художника перед самобытной деятельностью природы, страх, совершенно неведомый восточной эстетике. Ещё более показательно то, что ужас перед угрозой стирания я возникает вовсе не перед лицом романтически бурной природы – грозной стихии, а перед лицом природы тихой, музыкально-живописной, идиллической. Даже такое, вполне мирное, бытие кажется поэту враждебным. И наоборот, бурная природа, грозная стихия становится для романтиков своеобразным психологическим зеркалом, выражением свободы личного я, силы духа и потому воспринимается вполне по-родственному.
Весьма показательно, что романтик готов признаться в братских чувствах к природе лишь в том случае, когда она воплощает идею свободного полёта его души. Но даже и тогда она остаётся близнецом-врагом. Восточному же автору никогда, разумеется, ничего подобного не могло прийти на ум. Если он и считал себя братом природы, то самым младшим и немощным, способным только в мизерной степени отобразить богатство её жизни. Рассматривать природу как нечто равное своей личности – на такое был способен лишь западный художник.
Различие в понимании отношения «человек – природа» на Западе и в Японии весьма тонко проанализировала И. А. Боронина на примере исследования японской средневековой литературы. Развивая позицию замечательного русского японоведа Сержа Елисеева, заметившего, что «японец не олицетворял природы, он жил её настроениями, не внося в неё своих чувств»,[445] Боронина уточняет, что персонификация все же была, но весьма особенная. «Бесспорно, – пишет она, – это была персонификация иного рода, отличная от западноевропейской. Если последняя является результатом художественного отвлечения от предмета, то олицетворение природы в японской литературе есть следствие слияния художника с изображаемым».[446]
Иными словами, в паре «человек – природа» западная мыслительная и художественная традиция однозначно помещает на первое место человека, считая природу хотя и важным, но второстепенным по отношению к нему персонажем. Напротив, в духовной традиции Японии природа – гораздо более значимый и активный компонент. На большом количестве примеров, взятых из классической японской литературы, И. А. Боронина демонстрирует, насколько японец «вписан» в природу, как изображение его чувств и эмоций легко замещается живописанием состояния окружающей среды. «Нередко картины природы как будто выражают смысл происходящего, либо предваряют то, что должно случиться с героями произведения».[447] Многие сюжетные ходы, судьбы героев оказываются соотнесенными с природными сезонными изменениями. В художественном комплексе традиционных японских искусств гэйдо индивид органично «встроен» в природный универсум в отличие от романтизма, где тот ему противопоставлен.
Одна из общих и распространённых тем в литературе гэйдо и в литературе романтизма – уход из социума в природу. Однако и здесь мы видим существенную, глубинную разницу. В Японии, например, уход в горный, затерянный в лесах монастырь или удаление в глухую провинцию имеют целью растворение личности в универсуме, достижение максимального отречения от себя, от своих эгоистических желаний; в сущности – стирание индивидуального я.[448]
В романтическом искусстве, наоборот, доминирует тенденция противопоставления гордого деятельного л инертной природе и социуму. Природа – лишь фон для сасмоутверждения романтического героя (вспомним пушкинского Алеко из «Цыган» или лермонтовского Мцыри). При этом главным предметом романтического мировосприятия выступает человек-творец в прекрасном и яростном мире. «Герой романтического произведения – художник, маг, борец, бунтарь, изгой, чудак – всегда вынужден утверждать себя вопреки обстоятельствам, он идёт наперекор судьбе во имя высоких духовных целей».[449] Он противопоставлен обывательской рутине и избегает общества унылых сограждан, связанных скучными правилами буржуазной морали. Приоритет живого чувства над рассудочной холодностью, который он утверждает не только теоретически, но и всем своим живым, телесным поведением, влечёт его к природе, к путешествиям по миру.
Многое роднит романтического героя со странником-даосом или буддийским монахом. Свою жизнь он видит как «всегда особый, свой путь самостановления, самопреображения – нелёгкий путь эволюции сознания личности, старающейся… раздвинуть рамки конечного, чтобы увидеть то, что ей в данный момент представляется истинным и бесконечным».[450]
Одним из знаковых произведений считается роман Новалиса (1772–1801) «Генрих фон Офтендинген», в котором странствие героя по просторам родной Германии является необходимым условием внутреннего становления героя как художника. Целью такого самостановления является создание идеального произведения, способного изменить мир. Познание мира и себя осмысляется Новалисом как реальное творчество. И для него вполне ясно, что человеком, которому дано его осуществить, может быть только художник, Поэт, которому дано увидеть «образную», телесную основу мира и воссоздать её – создать идеальное произведение искусства.[451]
Родная природа, принимающая в себя путешествующего художника, таким образом, является в конечном счёте постаментом для его личных амбиций. Гордость от осознания собственной исключительности позволяет судить весь мир и делить всех живущих в нём людей, подобно тому, как это делал Э. Т. А. Гофман, на две неравные части: «истинных музыкантов» и всех прочих.[452]
Согласно романтикам, истинный творец – исключение в мире обывательской скуки. Романтизм воспевает гордеца-одиночку бросающего вызов буржуазному обществу и противопоставленного ему. Поэтому неслучайно среди героев-скитальцев часто встречаются и гордые злодеи, вроде Агасфера, Летучего голландца, Мефистофеля, Демона, Печорина. Здесь художественный метод и идеи романтизма напрямую сталкиваются с проблемой эстетизации зла.
Что касается странствий романтических героев, то их отношение к путешествию как к Пути телесного и ментального самостановления противоречиво. С одной стороны, это доверчивое, всеми чувствами приветствуемое вхождение в природный Универсум, но, с другой, – интеллектуальное отталкивание героем себя от этого Универсума. Это вечная драма раздвоенности, разорванности романтического художника между упоением от чувственно-телесного осознания себя малой клеточкой природы и рассудочной, самолюбивой позицией собственной исключительности.
Такая двойственность вовсе не случайна, она является следствием особенности западнохристианского мистицизма – идейной опоры романтизма, который утверждает обособленность, оторванность личности от бытия, несмотря на краткие моменты ментально-чувственного единения с ним. Гордый ум романтического художника не доверяет ощущениям «телесного разума», настаивая на своей принципиальной обособленности от природного континуума. Но «чем больше человек осознаёт свою самость и чем настойчивее становятся его попытки увеличить её и довести до совершенства – в сущности недостижимого, бесконечного, тем сильнее он отдаляется от глубины бытия, которая перестаёт быть его собственной основой».[453]
На Дальнем же Востоке одним из способов погружения в природный континуум считалось странствие. Пускаясь в путешествие, монах или художник не переставали быть сторонними наблюдателями за чередованием времён года и картин природы, превращаясь в непосредственных участников её тончайших перемен. Труд путешественника приводил к активизации телесного аспекта разума, заставляя забыть о лишних прихотях ума, о тщете мирской славы. «Разум тела» и выступал тем необходимым творческим зарядом, который, постепенно накапливаясь в процессе тяжелого рутинного труда Пути, выплёскивался в спонтанном характере творческого акта. «Вхождение» в поток природного Бытия, будучи смирением, самопринижением индивидуума, подспудно становилось его вторым, расширенным я, стимулирующим творческую активность. Поэтому выходило, что художник творит, как природа.
Недаром в традиционном искусстве гэйдо художник только тогда становится истинным мастером, когда, осознав разумом своего тела единство с природным континуумом, начинает действовать как проводник «бессчётных утончённостей» жизни, как самый прилежный её ученик. Здесь природа тихо-естественна. В таких, к примеру, жанрах, как «бамбук» или «цветы и птицы», она спокойно созерцается художником. Природа приближена к зрителю и как бы призывает полюбоваться мельчайшими деталями: листиками, тычинками, пёрышками. Монохромный пейзаж, напротив, отодвигает природу вдаль, заставляя прежде всего воспринимать её величие и самодостаточность и осознавать собственную малость. Спокойствие природы как Универсума – будь то величие её целого, либо гармония её малых частностей – никогда не служит прямой иллюстрацией субъективных состояний художника. Человек, личность здесь почти отсутствует. Движения руки художника подчинены прежде всего выявлению внутренней сущности изображаемого фрагмента, а его собственное внутреннее состояние резонирует с природным состоянием, но никак не наоборот. Берясь за кисть, художник вбирает природу в себя, а не навязывает ей свои субъективные состояния.
В эстетике гэйдо образ природы – центральный в полном смысле слова. Это касается не только тематики творчества традиционных художников, т. е. сугубо содержательного момента. Сама художественная форма также тяготеет к природным образцам. Буддийская традиция гэйдо основана на концепции пустотности истинно-сущего, а также на идее тождества сансары и нирваны – основной идее самой почитаемой в Японии «Сутры лотоса». Суть её заключается в том, что «в эмпирическом мы встречаемся с тем же абсолютным, только в другой форме, а, следовательно, сансара и нирвана в сущности одно и то же».[454] Дальнейшим развитием этой идеи была разработка доктрины о Будде в теле Закона как едином абсолютном, а значит, безграничном и безвременном начале, которое является истинным видом всех дел и вещей. Среда обитания выступает в мировосприятии средневековых художников и литераторов Японии как манифестация Будды, одно из его превращенных тел (кэдзин).[455] Причём прозаические и драматургические произведения традиционного искусства восприняли прежде всего содержательную сторону буддийского учения, поэтому персонажи пьес Но или герои средневековых романов открыто цитируют наиболее популярные сутры.
Что же касается пустотности буддийского Абсолюта, то она непостижимым образом явлена в мириадах дел и вещей, и задача художника гэйдо – отобразить эту в высшей степени абстрактную идею в конкретном образе. Для обозначения идеи Пустотности в различных видах традиционного искусства гэйдо были найдены специальные приёмы. В монохромной живописи это ничем не заполненное пространство. Пустая сцена, паузы и фиксированные позы – в традиционном театре. Однако ничто не может сравниться в этом отношении с образным строем буддийских сухих садов. В архитектонике японского сада, как и во всей дзэнской традиции роль паузы-молчания – очень значительна. Неслучайно среди всех типов садовой композиции особое значение имеют «пустые» сады, состоящие в основном из простой площадки, засыпанной белой галькой.[456]
* * *
В трактовке природы в романтизме имелись две тенденции. Первая была близка по духу восточной художественной традиции: природа в этом случае понималась как самоценная сущность, универсум, ничтожно малой частичкой которого является человеческое я. Вторая – доминирующая – состояла в противопоставлении личности художника и природы, при этом первая понималась как равнозначимая и равновеликая природе сущность. Безусловно, тот факт, что вторая тенденция проявлялась гораздо ярче и сильнее, объясняется доктринальными особенностями «дискурсивной» западной духовной культуры, проникнутой, начиная с эпохи Ренессанса, ярко выраженным «личностным» началом.
На Востоке же контакт с природой отражал дорефлексивный, дотеоретический, дознаковый контакт с невыразимой основой Бытия. Оно сознательно осуществлялось на Пути, являющемся одновременно истинным путем жизни и путем профессионального становления. Однако было непросто достичь «истинного знания» человеку, переставшему быть чисто природным, животным существом и достигшему определённого культурного уровня, воспринимающего мир главным образом в знаковом, текстовом виде. Нелегко было ощутить себя непосредственной частью невыразимого порядка бытия как основы мироздания.
Достижение истинного знания требовало долгого подготовительного периода, рутинного, тяжёлого «послушания» (наставнику – в монастыре, главе Дома – в традиционном искусстве). Безупречное владение техническими навыками мастерства и соблюдение принятых в монастыре или Доме ритуалов достигалось при постоянном контроле со стороны признанного авторитета и сопровождалось духовным ростом ученика. Это было совершенно необходимое условие для наступающего неожиданно просветления, «глубокого видения» мира и себя в нём в непрерывном текучем становлении. При этом происходил «скачок» с уровня рассудочного дискурсивного знания на уровень телесного осознания единства мирового континуума. Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что романтизм следует считать своеобразным мостиком меду Востоком и Западом в том смысле, что он продемонстрировал неосознанную попытку преодоления традиционного западного дискурса с помощью некоторых приёмов, используемых и в рамках восточной духовной традиции.
Японская духовная традиция и экзистенциализм
Духовная жизнь Японии со времён эпохи Мэйдзи (1868) испытывает постоянное и мощное воздействие западной цивилизации. В XX в., ещё до Второй мировой вой ны, здесь завоёвывает популярность экзистенциализм. В послевоенный период мировоззренческие установки экзистенциализма широко распространились в сфере философской мысли, культуры и искусства; влияние его на японскую культуру ощущается и поныне.[457]
Распространению в Японии экзистенциалистских идей определённую роль сыграла духовная традиция. На протяжении всей истории страны важное, если не главенствующее, место в общественном сознании принадлежало религиозным и этическим учениям. Индийский буддизм и китайские учения (даосизм и конфуцианство) «постоянно влияли на сознание и психологию японцев. Их влияние… было тем более устойчивым, что они распределили между собой роли: буддизм и даосизм вместе с исконным синтоизмом, окрасившим эти учения в свои тона, определяли самоощущение человека, его отношение к миру, конфуцианство – характер отношений между людьми, субординацию в семье и государстве».[458]
Иноземные буддизм и конфуцианство были успешно адаптированы к японским условиям в течение IV–VIII вв. Собственно же японский синтоизм (синто – «путь богов») происходил из примитивных политеистических верований древних японцев и на первых порах представлял собой совокупность магических обрядов и мифических преданий, отражавших социальную жизнь родового строя. В эпоху разложения родовых отношений и становления раннефеодального государства разрозненные мифы были систематизированы в 712 г. в хронике «Кодзики» («Записи о деяниях древности»), в которой обожествлялись и освящались императорская власть и государство, а жители страны провозглашались потомками богов. Н. И. Конрад называл синтоизм национальным мифологическим укладом мировоззрения. «Термин «Синто»… – писал он, – покрывает собою всё содержание древнейшей эпохи Японии и служит вместе с тем обозначением своеобразного культурного фактора японской истории в целом».[459]
Иными словами, синтоизм определял религиозно-мифо ло гическую форму традиционной духовной культуры японского народа. Однако эту культуру невозможно понять, не учитывая воздействия на неё буддизма. Утверждение буддийского учения, пришедшего из Индии через Китай в духовную жизнь японского общества, произошло приблизительно в VII в. С тех пор это учение, то возвышаясь до ранга официальной религии (VIII–XIV вв.), то подвергаясь гонениям (XVI в.), приобретая различные оттенки в соответствии с конкретными социально-политическими условиями, в конце концов прочно укоренилось в национальном сознании японцев.
В Японии получили распространение две тенденции буддийской мысли, указывавшие два пути спасения сущности человека. Первая предполагала личностную самореализацию посредством вовлечённости индивидуума в социальную жизнь и подчинения всех его интересов интересам общества. Вторая, напротив, призывала к бегству от социальных уз как неистинных и культивировала идеал отшельничества.
Первая тенденция была оформлена в трудах монаха Сайтё (757–822), основателя школы Тэндай (Тяньтай), и послужила фундаментом учения средневекового реформатора буддизма Нитирэна (1222–1282).[460] В данном случае в качестве условия индивидуального спасения человека предлагается и спасение других людей, а также всего социоприродного Универсума. Не только отдельный индивидуум, но и общество в целом и природа считаются воплощениями «тела Будды». Такое «освящение» природы и общества приводит к заинтересованному отношению к ним со стороны человека, который оказывается «причастным» миру. Это подразумевает активную общественную деятельность буддиста. Ввиду того, что три «объекта спасения» – антропологический, социальный, экологический – взаимосвязаны, буддист должен воспринимать как беду не только свои личные неурядицы, но и любые природные и социальные катаклизмы. Иными словами, буддизм в данном случае выступает как учение, ориентированное на гармонию человека и с природой, и с обществом.
Суть второй тенденции состоит в признании индивидуального пути спасения: освобождение достигается лишь посредством обособления усилий собственного духа, каждый идёт к истине своим путём. Отсюда крайние формы индивидуализма, например, в дзэн-буддизме, который начал распространяться в Японии с XIII в., придя из Китая.[461] Но и в дзэн-буддизме, несмотря на настойчивое культивирование индивидуального пути спасения, человек рассматривается как органическая часть универсума; ратуя за освобождение индивида от пут социальной жизни, дзэн-буддизм всячески подчёркивает неотделимость человека от природы.
Таким образом, обе тенденции японского буддизма рассматривали человека как вовлечённого в систему значимых для него отношений: с природой и обществом, с природой и самим собой. Все эти компоненты мироздания воплощают природу Будды, и, следовательно, взаимоотношения между ними (природа – общество – человек) сакрализированы.
Проникновение в Японию конфуцианства относят к IV в. Соседствуя с буддизмом и постепенно набирая силу в течение XII–XVI вв., конфуцианство к XVII в. заняло в Японии место господствующей идеологии. В эпоху Токугава (1600–1670), т. е. в эпоху централизованного феодального государства, оно являлось средством закрепления в общественном сознании социального неравенства, орудием укоренения в умах и сердцах японцев спокойного отношения к несвободе, к личной зависимости как естественному порядку, результату выполнения «воли неба».
Во времена господства конфуцианства произошло важное событие. В 1639 г. верховный правитель Токугава Иэмицу издал указ, запрещавший иностранцам под страхом смертной казни въезжать в Японию, а японцам – покидать родину Свыше двухсот лет Япония практически находилась в полной изоляции от внешнего мира, что ещё больше укрепило буддийско-конфуцианскую традицию. Закрытие страны явилось уникальным фактором: с одной стороны, оно затормозило экономическое развитие Японии, с другой – благоприятствовало сохранению национальной самобытности. Двухвековая изоляция наложила неизгладимый отпечаток на всю последующую историю японского народа.
Буддийско-конфуцианская традиция монопольно господствовала в духовной жизни общества до конца эпохи Токугава. Новые тенденции в идеологии наметились после 1868 г., когда военная власть сёгунов сменилась на императорскую, что положило конец искусственной изоляции страны. В странах Запада к тому времени уже давно закончилась промышленная революция и сложилась капиталистическая экономика. Япония, вовлекаемая в орбиту мирового сообщества, начала всё более интенсивно развивать производительные силы и также пошла по капиталистическому пути.
Однако под влиянием утверждавшегося капиталистического способа производства происходило разрушение традиционных социальных связей, что повлекло за собой перемены в духовной сфере. В значительной степени эти перемены происходили под влиянием процесса усвоения ценностей западной цивилизации. При этом чужеземная духовная культура воспринималась японцами сначала как некий монолит, единое целое. Философские идеи, которые в Европе вызревали длительное время, постепенно становились популярными и постепенно исчезали, проникли в общественное сознание Японии в необычайно короткий срок. Естественно, что японцам, чьи мировоззренческие установки традиционно развивались в русле религиозно-этических и отчасти эстетических учений, нелегко было разобраться в богатейшем философском наследии Запада.
В периоды Мэйдзи (1868–1912) и Тайсё (1912–1925) появилось множество философских обществ и кружков, где, как правило, изучались труды того или иного западного мыслителя. Страну наводнили переводы произведений Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Бергсона. Вначале предпочтение было отдано немецкой классической философии, ставшей основой «академической философии» Киотского императорского университета. Основоположником «академической философии» был Нисида Китаро (1870–1945). Нисида считается первым в Японии теоретиком философии как науки,[462] «первым, кто показал японцам, что философия представляет собой наиболее фундаментальную форму мысли».[463]
Особая популярность немецкой классической философии в Японии того времени объясняется, во-первых, позицией властей, принявших за образец германское государственное устройство и поощрявших интерес к немецкой идеологии. Во-вторых, это было связано с общим умонастроением эпохи. Японцы, воодушевлённые примером Запада и своими первыми успехами в экономике, которые, как им казалось, были достигнуты благодаря распространению духа рационализма и предпринимательства, выдвинули лозунг «Рационализм!». Разумеется, они не могли не обратиться к вершинам мировой рационалистической мысли – сочинениям немецких философов-классиков.[464] Тон задавал гегелевский идеал рационального, упорядоченного человека, выступающего как часть целого (государства) и подчинённого интересам и задачам этого целого.
Однако наиболее прозорливые мыслители Японии предвещали неизбежное разочарование в образцах западной духовной традиции и предупреждали об опасности утраты национальной самобытности. Один из них – первый ректор Токийской школы искусств Окакура Какудзо, чьи работы сохранили актуальность и в настоящее время, писал: «Задача Азии – в защите и восстановлении азиатских путей. Но чтобы сделать это, она должна сама осознать и развить эти пути. Ведь тени прошлого – это обещание будущего».[465]
Со временем рационалистический пыл японцев несколько охладился. Вслед за европейцами они убедились в весьма ограниченных возможностях научно-технического прогресса в деле решения социальных проблем. Ещё более ограниченными оказались возможности рационалистической философии, ориентированной на абстрактное теоретизирование и занятой созданием идеализированных схем мирового развития. Стало также очевидно, что успехи в развитии научного знания не смогут предотвратить обострения и углубления процесса отчуждения людей в условиях капитализма.
Разочарование японцев в познавательных способностях индивидуума, его возможности устроить мир на основе рационалистических научных принципов, было ознаменовано сменой философских настроений и вкусов. Взоры устремились к нерационалистическим направлениям философской мысли Запада. И тут возник любопытный феномен, заслуживающий названия «восприятие через узнавание»: японцы стали отдавать свои симпатии тем направлениям европейской общественной мысли, в которых содержались идеи, созвучные идеям буддийско-конфуцианской традиции. По наблюдению Т. П. Григорьевой, «внимание японцев привлекли именно те поэты и философы, которые были близки им по духу или в которых они узнавали себя, хотя и не отдавали себе в этом отчёта», причём они «принимали за откровение давно им знакомое».[466] Напомним, что предтечи заинтересовавших японцев иррационалистических и близких к ним направлений западной философии, такие как А. Шопенгауэр (1788–1860) и Ф. Ницше (1844–1900), сами испытали сильное воздействие восточной мыслительной традиции. Как писал А. Швейцер, «завоевание оптимистической китайской и пессимистической индийской философии особенно явственно обнаруживают себя в Европе в учении Ницше и Шопенгауэра».[467] Взгляды этих двух мыслителей получили дальнейшее развитие в работах представителей «философии жизни» и феноменологии, оказавших в свою очередь влияние на творчество М. Хайдеггера (1889–1976), одного из столпов философии экзистенциализма.
Экзистенциалистские настроения: чувство одиночества, отчуждённости, абсурдности бытия – возникли на Западе в первой половине XX в. как следствие усиления процесса обособления, атомизации людей в обществе господства капиталистических отношений. Драматизирующее мироощущение экзистенциалистов отразило проблемы, которые не сразу, но со временем встали перед личностью в государстве, пришедшем на смену феодальному общественному устройству. Ведь с разрушением феодальных отношений были если не ликвидированы, то весьма ослаблены соответствующие им социальные связи: утрачены сословная корпоративность, цеховая солидарность, патерналистские отношения между сюзеренами и вассалами. По словам Ф. Энгельса, «разложение человечества на массу изолированных, взаимно отталкивающихся атомов есть уже само по себе уничтожение всех корпоративных, национальных и вообще особых интересов».[468] Лишённый прежних связей, стеснявших, но одновременно и опекавших его, гражданин капиталистического государства почувствовал себя лично противопоставленным обществу и беззащитным перед государственной машиной.
В развитом капиталистическом обществе отношение к индивидууму, начавшее было утверждаться в эпоху Возрождения с её культом человека, изменилось. (Именно Возрождение подготовило культурно-психологическую почву для капитализма. Институализация личности достигла своей вершины в рамках протестантской этики, провозгласившей ценность человека в зависимости от его личных заслуг.[469]) Люди всё чаще начали ощущать себя «случайными» и «заменимыми», переживая в связи с этим душевное смятение. В период мировых войн и отчаяние индивидуалистически настроенных западных интеллигентов вылилось в экзистенциалистские течения в области общественной мысли и искусства.
Экзистенциалистские настроения – это настроения взбунтовавшегося против своей униженности и «заброшенности» индивидуума, осознавшего себя как основу и смысл бытия и тяготящегося своим существованием в мире всеобщей раздробленности, где каждый сосредоточен на самом себе. «Экзистенциалистский индивидуализм» родился в среде европейских интеллигентов – носителей духовной культуры Запада, индивидуалистический характер которой в целом отвечал традиции, складывавшейся ещё с Античности. Японии же свойственны иные культурные традиции, имеющие ярко выраженную неиндивидуалистическую, неличностную окраску. Тем не менее, индивидуалистическая философия экзистенциализма пустила на Японских островах глубокие корни.
В Японии экзистенциализм начал утверждать свои позиции в 30–40-е годы XX в. и особенно популярным стал в послевоенный период. Появление и распространение здесь экзистенциализма было обусловлено, по нашему мнению, двумя причинами. Во-первых, существовала определённая близость экзистенциалистских и традиционных для японской культуры буддийских мировоззренческих установок. Та самая близость, благодаря которой стал возможен уже описанный выше феномен «восприятия через узнавание». В частности, творческий метод Хайдеггера весьма созвучен японской мыслительной традиции, поскольку «состоит в том, чтобы понять явное через неявное, то, что сказано, через то, что не может быть сказано, понять слово через молчание, сущее – через не-сущее, бытие – через ничто».[470] «Ничто, – пишет Хайдеггер, – это то самое бытие, истине коего передоверен бывает человек, когда он преодолел субъекта в себе и когда, стало быть, он не представляет уже сущее как объект… Сокрытая сущность бытия, заказанная неприступность, ближайшим образом обнажается как вообще не-сущее, как ничто».[471] Близость данных положений идеям буддийской онтологии очевидна.
Показательна и критика Хайдеггером европейского «метафизического» способа мышления, в ходе которой он противопоставил европейской «метафизике» мыслительные традиции восточных народов. «Так, в беседе с одним из представителей самобытной неевропейской культуры – японцем – Хайдеггер помогает своему собеседнику выявить смысл некоторых японских слов, в том числе и слова ку, которое по значению близко понятию ничто. Вот что говорит собеседник Хайдеггера по поводу этого понятия: «Мы и сегодня ещё удивляемся, как европейцы смогли пасть до того, чтобы ничто толковать нигилистически. У нас пустое есть высшее наименование того, что вы назвали бы словом «бытие»».[472] Данная трактовка вполне устраивает Хайдеггера, отдающего предпочтение Востоку перед Западом.
Чувствуя близость своих мировоззренческих установок буддизму, Хайдеггер в последние годы жизни уделял много внимания изу че нию трудов буддийских идеологов. В свою очередь крупнейшие философы буддийской ориентации XX в., Вацудзи Тэцуро и Танабэ Хадзимэ, считали Хайдеггера своим учителем.[473] В Японии даже были напечатаны работы, утверждавшие, что «благодаря экзистенциализму Хайдеггер гораздо ближе японцам, нежели европейцам».[474]
Вторая причина распространения экзистенциалистской философии в японском обществе, на наш взгляд, состояла в том, что буддийская Япония стала капиталистической и в её социальной жизни начали происходить процессы, подобные процессам, вызвавшим экзистенциалистские течения на Западе. Постепенно и в общественном сознании, и в самой японской действительности образовалась реальная основа для взаимодействия буддизма и экзистенциализма. «Проблема относительной совместимости экзистенциализма с традиционной японской мыслью выступает фактически как проблема взаимодействия этого философского течения с традиционной религиозной и философской буддийско-конфуцианской духовной культурой».[475] Решению данной проблемы посвящают свои усилия многие современные учёные Японии. С одной стороны, их представляют философы-экзистенциалисты, пытающиеся с помощью буддийской догматики преодолеть кризис «философии существования»; с другой – теоретики буддизма, стремящиеся модернизировать буддийскую идеологию путем привлечения экзистенциалистского мировоззренческого материала.[476]
Усилия последних разделяет почётный президент популярного общества «Сока гаккай» (Общество по установлению ценностей), доктор Икэда Дайсаку: «Экзистенциализм, – пишет он, – несёт в себе частичное и поверхностное сходство с буддийским понятием тютай… Понятия ман, индивидуум Кьеркегора или сверхчеловек Ницше, экзистенция Ясперса или Хайдеггера обозначают в философских терминах то же, что и тютай в буддизме».[477] Тютай означает истинную реальность и является «неким постоянством, которое проходит через все изменения форм».[478] По мнению Икэды, экзистенциализм вплотную подходит к истинам буддийской психологии.
Сходство буддизма, или «философских структур, лежащих в основе японской культуры»,[479] и экзистенциализма подчёркивают японские философы Ниситани Кэйдзи, Юаса Ясуо, Имамити Томонобу, Умэхара Такэси, Идзуцу Тосихико и Идзуцу Тоё,[480] которые пытаются осуществить «синтез» экзистенциалистских идей с философскими установками буддизма и понятиями традиционной японской эстетики. В данном случае философы следуют упоминавшемуся выше Нисиде Китаро, которому удавалось в своих сочинениях сочетать (хотя и не всегда достаточно органично) установки японских традиционных учений с положениями западной философской мысли, в том числе экзистенциализма.[481]
Стоит сравнить буддийскую и экзистенциалистскую мировоззренческие системы, чтобы конкретизировать их черты действительного сходства. Во-первых, обе они проникнуты духом антиинтеллектуализма и антипрагматизма. Экзистенциализм появился вследствие реакции на схематизм и всеобщую «запрограммированность» жизни в капиталистическом обществе. Такая жизнь рассматривается экзистенциалистами как результат культивирования в обществе рассудочного отношения к миру и человеку. Пагубность подобного отношения, утверждают они, заключается в том, что человек превращается в объект эксплуатации. В свою очередь, буддийские установки, предполагающие вовлеченность индивидуума в природно-социальный или космически-природный универсум, способствуют утверждению живого, заинтересованного, а не рассудочно-холодного восприятия мира и препятствуют возникновению потребительского отношения к миру и человеку.
Во-вторых, и буддизм, и экзистенциализм – это психологизированные учения, объектом внимания которых является индивидуум. «Метафизические построения буддизма основаны на данных психологического анализа… С гносеологической точки зрения, особенность буддийского стиля мышления, по мнению О. О. Розенберга и Ф. И. Щербатского, состоит в том, что оно направлено на непосредственно переживаемое бытие».[482] Экзистенциальное мышление направлено на тот же объект. Единственная подлинная реальность в экзистенциализме – бытие человеческой личности, исходный момент всякого знания – анализ этого конкретного бытия. Правда, экзистенциализм рассматривает человека в субъективном аспекте, а не как демонстрацию космического бега жизни, подобно «философии жизни» А. Бергсона. Последняя в данном отношении ближе буддизму, чем экзистенциализм. Однако экзистенциализм не солипсизм, так как предполагает наличие объективного бытия. Человеческое я, преображая инертность и хаотичность этого бытия, лишь придаёт ему действительную значимость. В равной степени неправомерно приписывать солипсизм буддийскому учению хотя бы потому, что в буддийском бытии отсутствует деление на субъект и объект. Как пишет японский философ Миякава Хидэки, «позиция восточной онтологии представляет структуру мышления, основанную на рациональном дуализме субъект-объект лишь в качестве субъективной абстракции».[483]
Индивидуум является «объектом спасения» и в экзистенциализме, и в буддизме. Несмотря на обилие различных направлений буддизма, все они признают, в сущности, индивидуальный путь спасения. Экзистенциализм также ориентирован на индивида, чьи психологические характеристики приобретают в экзистенциалистском учении онтологический статус. Следует учесть, что индивидуализирующий подход в экзистенциализме – следствие утраты человеком личностно-значимых, подлинных связей с другими людьми, гиперболизация личностных переживаний индивида, вызванных сознанием либо ложности, либо вообще невозможности целостного мировоззрения. Индивидуалистичность же буддийского пути спасения вызвана необходимостью поиска самим индивидуумом спасения себя от страдания, обусловленного жизнью в этом мире.
Несмотря на отмеченное сходство буддизма и экзистенциализма, процесс усвоения экзистенциалистских идей проходил в Японии достаточно сложно. Это объясняется прежде всего тем, что помимо сходства в данных мировоззренческих системах были и весьма существенные различия. Так, если буддист не отделяет себя от мира, то экзистенциалист, наоборот, противопоставляет себя миру. Буддист верит в «изначальную природу», которая добра и светла; верит, что человек наделён эти подлинным началом, принципиально лишённым ориентации на эгоизм. В экзистенциализме проявления человеческой субъективности абсолютизируются, выступают как онтологические сущности, свидетельствуя о крайнем индивидуализме адептов этой философии. В буддизме существует Идеал – Будда. В экзистенциализме такой конкретный идеал отсутствует, есть лишь стремление индивидуума к аутентичности бытия. Буддизм указывает путь к достижению идеала, предлагает всем индивидуумам общий путь спасения от страдания, так сказать, «положительную программу». Экзистенциализм ограничивается критикой неаутентичности бытия массы людей и рекомендует каждому индивидуму находить свой путь аутентичного бытия.
Можно, видимо, констатировать, что буддийское восприятие человека как причастного миру во многом противоположно индивидуалистическому экзистенциалистскому восприятию индивида как замкнутого на своём я. Поэтому неличностное, неэгоистическое сознание японца-буддиста легко противопоставить эгоцентризму западного индивида. Для человека, стремящегося к достижению идеала буддизма, не существует проблемы своего я, отчуждённого и обособленного от внешнего мира и других людей и противопоставленного им, как это исторически сложилось у человека западной цивилизации. Естественно, что проблема личной свободы не стояла перед традиционно мыслящим японцем, в отличие от индивида Запада. Традиционный японец никогда не стремился к самоутверждению, подобно своему западному собрату, и экзистенциальные проблемы последнего, являющиеся оборотной стороной этого самоутверждения, были ему до определённого времени незнакомы.
Вероятным было бы предположение, что экзистенциализм в Японии невозможен, так как у японцев исторически сформировался буддийский взгляд на мир, предполагающий «неотчуждённость» личности от природы и общества. Раз нет отчуждения, противопоставления, то, казалось бы, нет и оснований для драматизации бытия. Тем не менее, это не совсем так. Условия для возникновения драматического переживания индивидуумом были и в Японии, поскольку там тоже существовало отчуждение человеческой сущности, только в другой форме и по другим причинам, чем на Западе. Однако нас интересует именно «экзистенциалистское отчуждение» японца в капиталистической Японии, социальная действительность которой способствовала росту эгоистических настроений и создавала почву для распространения экзистенциалистских идей.
По мере утверждения капитализма на Японских островах, их жители оказались в квазизападной ситуации. Чтобы функционировать в этих условиях, японец должен был вести себя подобно западному индивиду. Ему было необходимо такое же самосознание, т. е. следовало обрести поначалу я западного типа, то самое я – интегратор социальных функций, то самое неподлинное я, которое не удовлетворяло экзистенциализирующего европейца. Иными словами, «деиндивидуализированные» японцы были вынуждены «индивидуализироваться» на западный манер.
Кроме того, после знакомства с духовной культурой Запада с её сильным личностным началом творчески мыслящие японцы попали под её обаяние. Им тоже захотелось «свободы личности», «социальной независимости» и тому подобных ценностей западной цивилизации.[484] Наследники буддийской традиции ощутили свою ущербность в том смысле, что при всей гармоничности и непротиворечивости идеала буддийского мироустройства они – даже в случае следования этому идеалу – были лишены возможности иметь «своё лицо», чувствовать свою неповторимую индивидуальность.
Так родились японцы – экзистенциалисты Востока. И если сутью «несчастного сознания» европейских экзистенциалистов было трагическое переживание отчуждённости от «других», то специфической чертой экзистенциалистов буддийского толка на первом этапе явилось переживание, связанное с отсутствием личностного начала, отсутствием своего я. Иными словами, экзистенциальные переживания японца несколько отличаются от переживаний экзистенциалиста Запада. Западный индивидуум склонен считать свою сущность существующей «сама по себе», считать своё (а не то, которое приписывает ему общество) я центром мироздания. Японец традиционно привык ощущать себя причастным миру и не мыслит себя вне общества. Он веками выступал прежде всего как представитель определённой социальной группы. Отождествляя себя с группой, он видел в ней свою сущность. Психологически японец был ничем вне социума, поэтому у него выработалась привычка рассматривать и оценивать себя, исходя из отношения к нему членов этого социума.
Японский индивидуализм гораздо моложе западного. У человека западной цивилизации становление индивидуалистического сознания проходило на протяжении веков и потому – незаметно, естественно. Так же естественно утрачивались и сословно-корпоративные связи. Буржуазные революции лишь конституционно оформили их распад. У японцев же эти социальные связи разрушались в течение двух-трех поколений, они относительно недавно оторвались от «пуповины общинности», обретя взамен бремя индивидуальной свободы. На основании такой свободы европейские теоретики экзистенциализма выстраивают «субъектную онтологию», т. е. опредмечивают, делают до предела реальными определения индивидуального сознания. У японских экзистенциалистов эти определения распадаются, поскольку японец, повторим, традиционно прочно связан с откликом «другого» и утверждение собственного я является для него главной проблемой. Японец наших дней всё чаще обращается к прошлому, так как уверен, что эмоциональные узы между людьми были тогда, во времена господства буддийско-конфуцианской традиции, крепче и естественнее современных.
Неслучайно сегодня в Японии популярны необуддийские религиозно-политические организации типа «Сока гаккай», объявляющие своей целью установление традиционно-буддийских отношений в обществе. Отказ от буржуазных ценностей и тяга к вечным и неизменным гуманистическим идеалам буддизма, протест против социальной разобщённости и стремление к духовной солидарности на основе исконной буддийско-конфуцианской организованности – вот психологические факторы, являющиеся причиной роста сегодня числа этих организаций. Способствует этому и разочарование, постигающее японцев после обращения их к различным течениям западной религиозной и философской мысли, в том числе к экзистенциализму.
Абэ Кобо и Альбер Камю: экзистенциальное сопоставление
Предтечами экзистенциализма принято считать датского мыслителя и литератора Сёрена Киркегора (1813–1895) и великого русского писателя Ф. М. Достоевского (1821–1881). Начиная с 1910-х гг. экзистенциалистские идеи получают философское развитие, и к середине XX в. экзистенциализм оформляется в одно из ведущих направлений мировой философской мысли. Особенностью экзистенциализма является близость к художественной литературе. В творчестве таких писателей, как Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. Де Бовуар, Ж. Ануй, А. Мэрдок, Дж. Болдуин и других, размышления о смысле человеческого существования нашли своё наиболее яркое выражение.
Западный экзистенциализм оказался близок японскому мировосприятию. Экзистенциалистские мотивы явственно зазвучали в сочинениях таких беллетристов, как Сиина Риндзо (1919–1973), Дадзай Осаму (1909–1948) и Абэ Кобо (1924–1993). «Японские литераторы усматривали в учении экзистенциализма нечто родственное традиционному мышлению и эстетическим взглядам японцев. Экзистенциалистское положение о беспомощности разума, отказ от объективного познания и преобразования реальности, отношение к существованию как к бытию-для-смерти легко согласовывались с мистикой эзотерического буддизма, пустившего глубокие корни в сознании японцев».[485]
В то же время сравнение произведений западных писателей-экзистенциалистов с работами японских писателей той же направленности делает очевидным различие смысложизненных переживаний индивида на Западе и в Японии. С этой точки зрения интересно сравнить роман Абэ Кобо «Чужое лицо» (1964) и повесть Альбера Камю «Посторонний» (1944).
Характеризуя роман Абэ, японский литературовед Такано Тосими подчёркивает, что в нём автор «глубоко проникает в суть драмы саморазорванности индивида».[486] Отвечая на экзистенциальный вопрос – что есть истинное я человека? – писатель проводит своего героя по всем кругам ада тех обезличенных и омертвевших отношений, которые отражают абсурдность существования человека в современном японском обществе. Этот герой, руководитель химической лаборатории, в ходе эксперимента получил ожоги лица – кожные покровы превратились в «отвратительные скопища пиявок». Потеряв таким образом лицо, он постепенно убеждается, что вместе с лицом утратил и своё я, эго, то самое я, с которым он идентифицируется обществом. Безымянный (!) герой начинает понимать, что эго – это единственный его атрибут в глазах окружающих, жизнь без эго является «отрицательным существованием, которое должно быть прикрыто и уничтожено».[487] «Потеряв лицо, я навечно замурован в одиночной камере»,[488] – заявляет он. В то же время у него возникает состояние «раздвоения»: его «внутренние ощущения» остались прежними, но в зеркале других отражается не его собственное я, а я кого-то иного. Герой оказывается невероятно чувствителен к такому изменению мнения о себе: он воспринимает себя чужими глазами, т. е. его собственные глаза становятся чужими, несмотря на то, что внутреннее я осталось с ним.
До поры до времени он всё ещё продолжает выполнять свои функции в обществе. Как социальный индивид (научный работник и глава семьи) от остался тождествен себе, и его социальная ценность вроде бы не уменьшилась. Однако постепенно его «социальное самочувствие» меняется. Оказывается, лицо – вещь чрезвычайно важная, интимным образом связанная с душой человека, его внутренним я. Об этом свидетельствует один весьма характерный эпизод в первой части романа. Писатель приводит своего героя в музей, где тот рассматривает маски театра Но. Они символизируют буддийскую отрешённость, безличностность, «уход от повседневного выражения, пустой сосуд, абсолютную анонимность, означающую принесение в жертву своего имени абсолютной группе (курсив мой. – А. Л.)»,[489] всё то, что свойственно японской духовной традиции. Однако, по мысли автора романа, современного японца индивидуализируют, заставляют его почувствовать себя личностью общественные установки, пришедшие с Запада: «В древности лицо не было тем, что выставляют напоказ, и только цивилизация направила на лицо яркий свет, и впервые лицо превратилось в душу человека».[490] Сегодня, констатирует Абэ, очевидно, что «человек, лишённый лица, лишён и души».[491]
Если западная культура со времён Возрождения воспевала личность и неповторимое своеобразие каждого человека, то японская не продуцировала индивидуализма и в её рамках подлинность человека постулировалась как внеиндивидуальная сущность. Все личностные особенности формировались только в рамках социальной группы, поведение каждого обусловливалось постоянным внешним социальным контролем.[492] Традиционно японец был вне социума ничем, и до сих пор у японцев продолжает оставаться достаточно сильной привычка оценивать себя исходя из отношения окружающих.
Вот и герой Абэ мучительно ищет доказательства своего существования как личности в душах других людей. Он старается угадать мысли собеседников: что думают о нём окружающие? как оценивают? как он выглядит в их глазах? – вот вопросы, которые всё время занимают героя. Увы, ответа он не может найти ни у кого, ведь у него нет лица, а без лица он не аутентичен самому себе. Ему приходит на ум отрывок из романа XI в. «Гэндзи моногатари», где повествуется о влюблённых, которые всю жизнь могли не видеть лиц друг друга (дамы, встречаясь с возлюбленными кавалерами, обычно закрывали лицо рукавом, а то и вовсе сидели за ширмой), но их живое чувство любви находило тем не менее путь от сердца к сердцу через стихотворную строку, интонацию голоса, мелодию песни. В те далёкие времена не лицо – нечто внешнее, – а качества души являлись выражением человеческой личности.
Герою Абэ представляется, что много веков назад, когда японец был включён в сложную систему феодальных отношений с их иерархией, патернализмом и раз и навсегда строго определённым мес том в обществе для каждого, эмоциональные узы между людьми были крепче и естественнее сегодняшних. Ныне человек испытывает душевный дискомфорт, оказавшись вне этих рамок. Герой Абэ тоскует по идеализированному прошлому. Его ностальгия имеет буддийскую окраску, что особенно чувствуется в рассуждениях о «бездонной глубине нерасчленяющей интуиции»[493] и в его описании моментов интуитивного озарения героя: «Неожиданно поток времени приостанавливался, я терял направление, выплывал из потока. Выплывал не только я – все, кто летел вместе со мной, рвали существовавшие прежде связи и рассыпались в разные стороны. Вырвавшись из потока, я испытывал чувство освобождения, становился необыкновенно великодушным и, соглашаясь со всеми, повторял странное, поспешно сделанное заключение, что моё лицо – точь-в-точь как твоё – тоже напоминает лицо бодхисаттвы».[494]
Герой ощущает свою отчуждённость от людской массы, ему кажется, что окружающие «вливаются в толпу, чтобы стать никем».[495] После отчаянных душевных метаний герой утверждается в мысли, что единственный способ выжить в мире масок – самому надеть маску. И он создаёт себе маску, практически неотличимую от его настоящего лица.
В результате, ему открывается ещё более глубокая философская истина: лицо человека – это его «маска». Ведь лицо не только отражает, но одновременно и скрывает внутреннюю суть человека. Однако лицо не выбирают: его черты, разрез глаз, цвет кожи и т. п. биологически и генетически заданы, но случайны для личности. Абэ предоставляет своему герою возможность самому выбрать себе лицо. Японский писатель проделывает экзистенциальный эксперимент: он переводит проблему зависимости человека от социума в контекст чисто индивидуального бытия и свободного выбора. Новое лицо героя Абэ – это маска в чистом виде, её можно использовать, чтобы либо полностью скрыть своё сущностное я, либо полностью перевоплотиться в совершенно новое я.
Только так и может существовать современный человек, утративший, по мнению автора, свою сущностную символическую глубину – связь с бесформенной «подложкой бытия, прасредой», лежащей, согласно буддизму, в основании всех форм.[496] Фактически, форма и только она – форма лица, фигуры, автомобиля, виллы, часов или костюма – вот что стало определять суть нынешних горожан.
Надев изготовленную маску, герой обнаруживает, что она обладает собственной природой и способна к собственному волеизъявлению. Она начинает диктовать герою стиль поведения, вообще стиль жизни. (Как тут не вспомнить английского философа Томаса Карлейля (1795–1881), мудро заметившего однажды, что сутана делает священника, мундир – солдата.) Стоило герою раз-другой надеть маску, как она, обретя самостоятельность, властно подчинила себе своего владельца. «Я сделал маску, – жалуется герой, – чтобы возродить себя, но стоило ей появиться, как она вырвалась из рук, то с наслаждением убегая от меня, то злясь за то, что я стою на её пути».[497] Постепенно маска становится всё более независимой. Мучения же героя из-за этого возрастают, его единая личность «расщепляется» на две, которые постоянно противоборствуют. Дать каждой из этих двух личностей самодовлеющее существование, а их внутреннюю борьбу проецировать вовне, чтобы в образах, наглядно увидеть и разобраться в сложнейших взаимоотношениях, происходящих в глубине человеческой души – вот одна из задач писателя.
Немаловажно, что лишь умственно неполноценная соседская девочка угадывает под маской героя его личность. «Именно потому, что девочка умственно отсталая, – заключает герой, – она смогла увидеть меня насквозь».[498] Значит, маскарад – норма, а истинное лицо – болезнь, таково его открытие. Наделив знанием истины убогого ребёнка, Абэ тем самым подчёркивает приоритет интуитивного знания, выступая с позиции тотального, антирационалистического, типично экзистенциалистского негативизма. «Под давлением маски деформируется, распадается истинное лицо, поэтому среди извращений лжи, делающей маску изначальной основой, человек занимается не чем иным, как тем, что сам разрушает собственное бытие».[499] Маска – это новое я героя, благодаря которому он, «скрыв облик, разорвал связь между лицом и сердцем и освободился от духовных уз, соединяющих его с людьми».[500] Теперь все окружающие для него – враги, маски, стоящие на пути его волеизъявления и сами стремящиеся к удовлетворению собственных притязаний: «Мы живём в такое время, когда стало невозможно, как прежде, провести чёткую, кем угодно различимую границу, отделяющую ближнего от врага. В электричке теснее, чем любой ближний, тебя вплотную облепляют бесчисленные враги <…> Вражеское окружение стало обычным – мы привыкли к нему, и существование ближнего так же малоприметно, как иголка, обронённая в пустыне <…> Может быть, для успеха в жизни рациональнее отказаться от высоких устремлений и примириться с тем, что все окружающие тебя люди – враги».[501]
Акцент на антагонистичности отношений между людьми весьма характерен для экзистенциалистского сознания. Идейный предшественник экзистенциализма, Блез Паскаль (1623–1662), писал, что «человек – это сплошное притворство, ложь, лицемерие не только перед другими, но и перед собой. Он не желает слышать правду о себе, избегает говорить её другим <…> Люди ненавидят друг друга – такова их природа».[502] «Конфликт есть первоначальный смысл бытия для другого», – три века спустя вторит Паскалю его соотечественник Ж.-П. Сартр. У Ясперса отношения между людьми – коммуникация, свидетельствующая о тотальном одиночестве каждого индивида. Хайдеггеровское совместное бытие людей раскрывается в сфере равнодушия и чуждости.[503]
У Абэ не только люди враждебны друг к другу, но и толпа в целом враждебна каждому человеку в отдельности, как враждебна к нему в целом и окружающая его природа. Благодаря лицу-маске герой получает возможность избегать личной ответственности за неблаговидные поступки, совершаемые им под воздействием враждебности этого мира. Но раз снимается личная ответственность, все социальные запреты оказываются вполне преодолимыми, всё позволено: «Если освободить себя от всех духовных уз и обрести безграничную свободу, то легко стать безгранично жестоким»[504] – перекликается Абэ с Достоевским. «Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же мы видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство», – сетует старец Зосима в «Братьях Карамазовых».[505] Так можно прийти к тому, что «нельзя будет верить другим, не будет оснований и не доверять другим, придётся жить в состоянии невесомости <….> семья, народ права, обязанности – превратятся в мёртвые слова»,[506] – размышляет герой «Чужого лица». Тогда правомерным будет бороться с другими любыми средствами и даже спокойно идти на их убийство, уничтожать этих других.
В результате герой приходит к апологии преступления, не сознавая даже, что тем самым разрушает собственное бытие. В финале романа мы застаём его в пограничной ситуации (столь любимой экзистенциалистами) – на пороге убийства, должного скрепить кровью идентичность его я и маски – второго я. Убийство – символ окончательного признания торжества маски, символ полного превращения героя в бездушного эгоцентрика. Японский писатель заканчивает роман прежде, чем герой совершает преступление, оставляя ему возможность отступить. Но отступить можно только в тягостную неопределённость утраченной цельности.
В данном случае Абэ следует японской литературной традиции, практиковавшей незавершённость как лучшее завершение, а эскизность, фрагментарность – как наиполнейшее выражение целостности и вечной континуальности Бытия.[507] Однако этот художественный приём роднит роман Абэ и с сочинениями западных писателей-экзистенциалистов, для которых характерно подчёркивание незавершённости человеческого бытия, его постоянного становления и изменения, что делает жизнь вечным приключением.
В этом отношении произведения Абэ Кобо созвучны сочинениям Достоевского, у которого, по словам М. М. Бахтина, «неопределённость, нерешённость <…> являются главным предметом изображения. Ведь он всегда изображает человека на пороге последнего решения, в момент кризиса незавершённого и непредопределимого поворота его души».[508] Примечательно, что «Чужому лицу» присуща и характерная для произведений Достоевского полифоничность. Несмотря на внешнюю монологическую форму романа, написанного как дневник-исповедь, при его чтении возникает ощущение пульсации многих самосознаний. Подобно персонажам Достоевского, герой Абэ всё время пытается воссоздать в себе самосознание окружающих, проиграть их мысли и чувства, определить их позицию по отношению к нему и миру.
Следует отдать должное высокому мастерству Абэ-психолога, вслед за Достоевским видевшего «разгадку структуры личности в том пространстве, в котором сначала возникает человеческое отношение к другому индивиду, чтобы затем – вследствие взаимного характера этого общения – превратиться в то самое отношение к самому себе, опосредствованное через отношение к другому, которое и составляет суть личностной – специфически человеческой природы индивида».[509]
Как и герои Достоевского, герой романа Абэ представляет нам «особую точку зрения на мир и на себя самого».[510] Абэ лишает своего героя физического лица как раз для того, чтобы актуализировать и предельно обострить проблему отношения человека к миру и себе, к собственному я. Можно сказать, что феномен самосознания, отмеченный Бахтиным как художественная доминанта построения образа героя у Достоевского, у Абэ в «Чужом лице» также играет роль художественной доминанты. Герой, ни на миг не совпадающий с самим собой, весь есть «бесконечная функция», весь – «самосознание». Это самосознание, так же как и самосознание героев Достоевского, «вбирает в себя, – по Бахтину, – весь предметный мир».[511] (Отметим, что для писателя-философа Абэ Кобо, по оценке В. С. Гривнина, «первостепенна философия, а не фабула, и этой философии подчинена форма».[512])
Обращаясь к сравнению романа Абэ с повесть Камю «Посторонний», заметим, что в отличие от Абэ, показывающего, как индивид приобретает черты атомизированного эгоцентриста в буржуазном обществе, Камю изображает уже сформировавшегося равнодушного эгоиста.[513] Если Абэ анализировал драматический процесс становления индивидуалистического несчастного сознания, то у Камю мы видим последний рубеж, тупик – фактический распад личности; результат, к которому приводит развитие экзистенциального индивида. В герое Камю процесс присутствует «в снятом виде», поскольку этот герой – наследник вековой индивидуалистической традиции Запада. Ему не требуется маска, чужое лицо, – он уже давно сросся с этой маской, сам превратился в маску. Его я – это и есть эгоистическое я западного индивидуалиста, для которого не существует таких вопросов, как «что есть моё лицо?» или «что есть моя индивидуальность?».
Такие вопросы возникают только тогда, когда человек ощущает себя глубоко причастным природному и социальному миру, как, например, в Японии. В западном же экзистенциализме онтологизация субъективных переживаний отдельной личности привела к утверждению индивидуалистической самости как данности, аксиомы. Согласно этой аксиоме, я не только не нуждается в доказательствах собственного существования, но и является точкой отсчёта и единственным критерием истинности всех своих проявлений в мире.
Согласно этой теории, экзистенциальному индивидууму не нужны сочувствие и поддержка окружающих. Люди глубоко чужды ему и заслуживают лишь равнодушия либо презрения. Однако, как показывает Камю в «Постороннем», окружающие нужны для утверждения свободы воли индивида, они – необходимый фон для развития и полноценного действия его я.[514] Таким образом, даже экзистенциалистский субъект нуждается в определённых связях с людьми, и нарушение этих связей вызывает у него какой-никакой, но тем не менее душевный дискомфорт.
Главный герой повести Камю, мелкий служащий частной фирмы по имени Мерсо, живёт своей размеренной, несколько блёклой, скучноватой, но вполне благополучной жизнью в небольшом городке Алжира на берегу Средиземного моря. Монотонно тянутся его холостяцкие будни. Служба, обеды в кафе, одинокая квартирка, прогулки, спорадические интрижки, кино и пляж по выходным, немного выпивки. Общение вне службы ограничивается случайными беседами с соседями по дому или по кафе. Где-то в близлежащем посёлке живёт в доме престарелых мать Мерсо, которую он почти не навещает.
Герой «Постороннего» вполне удовлетворён такой жизнью, и когда начальник предлагает ему место представителя фирмы в Париже, он категорически отказывается. Зачем? Ведь посторонний-Мерсо начисто лишён любого интереса к жизни других, а жизнь его самого, безмятежно протекающая здесь, в Алжире, не требует каких бы то ни было перемен. Но, увы, перемены всё-таки происходят. Сначала Мерсо неожиданно получает известие о смерти матери и вынужден ехать на похороны в богадельню. Поездка не вызывает у героя никаких чувств, кроме усталости и раздражения, он не пожелал даже бросить прощальный взгляд на лицо покойной. Сразу же после возвращения, стремясь поскорее избавиться от неприятных ощущений, связанных с погребением, Мерсо встречается с любовницей и весело проводит время.
Сосед по дому, человек без определённых занятий, вроде бы сутенёр, иногда заглядывает к Мерсо поболтать, а то и выпить стаканчик-другой. В ходе одной из бесед выясняется, что у соседа конфликт с какой-то арабкой, девицей лёгкого поведения. Постороннему абсолютно чужды и арабка, и сутенёр, но когда однажды после скандала между этой парой приезжает полиция и заводится дело, он уступает горячим просьбам сутенёра и равнодушно даёт показания в его пользу. Благодарный сутенёр приглашает Мерсо с напарницей провести уик-энд на берегу моря. Во время пикника на пляже происходит стычка с арабами, подстрекаемыми братом обиженной сутенёром девицы, однако до серьёзной драки дело не доходит. Арабы удаляются, и пикник продолжается.
День стоит жаркий, нещадно палит солнце. После купания и обильного обеда со спиртным Мерсо, захватив на всякий случай чужой пистолет, в одиночестве идёт прогуляться к прохладному источнику с пресной водой. В клубящемся зыбком солнечном мареве перед застланным по́том взором Мерсо предстаёт вдруг фигура одного из арабов, расположившегося отдохнуть у источника. Зной и выпитое спиртное придают какую-то ирреальность происходящему. Почти не соображая, что он творит, автоматически, как будто исполняя роль в некоем странном хепенинге, Мерсо направляет дуло пистолета на араба и нажимает спусковой крючок…
Убийство араба вызывает у героя чувство удовлетворения, подобное тому, которое испытывает художник, положивший на картину завершающий мазок, или хозяйка, прихлопнувшая наконец последнюю назойливую муху. Мерсо действует практически без колебаний, не размышляя и не терзаясь угрызениями совести после злодеяния. Неспособный и к малейшему движению души, он не чувствует за собой абсолютно никакой вины.
Механистичность Мерсо, его безразличие ко всему, даже к собственной судьбе, есть практическое следствие экзистенциалистского допущения правомерности свободного волеизъявления, этического плюрализма. Если мы вспомним героев Достоевского, то для них убийство было мучительно выстраданным решением, итогом развития идеи. Убийство же, совершённое героем «Постороннего», – случайный, внутренне ничем не мотивированный поступок. Мерсо нисколько не раскаивается в нём, поскольку это не является реализацией его сокровенных желаний и связанных с ними сомнений. В его я нет места никому и ничему, что могло вызвать хотя бы ненависть.
В духовно истерзанном Родионе Раскольникове Достоевский изобразил индивидуума, ощутившего свою слабость и бессилие и устремившегося к их преодолению сверхчеловеческими средствами. Именно от слабости Европу охватила страсть к идее сверхчеловека, описанного Ницше. Ницшеанский сверхчеловек в итоге обернулся античеловеком Камю. Этот античеловек не одержим идеей, не движим страстью, он не способен даже на дурную страсть. Его душа пуста, как выжженная земля…
Роман Абэ и повесть Камю написаны в форме исповеди, как монологи самосознания. Но монолог Мерсо – это монолог самосознания «монады, не имеющей окон» (Лейбниц). Посторонний не только не ищет себя в других, но, наоборот, отталкивает их от себя, брезгует прикоснуться к их жизни. Мерсо – типичный эгоцентрик, живущий лишь в границах своих субъективных переживаний, в которых воплотился для него весь мир. Однако переживания, лишённые объектности, оказываются лишёнными плоти, эмоциональной насыщенности, поэтому герою Камю всё безразлично и мир его чрезвычайно тускл. Всё, что находится за пределами я, для Мерсо не обладает статусом реальности. Более того, его мало трогает даже перспектива разрушения собственного я.
Особенно ясно данное обстоятельство вырисовывается в сцене суда, где постороннему выносится смертный приговор. В противоположность герою Абэ, Мерсо глубоко безразлично отношение к нему других. Он уже находится на следующей ступеньке отчуждения, когда отсутствие контакта с окружающими не только не волнует и не печалит, но наоборот. Как раз контакты могут вызвать приступы раздражения или смутной тревоги, поскольку всё, что исходит от чужих, выступает для Мерсо неистинным, ненужным, мешающим. Либо – в лучшем случае – никак не затрагивающим его я.
Самостоятельность Мерсо – это, говоря словами Гегеля, «самостоятельность, доведённая до того последнего заострения, которое мы видим в для-себя-сущем одном <…>, абстрактная, формальная, сама себя разрушающая; это величайшее, упорнейшее заблуждение, принимающее себя за высшую истину. Она выступает как абстрактная свобода, как чистое " Я ", а затем далее – как нравственное зло. Это свобода, впавшая в такую ошибку, что полагает свою сущность в этой абстракции и ласкает себя мыслью, будто в этом замыкании в себя она обретает себя в чистом виде. Говоря определённо, эта самостоятельность есть заблуждение, заключающееся в том, что смотрит как на отрицательное на то и относится как к отрицательному к тому, что есть её собственная сущность. Она есть, таким образом, отрицательное отношение к самой себе, которое, желая обрести собственное бытие, разрушает его, и это деяние представляет собою лишь проявление ничтожества этого деяния (курсив мой. – А. Л.)».[515]
Вот почему и совершённое убийство, и суд, и вынесенный Мерсо смертный приговор – всё это его разъеденная эгоизмом душа не способна прочувствовать в полной мере. Посторонний может с лёгкостью подписаться теперь под заявлением одного из героев Киркегора: «Я отказываюсь от всего, у меня нет ничего, я не хочу владеть ничем, ничего не люблю, мне нечего терять».[516] Лишь перед лицом смерти ощущает Мерсо нечто вроде шевеления души, только смерть обещает этому несчастному потустороннее примирение с миром.
Тема смерти, неумолимой и всепобеждающей, – одна из центральных в творчестве экзистенциалистов. Вновь вспомним их отдалённого предтечу Паскаля. «Вообразите, что перед вами множество людей в оковах, – писал он, – и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь убивают на глазах у остальных, и те понимают, что им уготована та же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и безнадёжности, и ждут своей очереди. Такова картина человеческого существования».[517] Люди живут на свете, чтобы умереть, рассуждает Хайдеггер; их повседневность есть лишь комплекс иллюзий и лжи, поэтому действительное существование возможно только при осознании бытия как небытия; человек брошен в чуждый и враждебный ему мир, и единственное, что ему остаётся, – это свобода смерти, вознаграждающей его за скорбь жизни. В подлинной жизни, согласно Камю, царят абсурд и отчуждение; объединить людей способно лишь страдание, отвлекающее от трагического сознания абсурда и страха перед будущим.[518]
Герои японского и французского писателей – крайние индивидуалисты. Их сознание ориентировано на абсолютную личностную свободу, это сознание субъекта, ставящего свои прихоти превыше всего. Сама логика такого сознания, метафизика своеволия, неизбежно приводит индивида к совершению убийства (либо самоубийства, что прекрасно показал Достоевский в «Бесах», описав убийство Шатова и самоубийство Ставрогина).
Однако японский экзистенциальный герой представляется человечнее своего западного собрата. Он глубоко страдает от утраты «тропинки к людям». Его решение надеть маску сопровождается нравственными терзаниями, он остро переживает крах своих отношений с женой. И если бесчувственный Мерсо совершает убийство почти автоматически, то герой Абэ останавливается на пороге злодеяния. Японский автор не доводит до конца экзистенциальную метаморфозу и как бы оставляет герою возможность вернуться в общество и выйти на стезю человечности.
Показательно, что и в «Постороннем», и в «Чужом лице» крайний индивидуализм внутреннего мира героев оборачивается актом насилия во внешней, реальной жизни. При этом Камю вовсе не обвиняет (хотя и нельзя сказать, что оправдывает) Мерсо, поскольку не видит положительных нравственных ориентиров в окружающей действительности, которые можно было бы противопоставить безудержному и равнодушному своеволию героя. Что же касается Абэ, то он, с одной стороны, восстаёт против насилия общества над человеком, против тоталитаризма, а с другой, – по сути не принимает экзистенциальной свободы «маскарада», свободы личности, при которой она, терзаясь сама, закономерно приходит к террору против всего мира.
В заключение заметим, что хотя экзистенциалистские мотивы в творчестве японских и западных писателей порождены в основном одними и теми же проблемами, у японцев экзистенциальные размышления обусловлены в первую очередь переживаниями, связанными с последствиями ломки феодальных традиций и переоценкой традиционных установок и ценностей. Обратиться к экзистенциальной философии японских мыслителей побудила стремительность изменений в их обществе, приведшая к глубокому духовному кризису национального менталитета; однако вслед за западными коллегами японские приверженцы экзистенциальной философии стали исследовать «несчастное сознание» слабой личности как глобальную драму современного человеческого существования.
Компромисс как мировоззренческая основа японского общества
Социальная организация японского общества базировалась на культуре компромисса, получившей своё развитие в рамках специфической японской духовной традиции. У истоков японской государственности стоял принц Сётоку Тайси, которого, пользуясь современным языком, можно было бы назвать «мистер компромисс». Будучи покровителем буддизма, он в «Уложении 17 статей» (604) писал, обращаясь к своим подданным: «Цените согласие, ведь основа всего – дух несопротивления. Все люди входят в группировки, наносящие вред государству. А мудрых мало. Поэтому некоторые не повинуются ни отцу, ни государю, также враждуют с людьми из соседних селений. Напротив, при согласии в верхах и дружелюбии в низах, при согласованности в обсуждениях дела пойдут естественным порядком».[519] И далее: «Избавьтесь от гнева, отбросьте негодование и не сердитесь на других за то, что они не такие, как вы… Я не обязательно мудрец, а он – не обязательно глупец. Оба мы только обыкновенные люди. Кто может точно определить меру правильного и неправильного? Оба мы вместе и умны и глупы, подобно кольцу без конца».[520]
Конфуцианское воспитание, которое практиковалось в Японии в среде сначала чиновничества, а затем среди купечества, городского населения и даже крестьянства, настраивало на коллективизм. Сам Конфуций, по воспоминаниям учеников, «не вдавался в пустые размышления, не был категоричен в своих суждениях, не проявлял упрямства и не думал о себе лично», он старался «сдерживать себя с тем, чтобы во всём соответствовать требованиям ритуала».[521] По мнению В. В. Малявина, Конфуций полагал, что полёт мысли каждого индивидуума должен быть обязательно ограничен рамками традиционных цивилизационных форм.[522]
Другой герой японской истории, Кукай (774–835) – просветитель, поэт, каллиграф и основатель школы эзотерического буддизма Сингон – считал, что «три учения», наиболее влиятельные в Японии – даосизм, конфуцианство и буддизм, одинаково важны для духовности японцев. Он ратовал также за сотрудничество духовной и светской власти: «Есть строгое деление «столицы» и «горы» – двух властей, безусловно священных, но священных по-разному. Их осознанная разность – не повод для конфликта, а свидетельство взаимодополнительности и предпосылка для сотрудничества».[523]
Наиболее очевидные примеры компромиссности японского мировоззрения существуют в художественной традиции. Начиная с эпохи раннего Средневековья, в культурной жизни Японии происходило взаимопроникновение местных, японских, и заимствованных – из более развитого Китая – духовных образцов. Заимствование философских, исторических, художественных и религиозных идей обогащало культуру Японии. Каллиграфия, живопись тушью, музыка, танец, садово-парковое искусство, искусство создания ароматов, чайного ритуала – в этих видах художественного творчества японцы проявили себя не только хорошими подражателями, но и талантливыми учениками, в отточенности формы превзошедшими учителей. Тенденция к сочетанию «своего» и «чужого», постепенно становящегося «своим», ярко проявилась в театральных формах: музыка, танец, драма, цветочное убранство, костюм непротиворечиво объединены в едином сценическом действе театра Но.
Особенно важно, что в древности Япония сумела достичь гармонического совмещения культа местных и родовых божеств (синто) с религиозной системой буддизма, привезённого из Танского Китая через Корею. Государственное строительство и образование стали опираться на китайскую конфуцианскую этико-политическую систему. Хотя последняя изначально во многом расходилась с распространённым в тогдашней Японии даосским мистицизмом, в конечном итоге в целостной культурной картине древней Японии оба типа воззрений стали прекрасно соседствовать как в государственных структурах, так и в умах и сердцах обычных людей. Иероглифическая письменность, также проникшая в Японию из Китая и с момента своего проникновения на острова изучавшаяся по китайскому конфуцианскому канону, дополнилась впоследствии фонетическим слоговым письмом – кандзи мадзирибун. Гармоническое сочетание китайского и японского элементов в языковой системе явственно обозначилось в искусстве стихосложения. Поэтические песни, произносившиеся нараспев, были исторически первым видом искусства в Японии, существуя параллельно на японском и китайском языках. В образованной среде страны царило двуязычие, воспринимавшееся как само собой разумеющееся.
Художественная культура японского Средневековья, органично применив эстетические принципы материкового Китая, изменила и «отшлифовала» их до совершенства. Перенесённое на японскую почву, китайское искусство обрело неповторимое японское лицо. Китайская культура была воспринята японцами как единое (хотя и с взаимно противоречивыми частями) целое.
Встреча в 60-е гг. XX в. с западной цивилизацией, радикально отличающейся от всех норм и социальных привычек, которые веками укоренялись в общественном сознании японского народа, не могла не вызвать у него культурного шока. Тем не менее, известный американский социолог Рут Бенедикт заострила внимание на следующем важном факте: «Японцы могут поднимать бунты против эксплуатации и несправедливости, не становясь при этом революционерами, – писала исследовательница. – Они не предлагают порвать ткань своего мира на куски и могут осуществить наиболее кардинальные перемены, как сделали это в эпоху Мэйдзи (1868–1912), не ставя под сомнение систему. Не будучи революционерами, они назвали это реставрацией, "погружением назад", в прошлое».[524]
Особо отметим, что культура Запада имела иные основания, чем культура японского Востока. На Востоке человек считался воплощением многоуровневых отношений взаимной ответственности и воспринимался прежде всего как представитель группы. На Западе же возобладала точка зрения Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо, считавших, что человек на арене истории существует как независимый атом, движимый только собственным эгоистическим интересом, но никак не интересом группы. Именно такая трактовка взаимоотношений индивидуума с государством вызвала протест у ориентирующихся на конфуцианскую мораль японских интеллектуалов эпохи Мэйдзи. Японцы считали, что конфуцианская этика, в отличие от римского права, – гораздо более гуманное основание социальной жизни, а главное, верное средство для смягчения конфликтных ситуаций, регулярно возникающих в обществе на всех уровнях. Правда, она не стимулирует экономический активности, конкуренции индивидуумов между собой, столь характерной для Запада.
Прекрасно отдавая себе в этом отчёт, японская элита считала необходимым формирование нового типа моральных отношений в обществе, способствующих нацеливанию граждан на то, чтобы догнать Запад в военном и техническом отношении. Для достижения паритета с Западом необходимо было создать слой предпринимателей, следуя, однако, не западному образцу примата конкуренции и личной выгоды, а на основе испытанной веками конфуцианской этики, формировавшей японца как человека, подчинённого долгу. Видный государственный деятель, предприниматель и мыслитель Сибусава Эйити (1840–1931) предложил для японских бизнесменов лозунг «долг и выгода – едины!». Он писал также: «Думать, что богатство может являться исключительно личной собственностью одного человека, есть великое заблуждение. В сущности, человек не в состоянии делать что-либо в одиночку. Только благодаря государству и обществу он извлекает пользу для себя».[525]
Система социальных отношений, которой японец следует всю свою жизнь, и по сей день выстроена таким образом, что вписанный в неё индивидуум никогда не окажется ни с чем в конце пути. Это самое ценное в японской общественной жизни. Отношения строятся по принципу ответственного поведения. В результате, человек, обладающий наибольшей властью, несёт на себе наибольший груз ответственности за управляемый коллектив, его благополучие и моральную атмосферу. Отдельные индивидуумы своим ответственным поведением обязаны всячески поддерживать гармонию этих отношений.
Понятно, что любой иностранец оказывается здесь инородным элементом. У него нет поведенческого кода, понятного всем японцам с детства, а именно: нет обязательств перед страной, императором, семьёй, рабочим или учебным коллективом либо коллективом компании. Но сегодня очевидно, что именно благодаря наличию такого кода японцы создают коллективы, способные работать гораздо эффективнее западных компаний. Воспитание привычки к коллективизму начинается с самого раннего детства – с начальной школы, когда малышей учат ответственно подходить к своим обязанностям, решать задачи совместно с друзьями, непременно доводить начатое до конца, т. е. учат поддерживать, беречь и возобновлять ту сеть отношений, которая сложилась в обществе.
Трудно назвать какую-либо единственную причину, по которой индивидуализм и эгоизм не получили прописки на японской земле. Как считает В. В. Малявин, одна из них – традиционализм, в основе которого ощущение японцами периферийности собственной японской культуры по отношению к китайской, что заставляет их «с муравьиной дотошностью» всем миром доводить до совершенства внешние формы воспринимаемой культуры в ущерб её символическому наполнению.[526] Частично это связано с расположением страны в сейсмоопасной зоне, где непредсказуемость природы люди старались компенсировать сугубой предсказуемостью собственного поведения, направленного на совместное решение общих задач. В результате у японцев сложился особый поведенческий код.
Ещё в период феодальных междоусобиц появился кодекс самурайской этики, который впоследствии, в эпоху Эдо, был зафиксирован в кодексе Бусидо (Путь воина). Немного позднее, когда в среде городской культуры появился новый класс, класс торговцев (которые, обладая экономическим могуществом, занимали, тем не менее, самое низкое после воинского, крестьянского и ремесленного сословий положение), возник и кодекс поведения торговца. Появление таких кодексов было связано с необходимостью привить социальным группам моральную ответственность за все последствия их деятельности в стране. Населению прививалась привычка рассматривать общество и его культуру как сложный конгломерат различных интересов, которые с необходимостью должны в гармоническом виде сочетаться друг с другом. Правящие круги Японии прикладывали колоссальные усилия к тому, чтобы обеспечить взаимную адаптацию интересов разных социальных групп. В своей политике они опирались прежде всего на принципы конфуцианской этики, охватывавшие постепенно всё более широкие круги населения. Примечательно, что эта этика подразумевала добровольный отказ власть имущих как от ряда преимуществ, так и от претензий на особое положение. Это предполагало своего рода аскетизм и отказ от эгоизма каждого в пользу гармонии всех.
В итоге в японской культуре закрепились образы родины как уникальной в природном отношении страны – носительницы непреходящих ценностей, изначальное название которой звучит как «Великая гармония» (Ямато). Традиционно каждый японец до сих пор воспитывается так, чтобы он осознавал себя связанным невидимой нитью и с природой, и с культурой Родины, её прошлым и будущим. Таким образом закладывается правильное культурологическое видение себя в эпицентре противоречивого тождества прошлого и будущего, природы и культуры, общего и единичного.
Одним из краеугольных камней японской культуры является патриотизм. Причём особенно важен патриотизм элит. Во-первых, он формирует доверие народа к своим элитам, во-вторых, элиты продуцируют образцы поведения, которые становятся примерами для подражания. Ещё Конфуций говорил, что правители – как ветер, народ – как трава; куда ветер дует, туда гнётся трава. Любое же предательство элит ведёт к социальным антагонизмам и дальнейшему распаду общества.
Однако во второй половине XX в. во всём мире появились новые, не поддающиеся моральному регулированию властные группы, транслирующие, в силу глобализации, деструктивные образцы поведения как некую норму. Это финансисты, владельцы СМИ и киноиндустрии, журналисты, стилисты, модельеры, рок– и поп-музыканты, спортсмены и тому подобная публика. Их поведение обладает для молодых людей особым «обаянием зла», которое в конечном счёте означает приоритет эгоистических интересов над групповыми, над интересами Целого. Тем не менее, традиционные позиции в Японии ещё достаточно сильны, чтобы воспитывать здоровых граждан, способных к эффективным коллективным действиям, избегающих конфликтов и предпочитающих компромиссы.
Великий японский мыслитель Нисида Китаро всю жизнь стремился к пониманию истины как синтеза многообразия и развивал «синтетическую» линию мировоззренческого компромисса как основы социальной организации Японии. Он рассматривал бытие человека в обществе как взаимодействие посредством самоограничения. С древнейших времён в истории японской цивилизации «закрепляется тип личности, постоянно подстраивающей себя к собеседнику, партнёру, канону, традиции».[527] Одним из теоретических источников мировоззрения Нисиды является концепция Дао-человека, сформулированная Лао-Цзы и Чжуан-Цзы. Согласно этой концепции, мудрецом считается тот, кто глубоко проникается спокойным течением Дао, сверяя с ним всё своё поведение. Мастер-профессионал потому и является мастером, что согласует свой разум и тело с естественным движением универсума, не выпячивая своего я. Даосский мудрец-мабито – скорее чуткий «камертон» и проводник веяний Дао, становящийся тем совершеннее, чем менее являет миру результаты работы своего разума, ибо «совершенномудрый не имеет [собственного] я».[528]
Важной для философии Нисиды, несомненно, является идея невербального, целостного внетекстового постижения адептом дзэн-буддизма единства мирового континуума путём непротиворечивого встраивания в непрерывное течение мирового процесса (сатори) и осознания единства с ним. Мировоззрение буддийского монаха, чтобы быть истинным, должно быть по определению сложным: «…сознание человека, совершающего обряд, не просто раздвоено между двумя мирами – обычными людьми с их заботами и Буддой с его состраданием. Монах должен ещё и поддерживать в себе эту раздвоенность. С одной стороны, он идёт по пути бодхисаттвы, совершенствует своё «сердце», избавляется от заблуждений. С другой – от него требуется изменять мир именно на уровне видимости, или ложных различений: чтобы в итоге молений недуг больного сменился здоровьем, засуха – дождём, смута – благоденствием державы».[529] Понимание равной значимости обоих миров – мира Будды и мира человека, мира «бесформенного» и мира форм – придавало пониманию истины жизни буддистом сложность, напряжённую объёмность.
Нисида Китаро писал, что культуры у разных народов имеют общее «бесформенное» виртуальное основание, но различаются тем, на чём ставят акцент в его воплощении. В частности, если рассматривать ситуацию по шкале «свобода – безопасность», японцы – это нация, однозначно выбирающая коллективную безопасность. Вот почему в XX в. здесь не происходило кровавых гражданских войн. Нисида подчёркивал: «Настоящее, если поразмыслить, связывает прошлое с будущим. Почему так? Потому что нельзя мыслить время как прямую линию, где каждое мгновение исчезает бесследно одно за другим. Так реальный мир не образуется. В настоящем – прошлое, хоть оно и прошло, но всё же не прошло, осталось; и будущее – хоть и не наступило ещё, а всё же уже пришло. Таким образом, настоящее – кругло, закольцовано. Иными словами, для того, чтобы находиться в процессе самостановления, мир должен соединять прошлое с будущим, закольцевав время пространством… Прошлое и будущее связаны настоящим. И настоящее, расширяясь до каких угодно пределов, становится пространством, обнимающим прошлое и будущее».[530] Как видим, японский философ занимает культурологическую позицию: культура, как и мир, телеологична, как цель она содержит будущее в себе, но без прошлого её тоже нет. Человек, носитель культуры, тоже причастен ко всем «трём мирам», хотя его актуальное бытие – «здесь и теперь», «вечное настоящее» (эйэн-но гэндзай).
Нисиде Китаро довелось жить в сложное время кануна и событий Второй мировой войны, когда Япония, вопреки своей традиционной компромиссности, постепенно скатывалась в омут оголтелого шовинизма, исступлённого возвеличивания японской культуры и пренебрежительного отношения к культурам других стран, особенно западных. «Среди людей, истолковывающих японский дух, преобладает тенденция превозносить специфику японской культуры. Но если превозносить только уникальность, есть опасность отбросить очень важные, хотя и не уникальные вещи, – писал философ в 1938 г. – Ведь мы ценим Ямадзаки Ансая не за то, что он разрушил учение Конфуция (продемонстрировав тем самым японскую уникальность), а за то, что он развивал конфуцианство в своём творчестве».[531] Нисида рассматривает человеческое бытие в мире как сотворчество разных цивилизацийот – как сотворчество природы и человека: «Думаю, что общая глубинная черта любой культуры – взаимная дополнительность разного… Японцы успешно осваивали индийскую, китайскую культуры – и что же, японская специфика из-за этого пропала? Нет, это не так… Думаю, что в конце концов дальневосточная культура абсорбирует западную, иного и быть не может»,[532] – таков его вывод.
Индивидуум, всем своим существом «вписанный» в мировой континуум и не имеющий осознания своей вписанности – это и есть «чистый опыт» – понятие, предложенное Нисидой Китаро. У этого опыта может быть несколько уровней: уровень маленького ребёнка, естественным образом слитого с миром и не осознающего отдельности своего я от матери и мира; уровень самурая, участвующего в поединке на мечах; уровень охваченного вдохновением художника; уровень учёного, погружённого в научную проблему… Именно этот опыт, считает Нисида, и есть истинное я человека. Такое я не существует как определённая форма или конфигурация характеристик. Человеческое я – это творческая монада бытия, которая развивается и совершенствуется при помощи самоограничения.
Разум не есть нечто, присущее только индивидуумам, а есть та общая «подкладка» Бытия, некая прасреда, на которой выросли все остальные наблюдаемые и изучаемые среды. Поэтому все видимые среды оказываются связанными друг с другом через эту прасреду Мир разных цивилизаций объединён «общим чувством», знающим подлежащий миру закон или принцип – ри, который интуитивно дан и человеку. Именно доверие к миру делает возможным для человека ориентироваться в этом мире. Процесс познания Нисида уподобляет действию самурайского меча, который может разрубить всё, кроме себя самого: «Это сила – нечто, что мы не можем наблюдать как объект нашего сознания».[533] Нервные импульсы, возникающие в мозгу, никак не соотносятся с формами внешнего мира, но человек каждый раз, когда познаёт мир, совершает «прыжок» от своего «ощущения» к «существованию» чего-то внешнего. И пропасть под этим «прыжком» покрывается верой, собственно, религиозной верой в то, что мы видим действительные вещи.
Самое важное, полагал японский философ, это культура, для правильного понимания смысла которой нужно определить, что такое «добро». Согласно Нисиде, «добро» не означает слепого следования определённым этическим требованиям (хотя не исключает, а зачастую подразумевает это). Главное – это наше отношение к целому, выражающееся в поступках, словах, мыслях; наше сознание становится функцией гармонии и единства. Исследования Нисиды Китаро, посвящённые революции в естествознании начала прошлого века, можно считать провидческими: в них было предсказано появление в XX в. так называемых «второго» и «третьего» субъектов научной рациональности. Исходя из работ Нисиды, мы делаем вывод, что автор говорит не только о зависимости результатов научных экспериментов от свойств человеческого сознания, но и о необходимости этического, гармонизирующего подхода к миру.
Сегодня – в эпоху глобализации – мир резко сузился благодаря интернету и появлению общего виртуального пространств, и необходимость этического подхода, о котором писал Нисида Китаро, востребована как никогда. Напряжённое взаимодействие в тесном культурном сотрудничестве четырёх мировых цивилизаций: Запада, Ислама, Индии и Дальнего Востока может вестись только при условии приоритета общих ценностей над локальными, при признании необходимости не антагонистического, а комплементарного, компромиссного подхода друг к другу. И в этом опыт Японии может оказаться весьма полезным.
Проблемы «праведного искусства» японского эстетика Кобаты Дзюндзо
В ходе развития национальной художественной традиции японцы создали уникальные традиционные виды искусств, не укладывающиеся в рамки западной эстетики с её делением искусства на «чистое» (основанное на зрении и слухе) и «практическое» (основанное на осязании, обонянии, вкусе). Тем не менее некоторые японские учёные под влиянием западных теорий делают попытки объяснить феномен традиционных японских искусств, используя категории западной эстетики. В этой связи весьма интересны идеи видного представителя японской эстетической мысли, профессора Кобаты Дзюндзо (1924–1984).
В своих главных трудах – «Феноменология эстетического сознания» (Биисики-но гэнсёгаку, 1984) и «Праведное искусство: горизонты искусства и религии» (Гудо гэйдзюцу. Гэйдзюцу то сюкё-но тихэй, 1985) – Кобата доказывает, что традиционное искусство Японии осваивает область «переходную» от быта (повседневной жизни человека) к области собственно художественного творчества. Эту «переходную область» профессор предлагает обозначить термином гудо («праведный»), в настоящее время устаревшим и практически вышедшим из употребления. Кобата впервые употребляет его при описании художественной практики в сочетании гудо гэйдзюцу, что означает «праведное искусство». «Несомненно, – пишет Кобата, – есть группа художественных феноменов, где именно праведность (гудосэй) представляет собой естественный и существенный момент. Такая группа необязательно в точности соответствует классическому понятию искусства, следовательно, это – не типологическое понятие. Но поскольку я думаю, что для этой группы феноменов необходимо особое наименование, я решил назвать её гудо гэйдзюцу, или праведное искусство».[534]
На каком же основании японский ученый выделяет группу гудо гэйдзюцу, куда он относит прежде всего такие виды традиционного японского искусства, как чайная церемония, икэбана, составление ароматов, воинские искусства и др.? На том основании, что данная группа тесно внутренне связана и одновременно существенно различается от следующих феноменов японской культуры: а) быт японца; б) японское культовое искусство; в) «чистое искусство». Так, если взять классический пример «праведного» искусства, чайную церемонию тяною, то налицо, так сказать, повседневность процесса чаепития, что, казалось бы, мешает отнести тяною к искусству. Однако сформировавшийся в течение веков сложный церемониальный кодекс тяною, отражающий своеобразную эстетическую программу, наличие изощрённых канонов, разделяющих мастеров церемонии на школы, разработанная виртуозная техника приемов и пр. – всё это свидетельствует о том, что тяною в особой форме ваби-тя относится к сфере подлинного искусства.
Исторически к XV в. сложилось два типа чайного ритуала. Первый – тя-но ски, т. е. любовь к материальной атрибутике чаепития: дорогой китайской посуде, вазам, дорогим картинам, являющимся предметом гордости владельца. Второй, ваби оси – любовь к безыскусно-скромному но духовно насыщенному действу, которое включает в себя несколько мировоззренческих основ – даосскую, буддийскую и конфуцианскую, – плавно перетекающих друг в друга.[535] Именно последняя тенденция обрела канонические черты и стала одним из элементов гэйдо – «пути искусства».
Вот, например, маленький отрывок осмотра кувшина из сценария, по которому проходит чайное действо в школе Урасэнкэ (цифры означают порядок движений в ритуале): «[25] Положив руки на колени, „хозяин“ поворачивается лицом к кувшину-цубо. Кончиками пальцев обеих рук берёт его, поворачивает на пол-оборота против часовой стрелки – так, чтобы предняя сторона была обращена в сторону «гостей». Поднимая кувшин, встаёт на ноги. [26] «Хозяин» подносит цубо «главному гостю», после чего возвращается на место. [27] «Главный гость» кланяется и извиняется перед «вторым гостем» за то, что осматривает кувшин первым. [28] «Главный гость», опираясь ладонями о татами, наклоняется вперёд и осматривает кувшин. [29] «Главный гость» обеими руками снимает ткань, покрывающую крышку-затычку и, опираясь локтями о колени, осматривает ткань. [30] Обеими руками кладет ткань справа от кувшина. [31] Кончиками пальцев слегка наклоняет кувшин к себе, чтобы рассмотреть печать на полоске бумаги. Затем слегка наклоняется и осматривает кувшин, вращая его в сторону «второго гостя» (по часовой стрелке). Во время этих манипуляций кувшин полностью от татами не отрывается».[536] Очевидно, подобный «спектакль» (где все зрители являются одновременно и действующими лицами) – это высокопрофессиональное, требующее длительной выучки и тщательной техники исполнения искусство (предполагающее, однако, свои менее профессиональные аналоги в сфере повседневности). Кроме того, в отличие от бытового чаепития, такое искусство духовно связано с буддийско-даосскими корнями мировоззрения средневековых японцев.
«Религия для искусства – это альфа и омега, источник и цель, – утверждает Кобата Дзюндзо. – Почему так говорится? Потому что почва, непрерывно питающая корни искусства, – это не что иное, как религия, и трансцендентная цель, к которой стремится искусство, и которая также лежит в религиозной сфере».[537] Если следовать этой мысли, то можно прийти к выводу, что искусство как особая форма сознания выводимо из религии и что категории искусства и эстетики должны быть выводимы из религиозной догматики. Однако Кобата далёк от подобного отождествления религиозного и эстетического в традиционном японском искусстве. Его рассуждение имеет задачей показать посредническую роль искусства в деле постижения религиозных ценностей: «В качестве трансцендентной цели, к которой должно стремиться искусство, выступает религия. А в качестве средства достижения этой цели выступает художественная практика. Чем выше качество художественной практики, тем выше ценность искусства с точки зрения религиозной».[538]
Это относится прежде всего к культовому, или, как его именует Кобата, «религиозному» искусству: только в рамках такого искусства, считает он, «художественная деятельность делает возможным проявление священного».[539] Эмоциональное постижение священного требует непременного участия искусства, т. е. выдвижения эстетической ценности в качестве посредника между миром священных предметов и миром профаническим. «Когда требуется сопряжение священной и художественной ценности, то в качестве непосредственно-чувственного посредника становится необходимым декор, И с этой позиции искусство становится носителем функции соединения двух отдельных ценностных сфер: священного и прекрасного».[540]
Ярким примером подобного «сотрудничества» религии и искусства может служить каллиграфическая переписка сутр. В результате, один и тот же материальный носитель – сутра может выступать в качестве объекта, имеющего религиозную либо художественную ценность. По сути, религиозное произведение становится в то же время и произведением искусства, если имеет декоративную форму: «Священное выявляется нами при переписке сутры и при внесении в этот процесс декоративного момента. Выявленное таким образом священное заставляет проявляться эстетизированное священное для нас».[541]
По мнению Кобаты Дзюндзо, эстетическое родственно священному, поскольку лишено явного утилитарно-практического смысла. Оно как бы не принадлежит всецело посюсторонней сфере, а являет собой нечто среднее между миром духовных сущностей и миром сущностей материальных. Именно благодаря своему декоративному характеру, искусство связывает в себе оба эти мира: «Священное и мирское связаны через декор», – пишет профессор. И продолжает: «Последний не относится к мирскому, обыденному, поскольку бесполезен. Но и к священному его не отнести, так как священное без него может вполне обойтись».[542] Выразительным «пространственным воплощением» связи священного и мирского являются, согласно Кобате, храмовая архитектура и ландшафтные сады. Последние – особенно так называемые японские сухие сады (сады камней) – по словам эстетика, «отграничивают пределы священного от мирского и тем самым облекают священное в возвышенно-прекрасные формы».[543] Само по себе ландшафтное искусство не принадлежит к разряду культового («религиозного»). Однако его отношение к религиозной сфере позволяет называть его «праведным».
В представлении японского эстетика религия и искусство могут существовать изолированно и независимо друг от друга, однако могут и «сопрягаться» в формах либо «религиозного», либо «праведного» искусства. «Религиозное», или культовое, искусство предназначено для усиления эмоционального воздействия на верующих и всегда подчинено строгим канонам. Любое отступление от этих канонов может быть истолковано как принижение, опошление или обмирщение образа божества (притом что канон есть «протокольное описание» внешности божества), и это не раз приводило к гонениям против художников.
С другой стороны, церковь всегда и везде отличалась двойственностью своего отношения к искусству. Так, в Новом Завете говорится, что «мы живем, действуем и существуем в Боге» (см.: Деян. 17, 27–28). И тут же – что «невозможно человеку создать образ Божий» (см.: Деян. 17, 29). По замечанию Кобаты, это может в равной степени служить основанием как для поощрения иконописи, так и для её категорического отрицания; и то, и другое имело место в истории христианской Церкви. Из сказанного очевидно, что «праведное искусство» находится в более выгодном положении, нежели культовое.
Таким образом, хотя японский учёный и считает, что любая одухотворённость имеет религиозный характер, а все умопостигаемое, не данное нам в непосредственном ощущении, имеет Божественную природу, он, тем не менее, вынужден признать известную автономию искусства – как светского, так и религиозного. Во втором случае «независимость от сакрального» у художника проявляется в необходимости длительного периода совершенствования техники и овладения приёмами мастерства: «Художественная деятельность делает необходимой непрерывную практику в сфере своей техники. Создание образа или украшение храма есть художественная деятельность – это дела мирские, дела посюстороннего мира».[544] Следовательно, техническая, ремесленная основа искусства существует независимо от религиозной ценности. Она определяется прежде всего законами и правилами сугубо практическими, мирскими, человеческими.
От себя заметим, что само произведение культового искусства имеет два измерения. Первое – художественное, поскольку произведение рождается на свет как реализация художественного замысла мастера, как воплощение его художественной цели. Второе – религиозное, так как часто произведение является воплощённым символом религиозной идеи и используется церковными институтами как предмет культа или вспомогательное средство для усиления воздействия на паству. Но даже культовое искусство может оцениваться относительно независимо от религиозной цели.
Исходя из определения отношения гудо гэйдзюцу к религии и культовому искусству, Кобата Дзюндзо уточняет соотношение понятий «искусство» и «праведное искусство». «Искусство возникает, как правило, в результате чисто созерцательного, ориентированного на прекрасное, отношения к миру. Особенность такого отношения в том, что оно подразумевает видимость, подобие изображаемых объектов. К таким объектам относятся не как к явлениям действительности и не как к феноменам сознания. Они имеют только им присущую специфику, что свидетельствует о ценностной автономии чистого искусства».[545] Таким образом, японский учёный демонстрирует двойственный подход к культовому искусству: оно одновременно и зависимо, и относительно свободно от религиозных ценностей. Вопреки своим же собственным заявлениям о «неразрывном единстве» религии и искусства, профессор вынужден констатировать их принципиальное различие.
Кобата не может до конца разрешить проблему иерархии разных ценностей, полагая два взаимоисключающих, на первый взгляд, тезиса. 1) Либо, с точки зрения ценности, религия и искусство – это в своей основе одно и то же, вследствие чего искусство должно носить подчинённый характер и выражать исключительно религиозные идеи. 2) Либо «основной принцип религии и основной принцип искусства каждый в отдельности выказывают свою собственную идею и они взаимно независимы»[546] и посему имеют автономные, самостоятельные ценности.
Японский эстетик подчёркивает, что в области художественной жизни в Японии существует совершенно особый феномен, в котором присутствует полное единство и нераздельность, подлинный синтез сакрального и художественного. Это гудо гэйдзюцу – «праведное искусство», совмещающее в себе черты чистого и религиозного искусства. «Религиозное искусство, – пишет японский философ, – тесно связано не с религиозной идеей вообще, а с конкретными религиями: буддизмом, исламом, христианством, иудаизмом. В этой тесной связи формировалась и его эстетическая традиция, передаваясь из поколения в поколение. В рамках такой традиции искусство и религия существовали, тесно переплетаясь друг с другом. А у „праведного искусства“ религиозный момент крайне неопределён и не обладает ясно очерченной сферой. Здесь проявляется особое искусство (вадза), основанное на «идейной интуиции», на духовном поиске. В этом случае искусство (гэйдзюцу) обычно претворяется в жизнь через практику праведности».[547]
Таким образом получается, что религия не оказывает прямого, непосредственного влияния на «праведное искусство». Кроме того, сакральное присутствует в нем в скрытом виде. И, наконец, целью и воплощением подобного искусства является некая практика праведности, реализуемая в повседневной жизни. Следовательно, если верить Кобате Дзюндзо, гудо гэйдзюцу фактически существует независимо от религии. Тем не менее оказывается, что идейной подоплёкой здесь выступает, всё-таки, буддийская религия. По словам Кобаты, понятие праведности соответствует именно буддийскому понятию бодайсин (букв. «прозревшее сердце»).[548] Действительно, практика традиционных японских искусств, подразумевает определённый уровень духовного «прозрения». Учёный подчеркивает, что эти искусства «не удовлетворяют условиям структуры чистого искусства. Они, если можно так выразиться, примыкают к нему, приравниваются к нему, иными словами, занимают позицию квазиискусства».[549]
Итак, японский профессор называет гудо гэйдзюцу квазиискусством, (дзюнгэйдзюцу), когда сравнивает его с «чистым искусством» – с целью подчеркнуть его «автономность от художественности как таковой». В отличие от последней, сфера «квазиискусства» не содержит конкретных, оригинальных художественных произведений, олицетворяющих собой итог творческих усилий мастера. Это следствие «структурной недостаточности» квазиискусства: «сердцевиной его является некое побуждение в глубине самосознания субъекта, искусство души, а не задача создания произведений искусства».[550]
Кобата уверен, что дзюнгэйдзюцу – совершенно необыкновенный, нигде более в мире не встречающийся духовно-практический феномен, который нельзя подвести ни под одну из известных категорий. «Разве в икэбане или искусстве составления ароматов не создаётся художественное произведение в том же смысле, что и в области живописи или поэзии, где в результате появляются самостоятельно существующие стихотворение или картина?»,[551] – спрашивает он читателя. Действительно, в этих случаях «вещественные», материально воплощенные произведения не рождаются. Рождается нечто иное – недолговечный, но вполне реальный художественный образ. Сродни этому театральное или музыкальное искусство. Что считать законченным произведением в этих областях? Текст пьесы или спектакль? Партитуру или её музыкальную интерпретацию исполнителем? Но разве о театре или музыке можно сказать, что они растворены в повседневности?
Здесь хочется отметить, что японский учёный поднимает важную проблему авторства и статуса художественных произведений в разных видах искусств. Так, живописец, скульптор или литератор безоговорочно считаются авторами созданных ими произведений, и материальное воплощение произведения, как правило, имеет при этом вполне конкретную форму. Однако что касается музыки, то здесь дело обстоит гораздо сложнее. Музыкальное произведение только первоначальное свое воплощение находит в партитуре, но осуществиться оно может лишь в реальной музыке, в звуках. При этом автор чрезвычайно редко сам является исполнителем, «воплотителем» своего сочинения. В случае же исполнения симфонического произведения, требуются усилия многих музыкантов, а также дирижёра. Кроме того, на основе одной партитуры возможны разные варианты исполнения музыкального произведения.
Многие российские и зарубежные ученые обращали внимание на эти проблемы. Американский философ-номиналист Нельсон Гудмен, например, в связи с этим предложил различать автографические и аллографические группы искусств. Если любые нюансы какой-либо художественной темы являются значимыми, то каждое её воплощение (например, слегка отличающиеся друг от друга рисунки одного и того же предмета) считается самостоятельным произведением искусства, а создавший его индивид – автором. Подобное произведение так же уникально, как, скажем, всякий конкретный образец подписи, автограф, и в данном случае мы имеем дело с автографическими искусствами. Если же нюансы в реализации художественной темы с помощью символического языка какого-либо вида искусства не рассматриваются как достаточное основание для того, чтобы говорить о создании самостоятельного произведения, то перед нами аллографические виды искусства.[552]
Отечественный исследователь А. Л. Андреев, поясняя мысль Н. Гудмена, замечает, что «в аллографических искусствах различаются автор и исполнитель. Например, в музыке и архитектуре авторами произведений считаются соответственно композитор и архитектор. Нотная запись или проект здания задают "характеристический класс": определяют некоторое множество возможных реализаций авторского замысла, каждая из которых, однако, будет рассматриваться не как самостоятельное произведение, а как «экземпляр» одного и того же произведения».[553]
Но вернемся к концепции Кобаты. В трактовке японского профессора квазиискусствами выступают в одинаковой степени и икэбана, и чайная церемония тяною, и воинские искусства бугэй. Но ведь это отнюдь не сходные типологически виды искусства. Если воспользоваться терминологией Гудмена, то аранжировка цветов – искусство явно автографическое, а тяною и бугэй – аллографические. Разница, на наш взгляд, достаточно принципиальная. Признаком «чистого искусства» у японского эстетика служит функционирование в его рамках полной классической структурной триады: «создатель – произведение – рецептор». Главное, как было подчеркнуто выше, наличие материализованного художественного произведения, которого в квазиискусстве нет.
Однако «структурная недостаточность» квазиискусства ни в коем случае не свидетельствует об его ущербности. «Ценность дзюнгэйдзюцу абсолютно не уступает ценности чистого искусства».[554] Но чем же ценно и оригинально дзюнгэйдзюцу? Согласно Кобате, оно ценно прежде всего широтой его аксиологических ориентаций. В отличие от «чистого искусства», в котором реализуются единственно художественные ценности, в квазиискусстве находят воплощение ценности разного характера: и религиозные, и нравственные, и практические. По мнению японского эстетика, «ценностная позиция квазиискусства в той мере, в какой оно выступает средством воплощения прекрасного и священного, на порядок превосходит ценностную позицию „чистого искусства“».[555]
Сразу же возразим нашему автору, что лишь в редких случаях искусство ориентируется исключительно на выявление «прекрасного». Произведения, созданные в результате подобной ориентации, обычно не становятся гениальными. Сопряжение же ценностей, напротив, – нормальное явление для высоких образцов настоящего искусства. Подлинное искусство всегда отражает реальное многообразие действительности и отношение к ней целостного человека. Поэтому широкая ценностная ориентация никак не может служить доказательством специфичности и уникальности квазиискусства.
Спецификой квазиискусства, согласно японскому учёному, является также его особая связь – через практику «праведности» – со сферой повседневности, быта. Кобата не устает повторять: «сущность праведного искусства – в повседневной жизни»; «праведное искусство никогда не утрачивает аспекта искусства повседневной жизни»; «праведное искусство связано со всеми сторонами повседневной жизни».[556] Он убежден, что праведность искусства не может быть «отделена от праведности повседневной жизни».[557] Даже из этих цитат видно, что «праведность» понимается здесь в качестве практики, общей как для сферы художественной деятельности, так и для сферы быта. «Праведность как таковая, – пишет Кобата, – должна одинаково выказывать себя и в основе повседневной жизни, и в художественной деятельности. Это – основная тенденция, присущая человеческому существованию».[558]
Говоря о праведности, общей сразу для нескольких видов социальной практики, учёный точно оценил всеобщность нравственного момента для всех сторон человеческого существования. Нравственное отношение к жизни (то есть взгляд на неё под углом зрения противоположности добра и зла) может в равной степени выказываться и в области сугубо религиозной, и в области искусства, и в повседневности (формируясь преимущественно в рамках последней). Утверждение, что такая праведность по сути своей одна и та же и в практике повседневной жизни, и в искусстве, – правильно. Однако правильно не потому, что «праведность» является объективизацией священного, а потому, что нравственное отношение является всеобщим, подобно эстетическому отношению к действительности (хотя, в отличие от последнего, несколько у́же, поскольку ограничивается лишь сферой социального, о чём мы упоминали выше).
В искусстве может быть выявлена любая ценность. Их может быть несколько, они могут находиться друг с другом в разных отношениях. Наличие сильно выраженного нравственного момента ещё не может служить достаточным основанием для обособления квазиискусства. (Кстати, в искусстве классицизма нравственный момент присутствует вполне явственно, однако никто никогда не выдвигал идею его автономности.)
Именно поэтому мы вынуждены отвергнуть доводы Кобаты об особом статусе квазиискусства, якобы кардинально отличающегося от обычного «чистого искусства». Общность «праведного», или нравственного, измерения, наличествующего как в повседневной жизни, так и в квазиискусстве, не может служить аргументом в пользу отрыва последнего от искусства как такового.
Следующий тезис, выдвигаемый японским ученым в защиту уникальности и ценности квазиискусства, состоит в том, что субъект квазиискусства, как и субъект в повседневной жизни, выступает во всём многообразии своих качеств, т. е. как целостное существо. Со своей стороны, согласимся с Кобатой, что характернейшая особенность любого настоящего искусства и в высшей степени – его синтетических видов состоит в том, что здесь, как нигде, человек выступает в качестве целостного индивидуализированного существа, в единстве нравственного, интеллектуального и эмоционального аспектов. Но это, опять-таки, не может считаться спецификой дзюнгэйдзюцу. Субъектом синтетических видов искусства никогда не был «идеальный субъект». Другое дело, что, например, в искусстве классицизма или романтизма в соответствии с идеалами и вкусами эпохи идеализировались те или иные стороны целостного человека…
До сих пор мы рассматривали те характеристики квазиискусства, которые, по мнению японского эстетика, отделяют его от других культурных феноменов. Остановлюсь теперь на противоположных его характеристиках. В этой связи Кобата Дзюндзо отмечает богатство культурной традиции, питающей дзюнгэйдзюцу, регион преимущественного распространения которого ограничивается странами Дальнего Востока, и прежде всего Японией. «Западная культура бедна в отношении художественных феноменов, сопоставимых с таким квазиискусством. (Разумеется, мы знаем, что «прекрасное» у древних греков – калос – не исчерпывается только значением «красивый», а соответствует более широкой области значения.) Здесь мы имеем в виду искусство христианской Европы».[559]
Возникает вопрос: правомерно ли судить обо всей художественной культуре Запада, подразумевая лишь христианскую Европу? Бесспорно, западное искусство в ходе своего исторического развития во многом утратило синтетичность, по всей видимости, присущую ему на более ранних этапах. Однако и в «христианской Европе» найдутся явления, сопоставимые с квазиискусством Кобаты. Можно привести в пример рыцарские турниры, где «снималась» ожесточённость настоящего боя, канонизированные действия приобретали игровые характеристики, а красота и отточенность движений ценились выше демонстрации грубой силы. По сути, эти турниры во многом схожи с воинскими искусствами – бугэй.
Японский учёный отмечает, что связь с повседневной жизнью у квазиискусств не ограничивается чисто внешним сходством с нею (человек пьет чай – чайная церемония; ставит цветы в вазу – икэбана; стреляет из лука – воинские искусства), а имеет с нею общие духовные корни. Прежде чем последовать за рассуждениями Кобаты, подчеркну – данная общность основана на формировании художественного отношения к действительности в рамках повседневной жизни. Из этого, правда, отнюдь не следует, что практическая реализация подобного отношения, осуществляемая в результате художественной деятельности в искусстве, при всём своем возможном внешнем сходстве с реальной жизнью (актёр на сцене тоже пьет чай, ставит цветы в вазу, стреляет и т. п.) имеет ту же самую природу, что и в соответствующих жизненных ситуациях. Их отличие заключается в том, что жизнеподобие воспроизводится в условиях эстетической ситуации. Эта ситуация и служит необходимым «звеном художественной цепи», соединяющей творца, результат его творчества – его произведение и «потребителя» в единое целое.
Кобата же склонен к отождествлению жизненных и жизнеподобных ситуаций, реализуемых в традиционном искусстве. Подобное отождествление неправомерно. Если в реальной жизни действие имеет вполне практический смысл и служит удовлетворению той или иной физиологической потребности (как питьё чая, еда) или же ведёт к достижению какой-либо практической внешней цели, то в искусстве действие является неотъемлемой частью «эстетической цепи» и его направленность – иная. Здесь задача состоит в удовлетворении эстетической, т. е. духовной потребности. Большинство ученых полагает, что «эстетическое наслаждение – духовно. Оно возникает не путём материального, фактического освоения предмета, а в результате мысленного, созерцательного контакта с ним».[560]
Тем не менее Кобата убеждён, что как бы ни был эстетизирован процесс, если в нём задействованы вкусовые, обонятельные либо осязательные анализаторы (и тем самым оно протекает на физиологическом уровне), он никак не подпадает под определение «чистого искусства». В данном случае японский профессор стоит на европейской позиции, которую разделяли практически все – независимо от характера течения – философы стран Запада. Суть её в том, что эстетическое чувство может возникать у человека только на основе зрения и слуха, остальные три чувства – эстетически бесплодны.
В этом смысле характерны воззрения видного британского позитивиста Г. Аллена. В своей книге «Физиологическая эстетика» (1877) он, в частности, писал: «Эстетическое чувство возникает как результат деятельности именно органов зрения и слуха. Во-первых, потому, что они больше связаны с тотальным чувствованием организма. Они создают возбуждение всего организма, в отличие от локального, возникающего при возбуждении периферийного рецептора (осязательного, вкусового), дающего весьма слабую степень удовольствия, гораздо меньшую, чем получающуюся при функционировании зрения и слуха. Во-вторых, зрение и слух менее связаны с непосредственной биологической потребностью потребления, их функция гораздо шире, чем быть просто индикаторами съедобного, как у органов обоняния и вкуса… Зрение и слух – «интеллектуальные» чувства, их роль различать, сопоставлять, сравнивать… Именно потому, что глаз и ухо так мало связаны с отправлением жизненных функций, их дело – производить эстетические чувства».[561] Показательно, что Аллен, считавший эстетическое удовольствие родом физиологического удовольствия, должен, казалось бы, признать «эстетическое равноправие» всех органов чувств. Но нет. Инерция традиционных установок помешала ему сделать это, как мешает сегодня и абсолютному большинству деятелей мировой эстетической науки.
Что касается «тотального чувствования организма», то его природа совершенно непонятна и не объясняется Алленом. Его аргумент о несравненно большей силе воздействия зрительных и слуховых возбуждений на индивида, на мой взгляд, безоснователен. К примеру, при ожоге возбуждение организма и эмоциональное потрясение пострадавшего будет несравненно сильнее его переживаний при визуальном восприятии кипящей воды или горящего пламени.
Тезис Г. Аллена может быть легко оспорен и с позиций самого физиологического позитивизма. Заметим, что «степень удовольствия», которую даёт тот или иной анализатор в ситуации восприятия произведения искусства, отличается от «степени удовольствия», получаемой в результате чисто физиологического восприятия. Сравнивать их просто неправомерно. Понятно, что в сфере физиологии нельзя говорить о «преимуществах» того или иного анализатора в отношении «степени удовольствия». Ясно, что такая степень будет зависеть от конкретного положения, в какое попадает субъект. Если, скажем, он голодал, то именно действие обонятельного и вкусового анализаторов будет, выражаясь словами Аллена, «больше связано с тотальным чувствованием организма», нежели действия всех других анализаторов.
Иное дело, если речь идет о ситуации духовного потребления. Разумеется, в определённой степени эстетическое чувство обусловлено физиологически. Однако поскольку человек лишь тогда может стать субъектом эстетического отношения к действительности, когда он свободен от «грубой», чисто практической потребности; физиологический момент наличествует в художественном чувстве лишь в «снятом», неглавном виде.
Большинство современных эстетиков полагают, как и в свое время Аллен, что зрение и слух менее связаны с «грубой практической потребностью». По их мнению, зрение и слух – более «интеллектуальные» чувства, чем все прочие. Именно это их качество якобы обеспечивает им и особый статус в формировании чувства прекрасного и особую роль в удовольствии от восприятия художественного объекта.
Казалось бы, оценка роли каждого чувственного анализатора не имеет непосредственного отношения к квазиискусству Кобаты Дзюндзо. Тем не менее, методологически такая оценка является одной из основополагающих для выяснения специфики традиционных искусств Японии, и, как мы увидим ниже, не только Японии. Согласно мнению М. С. Кагана, «оценки прекрасное и безобразное применимы лишь к характеристике зримых и слышимых явлений».[562] Таким образом, среди всех чувственных анализаторов только зрению и слуху отводится роль «проводников» возможных эстетических воздействий на индивида. «Эстетические чувства выражают известную духовную потребность и меру её удовлетворения».[563] И именно зрение и слух, считает Каган, «непосредственно связаны с духовной деятельностью человека, тогда как у осязания, обоняния и вкуса такой связи с сознанием, мироощущением, духовной жизнью человека нет».[564] Единство взглядов Алена и Кагана – очевидно.
Какие же аргументы приводит профессор Каган для доказательства своей точки зрения? К примеру, такое: «В высшей степени показательно, что в русском языке, да и во многих других, слова, обозначающие деятельность сознания, взяты из терминологии зрительного восприятия. Например, мировоззрение, миросозерцание, политические и философские взгляды, научная точка зрения. Очень часто мы говорим «видеть» в смысле «понимать», а человека невежественного в народе называют тёмным, т. е. слепым, незрячим».[565]
Допустимо ли ссылаться на такой аргумент для обоснования философской позиции? А как быть, допустим, с тем, что невежественного и неспособного человека в народе называют «тупым»? Как быть с понятием эстетического вкуса, которое активно эксплуатируется всеми учёными-эстетиками, включая самого М. С. Кагана? Заметим, что японский философ, опираясь на языковый опыт своего народа, мог бы с таким же правом ратовать за «эстетическую предпочтительность» вкусового анализатора. Компонент «вкус» (ми) входит в такие, к примеру, понятия, как сюми – интерес, очарование, эстетический вкус; дзёми – прелесть; кими – чувство, ощущение, переживание, намёк, признак; кёми – интерес; митоку суру – усваивать суть. Все эти понятия очевидно связаны (цитируя М. С. Кагана) с «сознанием, мироощущением, духовной жизнью человека».
Эстетическое отношение к действительности универсально. Говоря так, мы вполне разделяем мысль М. С. Кагана, что «любой объект, оцениваемый этически, утилитарно, политически и т. д., мог получить одновременно и эстетическую оценку».[566] Однако мы считаем, что эстетическая универсальность обусловлена не только универсальностью объектов и обстоятельств, которые могут быть подвергнуты эстетической оценке. Эстетическая универсальность обусловлена также универсальностью самого́ воспринимающего субъекта, все пять чувств которого могут выступать в качестве одухотворённых человеческих чувств и становиться неотъемлемыми компонентами чувств эстетических.
Показателен тот факт, что на Западе и в России именно художники, а не философы-эстетики, остро почувствовали потребность в применении всей чувственной палитры при создании и усвоении произведений искусства. Они стали использовать синестезийный подход, когда при раздражении одного органа чувств, наряду со специфическими для него ощущениями, возникают и ощущения, свойственные другому органу. В эпоху наиболее активных творческих поисков в кон. XIX – нач. XX в. они осознали исчерпанность традиционных выразительных средств и осуществили ряд более или менее удачных синестезийных экспериментов в искусстве, создавая арт-объекты, ориентированные на расширенное эстетическое поле восприятия.
В этом контексте заслуживает особого упоминания имя выдающегося немецкого эстетика, теоретика романтизма эпохи «Бури и натиска», Гердера (1744–1803). В свой статье «Пластика» он сделал ряд тонких и принципиальных наблюдений «синестезийного» характера, касающихся осязания как полноценного эстетического чувства. Его не устроила позиция эстетиков, утверждающих, что и живопись, и скульптура воспринимаются зрением и только зрением. «Везде и всюду я видел, – пишет Гердер, – что живопись и ваяние рассматриваются вместе и прекрасное в них понимается как нечто единое, творимое и воспринимаемое одним чувством, одним органом души, а потому и действует одинаковым образом».[567] Учёный пришёл к мысли, что в восприятии скульптуры главную роль играет не зрение, а осязание.
Для обоснования своей концепции Гердер обращается к конкретным примерам: а) слепорождённых людей (т. е. тех, для кого основной источник ориентации в мире – это осязание, а зрения не существует вообще); б) людей, из-за глазных болезней на долгие годы лишившихся зрения (т. е. тех, для кого зрение было, но перестало выступать в качестве важного ощущения); в) к периоду младенчества, когда главные чувства в освоении окружающего пространства – осязание и вкус (а зрение ещё не является полноценным чувством). Гердер приводит суждение слепорождённого человека о зрении: «Зеркало представлялось ему машиной, отражающей объёмные предметы; при этом он никак не мог понять, почему нельзя осязать этот объём».[568] Мы не можем, конечно, спросить у младенца, как он воспринимает мир изначально, но догадываемся, что этот мир выглядит для него гораздо более плоским, чем впоследствии, когда ему в ходе долгих и упорных опытов ощупывания открываются различные объёмные формы предметов и глубина пространственной среды. При этом зрение играет роль лишь вспомогательного средства в освоении окружающего. Таким образом, заключает Гердер, осязание – это то основополагающее чувство, которое даёт человеку знание объёма, тяжести, фактуры, температуры предметного мира. Зрение на первых порах служит «подпоркой» в процессе человеческого познания, даёт знание о цвете и светотени. С течением времени этот «подпорочный» опыт «забывается» и зрение выходит на первый план, предоставляя информацию о гораздо более рафинированных областях и всё более широко используясь «видящим индивидуумом. Однако осязание всё равно подсознательно присутствует при зрительном восприятии как базовое чувство.
Для более наглядного доказательства своей мысли Гердер предлагает вообразить человека, наделённого только зрением и лишённого осязания; он называет его «офтальмитом». По мнению Гердера, без данных осязания мир предстал бы перед офтальмитом как некий цветной узор на плоскости, как подвижная цветная ткань на сетчатке глаза. «Что такое непроницаемость, твёрдость, мягкость, гладкость, форма, очертание, выпуклость? Об этом не может дать никакого живого телесного понятия ни глаз человека с помощью света, ни человеческая душа посредством самостоятельного мышления. Этими понятиями не обладают ни птица, ни лошадь, ни рыба, они присущи лишь человеку. Причём присущи только потому, что, наряду с разумом, человек обладает ощупывающими, осязающими руками. Чем больше он осязает предметы как таковые… тем живее будет его чувство».[569]
Немецкий философ, на наш взгляд, приводит весьма убедительные аргументы не в пользу зрения как полноценной основы для эстетической эмоции. Более того: «Зрение разрушает прекрасную статую, а не создаёт её, оно превращает её в углы и плоскости и хорошо ещё, если её прекраснейшая задушевная сущность, её полнота и округлость её форм не превратятся в сплошные углы отражения; совершенно очевидно, что зрение никак не может называться матерью этого искусства».[570]
В пылу полемики Гердер делает несколько рискованных заявлений типа «мы думаем, что видим там, где осязаем», или «зрение является лишь сокращённой формой осязания».[571] Но, во-первых, подобные утверждения следует оценивать именно в контексте этой полемики. Германский эстетик стремится подчеркнуть: из того, что осязательные ощущения не осознаются отчётливо при созерцании скульптуры, вовсе не следует, что их нет; они обязательно присутствуют в акте эстетического восприятия. Полноценное восприятие реалистической и вообще фигуративной живописи возможно только потому, что его необходимой составляющей является именно осязание. Во-вторых, процитированные выше фразы относятся к видящей, но не осязающей абстракции человека – офтальмиту Реальный индивид, разумеется, воспринимает мир и искусство одновременно всеми своими чувствами.
Размышления Гердера о том, что искусство в идеале должно активизировать всё «чувствующее поле» индивида, созвучны идеям современных учёных. Как отмечает А. С. Мигунов, «речь идёт о синестезии всех пяти человеческих чувств, умении легко и свободно переводить одно чувство в другое, представлять слово или образ в эквивалентном выражении, в звуке, в цвете, обонянии, осязании и вкусе».[572] Обратим внимание, что подобная синестезия, была, фактически, укоренена в японской художественной традиции.
В заключение отметим, что современным эстетикам и теоретикам искусства при формулировке общих положений следует учитывать мировую художественную практику в целом и, в частности, не закрывать глаза на искусство Востока, подчас не укладывающееся в узкие для него рамки западных теорий. Нельзя отмахиваться от художественных традиций неевропейских народов, как от исключений, которыми можно пренебречь.
Компьютерное будущее искусства? (Об алгоритмических тенденциях в современной японской эстетике)
Настоящее являет собой катастрофическое обеднение в области духовной жизни, человечности, любви и творческой энергии; и только одно – успехи науки и техники – действительно составляет его величие в сравнении со всем предыдущим» – писал Карл Ясперс в книге «Истоки истории и её цель».[573] В высказывании известного немецкого экзистенциалиста констатируются два важных фактора современности: во-первых, – духовный упадок человечества, во-вторых, – пафос сциентизма и технократизма. Как бы продолжая мысль Ясперса, рассуждает и наша современная исследовательница, Т. П. Григорьева, хотя, в отличие от Ясперса, она видит в технократизации не «величие», а одну из причин слабости человеческого духа: «Чем выше механическая цивилизация, тем беспомощнее становится человек… – подчёркивает она. – Это финал, расплата за то, что человек изменил себе, разучился полагаться на себя, живёт с ощущением жертвы; расплата за фетиши, знаки, которым он научился поклоняться как сущностям, расплата за душевную леность <…> Откуда это затмение разума? Может быть, глобальный просчёт, роковое заблуждение в том, что уже несколько веков сильные мира сего подменяют культуру цивилизацией. Средства и цель поменялись местами. Цивилизация – возможность, условие человеческого становления, но не гарантия от варварства».[574]
Высказывание Ясперса свидетельствует о безусловной «ориентации автора на цивилизацию», о том, что прогресс человечества он видит именно в научно-технических свершениях. Подобные идеи с некоторых пор обрели популярность среди не только научно-технической интеллигенции, но и в философских кругах Запада.
Нашли они отклик и на Востоке, в частности, в Японии, где технократические и алгоритмические[575] тенденции утвердились даже в сочинениях деятелей современной японской эстетической науки, сфера исследования которой, казалось бы, весьма далека от естествознания и техники. Вопрос влияния научно-технической революции на японское искусство затрагивается в трудах многих видных философов Японии, причём трактуется он зачастую с полярных позиций.[576] В этом отношении наиболее репрезентативны труды профессора Токийского муниципального инженерно-технического университета Кавано Хироси (род. в 1925), ставшие заметным событием в академической жизни и вызвавшие большой резонанс в среде японских философов-эстетиков и искусствоведов.
Сегодня, в эпоху компьютеризации практически всех сторон жизнедеятельности человека, нам кажется весьма актуальным проанализировать те положения эстетической концепции профессора Кавано, в которых обосновывается необходимость развития (а в перспективе и монопольного господства) компьютерного искусства.
Обратимся к рассуждениям Кавано Хироси. По мнению японского учёного, благодаря победоносному наступлению компьютеров «по всему фронту», в общественной жизни можно наблюдать кардинальные изменения, непосредственно затрагивающие и искусство как один из феноменов социального бытия. Именно революционность происходящей компьютеризации позволяет говорить о новой эре художественного творчества.
В истории мирового искусства японский эстетик обнаруживает две тенденции: неплодотворную романтическую, отрицающую связь между художественным творчеством и научной технологией, и алгоритмическую. Высшие достижения, высшие моменты развития искусства, утверждает японский эстетик, стали возможными только в русле алгоритмической традиции. Он отмечает два таких «пика», связанные с количественным подходом к творчеству: расцвет искусства в Древней Греции и деятельность мастеров итальянского Возрождения. Основная идея Кавано заключается в том, что наиболее полное применение научной технологии, наибольшая алгоритмизация ведет к наивысшим результатам в искусстве. И поэтому в рамках именно компьютерного искусства, наследующего лучшие «технологически – алгоритмические» традиции античности и Ренессанса, художественному творчеству надлежит достичь третьего, высшего «пика», вступить, так сказать, в свой «звёздный час».
Неслучайно содержание великолепного одухотворённого художественного наследия Эллады японский эстетик ограничивает прежде всего наличием атрибутов, связанных с математическими соотношениями. Классическое искусство античности, пишет к примеру Кавано, «аккумулировало природную красоту, основываясь на применении математических закономерностей, имманентно присущих природе».[577]
В подобном ракурсе рассматривает Кавано Хироси и искусство Ренессанса, которое, по его мнению, «расцвело на принципах научности, почитавшей алгоритм».[578] В частности, в живописи оказался разрушен плоскостной принцип Средневековья и были введены естественные геометрические и оптические принципы изображения, перспектива. Но учёный игнорирует тот факт, что в трактовке перспективы художники Возрождения выразили не только свою страсть к упорядоченной оформленности изображения. Для них не меньшее, если не большее, значение имела вторая, «субъективистская» сторона – психофизиологическая обусловленность зрительного впечатления. «Геометризм и алгоритмизм» занимают в ренессансной эстетике подчинённое положение по отношению к гуманизму и антропоцентризму. Последние не укладываются в алгоритмические эстетические построения Кавано Хироси, поэтому он спокойно закрывает глаза на их существование.
Из рассуждений Кавано вырисовывается картина поэтапного поступательного развития человеческого познания-творчества, в том числе и художественного. Причём под этим развитием понимается расширение возможностей индивида «овладеть» окружающей действительностью путём применения всё более совершенных с научной точки зрения методов. Так, первому этапу – Античности свойствен логицизм, научная созерцательность и описательность; второму – эпохе Возрождения – научный механицизм инженерного толка. Третий этап, характеризующийся распространением машин, повсеместным внедрением научных технологий и, наконец, компьютеризацией, означает в итоге полный и безусловный триумф творческих исканий человека.
Как подчёркивает Кавано, в художественной традиции искусство существовало как один из видов естественного «обживания» мира, как природное занятие, реализация природных способностей индивида. Традиционная художественная деятельность была всегда предметна, конкретна, являясь синтезом духовных и физических усилий мастера.
Японский эстетик справедливо выделяет два принципиально различных этапа в практике создания произведений искусства. Первый – вынашивание замысла будущего произведения, которое можно трактовать как своеобразное планирование, «программирование» будущего шедевра. Второй – воплощение замысла в разных формах, учитывающих качество используемого материала. Первый протекает в царстве идеального мира, это работа ума и души творца. Второй есть зримые действия по вещественному воссозданию результатов такой работы. Для успешной реализации художественной цели необходимо, чтобы произведение искусства появлялось на свет в результате гармоничного «сплава», состоящего из идеи, определённых физических усилий творящего и материала, из которого оно создаётся.
Что касается зарождения замысла, то этот процесс неясен, неопределён, часто длителен во времени, протекает в сознании художника скрытно и спонтанно, непредсказуемо. Планирование, программирование идеи происходит методом проб и ошибок; формирование необходимых для данного процесса знаковых образов и символов спорадично и неупорядоченно.[579] Традиционный мастер не имеет ни ясного представления о процессе структурирования эстетической идеи в знаковый образ, ни чёткого плана последовательности воплощения этой идеи в произведение искусства. Но как раз оба эти элемента жизненно важны для обеспечения высокохудожественной деятельности. Получается, что наиболее полное овладение художником методом осуществления логических процедур гарантирует наивысшее качество эстетического освоения действительности в созданных им произведениях. «Эстетическая гносеология» японского учёного заключается в пределы сугубо логического познания.
А как быть с ассоциацией, интуицией, эмоциональным восприятием – столь же законными способами постижения мира, сколь и чисто логические процедуры? Здесь нельзя не заметить, что Кавано Хироси примитивизирует процесс человеческого мышления, отождествляет психические процессы, происходящие в сознании художника, с машинной логикой исчисления. В его рассуждениях живое мышление, по сути дела, идентифицируется с машинной моделью, арсенал же художественного восприятия ограничивается знаками и символами.
По верному наблюдению видного японского специалиста по истории науки и техники Сакамото Кэндзо, «компьютер полностью не объективизирует человеческие способности, поскольку легко поддаётся объективизации лишь их знаковый аспект и синтаксические связи. Сложнее обстоит дело со связями семантическими и прагматическими».[580]
C другой стороны, Нитта Хироэ, профессор эстетики Киотского государственного университета, подчёркивает, что в истинном творчестве всё отнюдь не так прямолинейно и однозначно, как пытается представить Кавано Хироси. На самом деле мастеру почти никогда не удаётся, подобно машине, воплотить свои идеи сразу и начисто. Замысел художника не есть нечто окончательное, в ходе практической реализации он трансформируется. Именно в трудном процессе претворения в жизнь замысла, в ходе мучительных поисков, проб и ошибок «вызревает» художественная новизна произведения. Психологическим механизмом, обеспечивающим появление такой новизны, выступает разъясняющая обратная связь между идеей и её воплощением, составляющая стержень духовно-практической деятельности мастера. «Художник, – пишет Нитта Хироэ, – стремится объяснить свою душу при помощи руки. В результате данного объяснения, произведение, расположенное перед его глазами, раз за разом требует нового объяснения. Именно этот поворотный пункт процесса „изнутри наружу“, это обратное течение от выходящей силы – руки к принимающей силе – душе, этот механизм обратной связи, стимулируемый новизной ощущений и переживаний мастера, отсутствует в компьютере <…> Биологи и психологи утверждают, что деятельность мозга подразумевает наличие подобного рода структуры. Компьютер же её лишён. Если его и можно назвать мозгом, то это ущербный мозг».[581]
В живом творчестве, в отличие от компьютерного, не знаки и символы, а в первую очередь «объект включается во всё новые существенные для него связи, благодаря чему из «объекта» вычерпывается всё новое содержание. Таковы единственный источник продуктивности мышления и его основной «механизм». В противоположность этому, «думающая» машина оперирует лишь символами и знаками, а не объектами, и потому не может выйти за пределы тех программ, которые заложены в неё человеком».[582] Кавано отнюдь не отрицает, что традиционный мастер занимается «вычерпыванием содержания из объекта», т. е. он признает наличие объективной вещественной основы традиционного художественного творчества. Он, в частности, пишет: «Одной из главных причин, почему телесная деятельность художника осуществляется сначала в сознании, является вещественный характер объекта этой деятельности».[583] Но при этом, утверждает японский эстетик, традиционное искусство сталкивается с труднопреодолимым препятствием: «Его (искусства. – Е. С.) материал – вещество природного мира – следует химическим и физическим законам и по отношению к духовной активности индивида, прилагающего к данному веществу свою силу, ведёт совершенно обособленное существование».[584] Художнику приходится мириться с обособленностью, а значит, и неподатливостью материала, из которого ему предстоит сотворить произведение искусства.
Приведенная мысль Кавано Хироси носит отнюдь не случайный характер. Это очередное звено в цепочке доказательств, разворачиваемых им в концепцию совершенства компьютерного искусства и его преимущества над традиционным искусством: насколько удобнее компьютерному творцу иметь дело со знаковой информацией, легко поддающейся алгоритмическому «оформлению», нежели художнику – с материальным веществом, трудно оформляемым и ведущим «обособленное существование».
Постулируемая Кавано обособленность друг от друга субъекта (мастер) и объекта (предмет художественной деятельности) в действительности «снимается» в процессе художественного творчества, подобно тому, как это происходит в ходе реального мышления. Между тем данное обстоятельство совершенно не принимается в расчёт японским эстетиком. В равной степени им не учитывается и такое основополагающее и специфическое именно для сферы искусства условие, как наличие неразрывного единства чувства и ума художника, взаимообусловленности его мыслительного процесса и эмоций, вовсе не поддающихся исчислению и программированию.
Помимо преодоления «неясности замысла» и «неподатливости материала», упоминавшихся нами выше, традиционному искусству-мастерству по мнению Кавано, приходится решать ещё одну проблему. Назовём ее проблемой «несовершенства инструмента», под которым будем иметь в виду не только «подручные средства» (кисти, карандаши, резцы, музыкальные инструменты и т. п.), но и сами руки художника, его тело, выступающее орудием творчества.
«Тело оказывает сопротивление душе, – пишет Кавано. – И для того, чтобы тело, существующее самостоятельно, обладающее как бы «бытием другого», заставить действовать в целевом соответствии для осуществления идей, нужен тренаж и навык, как, например, в балете».[585] Очевидно, что здесь японским эстетиком вновь используется методология субъект-объектной взаимообособленности. Только если ранее речь шла о дихотомии «мастер – материал», то теперь провозглашается дихотомия «душа художника – его тело».
Весьма прискорбно, сетует Кавано, что традиционный художник вынужден отдавать массу времени и сил изнурительному тренажу (зачастую чисто механическому, неосмысленному); выработке профессиональных навыков с целью обрести необходимую степень мастерства, искусности, виртуозности, способности достичь автоматизма в своих «телесно-художественных» действиях. Проблема несовершенства инструментов, затрудняющих создание высокохудожественного произведения в рамках традиционного искусства, заявляет японский эстетик, легко преодолима в рамках искусства компьютерного, где осуществляется перевод идеи в знаковую форму, гарантирующую дальнейшую «наиболее адекватную и совершенную» реализацию замысла. Благодаря использованию алгоритма повышается уровень искусности, проясняется сущностная структура идеи-замысла с одной стороны, и методы её «вещного оформления», материализации – с другой. Кроме того, повышаются эффективность, продуктивность мастера.
Кавано Хироси упускает из виду, что искусство – продукт такой телесной деятельности, где человек выступает как целостное существо, в единстве рационального, эмоционального и физического моментов. Подручные средства и инструменты традиционного художника всегда были соразмерны его телесным возможностям и являлись как бы их продолжением. В этой связи упоминавшийся Нитта Хироэ называет, к примеру, музыкальные инструменты, прототипом которых служили голосовые связки человека, «устройствами по извлечению звуков из тела человека». «В таком инструменте, как фортепиано, – пишет Нитта, – изначально подразумевается «пространство» для свободного вхождения человеческого тела. Фортепиано – это машина, но машина, всегда соразмерная возможностям человеческого голоса».[586] Аналогично и соотношение телесных возможностей человека с другим инструментарием традиционного художника. Что же касается машины-компьютера, то она, по словам Нитты, «утверждается там, где человеческое тело изначально изгоняется за дверь».[587]
Проблема «совершенства инструмента», или эффективности «механизма воплощения», непосредственно связана с необходимостью массового удовлетворения новых эстетических потребностей в современном обществе. В традиционном социуме не было нужды в эффективности производства в художественной сфере, поскольку область распространения культурных ценностей являлась достаточно узкой, и высокое искусство носило элитарный характер. Традиционное общество могло себе позволить производство уникальных образцов и притом в малых количествах, могло допустить медлительность темпов процесса обучения художников и, так сказать, невысокую производительность труда последних. Современное же – не может. Нынешнему обществу требуются гигантские тиражи произведений искусства, следовательно, его чрезвычайно волнует скорость создания «шедевров», продуктивность художников. Таким образом, профессором Кавано поднимается здесь реально существующая проблема возможного бытия искусства в массовом обществе.
Вопрос об эффективности и средствах художественной выразительности важен для японского эстетика. Рассуждая об эволюции искусства и напрямую связывая эту эволюцию с развитием техники, он стремится постепенно подвести своих читателей к убеждению в благотворности влияния «технического» на «эстетическое». Действительно, уже первые технические приспособления, такие как гончарный круг и ткацкий станок, позволили не только повысить эффективность в области производства, но и сыграли немалую положительную роль для сферы искусства. Более того, дальнейшие открытия научно-технического характера привели к созданию нового, невиданного прежде искусства – кинематографа. Логика Кавано довольно проста: если примитивная динамо-машина дала жизнь одному из важнейших видов искусства (кино), то насколько блистательными и захватывающими должны быть перспективы, разворачивающиеся после широкого внедрения такого детища научных технологий, как компьютеры. Недаром даже история мирового искусства предстаёт в изложении японского эстетика-алгоритмиста как эволюция «художественных технологий», осваивавшихся и всё более совершенствовавшихся деятелями искусства различных стран и народов.
Традиционное искусство, по Кавано, создавалось в естественной среде обитания; его отличали произвольность зарождающихся замыслов и малочисленность – по нынешним меркам – шедевров; его создатели были ограничены в своих физических возможностях и нуждались в длительном процессе обучения, «набивания» и «постановки» руки для достижения профессионализма и преодоления «сопротивляющегося» материала. Всё это в итоге обусловливало как слишком малую, с сегодняшней точки зрения, продуктивность искусства, так и узость круга его потребителей.
Что же мы имеем сегодня? Господство техники, прочно утвердившейся в быту, во многом изменило и продолжает активно изменять сам характер среды обитания, социальных связей и психологию современных индивидов. Стали обиходными понятия «индустриальное общество», «массовое общество», «научно-техническая революция». О революционных преобразованиях свидетельствует и постепенное, но неуклонное стирание границ между культурами, утверждает Кавано. Национальное своеобразие, составлявшее стержень художественных традиций, становится не обязательным для унифицированного компьютерного искусства. Его фундамент – алгоритмизированный язык техники – един для всех народов, в отличие от эмоциональных национальных языков искусства прошлого времени. По сути дела, «техническое эсперанто» выступает подлинным языком массового постиндустриального общества, единственно действенным средством общения в прямом и переносном смысле. С другой стороны, благодаря развитию коммуникаций, усилению и увеличению разнообразия интернациональных художественных связей, перед деятелями искусства открываются колоссальные перспективы. Это перспективы введения в обиход практически всех вариантов, «парадигм» художественного творчества, сформированным человечеством за его многовековую историю.
В условиях массового общества искусство перестаёт принципиально отличаться от материального производства, подчёркивает японский эстетик: создание «компьютерно-художественного» произведения аналогично выпуску предмета широкого потребления, а парадигма художественного творчества совпадает с парадигмой научной технологии. Кавано заявляет, что последняя подразумевает наличие в своей основе ясной логики развития определённой идеи и алгоритмизация этой идеи выступает жизненно необходимым компонентом художественного творчества. Все важнейшие достижения научной технологии XX в. зиждились на применении алгоритмов. На современном этапе внедрения науки в производство роль формализации и кодировки материала возрастает, поскольку все чаще становится необходимым его превращение в объект, доступный компьютерной обработке. В художественной сфере мы имеем сходные процессы. Соединение идеи – которая в традиционном искусстве была затемнена, трудноуловима, а ныне, благодаря алгоритмизации, прояснена – с закодированным материалом, соединение, дающее жизнь произведению искусства, может быть осуществлено лишь с помощью машины-компьютера. И лишь компьютеры в состоянии обеспечить уровень эффективности (многотиражность), требующийся теперешнему массовому обществу. «Массовое общество, можно сказать, только и поджидало компьютерного слияния идеи и материала», – уверяет Кавано.[588]
Итак, массовое общество нуждается в массовом искусстве. Последнее, может стать массовым без потери качества, только подвергнувшись алгоритмизированной компьютерной обработке и тиражированию. Именно компьютеры обеспечивают и гарантируют высокий уровень упорядоченности художественной формы. Однако такой уровень, судя по истории искусства, может явиться итогом скорее свободной импровизации, чем сухого расчёта. Подлинно художественный продукт «предстает не в виде жёсткой, рациональной, строго детерминированной системы, имеющей определенный алгоритм и могущей быть формализованной, а, напротив, в виде системы неформализуемой и неповторимой, уникальной и поэтому всякий раз неожиданной».[589] Кавано же, на словах ратующий за повышение выразительности художественных произведений за счёт компьютерной «гармонизации» и совершенствования художественного производства, на деле подменяет эту проблему вопросом обеспеченности населения подобными произведениями.
Методологический просчёт учёного, с нашей точки зрения, заключается в недооценивании уникального характера произведения искусства, с одной стороны, и в слепом преклонении перед «её величеством техникой» – с другой. В свете этого вполне объяснимо особое внимание японского эстетика к проблеме тиражирования. Отрицать влияние техники на искусство наивно. Но не менее наивно абсолютизировать такое влияние, как это делает Кавано. Тиражирование имеет отношение не к «духовному измерению» художественной деятельности, а к тому, что составляет средство её возникновения и существования.
Японский эстетик делает упор на «идеологическую» зависимость современного искусства от техники вследствие невозможности без неё обойтись. Компьютеры начинают формировать художественные идеи, «задавать программу» художественному творчеству. Техника становится самоуправляемой. В компьютеры закладываются самокоррелирующиеся программы, тем самым идеи становятся неотъемлемой частью машины. Компьютер – уже не просто механизированное подручное средство. Практически он способен воспроизводить мыслительные процессы, протекающие в рамках высшей нервной деятельности человека, восторгается Кавано Хироси. «Компьютер, – пишет он, – это модель думающего индивида <…> Главное его свойство состоит в том, что он является органом, преобразующим информацию и замещающим не человеческое тела, а человеческую душу».[590]
Стоит ли говорить, что замещение наших душ компьютерами было бы катастрофично для цивилизации. Впрочем, до этого вряд ли дойдут. Ведь компьютер всегда будет подсистемой, действующей в системе социального производство и социальных отношений, её техническим звеном. Ну а «техника ограничена тем, – пишет К. Ясперс, – что она заключена в сферу безжизненного. Рассудок, господствующий над технической деятельностью, соразмерен лишь безжизненному, механическому в самом широком смысле этого слова. Поэтому воздействовать на живое техника может лишь в том случае, если она оперирует им как чем-то, превратившимся в неживое».[591] Таким «превратившимся в неживое» материалом – объектом компьютерного творчества – у Кавано выступает знаковая информация, приходящая на смену материальным объектам традиционного искусства.
Художественная информация обладает как бы двухполюсной природой. На одном полюсе – объективный смысл и рациональное значение знака, на другом – его субъективный смысл и эмоциональное значение; на одном полюсе коммуникативная, на другом – эстетическая ценность искусства.[592] Первый полюс обращает на себя внимание японского эстетика, второй им недооценивается, либо вовсе игнорируется. Происходит это в силу того, что сконцентрированные на первом полюсе характеристики являются общими и для художественной, и для научной информации. На основании подобной двойственности характеристик Кавано получает возможность манипулировать понятиями, осуществлять «подмену тезиса» и выдавать научную информативность за информативность художественную. Он отождествляет принципы и методы искусства и науки, провозглашая, по сути, стирание границ между научным (научно-техническим) и эстетическим познанием.
Кавано неслучайно нивелирует различия между искусством и наукой, искусством и техникой – для него «эти виды деятельности всегда выступают как универсальные, с сущностью, поддающейся кодировке и перекодировке».[593] Ведь, по Кавано, будущее искусства принадлежит компьютерам, и именно они – детища и потребители научно-технической информации – призваны взять на себя в числе прочих функций обязанность художественного освоения мира.
Последние успехи кибернетики внушают оптимизм – не за горами появление человекоподобных роботов с искусственным интеллектом, в ряде областей даже превосходящим человеческий. «Как только компьютер получит индивидуализированную алгоритмическую программу искусства, – пишет Кавано Хироси, – он обязательно поведёт себя столь же субъективно-созидательным образом, что и настоящий художник. Следовательно, целью компьютерного искусства можно считать воспроизведение кибернетических Бетховенов и Сезаннов посредством применения искусственного интеллекта. Именно это идеал компьютерной техники».[594]
Судя по приведённому отрывку, главным необходимым условием жизни компьютерного искусства является наличие соответствующих программ – «эстетических алгоритмов», содержащих или воплощающих собой «правила красоты». Между тем ни сущность прекрасного, ни механизм его возникновения до сих пор не получили всестороннего научного объяснения. Мы можем лишь указывать на наличие либо отсутствие красоты, слагаемые же её настолько многочисленны и разнообразны, зачастую настолько противоречат друг другу, что практически не поддаются какой-нибудь мало-мальски исчерпывающей систематизации. Здесь, «ясно воспринимаемый эффект и его причина разделены сложным процессом. В этом отношении красота напоминает игру излучений на гранях хрусталя. Все видят это явление. Но только анализ кристаллической решётки хрусталя и знание законов преломления световых волн, проходящих через неё, объясняет, почему с одной точки зрения мы видим синий, а с другой – оранжевый блеск. Психология и физиология мозга ещё не достигли уровня оптики, наука не знает пока тех сложных сцеплений опыта, которые заставляют нас чувствовать, что это красиво, а то нет».[595]
Данное обстоятельство отнюдь не обескураживает японского эстетика, демонстрирующего непоколебимую уверенность в том, что универсальные правила красоты могут быть сформулированы и широко применены на практике с помощью кибернетической техники. Подтверждение этому – тот факт, что компьютеры сегодня начинают совершать первые шаги на поприще служения музам. С их помощью уже сотворен оригинальный орнамент, написана интересная музыка, ведутся поиски в области изобразительного искусства и литературы, создаются видеоклипы.
Согласно Кавано, художественное освоение мира в границах компьютерного творчества будет совершаться посредством взаимодействия трёх участников: творца, продюсера и потребителя. По схеме профессора, «дающими» предназначено стать «артистическим машинам» – роботам, автономно производящим предметы искусства (от замысла-идеи до тиражирования) и организаторам-продюсерам, т. е. людям, занятым удовлетворением художественного спроса населения путём распространения компьютерных шедевров. «Берущим», соответственно, будет население, потребляющее продукцию «артистических машин». Что касается самой «продукции», то в условиях компьютерной эры она приобретёт специфические черты. Резко изменится смысл понятия «произведение искусства». В качестве него сможет выступать, во-первых, оригинальный алгоритм, в котором закодирована определенная художественная идея; во вторых, – план, способ организации свободного, импровизированного воспроизводства этой идеи в массовых масштабах, искусство тиражирования на основе электронного материала; и, в-третьих, – собственно репродуцированная вещь.
«Машина-художник», как в прежние эпохи художники-люди, будет нуждаться в социальном заказе, а также в наиболее выгодной реализации исполненного заказа. В настоящий момент подобные функции возлагаются на продюсеров. Как раз набором этих функций и ограничивает Кавано обязанности человека-художника, которому суждено принять участие в создании нового искусства. Вот почему в эстетической схеме японского философа возникает фигура человека-продюсера, стоящего над «машиной-художником».
Последним, третьим звеном схемы будет потребитель, «человек-игрок». Игрок потому, что он вынужден выполнять правила игры, навязанные «продюсером». Кроме того, потому, что он потребует от искусства преимущественно развлекательности, видя в нём прежде всего игру. И наконец, потому, что используя компьютер, он получит возможность удовлетворить врождённую потребность в игре и стать непосредственным участником компьютерного «действа», отчасти даже и соавтором машинных опусов.
Что ж, абсурдно отрицать право компьютеров на существование и функционирование в художественной сфере. Действуя на игровом или декоративном уровне, компьютеры смогут удовлетворять повседневные эстетические потребности населения. То же можно сказать и о проблеме тиражирования предметов искусства, необходимого массовому обществу – с наступлением компьютерного века должны возрасти и качество копий, и их тираж. Вполне вероятно, что компьютерная техника даст жизнь новым формам искусства и позволит применяющему её художнику достичь небывалых эффектов (подобно тому как, например, кинокамера повлияла на актёрскую игру и посредством применения крупного плана, неожиданных ракурсов съёмки, монтажа сделала кинематограф резко отличающимся от театра, его могучим соперником).
Однако духовность, так сказать, высокого искусства не подвластна, по нашему мнению, компьютерным творцам. Это феномен сугубо человеческий, отражение психосферы – «ментального и межиндивидуального образования глобального порядка, не подлежащего точной фиксации, но подчиняющего себе духовную деятельность человека и получающего своё проявление в различных видах социального поведения <…> И пока человек остаётся человеком, он будет находиться в «кругу» порождаемых им самим психосфер, которые, какими бы они ни представлялись перед нами, будут устанавливать границы власти компьютерного ига. Психосфера и есть та величина, через которую не способна перешагнуть никакая машина».[596]
Компьютерное искусство, если подразумевать автономное производство художественных произведений машиной-художником, будет лишь одной из возможных математизированных, осуществляемых техническими средствами моделей человеческого художественного творчества. Сможет ли машина в конечном счёте стать субъектом познания, приобретать и перерабатывать новое знание, решая творческие задачи самостоятельно? С точностью на этот вопрос ответит будущее. Нас же в большей мере интересует другое: сможет ли машина, лишённая, как говорят психологи, внутренней мотивации, сама создавать ценностные ориентации (ведь основополагающей эстетической характеристикой произведения искусства выступает его аксиологическое содержание)? Мы полагаем, вряд ли.
Неслучайно Кавано абстрагируется от аксиологии, рассуждая о новой компьютерной эстетике в духе учёных-естественников, которые предлагают в качестве образца для развития гуманитарного знания методы точных наук. Подход японского эстетика-технократа к искусству с «кибернетическими мерками» оборачивается размыванием границ между научным и художественным познанием; проводится, по сути дела, элементарная редукция закономерностей в развитии искусства, художественно-эстетических законов к закономерностям из области логико-математической, отражающимся в техническом конструировании.
В 1934 г. известный писатель Танидзаки Дзюньитиро, убеждённый сторонник сохранения традиционного пути Японии, подчёркивал пагубность влияния механистически-потребительской цивилизации Запада на самобытную культуру Страны Восходящего солнца. «Наше заискивающее отношение к машине – предостерегал он, – ведёт лишь к тому, что мы искажаем свое собственное искусство. Совершенно иное мы видим у иностранцев: у них машина получила развитие в их собственной среде и, разумеется, была создана с учетом всех особенностей их искусства. В этом смысле мы несём большой ущерб».[597] Говоря словами Танидзаки, Кавано Хироси заискивает перед машиной, заявляя, что японское искусство демонстрирует отсталость, когда игнорирует научную технологию. Однако примечательно, что, преклоняясь перед машинной цивилизацией, пришедшей с Запада, Кавано всё-таки не отказывается от родной духовной традиции, обнаруживая свою зависимость от её мировоззренческих установок. Мы имеем в виду его постулирование «принципа естественности», недуальности человеческого и природного, неотделимости искусства от обыденной жизни.
Антропоцентрической западной культуре не свойственна тенденция утверждения «естественности» как нерасторжимой слитности индивида с окружающим миром, растворения в нём, что составляет стержень духовной традиции Японии.[598] Согласно этой традиции мир воспринимался японцами недуально: не я-субъект и мир-объект, а мир во мне, я и мир одновременно. Подобная тенденция недистанционного отношения к миру не только никогда не ослабевала в Японии, но со временем только набирала силу. Она нашла отражение в стремлении обытовления эстетического и эстетизации обыденного.
В случае полной реализации подобных установок должно произойти практическое отмирание искусства как особой сферы деятельности человека при освоении им окружающего мира. В идеале абсолютно все стороны такого освоения должны быть пронизаны светом высокого искусства, нести печать подлинного эстетизма. Но это лишь в идеале, замечает Кавано. До наступления компьютерной революции даже японцам, ориентированным на неотделимую от природы естественность искусства, приходилось мириться с тем, что художественно-эстетический мир отделён перегородками от реального мира. Компьютеры помогут, наконец, полностью разрушить эти перегородки. «Научная технология, – пишет Кавано, – появилась на сцене в качестве противоположности естественной искусности, но возвращается к ней же в лице компьютеров <…> Смыкание компьютера с искусством зажигает новый, давно желанный свет перед научной технологией».[599]
Говоря о художественном преобразовании окружающей среды, о возврате искусства к природной естественности (хотя и на компьютерном уровне), о тенденции ко всё большей эстетизации обыденной жизни, которой способствует компьютеризация, Кавано следует в русле важнейшей японской эстетической установки, провозглашающей нерасторжимость природного и художественного.[600] С одной стороны, это объясняется укоренённостью национальных духовных стереотипов в сознании большинства японцев, с другой – взаимосвязанностью научного и художественного освоения мира, проявляющейся в ходе реализации естественных потребностей обыденного существования. В этой связи Д. Лукач указывает: «Научное и эстетическое отражения в их чистом виде отчётливо отделяются от сложных смешанных форм повседневности, но границы между ними постоянно размываются, поскольку обе эти обособившиеся формы отражения возникают из потребностей обыденной жизни, призваны отвечать на её запросы, а завоевания научного и художественного отражения, в свою очередь, сливаются с формами её проявления, делая их более содержательными, дифференцированными, богатыми и глубокими, непрерывно развивая и обогащая её».[601]
На наш взгляд, в эстетике Кавано Хироси нашли своеобразное преломление особенности человеко-машинного обживания мира в последние десятилетия XX в. Так же как наука не может развиваться в социальном и идеологическом вакууме, вне мировоззренческих, философских оснований, так и мировоззрение в своём становлении не может не испытывать прямого или косвенного, но всегда действенного влияния научно-технического прогресса.[602] Однако не следует демонстрировать абсолютное преклонение перед техническими достижениями современной научной мысли, равно как не стоит уподобляться луддитам, видевшим в развитии техники корень социального зла. «Проблема не в том, чтобы безусловно отрицать или столь же безусловно приветствовать технологию, – пишет японский философ, специалист по истории естествознания, Сакамото Кэндзо, – а в выяснении вопроса, зачем она существует, какие формы должна принимать и что надо делать, чтобы она принимала именно такие формы… Безусловно только одно: она должна существовать для человека».[603] Нам остаётся лишь присоединиться к этому мнению.
Старые методологические проблемы в новом компьютерном творчестве
Развитие компьютерной техники и всё более широкое её применение в системах жизнеобеспечения населения развитых стран, несомненно, стимулирует междисциплинарную дискуссию по поводу личной идентичности человека. Вопрос возможности или невозможности для компьютера быть избавленнным от человеческих программ и обладать самостоятельностью творчества, на наш взгляд, прямо соотносится с древним спором теологов и атеистов о творении и о наличии или отсутствии души.
Аналогичным образом возникает на новом витке научной спирали и проблема соотношения материального и идеального, поскольку последовательно материалистическая точка зрения на компьютеры подразумевает в перспективе признание их права на звание субъектов художественного (и любого другого) творчества, равноправных с людьми – художниками.
Этими важными проблемами вплотную занимается ведущий эстетик Киотской школы Нитта Хироэ (род. в 1929). Выпускник филологического факультета Киотского государственного университета (1955), доктор наук (1960), Нитта – один из крупнейших эстетиков Японии, автор многочисленных статей и монографии «Введение в поэтику».
Профессор Нитта Хироэ принадлежит к элите японской философско-эстетической мысли. Он талантливый представитель нового, послевоенного поколения японских философов, для которых характерна добротная, разнообразная и глубокая подготовка по этой специальности, включающая, например, обязательное овладение пятью языками (двумя мёртвыми и тремя европейскими), что позволяет читать в подлиннике первоисточники.
Говоря о новом поколении японских учёных, мы хотели бы обратить внимание не только на универсальность и энциклопедичность их научного багажа, но и на некоторые особенности развиваемой ими научной методологии, обусловливающей принципиально иной – в сравнении с предыдущими генерациями – подход к философско-эстетическим изысканиям. Дело в том, что в сознании каждого японца достаточно прочно укоренились традиционные мировоззренческие стереотипы, ориентирующие скорее на эмоциональное, нежели рациональное постижение действительности, интуитивную, а не дискурсивно-логическую оценку явлений и объектов.
Это нашло отражение в научных исследованиях по эстетике – большинство из них ограничивалось описательно-эмоциональными рамками, констатацией наличия либо отсутствия прекрасного в исследуемом объекте.
Работам подобного плана были свойственны эмоциональный пафос, расплывчатость формулировок, метафоричность; отсутствовала научная строгость, развитый понятийный аппарат. В ряде случаев соотношение элементов рационального и эмоционального было примерно одинаковым, исследование имело столь же философскую, сколь и художественную наполненность. Примером такого рода произведения может служить эссе Танидзаки Дзюньитиро «Похвала тени». На его страницах известный писатель, выступая в качестве аналитика, поднимает важную теоретическую проблему сущностных особенностей японского национального искусства и силой своего художественного дарования сплавляет воедино эмоциональный (художественно-этический) и рациональный (философско-эстетический) подходы к её решению.
В глазах неискушённого читателя рассуждения Танидзаки выглядят чрезвычайно убедительно, аргументация кажется вполне корректной. Поначалу подобное же испытывает и профессиональный эстетик, попав под обаяние мастерски написанной прозы, магической власти её слов. Однако при более трезвом подходе в трактате обнаруживаются довольно многочисленные – с позиции строгой науки – неточности, натяжки и даже просто ошибочные положения.
Именно желанием избежать подобных промахов, стремлением разъяснить, систематизировать и обогатить японскую художественную мысль возможностями современного научного знания и отличается деятельность учёных поколения Нитты Хироэ. Для знакомства с их трудами не требуется особой интуиции, специального настроя, понимания национальной психологии японцев или детального знания многочисленных художественных памятников традиционной культуры – всего того, что необходимо в случае если вы имеете дело с трактатами их предшественников. Тяготение к философскому, максимально рационалистическому осмыслению, описанию и решению эстетических проблем делает эти труды наиболее универсальными, легко переводимыми, а следовательно, доступными мировому сообществу эстетиков.
Объектом нашего непосредственного анализа будет работа Нитты под названием «Возможно ли компьютерное творчество?».[604] И содержание работы, и сама форма подачи материала, и своеобразная игра мысли японского философа кажутся нам интересными и актуальными. Нитта не ограничивается безапелляционными утверждениями в свете собственного видения проблемы компьютерного творчества. Автор предстаёт перед нами как человек сомневающийся, ищущий, размышляющий вместе с читателем, внимательно прислушивающийся к доводам воображаемого оппонента. Рассуждения японского профессора остроумны, доказательны и логически изящны. Автор ненавязчиво приглашает к разговору всех интересующихся проблемами художественного творчества вообще и компьютерного творчества в частности. Он старается разбудить, активизировать мысль собеседника, избегая дидактики и голословности.
Заметим, что факт возникновения японского варианта «компьютерной эстетики» не вызывает удивления. Ведь именно Япония – страна, уверенно проводящая сплошную компьютеризацию, с одной стороны, и в то же время не только не поступающаяся духовно-эстетическим наследием своего прошлого, но энергично использующая его в своей повседневной жизни. Примечательно, что оба указанных момента нашли отражение в двух тенденциях японской эстетической науки, в результате, один и тот же объект – компьютерное искусство – рассматривается и оценивается с полярных позиций.
Главным представителем компьютерной эстетики в Японии является профессор Кавано Хироси. Однако объектом критики Нитты Хироэ выступает не он, а известный французский философ Абрахам Моль. Моль описал пять видов «творящих машин», имевшихся в наличии у человека в начале 80-х годов прошлого века. Работа Нитты состоит, соответственно, из пяти разделов. Наряду с анализом «машинного творчества» он рассматривает общие проблемы, возникающие в эстетической теории в связи со всё большим распространением компьютеров в художественной сфере и их постоянным усложнением. Каждая из таких проблем рассматривается японским автором в связи с «творческой деятельностью» какой-либо из пяти машин, описанных Молем. Поскольку эти проблемы имеют общеметодологический характер и жёстко не связаны с характеристиками той или иной машины, рассмотрим их отдельно, но вначале перечислим, какие именно виды машин имеет в виду Нитта Хироэ.
Перечисление идёт в порядке усложнения машинной деятельности. Итак, машина № 1. Нитта называет ее «машиной, отбирающей и сохраняющей из зрительного и слухового содержания всё, имеющее ценность».[605] «Такая машина, – пишет японский эстетик, – в месте входа энергии требует средств преобразования, „перевода“ с языка человеческих чувств на машинный язык (например, фотокамеры, телеобъектив, „искусственное ухо“, аналоговые преобразователи). Следовательно, фильтрующее „программное сито“ организует информацию определённым образом, пропуская её через себя».[606]
Ясно, что подобная фильтрующая программа будет накладывать «механический отпечаток» на всю художественную информацию. Посредством такой машины картина мира как бы препарируется, искажается; единая ценность распадается на частные ценности разных уровней. Парадигма этого процесса задается специалистом-программистом. Что же касается её сбалансированности, то она, подчеркивает философ, зависит от духовного диапазона составителя программы и соответствует его собственными представлениям о психике и восприятии человека. «Таким образом, все картины, обрабатываемые машиной, основаны на некой изначальной заданности».[607] Накопив их в памяти, машина по мере надобности выдаёт такие картины в качестве «произведений искусства», т. е. в месте выхода происходит превращение информации, созданной машиной, в информацию, доступную чувственному восприятию индивидуума. Подобная трансформация также осуществляется с помощью аналоговых преобразователей – только на сей раз не воспринимающих, а воспроизводящих (телеприемники, синтезаторы).
Машина № 2. Нитта называет её «машиной для развития идей». Суть её состоит в том, что «художник, закодировав в знаковой форме заранее обдуманную идею, произведя расчет и жёсткую кодировку, вводит это в программу произведения. Полученный машиной результат он предоставляет зрителю. Именно таким способом, – пишет японский учёный, – Гец сделал свой чёрно-белый «супер-сайн», а Ксенакис на IBM 704 собрал в мелодию отдельные звуки».[608] Таким образом, практическая часть творческого процесса – воплощение замысла – перекладывается на компьютер, что создает целый ряд удобств. Возможности подобной машины, заметим, оценили многие творцы современных детективных романов, активно используя механических помощников с целью облегчения своего труда и повышения его производительности.
Машина № 3. Предназначена для «комбинации искусств». Как пишет Нитта, «комбинируя цветовые, звуковые и другие возможности, она составляет на основе единого алгоритма наилучшее из возможных произведений. Область возможностей при этом невероятно широка. Оценив всесторонне и систематически сферу возможностей, просеяв через какое-то „ценностное сито“ их бесконечное количество по одному, она оставляет самую лучшую вещь. Это и есть способ действия „перебирающего искусства“.[609]
Машина № 4. Имитирует творческий процесс, исходя из реально существующих произведений. Творчество такой машины можно разделить на два этапа. На первом этапе (Нитта именует его «аналитическим») уже готовые произведения искусства перекодируются на машинный язык. Затем к ним прилагаются меры по организации и обобщению путём поиска субъективных закономерностей, т. е. тех правил, на которые опирались их авторы. Результат подобной операции хранится в памяти машины и представляет собой, во-первых, скрупулезную запись оригинальных комбинаций, в которых проявляется форма каждого произведения в отдельности («каталог произведений»); а, во-вторых, запись принципов, которыми руководствовались и вдохновлялись создатели этих произведений.
«Аналитический» этап сменяется «синтетическим», когда происходит эксплуатация «созидающей» силы компьютера. Сначала, указывает Нитта, «созидающая сила» выбирает из каталога определенный символ. Затем этот символ подвергается анализу с точки зрения его соответствия или несоответствия группе правил, зафиксированных в памяти машины. Если он подходит, то посылается на дальнейшую обработку, если нет – отклоняется, и тогда «созидающая сила» получает приказ об извлечении из каталога нового символа и процедура продолжается.
Следующая ступень – формирование произведения из отобранного материала. При этом происходит сопоставление с «каталогом произведений»; критерий оценки – является или не является данное машинное произведение уже осуществлённым в истории искусства. Такая машина, по замыслу её создателей, способна сотворить произведение, по стилю более соответствующее творческой манере любого художника (композитора, поэта и т. д.), чем созданное им самим (при условии, что все произведения будут закодированы в обоих разделах машинной памяти).
Наконец, машина № 5. Это «видящая машина», действие которой состоит, по словам Нитты, в том что «она посредством аналогового преобразователя производит операцию расчленения ряда последовательных зрительных образов на разрозненные схематизированные пучки».[610]
В отличие от человека-наблюдателя, машина умеет систематически анализировать взаимосвязи, которые, оказывается, действительно существуют в различных элементах изображения. В её магнитной памяти накапливаются невидимые соотношения зрительных образов. «Сами по себе эти отношения не отражаются человеческим глазом, но подсознательно могут структурировать определённую форму»,[611] – утверждает японский эстетик. Человек использует эти соотношения зачастую случайно, вслепую, подсознательно; компьютер же наиточнейшим образом воплощает в своих творениях «все лучшие достижения» мирового искусства в области формообразования. И все же Нитта не считает подобные «машинные произведения», равно как и произведения предыдущих четырех машин, подлинно художественными.
Аргументация японского учёного базируется на последовательном доказательстве тезиса о том, что «машинное производство» художественной продукции лишено основных характеристик творческого процесса как такового. Следовательно, и результатом компьютерных усилий будут, соответственно, «квазишедевры», неполноценные с эстетической точки зрения.
Если, к примеру, представить художника в роли компьютера, оснащённого системой телепередачи, размышляет Нитта Хироэ, то глаза его будут выполнять функцию воспринимающей телекамеры, а его рука – функции телеэкрана, воспроизводящего изображение. Пропуская через себя, через свой внутренний мир и тем самым как бы просеивая через «оценочное сито» всё, полученное извне, мастер как бы складывает в уме из просеянного картины, наполненные новым – ценностным – содержанием. Ему остается лишь «просто перенести» их на холст – и шедевр готов. Так ли это? Тождествен ли процесс, происходящий, скажем, в машине № 1, тому, что происходит в «чёрном ящике» внутреннего мира художника?
Ни в коем случае, считает Нитта. Ведь в истинном творчестве всё отнюдь не столь прямолинейно и однозначно. На самом деле мастеру почти никогда не удается воплотить свой замысел сразу и начисто, как это делает машина. Оказывается, замысел художника не есть нечто окончательное, он трансформируется в ходе практического воплощения. Именно в трудном процессе творения замысла, в ходе мучительных поисков, проб и ошибок «вызревает» художественная новизна произведения.
Психологическим механизмом, обеспечивающим появление такой новизны, является «разъясняющая обратная связь» между идеей и её воплощением, составляющая стержень духовно-практической деятельности мастера. Японский исследователь пишет об этом так: «Художник пытается «объяснить» свою душу при помощи руки. В результате такого «объяснения» произведение, расположенное перед глазами художника, раз за разом требует нового объяснения. Именно такой поворотный пункт процесса "изнутри наружу", это обратное течение от "выходящей силы" – руки к "принимающей силе" – душе, этот механизм обратной связи, стимулируемый новизной ощущений и переживаний мастера, отсутствует в компьютере… Биологи и психологи утверждают, что деятельность мозга подразумевает наличие подобной структуры. Компьютер же её лишен. Если его и можно назвать мозгом, то это будет дефективный мозг».[612]
«Дефективный мозг» продуцирует и тиражирует лишь то, что за долгую историю искусства было накоплено в арсенале «всемирной мастерской» художников. Для воплощения замысла компьютер отбирает наилучший из уже имеющихся приемов мастерства, поэтому в его «шедевре» утрачивается такой важный элемент, как эстетическая новизна. Компьютерный творец ущемлён в том смысле, что никогда не сможет создать новый художественный прием, кроме тех, которые уже заложены в его памяти. Мастер обречён на вечное новаторство. Машина же, как совершенно точно отмечает Нитта Хироэ, способна воспринять от творчества лишь одну причём не главную его сторону – ремесленничество, впрочем, в этом она превосходит любого человека.
Весьма тонко и верно по сути наблюдение профессора относительно того, что творчество основано на неумении новичка в гораздо большей степени, нежели на уверенности набившего руку в технике ремесленника. «Пока что, – пишет он, – творчество принимает форму отрицания техники».[613] Любая из пяти перечисленных видов машин не способна, несмотря на весь арсенал технических средств, создать «нечто такое, что не рождается посредством простого дедуктивного вывода из прошлого».[614]
Следующий «пункт обвинения» в адрес компьютерного искусства со стороны Нитты Хироэ заключается в том, что последнее не соответствует определению искусства как телесной, рукотворной деятельности человека, и поэтому его продукт не может считаться полноценным произведением.
Искусство – продукт телесной деятельности, где человек выступает как целостное существо, в единстве рационального, эмоционального и физического моментов. Подручные средства традиционного художника были соразмерны его телесным возможностям. Например, как считает Нитта, «музыкальный инструмент – это устройство по извлечению звуков в пределах телесных возможностей».[615] Его прототипом служили голосовые связки человека.
Музыкальные инструменты можно тоже рассматривать как своеобразные машины. Но, в отличие от компьютеров, эти машины «соразмерны», по выражению японского эстетика, телесной структуре человека. Вот, например, фортепиано. Оно как бы «раскладывает» голос на двенадцатиступенный звукоряд. Тем самым возможности человеческого голоса, простирающегося обычно не более чем на две октавы, «расширяются» до семи октав.
Фортепиано перелагает частотные колебания голосовых связок, возникающие от давления воздуха при дыхании, в удары по струнам посредством клавиатуры. Ударно-струнное устройство и педаль также действуют в пределах телесных возможностей человека. Благодаря беглости последовательных ударов по клавиатуре можно максимально приблизиться к аналогичной переменчивости звучания человеческого голоса. Точно так же обстоит дело и с силой звука, зависящей от жёсткости или мягкости удара пальцев. «Фортепиано – это машина, всегда содержащая в себе возможность возврата к человеческому голосу»,[616] – заключает Нитта.
Аналогично и соотношение телесных возможностей человека с другим инструментарием традиционного художника. Что же касается машины, то она, по словам философа, «утверждается там, где изначально человеческое тело изгоняется за дверь».[617] Компьютер – «чёрный ящик», в который человек не может вмешиваться именно в момент «творения», не может проконтролировать весь ход «художественного производства». В отличие от музыкального инструмента, «творящая машина» находится во власти программиста-художника лишь отчасти. Её «продукция» не есть результат непосредственно-телесной деятельности, но является чем-то иным.
Машинное творчество видится Нитте подобным некоторым видам прикладного искусства, в рамках которых художественная идея и её реализация не осуществляются в едином телесном процессе в форме «обратной связи по истолкованию», от воплощения к замыслу. «Например, – пишет автор, – в гончарном искусстве воплощение доверяется печи, "обратная связь по истолкованию" редуцируется до формы судебного вердикта, окончательного приговора каждому выходящему из печи сосуду».[618]
Как видим, Нитта Хироэ низводит компьютерное творчество до уровня ремесленничества. Подобная трактовка представляется не совсем правомерной. История искусств даёт нам пример успешного овладения художниками техническими приёмами кинематографа, которые сначала также довлели собственно искусству, как сейчас компьютерная техника довлеет зарождающимся на его основе искусствам.
Техническая сторона кинематографа постепенно попала под контроль мастера – стало его «кистью» и «музыкальным инструментом». Можно с уверенностью прогнозировать, что с течением времени то же самое произойдёт и с компьютерной техникой, которая, несмотря, на всю свою сегодняшнюю неохватность и неконтролируемость, также будет поставлена на службу художественной идее, станет её подручным средством, хотя первые «произведения» такого рода и могут быть уподоблены чашкам и горшкам.
К тому же в XX в. наблюдается всё большая интеллектуализация всех сфер жизни человека. Немалую лепту в этот процесс вносит компьютер, оперирующий информацией, т. е. «объективизированной высшей нервной деятельностью человека».[619] Интеллектуализация не минует и искусство XXI в., и надо полагать, что наряду с традиционными, рукотворными видами искусства, возникнет пучок новых, основанных на огромных возможностях компьютера.
Третья проблема, поставленная Ниттой Хироэ, тесно связана с двумя рассмотренными выше проблемами «новизны» и «телесности» как непременных атрибутов подлинного искусства. Её можно сформулировать так: можно ли считать, что компьютер имеет непосредственное отношение к художественной деятельности и если да – то в какой степени?
Как уже было сказано, по мнению Нитты, традиционное искусство отличается от компьютерного прежде всего своей телесностью, рукотворностью. Поэтому при его создании возникает механизм обратной связи, когда практическое осуществление оказывает обратное влияние на замысел. У художника замысел созревает и меняет очертания по мере «сопротивления материала». Именно такое сопротивление, обусловливающее пробы и ошибки, горести и сомнения творца, стимулирует развитие и «окончательную доводку» идеи. Мастер черпает вдохновение в борьбе с «невоплощаемостью» завораживающего его замысла. Но и сама идея трансформируется в ходе его борьбы.
Творчество традиционного художника, таким образом, предстает своеобразным полем напряжения, силовым полем, получающим энергию одновременно с двух взаимодействующих и взаимовлияющих сторон: как с «внутренней» (идея и художественное воображение мастера), так и с «внешней» (практические действия художника, изменяющие и дополняющие идею в ходе её конкретизации).
Компьютер, доказывает Нитта, лишен «обратной связи» и физиологического «изменения» творческого процесса. Он творит автоматически, согласно алгоритму, неуклонно воплощая избранную идею. Компьютер действительно прекрасный ремесленник, идеально применяющий уже открытые ранее законы мастерства, т. е., по мнению Нитты, опирается на рассудочный момент в творчестве.
Однако в рождении искусства по меньшей мере не последнее место занимает не прошлое, но будущее, не рассудок, но чувство. Не будет ли внутренне противоречивым понятие «алгоритм чувства» или «алгоритм будущего»? – задаётся вопросом японский эстетик. Всё, что может алгоритм – это проецировать на грядущее результаты прошлого. Но «алгоритмически просчитать» будущее как таковое – невозможно.
В то же время, подчёркивает профессор, нельзя исключать момент исчисления из художественного творчества. Если бы его не было, никогда бы не зашла речь о применении машин для создания произведений искусства. Другое дело, что максимум, на что может претендовать компьютер – быть «калькулятором для планирования произведений будущего искусства по образцу и подобию "исходных шедевров", воплощающих художественное мастерство прошлого».[620] И всё-таки, право компьютера на существование в художественной практике несомненно настолько, насколько бесспорен момент техники и рассудочности в самом искусстве.
Нитта указывает также и на «теоретических предшественников» компьютера. Это, во-первых, концепции, разделяющие точку зрения лапласовского детерминизма на принципиальную выводимость будущего из прошлого состояния. И, во-вторых, – огромное количество теоретических трактатов, со времен Аристотеля получивших название «Поэтик», или «Законов художественного творчества».[621]
Компьютер завершает длинную череду «Поэтик» именно потому, что он аккумулирует в себе момент рассудочности, упорядоченности, закономерности, целесообразности – т. е. именно те изменения художественного творчества, которые являются предметом теоретического анализа в эстетике и теории искусства. (Отметим, однако, что теория искусства представляет собой не просто обобщение опыта художественной практики прошлого, а качественно новый уровень её осмысления, так что компьютер в этом ряду занимает своё место весьма условно.)
Итак, Нитта связывает появление «Поэтик», «Законов художественного творчества», «Историй стилей» и пр. в рамках философско-эстетической и искусствоведческой мысли с существованием значительного элемента формализованности и упорядоченности в самом искусстве. Именно эта его сторона по преимуществу становится объектом теоретического анализа. И если бы данный фактор был слаб или его не существовало вовсе, подчёркивает автор, все эти исследования попросту не возникли бы, поскольку для них не было бы объективного основания. Наличие же художественной мысли прошлого служит необходимой предпосылкой появления компьютерных методов в искусстве. В прошлом «Поэтики» описывали определённые нормы, правила создания произведений – машина взяла на себя эти функции.
Однако, как совершенно правильно отмечает Нитта, на основании только знаний законов художественного творчества, изложенных в «Поэтиках» и прочих трактатах, нельзя создать подлинное произведение искусства. В равной степени его нельзя создать и с помощью компьютерной методологии.
Здесь мы не можем не упомянуть о «парадоксе эстетика», на который указывало множество мыслителей: в само́м искусстве эмоциональный момент преобладает над интеллектуальным, и, наоборот, в науках об искусстве – искусствознании, эстетике – необходим примат рационального, теоретического. О драматизме существования науки о прекрасном писал Н. Гартман: «Точка зрения личного пристрастия и иллюзии отвергает философское рассмотрение. Или, по крайней мере, она ему вредит Эстетика – это род познания с явной тенденцией стать наукой. И предметом этого познания является именно личное пристрастие и иллюзия. И не столько пристрастие и иллюзия, сколько то, к чему они обращены, то есть прекрасное, но в меньшей мере и они сами. Из этого следует, что эстетическое чувство является в своей основе другим, чем философское познание, которое направляется на него как на свой предмет. Эстетическая точка зрения вообще не является достоянием эстетики. Она есть и остается точкой зрения любителя искусства и творца его, изучение же этой точки зрения – дело философа. Обоюдное самоисключение, если оно было полным, должно было сделать невозможной работу эстетика. Последний должен бы обладать способностью к художественной точке зрения, потому что познать её он мог только на собственном опыте».[622]
Проблема «парадокса эстетика» возникает на компьютерном уровне и в работах Нитты Хироэ, вплотную столкнувшегося с необходимостью решения данного вопроса. По нашему мнению, профессор довольно успешно справляется с поставленной задачей. Он не впадает в крайность огульного, основанного лишь на эмоциях, отрицания компьютерных методов в искусстве. Но ему и чужда роль апологета компьютерного творчества, которую играет Кавано Хироси, стремящийся полностью подчинить язык искусства (в значительной степени не поддающийся формализации) методам кибернетического мышления.
Наряду с перечисленными, Нитта поднимает еще одну проблему: для чего необходимо искусство? В чём его качественное своеобразие, смысл его существования? Искусство, размышляет японский эстетик, бессмысленно с точки зрения обыденного познания, в рамках которого, в частности, каждый звук или цвет указывает на нечто, ему внеположенное, и имеет совершенно определённое практическое значение. С позиции повседневной практики музыка, например, выглядит бессмысленным набором звуков. Роль слуха в быту, в обыденной жизни исчерпывается восприятием и прочтением смысла звуков внешнего мира. «В данном случае это практический смысл, совпадающий с целями повседневной жизни, в контексте которой звук – это не что иное, как знак, за которым прочитывается смысл, – пишет Нитта. – В противоположность этому, в музыке звук важен сам по себе (единство звука и смысла). Итак, мы назовём музыкой занятие по возвращению звуку смысла как такового. Для чего существует такое занятие? По-видимому для того, чтобы вернуть тело – телу как таковому или же, говоря конкретнее, чтобы люди осознали бытие тела: а) посредством «бессмысленного» с точки зрения повседневной жизни, потребления звука и б) посредством осмысленного потребления звука».[623]
Итак, музыка в трактовке японского философа – это занятие по возвращению смысла звукам как таковым. С одной стороны, человек дифференцирует звуковые сигналы, «разводя» информацию сугубо практического характера и художественный заряд, получаемый с помощью красивых звуков. Одно дело – быт, другое – искусство. На «бытовом уровне», как ни старайся, музыку не сочинишь, даже если, как пишет Нитта, «развить наш повседневный слух до предела». С другой стороны, именно слух, т. е. чисто физиологический орган чувств, позволяет индивидууму получать от музыкального искусства высокое наслаждение. Таким образом, человеческое тело выступает «синтезатором» двух уровней слуха. По словам профессора, музыка возвращает телу единство, но уже на более высоком, по сравнению с повседневностью, уровне.[624] В традиционном искусстве происходит возрождение цельности человеческой натуры, единение духовного и телесного в рамках музыкальной связи звуков, бессмысленной для обыденного существования, но весьма значимой для жизни духовной.
В отличие от компьютерного творчества с его гипертрофированной «рассудочной» частью и элиминированной «физиологической», традиционное искусство представляет собой синтез умственно-идеальных и физически-материальных усилий человека. Смысл искусства, подчёркивает японский ученый, в том, что оно должно стать средством повышения качества человеческой жизни на основе прояснения единства ее духовной и телесной сторон: «Творчество, – пишет Нитта, – снимает путы с тела. От разделения – к единству, опять к разделению – и опять к единству В процессе такого непрекращающегося повторения художественное творчество, используя, например, звук, исследует бытие тела. Ведь во время сочинения музыки ухо слышит не только звуки, но слышит, осознаёт и сам процесс такого слышания».[625]
Заслуга японского философа в том, что он поставил вопрос о принципиальной возможности оцифровывания в сфере искусства и дал на него совершенно ясный отрицательный ответ. Странно, что для доказательства своей позиции профессор Нитта не привлёк данные о самом процессе обучения, принятом в традиционных искусствах стран Востока, и в том числе в системе «Дома» (иэмото) в Японии, где «недискурсивная» передача знания происходит путем непосредственного «телесного» контакта ученика с учителем. В результате такого контакта первый вместе с техническими приемами мастерства наследует и саму личность второго. «Возможно, сегодня европейскому уму как никогда необходимо наряду с «книжной» традицией передачи знания признать необходимость и ценность живой традиции его передачи: от учителя к ученику».[626] Л. Г. Пугачёва, занимающаяся проблемой телесного восприятия, лаконично описывает ситуацию обучения в традиционных искусствах: ключевая личность (мастер) «организует фрагмент социальной реальности не столько при помощи собственных моделей, сколько своей «харизмой» или, точнее, настройкой своего восприятия и понимания, считающимися эталонами для учеников. Этот способ передачи знания хорошо известен в восточной философии и медицине. Признавая такой способ передачи знания, научное сообщество… по сути, утверждает, что разум не сводим к тексту – у него есть телесный аспект, а тело является ресурсом развития разума».[627]
Поэтому компьютерное творчество, «разрывающее» духовно-телесное единство человека, может играть в сфере искусства лишь подчинённую роль инструмента по хранению, упорядочиванию и комбинированию информации, вследствие чего может использоваться для справочных, учебных и сугубо ремесленных целей. Однако, по мысли Нитты Хироэ, его никак нельзя, как это делает профессор Кавано Хироси, считать полноценным заменителем традиционного рукотворного искусства. Такова мысль Нитты Хироэ, и нам очень хотелось бы разделить её, если бы не одно сомнение.
Всё сказанное японским эстетиком верно лишь в отношении прошлого художественного опыта человека, с одной стороны, и прошлого жизни самого человека – с другой. Действительно, как пишет современный японский исследователь, специалист по информационным технологиям, Сакамото Кэндзо, «компьютер полностью не объективизирует человеческие способности. Легко поддаётся объективизации лишь их знаковый аспект и синтаксические связи. Сложнее обстоит дело со связями семантическими и прагматическими».[628] Однако нынешний уровень развития компьютерной техники – далеко не окончательный, и в дальнейшем, несомненно, объективизации подвергнутся и семантические, и прагматические связи.
Кроме того, человек сам стоит на пороге коренных изменений и, вероятно, сам явится предметом конструирования. Уже в начале 70-х годов прошлого века стала развиваться генная инженерия, которая по сути дела является разновидностью информационного конструирования. Ведь ген – носитель наследственной информации, и уже сейчас, по свидетельству профессора Сакамото, «информационная технология не ограничивается только компьютерами, а простирается до сферы жизни».[629]
Новые условия жизни, новые технологии требуют от человека развития новых способностей, и, видимо, не ошибаются те футурологи, которые называют нынешний век «интеллектуальным». Соответственно, возникнут и новые, более интеллектуализированные виды искусства, где телесный аспект может быть сведен к минимуму. Это, разумеется, не означает умаления влияния традиционных видов.
Поэтому, на наш взгляд, решение возникших в связи с «компьютерным творчеством» проблем Ниттой Хироэ можно считать лишь условно правильным. Условно – потому, что они подразумевают остановку как в развитии компьютерной техники, так и в развитии человека.
Небольшая по объему, но очень емкая по содержанию (мы затронули здесь только небольшую часть общих проблем, поставленных учёным в связи с «компьютерным творчеством») работа Нитты показывает нам, как «вечные философские вопросы» всякий раз возникают на каждом новом витке развития науки и техники.
Заслуга японского эстетика Нитты Хироэ в том, что он увидел в новом, «компьютерном творчестве» старые методологические проблемы и решил их применительно к современному уровню развития человека с одной стороны, и компьютерной техники – с другой.
Интерпретация духовных традиций Запада Икэдой Дайсаку
Современный мир находится в состоянии глубокого кризиса: экономические потрясения, дискредитация демократической системы власти, острые экологические проблемы, угроза ядерной катастрофы порождают обстановку страха и неуверенности в завтрашнем дне. Это способствует обращению широких слоёв населения к различным религиозным верованиям, мистике, иррационализму. «Опыт зла и страданий приводит к постановке глубоких вопросов о смысле всего этого, на которые не дают ответа повседневные категории причины и следствия, – отмечает американский социолог Р. Белла. – Религиозные символы предлагают осмысленный контекст, в котором этот опыт может быть объяснён благодаря помещению его в более грандиозную мирозданческую структуру и предоставлению эмоционального утешения, пусть даже это будет утешением самоотречённости».[630]
Однако обращение неофитов происходит, как правило, не в сфере официальной церковности. Оно продолжает те тенденции в религиозных учениях, которые обосновывают необходимость личной ответственности человека перед Богом без посредничества церковных институтов. Как показала мировая история, подобные тенденции обычно приводят к плюрализму религиозной догматики и сопровождаются возникновением новых вероучений и сект.
Для новых вероучений, получающих ныне распространение на Западе, характерен обостренный интерес к различным школам и направлениям восточных религий (индуизму, учению Кришны, Дзэн-буддизму и др.). Примером восточного учения, за короткое время завоевавшего устойчивую популярность, может служить религиозно-философская доктрина японской необуддийской организации «Сока гаккай» (Общество по созданию ценностей). Основой идеологии «Сока гаккай» является учение средневекового реформатора буддизма Нитирэна (1222–1282). Исходя из этого учения, первый президент Общества Макигути Цунэсабуро (1871–1944) сформулировал главные мировоззренческие установки «Сока гаккай». Дело Макигути продолжил второй президент Общества – Тода Дзёсэй (1900–1958). Наибольшего влияния Общество достигло при Икэде Дайсаку (род. в 1928 г.), ставшем третьим президентом «Сока гаккай» в 1960 г. и активно продолжившем теоретическую разработку и внедрение мировоззренческих основ учения Нитирэна.
Икэда – автор нескольких десятков книг и сотен статей, практически все они переведены на английский язык и активно распространяются за пределами Японии. Он основатель ряда учебных заведений, принадлежащих Сока гаккай, в частности, университета «Сока». По инициативе основателя были заключены договоры о сотрудничестве между университетом Сока и рядом ведущих высших учебных заведений США, Европы и Азии. Действует и аналогичный договор с МГУ им. М. В. Ломоносова. Икэда – почётный доктор Московского университета.
Целью деятельности «Сока гаккай» внутри страны и на мировой арене является осуществление «человеческой революции», т. е. реализация всеми индивидами моральных заповедей так называемого тяньтайского буддизма, послужившего основой учения Нитирэна. Как утверждает Икэда, только буддизм способен противостоять, с одной стороны, пагубным последствиям развития материальной цивилизации, низводящей людей до состояния «винтиков» социальной системы, с другой – ложным религиям (традиционное христианство, ислам и др.), где человек также теряет себя перед лицом Бога. В учении буддизма каждое живое существо – это проявление Абсолюта и, следовательно, оно само для себя высший авторитет и объект поклонения. Надо лишь стараться как можно интенсивнее выявлять в себе «жизненную силу», или «буддийскую природу». «Борьба за выявление и реализацию буддийской природы в каждом индивиде, – пишет Икэда, – есть не что иное, как движение за человеческую революцию».[631]
В начале своего активного роста в 1950-е годы «Сока гаккай» пережило так называемый период сякубуку. Сякубуку – метод нитирэновской пропаганды, заключающийся в резкой критике других учений и утверждении посредством этого собственных взглядов.[632] В настоящее время «Сока гаккай» характеризуется поворотом от собственно религиозной деятельности в сторону расширения общественной и культурной экспансии на Японских островах и на международной арене. В связи с этим вместо резкой критики и нетерпимости в отношении иных мировоззренческих систем в «Сока гаккай» получила развитие тенденция адаптирования и включения их в рамки своей идеологии. Данной задаче посвящены основные усилия Икэды, стремящегося, например, ассимилировать в «живой философии буддизма» («Буддизм – живая философия» – название одной из книг Икэды[633]) западную религию, философию и науку.
Всё вышесказанное позволяет говорить о назревшей необходимости достаточно подробного критического разбора теоретических установок Икэды. В данной статье мы обратимся к анализу взглядов Икэды в связи с его интерпретацией мыслительной традиции Запада. Начнём с религии. «Ни разум, ни сознание не могут открыть великую дверь жизни, – утверждает Икэда. – Ключ к человеческому существованию – во врождённом религиозном импульсе, который имеет источником… сущностную универсальную жизнь».[634] Однако этот импульс, согласно Икэде, может быть «по-настоящему» реализован лишь в буддизме. Все другие религиозные учения не способны дать человеку радость обладания истиной и служат тормозом в развитии человеческого познания. Это касается как науки, так и философии, призванной руководить наукой, предоставлять ей методологический фундамент. Стремясь выглядеть объективным и беспристрастным учёным по отношению к религии, Икэда подвергает критике негативные стороны духовного господства христианства. В качестве красноречивого примера он приводит время «средневекового мрака» в Европе, когда все ростки свободомыслия жестоко подавлялись католической церковью. «Мистика и религиозное влияние христианства, – пишет он, – подавили науку, и западный философский мир вступил в беспрецедентный период застоя».[635] Икэда делает верный вывод, что на протяжении веков «христианство было огромным препятствием для развития науки», но при этом утверждает, что «противоречия между религией и наукой – не что иное, как противоречия между христианской церковью и наукой».[636]
Однако сейчас, замечает Икэда, христианство с его противостоящими остальному миру трансцендентным Богом и человеком, «созданным» по его образу и подобию, всё более перестаёт удовлетворять мировоззренческим потребностям людей. Их может удовлетворить только буддизм. «Тысячи лет назад буддизм, – пишет он, – был создан как ответ на основные страдания жизни – рождение, болезнь, старение и смерть. Сегодня эта религия, в которой нет места для веры в Абсолют или для мифов о всемогущих антропоморфных божествах, обладает неограниченной способностью возродить даже такой мир, как наш, в котором человечество вошло в крайне тёмное состояние».[637]
Тем не менее, Икэда не огульно отрицает христианскую религию. Ведь не зря же она до сих пор имеет многочисленных приверженцев. Последнее обстоятельство очень важно для Икэды, и он, дабы привлечь на свою сторону христиан, пытается частично ассимилировать христианство, представляя, к примеру, Иисуса Христа в качестве буддийского бодхисаттвы. «Думается, что явление страданий в образе Иисуса Христа, – пишет Икэда, – указывает на актуализацию в его судьбе мира бодхисаттвы. И в случае Христа, и в случае бодхисаттвы, основа их проявления одна – это " рита", т. е. «польза для других», альтруизм».[638]
Философские учения Запада Икэда также подвергает «буддийской обработке». Он разбирает философские теории прошлого с точки зрения их способности к выработке истинного мировоззрения и приходит к выводу что ни одна из известных философских концепций не смогла решить эту проблему. Как отмечает Икэда, в борьбе с религией в Европе, начиная с Ренессанса возник целый ряд философских направлений, представители которых претендовали на роль «наставников», «методологов» науки. Апогея это движение мысли достигло в Новое время. Именно философия Нового времени, «ослеплённая» успехами естествознания, абсолютизировала познавательные способности человека – чувственное восприятие (эмпиризм) и деятельность разума (рационализм). Икэде важно подчеркнуть односторонность рационализма Декарта, Спинозы, Лейбница, с одной стороны, и эмпиризма Локка, Гоббса, Беркли – с другой,[639] чтобы в конечном счёте показать их несостоятельность. Акцент на познавательные способности человека, считает Икэда, явился неверной установкой в западной философии, которая в итоге привела человечество к современной кризисной ситуации. Как на типичный пример такой установки Икэда ссылается на философию Декарта. Последний провозгласил основным качеством материи протяжённость и оторвал человека от остального мира, в котором всё живое к тому же считал лишь сложными машинами, функционирующими по законам механики.[640] Декартовское «cogito» стало «решающим понятием в формировании фундамента современной науки».[641]
Икэда сознательно уходит от онтологических проблем философии Нового времени, и это весьма симптоматично. В противном случае ему пришлось бы признать родство онтологии, например, Спинозы и Лейбница, с пантеистической онтологией буддийской философии, подмеченное ещё И. Кантом. Анализируя философскую концепцию даосов, Кант писал, что, выходя за рамки чувственного опыта, они создают теорию Абсолюта и уничтожения в нём своей личности. Он отмечал: «Отсюда и пантеизм (тибетцев и других восточных народов), и возникший вследствие его метафизической сублимации спинозизм; оба они – близкие родственники древнейшего учения об эманации человеческих душ из божества (и конечного поглощения последним). И всё это только для того, чтобы люди могли насладиться в конце концов вечным покоем, который наступит вместе с блаженным концом всего сущего, – понятие, знаменующее прекращение рассудочной деятельности и вообще всякого мышления».[642]
По мнению Икэды, ближе всех других философов подошёл к буддийской гносеологии именно И. Кант, которого идеолог «Сока гаккай» считает величайшим мыслителем Запада. Икэду прежде всего привлекают два аспекта кантовской философии – этика и теория познания.
Кант считал, что присущее каждому человеку знание категорического императива предусматривает мораль, основанную на долженствовании и самоотречении. Однако последовательно проведённая этика долга привела Канта к заключению об обречённости морального человека на жизнь, полную страданий. Чтобы не допустить такого пессимистического вывода из своей практической философии, он произвольно ввёл постулаты о бессмертии души и о наличии Бога, которому не нашлось места в его теоретической философии. Бессмертие души сделало возможным сочетание моральности и счастья в загробном мире, Бог же явился гарантом осуществления такой справедливости.
Данные положения Канта близки практической философии Икэды. Последний признаёт самоценность человеческого бытия и потому задачей своей практической философии считает разработку реальных путей достижения людьми счастья в их земной жизни. Путь к счастью, по мнению Икэды, лежит через разумное самоограничение, учитывающее интересы ближних. Это единственный путь к радикальному преобразованию общества, к «человеческой революции». Здесь Икэда следует Канту, понимая сознательное самоограничение как реализацию идеи долженствования, априорно данной каждому индивиду в форме категорического императива.[643] Как и Кант, Икэда подвергает критике религиозные системы прошлого, в которых отношения между человеком и божеством сводятся к чисто внешнему исполнению ритуала, с одной стороны, и будущему воздаянию за это исполнение – с другой.
Аналогичные Канту взгляды высказывает Икэда и в отношении доктрины предопределения. Она чужда им обоим. «Сущность человеческого бытия состоит в возможности направлять судьбу по тому или иному пути и создавать осмысленную жизнь»,[644] – пишет Икэда.
Кант близок Икэде как один из основоположников учения об активности сознания. По мнению Икэды, именно в этой сфере, а не в сфере материальной цивилизации должны происходить революционные преобразования. «С точки зрения буддизма, – отмечает он, – материальная цивилизация стимулировала бесконечное множество желаний с целью создания состояния тэн (радость от удовлетворения желаний). Бессознательно люди считали этот род общества идеалом».[645] Икэда отрицает подобный социальный идеал, считая, что установка на практицизм привела человека к утрате единства с природой, миром, самим собой. Задачу возвращения человека к самому себе и миру Икэда возлагает на своё учение, призванное стать идеологическим фундаментом «человеческой революции».
Цель «человеческой революции» – обретение людьми «истинной реальности» путём соединения с ней. Миссия «Сока гаккай» состоит в том, чтобы найти пути такого единения. «Роль философии и религии, занимающихся поиском смысла жизни, – пишет Икэда, – заключается в открытии первичной реальности жизни и основополагающих принципов, управляющих ею; в локализации источника жизненной энергии таким образом, чтобы мы могли интенсифицировать наше повседневное существование и переживать радость бытия и созидания».[646]
В практической философии Икэды ясно можно проследить две основные тенденции. Первая характеризуется признанием самоценности посюсторонней, повседневной жизни людей. Религия, согласно такому представлению, призвана служить средством для самореализации человека. «То, в чём более всего нуждается человек, – это возврат к философии, ориентированной на жизнь, что и является сутью буддизма»,[647] – провозглашает Икэда. Вторая тенденция, теологическая, рассматривает жизнь человека на Земле лишь как средство служения некоему божеству, хотя и составляющему сущность самого человека. Совмещение этих тенденций в единой теории неизбежно приводит к путанице и эклектизму.
Оценивая западную философию в целом, Икэда во многом разделяет взгляды представителей её антисциентистского направления, практически дословно воспроизводя их критику современной действительности. Смыкаясь с антисциентистами, Икэда считает экономический кризис и бездуховность нынешнего мира прямыми следствиями реализации идей Нового времени. Пафос его критики в адрес классической философии Нового времени тот же, что и у приверженцев «философии жизни» и экзистенциалистов. И в этом смысле Икэда – дитя своей эпохи. «Пришло время, когда мы должны отказаться от веры в материализм и экономический рост и принять веру в гуманизм и жизнь как таковую»,[648] – утверждает он. Человек страдающий, радующийся, сомневающийся и негодующий – вот что, по мнению Икэды, должно стать предметом истинной философии; сущность человека – это не только познавательные способности, абсолютизировавшиеся мыслителями Нового времени.
«Философия жизни» и экзистенциализм явились реакцией на несостоятельность оптимистической установки философии Нового времени. Икэда считает, что главная заслуга «философии жизни» и экзистенциализма заключается в их выходе на некую особую реальность, близкую буддийскому тютай, обозначающему истинную человеческую природу. «Экзистенциализм, – отмечает он, – несёт в себе частичное сходство с буддийским тютай… Понятия «человек», «индивидуум» Кьеркегора или «сверхчеловек» Ницше, «экзистенция» Ясперса или Хайдеггера обозначают в философских терминах то же, что и тютай в буддизме».[649]
Вполне очевидно, что Икэда обращается к западной философской традиции лишь в том ракурсе, который способствует обоснованию вечных и изначальных истин буддизма. Если философия Нового времени в интерпретации Икэды доказывает истинность буддийской гносеологии, а современная «философия жизни» и экзистенциализм вплотную подходят к истинам буддийской психологии, то наука, в свою очередь, подтверждает истинность буддийской онтологии. Икэда отмечает потребность человечества в едином мировоззрении, способном быть общей методологией для конкретных наук, «имеющих в настоящее время вид ущербных детей».[650]
Причина кризиса наук, по мнению Икэды, заключается в том, что они делали акцент на изучении лишь материального аспекта жизни – сики, в то время как духовный её аспект – син изучался крайне слабо. Гармония может быть достигнута посредством сочетания этих двух аспектов, отделимых друг от друга только в абстракции, а на самом деле составляющих неразрывное единство – фуни. «Если (что кажется вероятным) будущие научные исследования покажут, что не существует ясной границы между так называемыми одушевлёнными и неодушевлёнными предметами, то они просто подтвердят буддийский взгляд на жизнь, сформулированный сотни лет назад»,[651] – пишет Икэда. Идеолог «Сока гаккай» пытается представить буддийское учение в качестве уникальной религии, чья истинность подтверждается и будет подтверждаться новейшими открытиями естественных наук. По его мнению, только буддизм Нитирэна, будучи истинной религией, «не противоречит науке».[652] Более того, именно в этом учении содержатся все научные законы, и не только они. Любые законы и сопутствующие им исключения исчерпывающе объясняются «всеобщим законом причинности, из которого дедуктивным методом выводятся все реалии универсума».[653]
Спекулируя на усложнённости современной картины мира и особенно на «белых пятнах» биологии и психологии (проблема происхождения жизни, возникновения сознания и т. п.), Икэда заявляет, что всё это свидетельствует о наличии некоей реальности, лежащей в основе явлений. «Именно то, что обозначается в буддизме как фуни, – утверждает он, – есть проявление «истинной природы», «окончательной глубины жизни», или абсолютная реальность, «Мистический Закон»».[654] Однако Икэде не удаётся эксплицировать связи данной «реальности» с её конкретными проявлениями. Эта связь просто декларируется им без доказательств.
В итоге, учение Икэды обнаруживает явные признаки эклектической концепции, целевые установки которой приходят в противоречие с содержательными постулатами. Ведь пытаясь дать рациональное обоснование буддизму как мировоззренческой основе науки, содержащей в себе и объясняющей все научные законы, он тем не менее обращается к «Мистическому Закону», не поддающемуся никакому рациональному, научному описанию.
Анализ Икэдой западной религии, философии и науки, а также демонстрация и подчёркивание им внутренней связи своего учения с западной духовной и мыслительной традицией далеко не случайны. Включая Иисуса Христа в пантеон буддийских божеств, рассматривая философские и научные теории Запада как ступени на пути приближения к истинам буддизма Нитирэна, Икэда выступает продолжателем буддийской тактики ассимилирования инородных идей. Для буддизма на протяжении всей его истории была характерна особая лояльность к другим вероучениям. Любые идеи после соответствующей обработки находили себе место во вместительном лоне буддийской мудрости. Так было в Индии, но с ещё большей силой данная особенность буддизма проявилась на Дальнем Востоке – в Китае и Японии. Например, после проникновения идей индийского (в китайской интерпретации) буддизма на Японские острова в VI в. там был осуществлён своеобразный синтез буддизма с синтоизмом, национальной религией японцев, пантеон которой был объявлен частью буддийского пантеона.
Примечательно, что в Японии, начиная с Кукая (774–835) и Сайтё (767–822), основатели новых направлений буддизма неоднократно обращались к известным им религиозно-философским системам, черпая в них материал для собственных концепций. Так, Кукай – родоначальник буддийской школы Сингон, доказывая истинность своей интерпретации буддизма, подробно характеризовал и конфуцианство, и даосизм, и различные направления буддизма. Представляя эзотерическое учение Сингон в качестве высшего достижения буддийской мысли, Кукай, однако, не отрицал и опыта своих предшественников, считая его использование необходимым условием при постижении истины. Если в ранних произведениях Кукай лишь доказывал превосходство буддизма над конфуцианством и даосизмом,[655] то впоследствии он уже подвергал эти учения пристальному рассмотрению и признавал в качестве необходимых этапов духовного развития человека.
Заметим, что тенденция приспосабливания и преемственности существовала и на Западе. В истории религии она, в частности, проявилась в ассимиляторской политике духовенства Древнего Рима по отношению к верованиям покорённых народов. Если же обратиться к истории западной философии, то и там практически каждый философ-систематик высказывал определённое отношение к мыслительному опыту своих предшественников, интерпретируя его в духе собственных установок. Классическим примером может служить Гегель, рассматривавший все философские системы прошлого как этапы самопознания Абсолютного духа, а свою философию – как закономерный итог такого самопознания.
Из приведённого выше анализа интерпретации Икэдой религии, философии и науки Запада ясно, что эта интерпретация играет роль теоретического обоснования буддийского учения. Следует подчеркнуть, что Икэда, хотя и называет буддизм «религией», на самом деле имеет в виду религиозную философию, осуществляя таким образом «подмену тезиса» при утверждении приоритета буддизма как религии. Именно к философской стороне так называемого тяньтайского буддизма прибегает Икэда для обоснования права буддизма на первенство среди религиозных, философских и научных теорий. Тяньтайская разновидность буддизма махаяны, являющаяся сравнительно поздней его формой, учла опыт предыдущих вероучений. Выработав в своих недрах «противоядия» почти против всех возможных направлений критики, она превратилась в чрезвычайно широкую и гибкую религиозно-философскую систему, в которой сведены к минимуму уязвимые утверждения.
С другой стороны, неуязвимость тяньтайского буддизма объясняется присущими ему чертами диалектичности, правда, очень абстрактной. Верно угадав присущую вещам диалектику, уловив факт наличия противоположностей во всех областях жизни, тяньтайский буддизм синтезировал их в некое мистическое единство.
Диалектичность особенно явно проступает в буддийской характеристике «истинной природы» всего сущего, согласно которой сущность жизни заключается в неразрывном единстве – фуни её материального – сики (материя) и духовного – син (разум) аспектов.[656] Фуни – не материально и не духовно. Оно имеет свою собственную специфическую природу, поэтому буддийское положение приобретает вид классической трёхчленной формулы диалектики (тезис – антитезис – синтез). Третий член формулы является своеобразным «разрешением», «примирением», «единением противоположностей» двух предыдущих. Причём «единение», «синтез» наблюдается не только в трёхчленных, как в западной диалектике (Гегель), но и в более сложных формулах. Например, в десятичленной формуле «факторов сущности», так называемом учении о нёдзэ, являющемся одним из краеугольных камней доктрины тяньтайского буддизма итинэн-сандзэн, тезис, антитезис и синтез присутствуют уже в первых трёх понятиях: нёдзэ-со (вид, внешний вид, форма), нёдзэ-сё (естество, внутренняя природа, свойство) и нёдзэ-тай (субстанция как синтез внешнего, видимого и внутреннего, скрытого).[657]
Икэда очень активно использует диалектику тяньтайского буддизма. Вот как он, к примеру, излагает теорию эволюции космоса: «Единым процессом круговорот космоса-универсума объясняется в понятиях дзёко (зарождение), дзюко (жизнедеятельность), эко (разрушение), куко (единство), т. е. подразделяется на четыре периода. Мы сейчас находимся в периоде дзюко. После периода неоформленности, куко, космос вновь возвращается к периодам дзёко и дзюко».[658] Эта теория, представленная в четырёх понятиях, в абстрактном виде содержит идею не только развития, но и единства противоположностей. Последнее понятие, куко, заключает в себе единство рождения, становления, разрушения и смерти.
Диалектика присутствует и в буддийской доктрине о трёх формах бытия сантай, суть которой Икэда изложил в беседе с известным английским историком и социологом А. Тойнби следующим образом; «Кэтай – понятие, обозначающее постижение внешней стороны вещей. Думается, что ему соответствует образ вещей, возникающий в результате деятельности человеческих чувств. Все вещи – и наше тело, и космос – ни на мгновение не прекращают движения. Наш организм непрерывно обновляется; нет фиксированных, неподвижных, статичных вещей, всё подвержено динамике, движению. Эта форма осознаётся как образ. Однако воспринятая таким образом внешняя форма – это всего лишь условная форма… Понятие кутай, в противоположность понятию кэтай, схватывает специфические качества феноменов. Оно не постигает истинного бытия, игнорирует его, не может воспринять реальность верно и точно. Только понятие тютай, включая в себя и кэтай, и кутай, указывает на истинную реальность<…> Это некое постоянство, которое проходит через все изменения форм. Тютай проявляется в кэтай и в кутай, оно неотделимо от них и не имеет особой реальности».[659] Понятие тютай Икэда называет «серединой дороги», подчёркивая тем самым его надматериальный и надидеальный характер. Диалектическое учение сантай высоко оценил Тойнби, противопоставив его современным философским теориям Запада.[660]
Из всего сказанного можно сделать вывод, что теоретическое обоснование буддийского учения Икэдой Дайсаку стало возможным благодаря достаточно умелому использованию им идеалистической диалектики. Именно диалектические положения буддийской философии стали объектом спекуляций Икэды, стремящегося представить своё учение в качестве единственно истинного мировоззрения.
Интерпретируя мыслительную традицию Запада, Икэда не обошёл и учение марксизма. Идеолог «Сока гаккай» неслучайно назвал грядущее буддийское преобразование мира «человеческой революцией» (Нингэн какумэй) и включил в число своих философских предшественников К. Маркса и В. Ленина. В книге «Революция, жизнь, смерть», представляющей собой запись диалога Икэды и японского социолога М. Омори, последний, например, отмечает: «Философия Икэды… высоко оценивает учения Маркса и Ленина. Однако, как решительно утверждает Икэда, эти философские предтечи не оказали влияния на его философию в том плане, что не затрагивали основополагающих жизненных принципов, являющихся сущностью, святыми пределами человеческой революции».[661] К опыту революционных теорий Запада Икэда обращается лишь затем, чтобы показать их слабые стороны и на этом фоне провозгласить свою концепцию революции. Один из трудов Икэды, так и озаглавленный, «Человеческая революция», представляет собой многотомную подробную и идеализированную историю создания общества «Сока гаккай» и биографию двух первых его президентов – Ц. Макигути и Д. Тода. Главная идея этого труда заключается в утверждении того, что истинно революционный характер присущ в теории лишь буддизму Нитирэна, а в практике – религиозной деятельности общества «Сока гаккай».
Икэда отнюдь не отрицает правоты Маркса в сфере экономического анализа, позволившей ему дать исчерпывающую для своего времени характеристику капитализма. Однако Икэда считает неправомерной марксистскую трактовку сущности человека как совокупности производственных отношений. Такая трактовка, по его мнению, повлекла за собой главную ошибку марксизма – теорию социальной революции. В частности, Икэда пишет: «Стало уже ясно, что революции социальных систем и политических структур, провозгласившие своей целью счастье и благосостояние народных масс, этой цели не осуществили. Поэтому необходимы реформы человеческой природы».[662] Как полагает Икэда, все предыдущие социальные катаклизмы, происходившие в мире, осуществлялись ограниченными группами революционеров для собственной выгоды и оказались лишь поверхностными переворотами, оставившими «человеческую природу» без изменений.
Икэда уравнивает буржуазные и пролетарские революции. «Я убеждён, – пишет он, – что в традиции западной мысли пролетарская революция противоречит буржуазной. Думаю, это ошибка. Истинное призвание революции – <…> развитие автономии и самоопределения индивидов <…> Если говорить о коммунизме и научном социализме, то они не могут обеспечить бытие индивида как такового».[663] По мнению Икэды, социалистические революции, как и буржуазные, не приводят к обществу, в котором создаются возможности для всестороннего развития индивидов. Все современные социальные системы Икэда считает несовершенными и призывает к их модификации путём «человеческой революции», в результате которой установится буддийский «гуманный социализм».
«Человеческая революция», по предсказанию Икэды, будет проходить в полном соответствии с буддийской моралью, и прежде всего с основной буддийской заповедью «не убий», против которой грешили все социальные революции. Икэда предлагает эту революцию в качестве коренного средства изменения современной общественной морали. При этом он хочет оставить нетронутыми почти все экономические и социальные основы современного общества. «Человеческая революция» Икэды в первую очередь является изменением установок сознания, духовным возрождением индивида: «Дорога духовной революции необычайно близка – она находится внутри тебя».[664] «Однако поскольку в Европе попытка такой собственно человеческой революции не получила поддержки и не была осуществлена, то с самого начала она стала рассматриваться в качестве проблемы в восточной философии, и главным образом в философии жизни буддизма, который является квинтэссенцией, сущностью восточной философии, – рассуждает идеолог Сока гаккай. – Попытки переменить человеческую природу после перемен социального механизма неотвратимо ведут к системе принуждения, давления. Невозможно осуществление революции, возрождающей сущность человека, если отдавать предпочтение социальному. Становятся необходимыми бесчеловечные средства. В противоположность этому, человеческая революция, отдающая первенство человеку и проводимая на основании использования религиозного опыта, необходимо сопровождаемая и социальной революцией – это то, что мы находим в буддизме <…> Именно буддизм несёт в себе энергию человеческой революции».[665]
В основе теории «человеческой революции» лежит доктрина тяньтайского буддизма о так называемых десяти взаимопроникающих мирах – дзиккай-гогу. Сами по себе эти миры являются общебуддийскими философскими категориями. Своеобразие тяньтайской концепции заключается в доказательстве того положения, что в каждом мире присутствуют одновременно остальные девять миров. Если перевести данное утверждение в мессианский план, самый плохой человек несёт в себе потенцию Будды, является Буддой. Причём эта потенция – стержень всех миров.
Десять миров – это десять ступеней, которые должна преодолеть жизнь на пути к совершенству: «мир ада» (дзигоку), «мир голодных духов» (гаки), «мир скотов» (тикусё), «мир демона Ашуры» (Сюра), «мир человека» (нин), «мир неба» (тэн), «мир слушающих голос» (сёмон), «мир самостоятельно идущих к просветлению» (энгаку), «мир бодхисаттвы» (босацу) и «мир Будды» (Буцу). Суть «человеческой революции» заключается в выявлении и реализации потенции Будды, те в дискриминации остальных девяти миров в пользу десятого. Единственное средство для этого – учение и этика, предлагаемые «Сока гаккай».
Общая сциентистская ориентация современного человека имела печальным итогом утверждение первых шести миров, их безраздельное господство в индивидуальной, а следовательно, и в общественной жизни. Поэтому в условиях современной материальной цивилизации человек находится, как правило, в рамках шести низших миров, в которых любая случайность способна повергнуть человека в адское или животное состояние. Задача истинной религии – привести человека хотя бы к миру сёмон. Так будет положено начало «человеческой революции».
Если соблюдать логику буддийских построений, то самым лучшим для человечества было бы достигнуть последней, десятой ступени. Подобный идеал провозглашался последовательными даосами и буддистами. Но это противоречит положению Икэды о самоценности человеческой жизни и достижении каждым индивидуумом в земной, а не в потусторонней жизни личного счастья, которое невозможно без исполнения определённого круга желаний человека. Поэтому Икэда формулирует идею о двух видах желаний. Первый вид – желания, имеющие «дьявольскую природу», т. е. ведущие человека к низшим состояниям. Например, желание доминирования и власти, желание материальных благ. Практически, реализация таких желаний ведёт к материальной цивилизации, нашедшей своё воплощение в существующих ныне социальных системах. К достижению подлинного счастья человека приводит реализация желаний второго типа – религиозных. «Буддизм Нитирэна, – отмечает Икэда, – основан на выполнении религиозного желания человека, или на выявлении в человеке природы Будды».[666] Икэда называет такое желание «основополагающим», «импульсом для веры в состояние Будды»[667] и приходит к постулированию «счастья святого» (бодхисаттвы), т. е. человека, для которого смысл жизни заключается в исполнении религиозного долга. Однако в реальной жизни далеко не все люди способны испытать счастье, следуя по пути самоотречения. Какой же выход может быть найден для них? Икэда видит единственный путь – постоянное соотнесение человеком своих желаний с этикой буддизма.
Согласно традиционному буддизму, каждый человек после физической смерти сливается с универсумом. Однако смерть есть только переход жизни в скрытое состояние. «Жизнь в рождении, – пишет Икэда, – есть появление в этом мире; жизнь в смерти есть уход и воссоединение с сущностью жизни».[668] Для Икэды не существует понятия смерти в том смысле, как его понимают небуддисты. Недаром он говорит о «жизни-в-смерти».
Умерший человек сохраняет черты индивидуального сознания и попадает в тот же из десяти миров, в котором он пребывал на земле (тем самым утверждается прямая зависимость потустороннего существования от земного), и находится в нём вплоть до своего нового возрождения.[669] Сразу же после смерти возрождается лишь Бодхисаттва, чтобы наставить на путь истинного буддизма своих ближних.
Установка Икэды в практической философии на жизнь человека в реальном мире, несмотря на словесный камуфляж о тождестве посюсторонней жизни (сансары) и окончательного просветления (нирваны), полностью религиозна. Это перенос дихотомии сансары и нирваны в посюсторонний мир, нисколько не меняющий её сути. Идея христианского воздаяния после смерти, отвергнутая Икэдой ранее как ненаучная, не отвечающая современным знаниям о мире и человеке, всплывает, правда, в изменённом виде, в его собственном учении.
В заключение подведём некоторые итоги. Нам кажется правомерным рассматривать учение Икэды как своеобразную религиозно-гуманистическую утопию. К этому располагает его критика бездуховности существующего строя, осмысливание им социального идеала, попытки предвосхищения будущего общества и уверенность в возможности разрешения социальных противоречий путем применения определённой доктрины (учения о «человеческой революции») как универсального средства против любого социального зла. Согласно Икэде, «человеческая революция» начинается с индивидуального принятия истины, а затем совершается в политике, экономике, искусстве, образовании, преображая все сферы жизни своим творческим духом. «Принцип, на котором будет построено новое общество, – утверждает Икэда, – является глубоко духовным, но в то же время и практическим. Для того, чтобы общество было мирным и процветающим, каждый из его членов должен жить и действовать в согласии с мировым законом единой силы жизни».[670]
Тем временем «Сока гаккай», подобно большинству нынешних религиозных движений, продолжает, хотя и на буддийский лад, тенденции протестантской Реформации, пытаясь «направить дисциплину и энергию религиозной мотивации на дело преобразования светского мира».[671] Как отмечал Макс Вебер, протестантская этика смогла стать идеологической основой, практической философией для буржуазной цивилизации, служившей, так сказать, духовным стимулятором её развития.[672] Однако это развитие привело к кризисной ситуации и поставило перед современными идеологами задачу создания в рамках капиталистического общества новых эффективных мировоззренческих систем, приемлемых для его членов и в то же время не противоречащих его основным социальным установкам и ценностям. На роль такой системы и претендует «живая философия» Икэды Дайсаку.
Примечания
1
Цит. по: Буддизм в Японии. М.: Наука, 1993. С. 651.
(обратно)2
Там же. С. 164.
(обратно)3
См.: Ермакова Л. М. Речи богов и песни людей. М., 1995.
(обратно)4
Кэнко Хоси. Записки от скуки // Классическая японская проза XI–XVI вв. М., 1988. С. 317.
(обратно)5
См.: Григорьева Т. П. Дао и логос. М., 1992. С. 139, 140.
(обратно)6
Муриан И. Ф. Сады Дайтокудзи // Человек и мир в японской культуре. М., 1985. С. 175.
(обратно)7
Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля / Пер. и коммент. Н. Г. Анариной. М., 1989. С. 45.
(обратно)8
Борее Ю. Б. Эстетика: В 2 т. Т.1. Смоленск, 1997. С. 572.
(обратно)9
Цит. по: Гришелёва Л. Д. Формирование японской национальной культуры. Конец 16 – начало 20 в. М., 1986. С. 16.
(обратно)10
Хага Тору. Нихон-но би (Японское понимание красоты). Токио, 1985. С. 16.
(обратно)11
Там же. С. 22.
(обратно)12
См.: Скворцова Е. Л., Луцкий АЛ. К проблеме восприятия западной философии в Японии // Вопросы философии. 1985. № 10. С. 132–139.
(обратно)13
Соколов-Ремизов С. Н. Путевой дневник как один из жанров японской традиционной живописи // География искусства. М., 1998. С. 37.
(обратно)14
Сэй Сёнагон. Записки у изголовья // Классическая японская проза XI–XIV веков. М., 1988. С. 278–279.
(обратно)15
Кэнко Хоси. Указ. соч. С. 321.
(обратно)16
Там же. С. 277.
(обратно)17
Ки-но Цураюки. Дневник путешествия из Тоса в столицу // Классическая проза Дальнего Востока. М., 1975. С. 551–561.
(обратно)18
Мера длины в средневековой Японии, 3,9 км.
(обратно)19
См.: Синмэйкай кого дзитэн (Новый толковый словарь архаичной терминологии). Токио, 1977. С. 567–568; 972.
(обратно)20
Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972. С. 291.
(обратно)21
Цит. по: Эйдлин Л. З. Тао Юань-мин и его стихотворения. М., 1967. С. 19–20.
(обратно)22
Мартынов А. С. Конфуцианская личность и природа // Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983. С. 182.
(обратно)23
См.: Игнатович А. Н. «Среда обитания» в системе буддийского мироздания // Человек и мир в японской культуре. М., 1985. С. 48–71; Луцкий АЛ. О некоторых мировоззренческих проблемах современной буддийской литературы Японии // Человек и мир в японской культуре. М., 1985. С. 265–280.
(обратно)24
Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1985. С. 67.
(обратно)25
См.: Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля. Фуси кадэн / Пер. и коммент. Н. Г. Анариной. М., 1989. С. 149–165.
(обратно)26
Дашкевич В. Т. Хиросигэ. Л., 1974. С. 128.
(обратно)27
Прежде всего это художники Су Ши, Ми Фэй и Хуа Тинцзянь – основоположники направления вэнъженъхуа (живопись литераторов или живопись интеллектуалов) в традиционной китайской живописи и каллиграфии.
(обратно)28
Каннами Киёцугу. Гробница Комати // Классическая драма Востока. М., 1976. С. 568.
(обратно)29
Цит. по: Дашкевич В. Т. Указ. соч. С. 64.
(обратно)30
Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977. С. 718.
(обратно)31
Там же. С. 753.
(обратно)32
Кин Д. Странники в веках. М.: Восточная литература РАН, 1996. С. 7.
(обратно)33
Классическая поэзия Индии… С. 769.
(обратно)34
Цит. по: Дашкевич В. Т. Указ. соч. С. 66.
(обратно)35
См.: Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979. С. 356; Ее же. Красотой Японии рождённый. М., 1993. С. 68.
(обратно)36
Классическая драма Востока. С. 562.
(обратно)37
Marra М. A History of Modern Japanese Aesthetics. Honolulu, 2001. P. 18
(обратно)38
Тосака Дзюн. Японская идеология. М., 1982. С. 213.
(обратно)39
См.: Скворцова Е. Л., Луцкий А. Л. К проблеме восприятия западной философии в Японии // Вопросы философии. 1985. № 10. С. 132–139.
(обратно)40
Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979. С. 315–316.
(обратно)41
Малявин В. В. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока. М., 1987. С. 6–7.
(обратно)42
Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. С. 313.
(обратно)43
См.: Скворцова Е. Л. «Христианский век» в Японии. К проблеме взаимодействия национальных культур // Наст. изд. С. 81–98.
(обратно)44
Кавакита Митиаки. Гэндай-но гэйдзюцу (Современное японское искусство). Токио, 1967. С. 13.
(обратно)45
Там же. С. 35.
(обратно)46
Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 1972. С. 174.
(обратно)47
Кавакита Митиаки. Указ. соч. С. 34.
(обратно)48
См.: Okakura Kakuzo. The awakening of Japan. N. Y, 1904; Okakura Kakuzo. The Ideals of East. N. Y., 1905. P. 48.
(обратно)49
Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. С. 320.
(обратно)50
Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1. М., 1972. С. 20.
(обратно)51
Tsutida Kyoson. Contemporary Philosophy of China and Japan. London, 1927. P. 74.
(обратно)52
См.: Поспелов Б. В. Очерки философии и социологии современной Японии. М., 1974. С. 24–25.
(обратно)53
Цит. по: Yusa М. Zen & Philosophy: an Intellectual Biography of Nishida Kitaro. Honolulu, 2002. P. 1.
(обратно)54
Бычков В. В. Эстетический лик бытия (умозрение Павла Флоренского). М., 1990. С. 4.
(обратно)55
Томомацу Энтай. Воззрения японцев на смерть // Григорьев М. П. Лик Японии. М., 1997. С. 267.
(обратно)56
Там же. С. 269.
(обратно)57
Герасимова И. А. Совместное мышление как искусство: опыт философско-синергетического исследования // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М., 2002. С. 140.
(обратно)58
Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977. С. 757.
(обратно)59
См.: Скворцова Е. Л. Странствия как путь художника в традиционной Японии // Наст. изд. С. 27–40.
(обратно)60
См.: Noda Matao. East-West Synthesis in Kitaro Nishida // Philosophy East and West. Vol. 4. № 4. Honolulu, 1959. P. 345–360.
(обратно)61
Цит. по Marra M. History of Modern Japanese Aesthetics. P. 19.
(обратно)62
Миякава Хидэки. Нихон сэйсинси-но кадай (Проблемы истории духовной жизни Японии). Токио, 1980. С. 194.
(обратно)63
См.: Kuki Shuzo. Refection on Japanese Taste: the Structure of Iki / Tr. J. Clark. Sydney, 1997. P. 39.
(обратно)64
См.: Сайгуса Хирото. Нихон-ни окэру тэцугаку каннэнрон-но хаттэн (Распространение философского идеализма в Японии). Токио, 1969. С. 264–287.
(обратно)65
Okakura Kakuzo. The Ideals of East. N. Y., 1905. P. 240.
(обратно)66
Миякава Хидэки. Мэйдзи исин то нихон кэймосюги (Реставрация Мэйдзи и движение просветительства в Японии). Токио, 1971. С. 67.
(обратно)67
См.: Куроита Кацуми. Тоё сисо-ни окэру нихон-но токусицу (Специфика Японии в истории восточной мысли). Токио, 1936; Сэнке Т. Хикари ва Нихон кара (Свет – из Японии). Токио, 1933.
(обратно)68
Мисима Ю. Вакаки самураи-но тамэ-ни (Молодому самураю). Токио, 1969. С. 6.
(обратно)69
Там же. С. 165.
(обратно)70
См.: Кавамура Нодзому. Гэндай нихон идэороги хихан. «Нихон бунка-рон» оёби «нихондзин-рон»-о тюсин-ни (Критика современной японской идеологии. О теориях «личности японца» и японской культуры) // Юйбуцурон (Материализм). Токио, 1975; Козловский Ю. Б. Об одном феномене идеологической жизни современной Японии // Философские науки. 1984. № 5. С. 83–91.
(обратно)71
Дробницкий О. Г. Мораль // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 387.
(обратно)72
См.: Дои Такэо. «Амаэ»-но кодзо (Структура «амаэ»). Токио, 1974; Икэда Дайсаку. Кагаку то сюкё (Наука и религия). Токио, 1965; Его же. Ватакуси-но сякусонкан (Мой взгляд на почитаемого Шакья). Токио, 1975; Его же. Ватакуси ва ко омоу (Я так думаю). Токио, 1975; Кояма Ивао. Нихон миндзоку-но кокоро (Душа японской нации). Токио, 1972; Мисима Юкио. Вакаки самураи-но тамэ-ни (Молодому самураю). Токио, 1965; Suzuki D. T. Reason and Intuition in Buddhist Philosophy // The Japanese Mind. Tokyo, 1973.
(обратно)73
Ikeda Daisaku. Soka Gakkai: Its Ideals and Tradition. Sapporo, 1976. P. 17.
(обратно)74
Idem. Buddhism, a Living Philosophy. Tokyo, 1973. P. 94.
(обратно)75
Там же. С. 208.
(обратно)76
Подробнее о взглядах Икэды см.: Луцкий АЛ. О некоторых мировоззренческих тенденциях современной буддийской литературы Японии // Человек и мир в японской культуре. М., 1985. С. 266–276.
(обратно)77
Дои Такэо. «Амаэ»-но кодзо. С. 23.
(обратно)78
Anesaki Masaharu. History of Japanese Religion, with Special Reference to the Social and Moral Life of the Nation. Rutland-Vermont and Tokyo, 1972. P. 66; см. также: Аида Юдзи. Нихондзин-но исики кодзо (Структура сознания японца). Токио, 1972.
(обратно)79
См.: Скворцова ЕЛ. К вопросу о специфике морального сознания в Древней Японии // История зарубежной философии и современность. М., 1980. С. 3–10.
(обратно)80
См.: Nakamura Hajime. Ways of Thinking of Eastern Peoples: India – China – Tibet – Japan. Honolulu, 1964. P. 4.
(обратно)81
См.: Нихон-ни окэру ринри сисо-но тэнкай (Развитие этической мысли в Японии). Токио, 1965. С. 2–5.
(обратно)82
См.: Конрад Н. И. Японская литература в образцах и очерках. Л., 1927. С. 37.
(обратно)83
См.: Kojiki / Tr. D. L. Philippi. Princeton-Tokyo. 1969. Р. 54–65.
(обратно)84
См.: Иэнага Сабуро. Нихон дотоку сисо си (История японской этической мысли). Токио, 1954. С. 9; Нихон-ни окэру ринри сисо-но тэнкай. С. 7.
(обратно)85
См.: Hamilton Ph. Th. Hakko-Ichu: the Concept of Universal Hierarhy as Abstracted from Japanese Shinto. Chicago, 1950. P. 87; Kojiki. P. 47.
(обратно)86
См.: Скворцова Е. Л. Факторы формирования структур морального сознания в Японии (VI–IX вв.) // Человек, общество, познание. М., 1981. С. 3–8.
(обратно)87
The Japanese Mind. Tokyo, 1973. P. 111.
(обратно)88
Nakamura Hajime. Ways of Thinking of Eastern Peoples… P. 5.
(обратно)89
Suzuki D. T. Zen and Japanese Culture. Princeton. 1971. P. 84.
(обратно)90
Ibid. P. 73.
(обратно)91
Ibid. P. 77.
(обратно)92
Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии // Гегель Г. В. Ф. Собрание сочинений: В 14 т. М.; Л. 1929–1958. Т. 9. Л., 1932. С. 112.
(обратно)93
Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. М., 1974. С. 242–243.
(обратно)94
Там же. С. 75.
(обратно)95
См. указанные сочинения Коямы Ивао, Мисимы Юкио, Дои Такэо, а также: Idemitsu S. Dotoku of Japan Differs Fundamentally from Western Moral. Tokyo, 1973.
(обратно)96
См.: Янагида Кэндзюро. Философия свободы. М., 1958. С. 189–193; Уэда Кодзи, Фува Тоса. Марукусусюги то гэндай идеороги (Марксизм и современная идеология). Токио, 1964; Сакаки Тосимицу. Марукусусюги то дзицудзонсюги (Марксизм и экзистенциализм). Токио, 1968; Мори Кошпи. Юйбуцурон-но сисо то тосо (Идеология и борьба материализма). Токио, 1971; Кодзаи Ёсисигэ. Современная философия. Заметки о «духе Ямато». М., 1974.
(обратно)97
См., напр., работы Н. И. Конрада, Е. В. Завадской, Т. П. Григорьевой, Дж. Сэнсома, Д. Кина и др.
(обратно)98
Верховные правители феодальной Японии.
(обратно)99
Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 1972. С. 139.
(обратно)100
Особенно сильно влияние европейцев сказалось на развитии астрономии, географии, судостроения, шахтного дела и металлургии.
(обратно)101
Правда, европейцы уже давно стремились к «прекрасной стране Зипангу», как называл Японию побывавший ещё в XIII в. в Китае и почерпнувший там сведения о ней знаменитый венецианский путешественник Марко Поло. По лучшим в мире (для того времени) картам португальцы точно знали географическое положение Японии, и посещение этой страны, вероятнее всего, входило в их ближайшие планы.
(обратно)102
Окружавшие их народы китайцы считали варварами и различали их лишь по тому, в направлении какой части света от Китая (Срединной страны) они обитали. Соответственно, их обозначали «северными», «западными» и т. п. «варварами». Поскольку первые португальцы попали в Китай со стороны южных морей, они стали именоваться «южными варварами». Отсюда же и их японское название – намбан, т. е. «южные варвары».
(обратно)103
Цит. по: Sansom G. B. A History of Japan. Vol. 2: 1334–1615. Stanford: Stanford Univ. Press, 1961. P. 115.
(обратно)104
Ibid. P. 119–120.
(обратно)105
Стремясь к единовластию во всех сферах жизнедеятельности государства, Ода вёл ожесточённую борьбу с экономически сильными и идеологически независимыми буддийскими монастырями.
(обратно)106
Иэнага Сабуро. История японской культуры. С. 140.
(обратно)107
См.: Sansom G. B. A History of Japan. Р.172.
(обратно)108
По свидетельству миссионеров, к 1614 г. в Японии было 653 тыс. взрослых христиан, не считая детей. Всего их было 750 тыс. человек. Вероятно, можно с осторожностью говорить о реальной цифре в 300–400 тыс верующих, тоже достаточно впечатляющей.
(обратно)109
Сразу же после открытия страны в середине XIX в. христиане объявились на юго-западе Японии. За двести лет тайного вероисповедания их литургика изменилась до неузнаваемости. Японские христиане, так сказать, японизировали католические обряды, придав им национальный колорит. Следовательно, христианские идеи нашли в душах некоторых японцев горячий отклик и глубоко проникли в их сознание.
(обратно)110
Китай с глубокой древности был одним из центров мировой цивилизации и значительно опережал вплоть до XIX в. в своём экономическом и культурном развитии многие соседние страны.
(обратно)111
Существо, напоминающее домового; обладает чрезвычайно длинным носом.
(обратно)112
Elison G. Deus Destroyed. The Image of Cristianity in Early Modern Japan. Cambrige (Mass.): Harvard Univ. Press, 1973. P. 321.
(обратно)113
Заметим, кстати, что повесть снабжена иллюстрациями, карикатурно изображающими христиан.
(обратно)114
Фабиан Фукан – очень интересная фигура христианского века в Японии и его жизнь заслуживает специального рассмотрения.
(обратно)115
Elison G. Deus Destroyed. Р. 344.
(обратно)116
Ibid.
(обратно)117
Яп. намбан – так называли иностранцев, явившихся с южной стороны.
(обратно)118
Имеются в виду «Кодзики» (Записи о деяниях древности) и «Нихонги» (Анналы Японии) – первые письменные памятники японского народа, появившиеся в VIII в. н. э.
(обратно)119
Elison G. Deus Destroyed. Р. 347.
(обратно)120
Ibid. P. 348.
(обратно)121
См. произведения Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского, а также современных неотомистов.
(обратно)122
Мы имеем в виду не их форму, а смысл.
(обратно)123
Среди миссионеров были и более дальновидные руководители, такие как о. Валиньяно, который в отличие от Кабрала хорошо относился к японским неофитам. В тщательном изучении культуры Японии, учете её специфики, благожелательном отношении к её народу он видел залог успешной проповеднической работы.
(обратно)124
Фуканом написаны про– и антихристианские работы: «Мётэй мондо» (Диалог о чудесной истине) и «Ха Дайусу» (Против Бога). Сам он выведен поборником христианства в книгах: «Ха ясо» (Против иезуитов) Хаяси Радзана; «Кириситан моногатари» (Повесть о христианстве); «Намбандзи кохайки» (Взлёт и падение храма южных варваров). Существует версия, что в той же «Кириситан моногатари» позднейшие взгляды Фукана изложены устами дзэнского монаха Хакуо Кодзи – противника христианства. Знаменитый японский пистель Акутагава Рюноскэ также сделал Фукана героем одного из своих рассказов.
(обратно)125
Elison G. Deus Destroyed. Р. 149.
(обратно)126
История крещения Фукана дана (вероятно, искажённо) в упоминавшемся выше антихристианском произведении начала XVIII в. «Намбандзи кохайки». В нём рассказывается, как Фукан заболел проказой и прочими недугами и его, нищего, голодного, обессилевшего от болезней, попрошайничающего на улицах Киото, подобрали и выходили иезуиты. В благодарность за это Фукан, будто бы, предал буддизм и стал христианином. Позже, как видим, Фукан стал отступником, изменив христианству. Видимо, этому способствовали и перемены политического климата в стране в отношении христиан, а также и личная неудовлетворённость Фукана поведением иезуитских иерархов в Японии, создававших препоны его духовной карьере.
(обратно)127
Конечно, уровень исполнения ёга отличался от европейского. Японцы начали работать в совершенно новой для них манере и только учились линейной перспективе, передаче светотени и объёма Но определённых успехов они достигли. Ёга прекратила своё существование в связи с закрытием страны и возродилась уже после реставрации Мэйдзи в 1868 г.
(обратно)128
См.: Окамото Рёити. Намбан бидзюцу (Искусство, посвящённое южным варварам). Токио, 1969. С. 140.
(обратно)129
В одной только семинарии Хатирао число учеников выросло с 75 в 1588 г. до 112 чел. в 1596 г.
(обратно)130
Интересный факт – на о-ве Амакуса, где миссионеры основали семинарию, в 1588 г. среди прочих книг были напечатаны «Басни Эзопа», переведённые на японский язык. О деятельности семинарий см.: Boxer C. R. The Cristian Century in Japan 1549–1650. Berkley; Los Angeles; London, 1951; Sansom G. B. The Western World and Japan. London, 1967.
(обратно)131
Кант И. Основы метафизики нравственности // Сочинения: В 6 т. М. 1965. С. 270.
(обратно)132
Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 1972. С. 194.
(обратно)133
См.: Луцкий АЛ. Интерпретация духовных традиций Запада Икэдой Дайсаку // Философские науки. 1984, № 3; Его же. О некоторых мировоззренческих проблемах современной буддийской литературы Японии // Человек и мир в японской культуре. М., 1985; Его же. Японская духовная традиция и экзистенциализм // Народы Азии и Африки. 1986. № 3.
(обратно)134
Дейл-Сондерс Э. Японская мифология // Мифологии древнего мира. М., 1977. С. 4.
(обратно)135
См.: Tsutida Kyoson. Contemporary Philosophy of China and Japan. London, 1927.
(обратно)136
См.: Скворцова Е. Л. «Христианский век» в Японии. К проблеме взаимодействия национальных культур // Наст. изд. С. 81–98.
(обратно)137
См.: Скворцова Е. Л. К вопросу о специфике формирования морального сознания в Древней Японии // История зарубежной философии и современность. М., 1980.
(обратно)138
См.: Луцкий А. Л. К вопросу изучения философии Канта в Японии // Марксистская теория историко-философского процесса. М., 1986; Луцкий А. Л., Скворцова Е. Л. К вопросу о специфике морального сознания в Японии // Наст. изд. С. 67–80; Скворцова Е. Л. Факторы формирования нравственного сознания в Японии // Человек. Общество, познание. Историко-философские очерки. М., 1981.
(обратно)139
Тосака Дзюн. Японская идеология. М., 1982.
(обратно)140
См.: Кавамура Нодзому. Нихон сякайгаку си кэнкю (Исследования по истории японской социологии). Токио, 1973. С. 74–92.
(обратно)141
См.: Аруга Нагао. Сякайгаку си (История социологии). Токио, 1977; Кодза сякайгаку (Курс лекций по социологии). Токио, 1957–1959.
(обратно)142
См.: Морита Ясуноскэ. Гайкоку сисо-но дзюё. Сисотэки косацу (История проникновения зарубежных идей в Японию. Теоретические размышления). Токио, 1970; Скворцова Е. Л., Луцкий А. Л. К проблеме восприятия западной философии в Японии // Вопросы философии. 1985. № 10.
(обратно)143
См.: Като Хироюки. Тонаригуса (Соседские ростки) // Нихон-но мэйтё (Знаменитые произведения Японии). С. 467.
(обратно)144
См.: Сато Сёдзи. Нихон сякайгаку сэйрицу си-но кэнкю (Исследование по истории становления японской социологии). Токио, 1976. С. 253–311.
(обратно)145
См.: Такэбэ Тонго. Кёсэйгаку (Социология). Токио, 1921. С. 243.
(обратно)146
См.: Тода Тэйдзо. Сякайгаку (Социология). Т. 1–2. Токио, 1932.
(обратно)147
См.: Дайто Ясудзиро. Нихон сякайгаку-но кэйсэй. Кунин-но кайтакусятати (Из истории развития социологии в Японии. Жизнь и научная деятельность девяти японских социологов). Токио, 1968. С. 248–249.
(обратно)148
Такада Ясума. Сякайгаку гайрон (Социологические очерки). Токио, 1931. С. 349–376.
(обратно)149
Гиддингс Г. Основания социологии. М., 1898. С. 19.
(обратно)150
См.: Скворцова ЕЛ. Японская художественная традиция и романтизм (в свете проблемы взаимодействия «разума тела» на Востоке и дискурсивного знания Запада) // Наст. изд. С. 254–272; Ее же. К вопросу об особенностях дальневосточной эстетики // Наст. изд. С. 171–191.
(обратно)151
Трубникова Н. Н. «Различение учений» в японском буддизме IX в. Кукай Кобо Дайси о различиях между тайным и явными учениями. М., 2000. С. 16.
(обратно)152
См.: Скворцова Е. Л. «Разум тела» как одна из фундаментальных характеристик духовной идентичности Японии // История и культура традиционной Японии. М., 2013. С. 536–552.
(обратно)153
Японская национальная психология. М., 1981. С. 59.
(обратно)154
См.: Анарина Н. Г. Японский театр Но. М., 1984. С. 195.
(обратно)155
См.: Marra М. (Ed.) Modern Japanese Aesthetics. A Rider. Honolulu, 2002. P. 17–37.
(обратно)156
См.: Мещеряков А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006.
(обратно)157
Луи Ф. Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи. М., 2007. С. 130.
(обратно)158
Цит. по: Watanabe Kazuyasu. Onishi Hajime. Criticism and Aesthetics // A History of Modern Japanese Aesthetics. Honolulu, 2001. P. 99.
(обратно)159
Okakura Kakuzo. The Ideals of East. With Special Reference to the Art of Japan. London, 1903.
(обратно)160
Ibid. P. 10.
(обратно)161
Цит. по: Григорьева Т. П. Япония: путь сердца. М., 2008. С. 83–84.
(обратно)162
См.: Мещеряков А. Н. Указ. соч. С. 448.
(обратно)163
Там же. С. 458.
(обратно)164
Там же. С. 457.
(обратно)165
См.: Ниситани Кэйдзи. Нисида Китаро. Соно хито то сисо (Нисида Китаро. Человек и мыслитель). Токио, 1985.
(обратно)166
См.: Иванова Т. Д. Мори Огай. М., 1982.
(обратно)167
Григорьева Т. П. Красотой Японии рождённый. М., 1993. С. 413.
(обратно)168
Нисида Китаро. Тэцугаку-но кихон мондай (Основные вопросы философии) // Нисида Китаро. Тёсакусю (Собрание сочинений). Т. 7. Токио, 1949. С. 69–74.
(обратно)169
Мисима Юкио. Исповедь маски. М., 2009. С. 171–172.
(обратно)170
Мисима Юкио. Золотой храм. М., 2009. С. 67.
(обратно)171
Там же. С. 335.
(обратно)172
Там же. С. 198.
(обратно)173
Там же. С. 214.
(обратно)174
См.: Мисима Юкио. Вакаки самураи-но тамэ-ни (Молодому самураю). Токио, 1969.
(обратно)175
Накамура Юдзиро. Коитэки тёккан то нихон-но гэйдзюцу (Интуиция практического действия и искусство Японии) // Бигаку (Эстетика): В 5 т. Т. 5. Токё: Дайгаку сюппанкой, 1985. С. 25–46.
(обратно)176
Трубникова Н. Н. Традиция «исконной прсветлённости» в японской философской мысли. М., 2010. С. 71.
(обратно)177
Накамура Юдзиро. Указ. соч. С. 32.
(обратно)178
Громковская Л. Л. Ранние переводы из русской классики в Японии // Русская классика в странах Востока. М., 1982. С. 229.
(обратно)179
Николаева Н. С. Каноническая структура японского сада (на примере «сухого» дзэнского сада // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973. С. 56.
(обратно)180
Цит. по: Бреславец Т. И. Поэзия Мацуо Басё. М., 1981. С. 32.
(обратно)181
Там же. С. 29.
(обратно)182
Там же. С. 31.
(обратно)183
См.: Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975. С. 34–35.
(обратно)184
Цит. по: Бреславец Т. И. Указ. соч. С. 32.
(обратно)185
См.: Григорьева Т. П. Япония // История эстетической мысли: В 5 т. Т. 4. М., 1987. С. 384–406.
(обратно)186
См.: Сасаки Кэнъити. Гэйдзюцу (Искуство) // Бигаку (Эстетика): В 5 т. Т. 2. Токио, 1985. С. 156.
(обратно)187
Накамура Юдзиро. Указ. соч. С. 28.
(обратно)188
См.: Абаев Н. В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Новосибирск, 1989. С. 62–65, 113.
(обратно)189
Накамура Юдзиро. Указ. соч. С. 28.
(обратно)190
Там же.
(обратно)191
Там же. С. 32.
(обратно)192
Там же. С. 30.
(обратно)193
Там же. С. 32.
(обратно)194
Там же.
(обратно)195
Там же. С. 31.
(обратно)196
Там же.
(обратно)197
Tsutida Kyoson. Contemporary Philosophy of China and Japan. London, 1927. P. 74.
(обратно)198
См.: Noda Matao. East-West Synthesis in Kitaro Nishida // Philosophy East and West. Vol. 4. № 4. Honolulu, 1959. P. 345–360.
(обратно)199
Цит. по: Marra M. A History of Modern Japanese Aesthetics. Honolulu, 2006. P. 19.
(обратно)200
Ниситани Кэйдзи. Нисида Китаро. Соно хито то сисо (Нисида Китаро. Человек и мыслитель). Токио: Тикума Сёбо, 1985. С. 98.
(обратно)201
Пугачёва Л. Г. Эволюция разума человека как эпистемологическая проблема. М., 2008. С. 282.
(обратно)202
Накамура Юдзиро. Указ. соч. С. 35.
(обратно)203
Апарина Н. Г. Японский театр Но. М., 1984. С. 139.
(обратно)204
Накамура Юдзиро. Указ. соч. С. 35.
(обратно)205
Там же. С. 36.
(обратно)206
Там же.
(обратно)207
Там же. С. 36.
(обратно)208
Там же. С. 44–45.
(обратно)209
Там же. С. 42.
(обратно)210
Там же. С. 39.
(обратно)211
См.: Подорога В. А. Феноменология тела. М., 1995; Круткин В. Л. Онтология человеческой телесности. Ижевск, 1993; Быховская ИМ. Человеческая телесность в социокультурном измерении: традиция и современность. М., 1993; Семенцов B. C. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988.
(обратно)212
Малявин В. В. Совершенный человек в даосской традиции. Феномен Дао-человека // Совершенный человек. Теология и философия образа. / Ред. Ш. М. Шукуров. М.: Валент, 1997. С.171.
(обратно)213
Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. С. 129–130.
(обратно)214
См.: Пугачёва Л. Г. Разум тела: шаг в реальность «здесь-и-сейчас» // Философские науки. 2010. № 2–3.
(обратно)215
См.: Подорога В. А. Феноменология тела. М., 1995; Быховская И. М. Человеческая телесность в социокультурном измерении: традиции и современность. М.: ГЦИФК, 1993; Семенцов В. С. Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты // Восток – Запад. Исследования, переводы, публикации. М.: Наука, 1988. С. 5–32. Мещеряков А. Н. Стать японцем. М.: Эксмо, 2012. С. 16–149.
(обратно)216
Пугачёва Л. Г. Эволюция разума человека как эпистемологическая проблема. М.: Товарищество научных изданий «КМК», 2008. С. 29.
(обратно)217
Семенцов В. С. Указ. соч. С.8
(обратно)218
Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985. С. 133.
(обратно)219
Эйзенштейн СМ. Чёт – нечет // Восток – Запад. Исследования, переводы, публикации. М.: Наука, 1988. С.235
(обратно)220
Пугачёва Л. Г. Эволюция разума человека как эпистемологическая проблема. С. 224.
(обратно)221
Бенедикт Р. Хризантема и меч. СПб., 2007. С. 306
(обратно)222
Древнекитайская философия: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 117.
(обратно)223
См.: Бежин Л. Е. Под знаком «ветра и потока». М.: Наука, 1982. С. 53, 160.
(обратно)224
Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 4. М.: Московский рабочий, 1986. С. 353.
(обратно)225
Там же. С. 339.
(обратно)226
Там же. С. 340.
(обратно)227
Херригель Е. Дзэн и искусство стрельбы из лука. СПб.: Наука, 2005. С. 146.
(обратно)228
См.: Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1978.
(обратно)229
См.: Игнатович А. Н. Чайное действо. М.: Наука, 1997.
(обратно)230
См.: Скворцова Е. Л. Странствия как путь художника // Человек. 2010. № 3. С. 32–47.
(обратно)231
Розенберг О. О. Труды по буддизму. М.: Наука, 1991. С. 187.
(обратно)232
См.: Игнатович А. Н. «Среда обитания» в системе буддийского мироздания // Человек и мир в японской культуре. М.: Наука, 1985. С. 67.
(обратно)233
См.: Муриан И. Ф. Сады Дайтокудзи // Человек и мир в японской культуре. М.: Наука,1985. С. 179.
(обратно)234
См.: Идзири Масуро. Гэйдзюцу сэкай-но ронри (Логика мира искусства). Киото, 1972; Его же. Дзусэцу икэбана тайкэй. Икэбана-но бигаку (Система икэбаны в графическом изображении. Эстетика икэбаны). Киото, 1982; Его же. Нихон-но гэйдзюцу сисо (Японская художественная мысль) // Бигаку-о манабу хито-но тамэ-ни (Изучающим эстетику). Киото, 1984.
(обратно)235
Гартман Н. Эстетика. М., 1958. С. 36.
(обратно)236
Там же. С. 59.
(обратно)237
Там же. С. 62.
(обратно)238
Идзири Масуро. Нихон-но гэйдзюцу… С. 205.
(обратно)239
См.: Там же. С. 206.
(обратно)240
Там же.
(обратно)241
Там же. С. 206.
(обратно)242
Там же. С. 207.
(обратно)243
Там же С. 208.
(обратно)244
Гартман Н. Указ. соч. С. 45.
(обратно)245
См.: Буддизм в Японии. М., 1993. С. 161–162.
(обратно)246
Конрад Н. И. Предисловие // Исэ моногатари. М., 1979. С. 175–176.
(обратно)247
Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе X – XII вв. М., 1975. С. 30.
(обратно)248
См.: Анарина Н. Г. Японский театр Но. М., 1984. С. 77.
(обратно)249
Идзири Масуро. Нихон-но гэйдзюцу… С. 214.
(обратно)250
Там же.
(обратно)251
Там же. С. 215.
(обратно)252
Там же. С. 216.
(обратно)253
Саби этимологически восходит к слову сабиси, что означает «уединённость», «унылость», «заброшенность», «одинокость». Поначалу саби имело оттенок тоски по человеческому общению. Со временем стало обозначать безличностное отношение к миру, «чувство вечного одиночества». Ваби-саби – парная категория эстетики чайной церемонии.
(обратно)254
Гартман Н. Указ. соч. С. 46.
(обратно)255
Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977. С. 738.
(обратно)256
Классическая поэзия Индии… С. 736.
(обратно)257
Воронина И. А. Поэтика классического японского стиха. М., 1978. С. 301.
(обратно)258
Классическая поэзия Индии… С. 804.
(обратно)259
Там же. С. 743.
(обратно)260
Манъёсю (Собрание мириад листьев): В 3 т. М., 1971–1972. Т. 2. М., 1971. С. 177.
(обратно)261
Там же. Т. 3. С. 74.
(обратно)262
Поэтическая антология Кокинсю. М., 2005. С. 152.
(обратно)263
Там же. С. 136.
(обратно)264
Идзири Масуро. Нихон-но гэйдзюцу… С. 213.
(обратно)265
Апарина Н. Г. Указ. соч. С. 198.
(обратно)266
См.: Скворцова Е. Л. Восток и Запад в новой эстетике японского философа Имамити Томонобу // Наст. изд. С. 197–211.
(обратно)267
Идзири Масуро. Нихон-но гэйдзюцу… С. 210.
(обратно)268
Там же. С. 236.
(обратно)269
О митиноку см.: Скворцова Е. Л. Странствия как путь художника // Человек. 2010. № 3. С. 32–47.
(обратно)270
Подробнее об этом см.: Скворцова Е. Л. Современная японская эстетика. Философские очерки. М… 1996; Ее же. Япония: философия красоты. М., 2010.
(обратно)271
Имамити Томонобу. Тоё-но бигаку (Эстетика Дальнего Востока). Токио, 1980.
(обратно)272
См.: Скворцова Е. Л. «Разум тела» как одна из фундаментальных характеристик духовной идентичности Японии // История и культура традиционной Японии. М., 2013. С. 536–552.
(обратно)273
См.: Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 212.
(обратно)274
Там же. С. 6.
(обратно)275
Там же. С. 5.
(обратно)276
См.: Ониси Ёсинори. Югэн то аварэ (Югэн и аварэ). Токио, 1939; Его же. Фугарон (Теория прекрасного). Токио, 1940.
(обратно)277
См.: Михайлова Ю. Д. Мотоори Норинага. Жизнь и творчество (из истории общественной мысли Японии XVIII в.). М., 1988. С. 142–148.
(обратно)278
Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 90.
(обратно)279
Там же. С. 91.
(обратно)280
Там же.
(обратно)281
Там же. С. 92.
(обратно)282
См.: Мещеряков А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006.
(обратно)283
Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 95.
(обратно)284
См.: Мацокин Н. П. Японский миф об удалении богини Аматэрасу в небесный грот и солнечная магия. Владивосток, 1921; Светлов Т. Е. Путь богов. М., 1985. С. 33.
(обратно)285
Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 101.
(обратно)286
Там же.
(обратно)287
Там же. С. 98.
(обратно)288
Там же. С. 100.
(обратно)289
Там же. С. 252.
(обратно)290
Там же.
(обратно)291
См.: Ермакова Л. М. Синтоистский образ мира и вопросы поэтики классической японской литературы // Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М., 1983.
(обратно)292
Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 260.
(обратно)293
Там же. С. 273.
(обратно)294
Там же. С. 259–260.
(обратно)295
Там же. С. 260.
(обратно)296
Там же.
(обратно)297
Гадамер Х. Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 49.
(обратно)298
Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 229.
(обратно)299
См.: Там же. С. 229.
(обратно)300
Там же. С. 231.
(обратно)301
Там же. С. 243.
(обратно)302
Аристотель. Никомахова этика // Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 236.
(обратно)303
См.: Луцкий А. Л. Японская духовная традиция и экзистенциализм // Наст. изд. С. 263–275.
(обратно)304
Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979.
(обратно)305
Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 105.
(обратно)306
См.: Там же. С. 104.
(обратно)307
Там же. С. 105.
(обратно)308
См.: Сорокин Ю. А. Пэзия Ван Вэя (701–761) и Чань-буддизм // Философские вопросы буддизма. Новосибирск, 1984. С. 102–114.
(обратно)309
Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 107.
(обратно)310
Там же. С. 310.
(обратно)311
См.: Санович В. Очерк японской классической лирики // Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977. С. 597.
(обратно)312
Навлицкая Г. Б. Осака. М., 1983. С. 108.
(обратно)313
См.: Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 275–280.
(обратно)314
Имамити Томонобу. Указ. соч. С. 278.
(обратно)315
Там же. С. 277.
(обратно)316
Малявин В. В. Боевые искусства: Китай, Япония. М., 2002. С. 5.
(обратно)317
Там же. С. 17.
(обратно)318
Там же. С. 7.
(обратно)319
Там же. С. 17.
(обратно)320
См.: Скворцова Е. Л. Современная японская эстетика. М., 1996. С. 13.
(обратно)321
См.: Имамити Томонобу. Тоё-но бигаку (Эстетика Дальнего Востока). Токио, 1985.
(обратно)322
См.: Луцкий А. Л., Скворцова Е. Л. К вопросу о специфике морального сознания в Японии // Наст. изд. С. 67–80.
(обратно)323
Имамити Томонобу. Тоё-но бигаку. С. 231.
(обратно)324
Там же.
(обратно)325
Там же. С. 243.
(обратно)326
Имамити Томонобу. Гэндай-но сисо. Нидзюсэйки гохан-но тэцугаку (Современная мысль. Философия второй половины XX в.). Токио, 1985. С. 255.
(обратно)327
Там же. С. 256.
(обратно)328
Там же. С. 257.
(обратно)329
Борев Ю. Б. Эстетика: В 2 т. Т. 2. Смоленск, 1997. С. 354.
(обратно)330
Imamichi Т. La technique et les problems d’estetique // Studia Comparata de Aesthetica. Vol. 1. Tokyo, 1976. P. 11.
(обратно)331
Имамити Томонобу. Би-но исо то гэйдзюцу (Фазы прекрасного и искусство). Токио, 1984. С. 226.
(обратно)332
Там же. С. 226–227.
(обратно)333
Там же.
(обратно)334
Imamichi Т. La technique et les problems d’estetique. P. 12.
(обратно)335
Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Классическая эстетика // История эстетической мысли. М., 1985. С. 197.
(обратно)336
Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 359–360.
(обратно)337
См.: Аристотель. Никомахова этика // Там же. С. 69, 71.
(обратно)338
Imamichi Т. La technique et les problems d’estetique. 1. P. 1.
(обратно)339
См.: Имамити Томонобу. Би-но исо… С.140–141.
(обратно)340
Imamichi Tomonobu. Auto-instalation of the Art and Eco-ethical Dimention // Studia Comparata de Aesthetica. Vol. 1. Tokyo, 1976. P. 35.
(обратно)341
Ibid.
(обратно)342
Ibid.
(обратно)343
Ibid. P. 36.
(обратно)344
См.: Луцкий А. Л., Скворцова Е. Л. О технократических тенденциях в современной японской эстетике // Философские науки. 1989. № 11. С. 63–68.
(обратно)345
Imamichi Tomonobu. Auto-instalation of the Art and Eco-ethical Dimention. P. 36.
(обратно)346
Григорьева Т. П. Путь сердца. М., 2008. С. 322.
(обратно)347
См.: Ермакова Л. М. Речи богов и песни людей. М., 1995.
(обратно)348
См.: Шептунова И. И. Хаос и гармония: проблемы синтеза в искусстве Индии // Синтез в искусстве стран Азии. М., 1993. С. 74–104; Котовская М. П. Синтез искусств. М., 1982.
(обратно)349
Гердер И.-Г. Избранные произведения. М.; Л., 1959. С. 188.
(обратно)350
Там же.
(обратно)351
Там же. С. 182.
(обратно)352
Там же. С. 187.
(обратно)353
Гулыга А. Гердер. М., 1975. С. 136.
(обратно)354
Гердер И.-Г. Указ. соч. С. 186.
(обратно)355
Мигунов А. С. Предисловие // Философия наивности. М., 2001. С. 7.
(обратно)356
Кин Д. Японская литература XVII–XIX столетий. М., 1978. С. 59.
(обратно)357
Классическая поэзия Индии, Китая, Вьетнама, Японии. С. 756 и 764.
(обратно)358
Мазурик В. П. Чайная чашка и её функции в японском чайном действе (тяною) // Вещь в японской культуре. М., 2003. С. 138.
(обратно)359
Танидзаки Дзюнъитиро. Похвала тени // Танидзаки Дзюнъитиро. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1986. С. 495.
(обратно)360
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. С. 110.
(обратно)361
Танидзаки Дзюнъитиро. Указ. соч. С. 496.
(обратно)362
Игнатович А. Н. Чайное действо. М., 1997. С. 10.
(обратно)363
Там же. С. 11.
(обратно)364
Там же. С. 15.
(обратно)365
См.: Кобата Дзюндзо. Гудо гэйдзюцу (Праведное искусство). Токио, 1985. С. 19.
(обратно)366
Шукуров Ш. М. Образ храма. Imago Temple. М., 2002. С. 279.
(обратно)367
Там же. С. 155.
(обратно)368
Миргородская С. Аромалогия. Quantum Satis. М., 2005. С. 71.
(обратно)369
Там же. С. 70.
(обратно)370
Цит. по: Marra M. Modern Japanese Aesthetics. A Rider. Honolulu, 1999. P. 33.
(обратно)371
Цымбурский В. Л. Идентичность цивилизационная // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 2010. С. 80.
(обратно)372
Алпатов В. М. О различных значениях термина «факультативность» // Восточное языкознание. Факультативность. М., 1982. С. 42.
(обратно)373
См.: Нихон котэн бунгаку тайкэй (Курс древней японской литературы). Т. 65. Токио, 1961. С. 71–72.
(обратно)374
Малявин В. В. Молния в сердце. М., 1997. С. 129.
(обратно)375
Трубникова Н. Н. «Различение учений» в японском буддизме IX в. Кукай [Кобо Дайси] о различиях между тайным и явными учениями. М., 2000. С. 16.
(обратно)376
Князева Е. Н., Курдюмов СП. Синергетика и Восток: близость далёкого // Духовные истоки Японии. Альманах. Т. 1. М., 1995. С. 295.
(обратно)377
Цит. по: Древнекитайская философия. Т. 1. М.,1972. С. 122.
(обратно)378
Там же.
(обратно)379
Там же. С. 118.
(обратно)380
Чжуан-Цзы. Ле-Цзы / Пер. и коммент. В. В. Малявина. М., 1995. С. 65.
(обратно)381
Там же. С. 97.
(обратно)382
Там же.
(обратно)383
Соколов-Ремизов С. Н. Литература. Каллиграфия. Живопись. М., 1985. С. 177.
(обратно)384
См.: Чжуан-Цзы. Ле-Цзы. С. 173–185.
(обратно)385
См.: Николаева Н. С. Японские сады. М., 1975. С. 17.
(обратно)386
Сутра мудрость сердца (Хання сингё) / Пер. и коммент. В. П. Мазурика // Духовные истоки Японии. Альманах. Т. 1. С. 20.
(обратно)387
Караки Дзюндзо. Мудзё (Изменчивость всего сущего). Токио, 1964. С. 5.
(обратно)388
См.: Ониси Ёсинори. Югэн то аварэ (Югэн и аварэ). Токио, 1973. С. 206–219.
(обратно)389
Цит. по: Игнатович А. Н. Буддизм в период Хэйан // Буддизм в Японии. М., 1993. С. 162.
(обратно)390
Сутра мудрость сердца. С. 135.
(обратно)391
Боронина И. А. Поэзия очарования // Поэтическая антология Кокинсю / Пер. со старояп. И. А. Борониной. М., 2005. С. 386.
(обратно)392
Цит. по: Ермакова Л. М. Речи богов и песни людей. М., 1995. С. 244.
(обратно)393
Цит. по: Marra М. Modern Japanese Aesthetics. A Reader. Honolulu, 1999. P. 149.
(обратно)394
Нихон котэн бунгаку тайкэй. С. 86–89.
(обратно)395
Цит. по: Marra М. Modern Japanese Aesthetics. р. 157.
(обратно)396
Ibid. P. 151, 151.
(обратно)397
Синкэй. Сасамэгото (Сказанное шёпотом) // Нихон котэн бунгаку дзэнсю (Полное собрание японской классической литературы). Т. 51. Токио, 1971. С. 88.
(обратно)398
Кодекс бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве. М., 2010. С. 21.
(обратно)399
Там же. С. 105.
(обратно)400
Там же. С. 110.
(обратно)401
Там же. С. 118.
(обратно)402
Цит. по: Marra М. Modern Japanese Aesthetics. Р. 153.
(обратно)403
Ibid. P. 148.
(обратно)404
Ibid. P. 154.
(обратно)405
Ibid.
(обратно)406
Цит. по: Апарина Н. Г. Учение Дзэами об актёрском мастерстве // Дзэами Мотокиё. Учение о цветке стиля. Фуси кадэн. М., 1989. С. 54.
(обратно)407
Апарина Н. Г. Японский театр Но. М., 1984. С. 165.
(обратно)408
См.: Игнатович А. Н. Чайное действо. М., 1997. С. 66.
(обратно)409
См.: Куки Сюдзо. Ики-но кодзо (Структура ики). Токио, 1972.
(обратно)410
Цит. по: Григорьева Т. П. Япония: путь сердца. М., 2008. С. 64.
(обратно)411
См.: Скворцова Е. Л. Культурная традиция и японская эстетическая мысль XX века. Saarbruken, 2012. С. 221–222.
(обратно)412
См.: Имамити Томонобу. Тоё-но бигаку (Эстетика Дальнего Востока). Токио, 1985. С. 269.
(обратно)413
См.: Скворцова Е. Л. Япония: кризис культурной идентичности при встрече с западной цивилизацией // Наст. изд. С. 110–128.
(обратно)414
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 273–302.
(обратно)415
Там же. С. 274.
(обратно)416
Там же.
(обратно)417
Там же.
(обратно)418
См.: Пугачёва Л. Г. Эволюция разума человека как эпистемологическая проблема. М., 2008. С. 24–38; 40–41, 69–97.
(обратно)419
Малявин В. В. Совершенный человек в даосской традиции. Феноменология Дао-человека // Совершенный человек. Теология и философия образа. М., 1997. С. 171.
(обратно)420
См.: Пугачёва Л. Г. Указ. соч. С. 246–256.
(обратно)421
Там же. С. 224.
(обратно)422
Древнекитайская философия. М., 1972. С. 117.
(обратно)423
Китайская классическая поэзия. М., 1984. С. 273.
(обратно)424
Древнекитайская философия. С. 110.
(обратно)425
Малявин В. В. Указ. соч. С. 171.
(обратно)426
Штейнер Е. С. Иккю Содзюн. М., 1987. С. 193.
(обратно)427
Там же. С. 194.
(обратно)428
Цит. по: Поэтическая антология Кокинсю / Пер. и коммент. И. А. Ворониной. М.,2005. С. 44.
(обратно)429
Херригель Е. Дзэн и искусство стрельбы из лука. Путь дзэн. СПб., 2005. С. 146.
(обратно)430
Там же. С. 203.
(обратно)431
Трубникова Н. Н. «Различение учений» в японском буддизме IX в. Кукай (Кобо Дайси) о различиях между тайным и явным учениями. М., 2000. С. 13.
(обратно)432
Объединение, союз (лат).
(обратно)433
Херригель Е. Дзэн и искусство стрельбы из лука. С. 146.
(обратно)434
Юнг К.-Г. О психологии восточных религий и философий. М., 1994. С. 107.
(обратно)435
Там же. С. 105.
(обратно)436
См.: Скворцова Е. Л. Романтизм и японская эстетическая традиция // Культурология. № 2 (57). М., 2011. С. 36–55; Ее же. Эстетика романтизма и «гэйдо»: поверхностное сходство или типологическая близость? // Взаимодействие художественных культур Востока и Запада. М., 1998. С. 58–74.
(обратно)437
См.: Скворцова Е. Л. Япония: философия красоты. М., 2010. С. 26–50.
(обратно)438
См.: Игнатович А. Н. Чайное действо. М., 1997.
(обратно)439
Дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля. Фуси кадэн / Пер. и коммент. Н. Г. Анариной. М., 1989. С. 89.
(обратно)440
Цит. по: Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1978. С. 360.
(обратно)441
Блок А. А. О романтизме // Сочинения: В 6 т. Т. 4. Л., 1982. С. 357.
(обратно)442
Там же. С. 358.
(обратно)443
Цит. по: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М… 1967. С. 132.
(обратно)444
Цит. по: Европейская поэзия XX века. М., 1977. С. 684.
(обратно)445
Цит. по: Боронина И. А. Классический японский роман. М., 1981. С. 194.
(обратно)446
Там же. С. 195.
(обратно)447
Там же. С. 197.
(обратно)448
См.: Скворцова Е. Л. Странствия как путь художника // Человек. 2010. № 3. С. 32–34.
(обратно)449
Мирошников Ю. А. Мировоззрение романтизма // Романтизм: истоки, метафизика, эволюция. Екатеринбург, 2006. С. 9.
(обратно)450
Вишневская Н. А., Сапрыкина Е. Ю. Ещё одна вечная метафора в романтическом контексте // Романтизм: вечное странствие. М., 1981. С. 37.
(обратно)451
См.: Лагутина И. Н. …Пространством и временем полный раннеромантический художник в поисках идентичности (по роману Новалиса «Генрих фон Офтендинген») // Романтизм: вечное странствие. М., 2005. С. 48.
(обратно)452
См.: Гофман Э. Т. А. Письма, высказывания, документы. М., 1987. С. 8.
(обратно)453
Херригель Е. Указ. соч. С. 117.
(обратно)454
Розенберг О. О. Труды по буддизму. М., 1991. С. 187.
(обратно)455
См.: Игнатович А. Н. «Среда обитания» в системе буддийского мироздания // Человек и мир в японской культуре. М., 1985. С. 67.
(обратно)456
См.: Николаева Н. С. Каноническая структура японского сада (на примере «сухого» дзэнского сада // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973. С. 49–64; Муриан И. Ф. Сады Дайтокудзи // Человек и мир в японской культуре. М., 1985. С. 179.
(обратно)457
См.: Козловский Ю. Б. Философия экзистенциализма в современной Японии. М., 1975; Его же. Современная буржуазная философия в Японии. М., 1977. С. 77–106; Поспелов Б. В. Очерки философии и социологии современной Японии. М., 1974. С. 140–201; Рёхо К. Современный японский роман. М., 1977. С. 87–108.
(обратно)458
Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979. С. 4, 8.
(обратно)459
Конрад Н. И. Очерки японской литературы. М., 1973. С. 54.
(обратно)460
Ныне учение Нитирэна используется и пропагандируется многочисленной необуддийской организацией «Сока гаккай» («Общество по установлению ценностей»).
(обратно)461
См.: Григорьева Т. П. Указ. соч. С. 31; Судзуки Дайсэцу. Нингэн ва дою фу-ни ики-ру ка? (Как живёт человек?). Токио, 1967.
(обратно)462
Об этом свидетельствует его сочинение «"Нихондзин-но сисо то кодо (Мышление и поведение японцев)». (Токио, 1973. С. 129–135).
(обратно)463
Tsutida Kyoson. Contemporary Philosophy of China and Japan. London, 1927. P. 74.
(обратно)464
См.: Сайгуса Хирото. Нихон-ни окэру тэцугакутэки каннэнрон-но хаттэн (Распространение философского идеализа в Японии). Токио, 1969.
(обратно)465
Okakura Kakuzo. The Ideals of East. N. Y. 1904. P. 240.
(обратно)466
Григорьева Т. П. Японская литература XX века. М., 1983. С. 34.
(обратно)467
Швейцер А. Культура и этика. М., 1972. С. 251.
(обратно)468
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М., 1955. С. 605.
(обратно)469
См.: Weber M. Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Hamburg, 1965.
(обратно)470
Цит. по: Философия. Религия. Культура (Критический анализ современной буржуазной философии). М., 1982. С. 202.
(обратно)471
Там же. С. 206.
(обратно)472
Там же. С. 202.
(обратно)473
См.: Вацудзи Тэцуро. Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 8. Токио, 1962. С. 9; Танабэ Хадзимэ. Дзэнсю (Полн. собр. соч.). Токио, 1964. С. 527.
(обратно)474
Мори Ёити. Дзэн то сэйё сисо (Дзэн и европейская ысль). Токио, 1968. С. 25.
(обратно)475
Козловский Ю. Б. Философия экзистенциализма в современной Японии. С. 26.
(обратно)476
См.: Судзуки Тору. Кёсонтэки сэкай (Мир – эхо бытия). Токио, 1967; Ниситани Кэйдзи. Сюкё ва нани ка? (Религия – что это такое?). Токио, 1961; Его же. Нихиридзуму (Нигилизм). Токио, 1970.
(обратно)477
Ikeda D. Dialogue on Life. Vol. 1. Tokyo, 1975. P. 85.
(обратно)478
Тойнби А. Дж., Икэда Д. Нидзюити сэйки э-но тайва (Диалог о XXI веке). Т. 2. Токио, 1975. С. 277.
(обратно)479
Izutsu Toshihico, Izutsu Toyo. The Theory of Beauty in the Classical Aesthetics of Japan. The Hague-Boston-London. 1981. P. IX.
(обратно)480
См.: Ниситани Кэйдзи. Нихиридзуму Юаса Ясуо. Догэн-Синран-ни окэру нихонтэки-дзицудзонтэкина моно (Японское-экзистенциальное у Догэна-Синрана) // Дзицудзонсюги кодза (Лекции по экзистенциализму). Т. 1. Токио, 1968; Имамити Томонобу. Тоё-но бигаку (Эстетика Дальнего Востока). Токио, 1980; Умэхара Такэси. Би то сюкё-но хаттэн (Красота и развитие религии) // Тёсаку сю (Избран. Соч.). Токио, 1982; Izutsu Toshihico, Izutsu Toyo. The Theory of Beauty in the Classical Aesthetics of Japan.
(обратно)481
Noda M. East-West Synthesis in Kitaro Nishida // Philosophy East and West. Vol. 4. Honolulu, 1955. P. 345–360.
(обратно)482
Мантатов В. В. К вопросу об изучении философии буддизма // Философские вопросы буддизма. Новосибирск, 1984. С. 6.
(обратно)483
Миякава Хидэки. Мэйдзи исин то нихон кэймосюги (Реставрация Мэйдзи и движение просветительства в Японии. Токио, 1971. С. 194.
(обратно)484
«Свобода – дзию – самое популярное в те годы (в эпоху Мэйдзи. – А. Л.) слово, образованное из двух иероглифов: дзи – сам, ю – причина, т. е. причина в тебе самом, или, если хочешь быть свободным, полагайся на себя» (Григорьева Т. П. Японская литература XX века, с. 18).
(обратно)485
Рёхо К. Современный японский роман. М., 1977. С. 87–88; см. также: Скворцова Е. Л., Луцкий АЛ. К проблеме восприятия западной философии в Японии // Вопросы философии. 1985. № 10. С. 132–139.
(обратно)486
Такано Тосими. Абэ Кобо-рон (Взгляд на Абэ Кобо). Токио, 1971. С. 177.
(обратно)487
Абэ Кобо. Чужое лицо // Абэ Кобо. Чужое лицо. Сожжённая карта. Человек-ящик / Пер. В. С. Гривнина. М.: Прогресс, 1982. С. 49.
(обратно)488
Там же. С. 36.
(обратно)489
Там же. С. 118.
(обратно)490
Там же. С. 146.
(обратно)491
Там же. С. 60.
(обратно)492
См.: Имамити Томонобу. Тоё-но бигаку (Эстетика Дальнего Востока). Токио, 1985. С. 231–243.
(обратно)493
Абэ Кобо. Указ. соч. С. 144.
(обратно)494
Там же. С. 83.
(обратно)495
Там же. С. 59.
(обратно)496
См.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика и Восток: близость далёкого // Духовные истоки Японии. Альманах. Т. 1. М.: Толк, 1995. С. 295.
(обратно)497
Абэ Кобо. Указ. соч. С. 134.
(обратно)498
Там же. С. 144.
(обратно)499
Такано Тосими. Указ. соч. С. 178.
(обратно)500
Абэ Кобо. Указ. соч. С. 66.
(обратно)501
Там же. С. 105.
(обратно)502
Паскаль Б. Мысли // Ларошфуко Ф. де. Максимы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974. С. 134, 182.
(обратно)503
См.: Долгов К. М. От Киркегора до Камю. М., 1990.
(обратно)504
Абэ Кобо. Указ. соч. С. 66.
(обратно)505
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М., 2012. С. 381.
(обратно)506
Абэ Кобо. Указ. соч. С. 115.
(обратно)507
См.: Сэй Сёнагон. Записки у изголовья. Камо-но Тёмэй. Записки из кельи. Кэнко Хоси. Записки от скуки. М., 1988. С. 352; Kusanagi Masao. The Logic of Passional Surplus // Modern Japanese Aesthetics. A Reader. Honolulu, 1999. P. 148–167.
(обратно)508
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 71.
(обратно)509
Психология личности. Тексты. М., 1982. С. 17.
(обратно)510
Бахтин М. М. Указ. соч. С. 57.
(обратно)511
Там же.
(обратно)512
Гривнин В. С. Трагедия человека – трагедия общества // Япония 1978. Ежегодник. М., 1979. С. 239.
(обратно)513
См.: Великовский СИ. Грани «несчастного сознания». М., 1973; Его же. Экзистенциализм // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М., 1975.
(обратно)514
См.: Камю А. Посторонний // Посторонний. Чума. Падение. Рассказы и эссе. М., 1989.
(обратно)515
Гегель Г. В. Ф. Сочинения: В 14 т. Т. 5. М., 1937. С. 180.
(обратно)516
Киркегор С. Наслаждение и долг. СПб., 1894. С. 68.
(обратно)517
Паскаль Б. Указ. соч. С. 150.
(обратно)518
См.: Долгов КМ. Указ. соч.
(обратно)519
Уложение 17 статей Сётоку Тайси / Пер. К. А. Попова // Буддизм в Японии. М.: 1993. С. 359.
(обратно)520
Там же. С. 360.
(обратно)521
Древнекитайская философия: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 156 и 159.
(обратно)522
См.: Малявин В. В. Сумерки Дао. М.: 2003.
(обратно)523
Трубникова Н. Н. Традиция «исконной просветлённости» в японской философской мысли. М.: 2010. С. 7.
(обратно)524
Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. СПб., 2007. С. 340.
(обратно)525
Цит. по: Карелова Л. Б. У истоков японской трудовой этики. История в портретах. М., 2007. С. 195.
(обратно)526
См.: Маялявин В. В. Указ. соч. С. 421–422.
(обратно)527
Мещеряков А. Н. Древняя Япония. Культура и текст. М., 1991. С.
(обратно)528
Древнекитайская философия. Т. 1. С. 251.
(обратно)529
Nishida Kitaro. A Study of Good // Shimomura Torataro. Afterwood. New York-Tokyo: Greenwood, 1960. P. 71–72.
(обратно)530
Нисида Китаро. Дзэн-но кэнкю (Изучение блага) // Нисида Китаро. Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 1. Токио, 1965. С. 288.
(обратно)531
Там же. С. 302.
(обратно)532
Там же. С. 306.
(обратно)533
Нисида Китаро. Нихон бунка-но мондай (Проблемы японской культуры) // Нисида Китаро. Тэцугаку кодза сю (Курс лекций по философии). Киото, 1995. С. 75.
(обратно)534
Кобата Дзюндзо. Гудо гэйдзюцу (Праведное искусство). Токио, 1985. С. 179.
(обратно)535
См.: Игнатович А. Н. Чайное действо. М., 1997. С. 66–70.
(обратно)536
Игнатович А. Н. Указ. соч. С. 258–259.
(обратно)537
Кобата Дзюндзо. Указ. соч. С. 3.
(обратно)538
Там же. С. 9.
(обратно)539
Там же.
(обратно)540
Там же. С. 83–84.
(обратно)541
Там же. С. 90.
(обратно)542
Там же. С. 84.
(обратно)543
Там же. С. 6.
(обратно)544
Кобата Дзюндзо. Указ. соч. С. 8.
(обратно)545
Там же. С. 180.
(обратно)546
Там же. С. 181.
(обратно)547
Там же.
(обратно)548
См.: Там же. С. 182.
(обратно)549
Там же. С. 11.
(обратно)550
Там же. С. 182.
(обратно)551
Там же.
(обратно)552
См.: Современная буржуазная эстетика. М., 1978. С. 269–270.
(обратно)553
Там же. С. 270.
(обратно)554
Кобата Дзюндзо. Указ. соч. С. 182.
(обратно)555
Там же. С. 183.
(обратно)556
Там же. С. 10.
(обратно)557
Там же. С. 179–180.
(обратно)558
Там же.
(обратно)559
Кобата Дзюндзо. Указ. соч. С. 183.
(обратно)560
Еремеев А. Ф. Происхождение искусства. М., 1970. С. 151.
(обратно)561
Цит. по: Прозерский В. В. Позитивизм и эстетика. Л., 1983. С. 51.
(обратно)562
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. Сс. 105.
(обратно)563
Там же. С. 110.
(обратно)564
Там же.
(обратно)565
Там же.
(обратно)566
Там же. С. 91.
(обратно)567
Гердер И.-Г. Избранные произведения. М.; Л., 1959. С. 188.
(обратно)568
Там же. С. 179.
(обратно)569
Там же. С. 187.
(обратно)570
Там же. С. 186.
(обратно)571
Там же. С. 183 и 184.
(обратно)572
Мигунов А. С. Предисловие // Философия наивности. М., 2001. С. 7.
(обратно)573
Цит. по: Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 119.
(обратно)574
Григорьева Т. П. Что же спасёт мир? Заметки о современной японской литературе // Литературное обозрение. 1986. № 8. С. 29–30.
(обратно)575
«История эстетики свидетельствует о непрекращающемся поиске алгоритмов в искусстве и художественном творчестве. Если в естествознании и технике разработка алгоритмов чаще всего была связана с моделированием физических, химических, биологических процессов, то в искусстве речь могла идти об алгоритмах различных видов и типов репрезентации. От подражания природе, тому или иному мастеру, где алгоритм воспроизведения присутствовал имплицитно, до более чётко выраженной алгоритмизации в процессе подражания определённому художественному стилю. Особенно велика роль алгоритма в процессе современной компьютерной имитации различных художественных техник… Алгоритмическая эстетика самым тесным образом связана с разработкой так называемой утилитарной функции искусства» (Мигунов А. С., Ерохин СВ. Алгоритмическая эстетика. СПб., 2010. С. 5–6.).
(обратно)576
См.: Имамити Томонобу. Би-но исо то гэйдзюцу (Фазы красоты и искусства). Токио, 1984. С. 223–261; Его же. Гэндай-но сисо (Современная мысль). Токио, 1985. С. 255–257; Humma Хироэ. Компюта-ни сосаку га дэкиру ка (Возможно ли компьютерное творчество?) // Гэйдзюцурон сю (Сборник статей по теории искусства). Осака, 1984. С. 30–43; Тосимицу Исао. Гэндай сякай-ни окэру гэйдзюцу-но кино (Функции искусства в современном обществе) //Бигаку (Эстетика). Т. 5. Токио, 1985. С. 67–86; Ямамото Т. Хосо гэйдзюцу-но сёрай (Будущее искусств, связанных с новыми коммуникативными средствами) // Бигаку (Эстетика). Т. 5. С. 111–124; Кобата Дзюндзо. Биисики-но гэсёгаку (Феноменология эстетического сознания). Токио, 1984. С. 137–144; Кавано Хироси. Гэйдзюцу-но ронри (Логика искусства). Токио, 1979; Его же. Комюникэсён то гэйдзюцу (Средства массовой коммуникации и искусство). Токио, 1968; Его же. Гэйдзюцу. Дзёхо. Киго (Искусство. Знак. Информация). Токио, 1982; Его же. Компюта то бигаку (Компьютер и эстетика). Токио, 1984.
(обратно)577
Кавано Хироси. Кагаку гидзюцу то гэйдзюцу (Научная технология и искусство) // Бигаку (Эстетика). Т. 5. С. 94.
(обратно)578
Там же.
(обратно)579
См.: Кавано Хироси. Гэйдзюцу-но ронри. С. 33–37.
(обратно)580
Сакамото Кэндзо. Сэнтан гидзуцу-но юкуэ (Источники передовой технологии). Токио, 1987. С. 37.
(обратно)581
Нитта Хироэ. Компюта-ни сосаку га дэкиру ка С. 31.
(обратно)582
Брушлинский А. В. Психология мышления и кибернетика. М., 1970. С. 187.
(обратно)583
Кавано Хироси. Кагаку гидзюцу то гэйдзюцу С. 88.
(обратно)584
Там же.
(обратно)585
Там же.
(обратно)586
Нитта Хироэ. Указ. соч. С. 35.
(обратно)587
Там же.
(обратно)588
Кавано Хироси. Кагаку гидзюцу то гэйдзюцу. С. 95.
(обратно)589
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. С. 342.
(обратно)590
Кавано Хироси. Кагаку гидзюцу то гэйдзюцу. С. 100.
(обратно)591
Ясперс К. Современная техника //Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 141.
(обратно)592
См.: Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
(обратно)593
Кавано Хироси. Гэйдзюцу-но ронри. С. 43.
(обратно)594
Кавано Хироси. Компюта то бигаку. С. 20.
(обратно)595
Волков Н. Н. Цвет в живописи. М., 1984. С. 126.
(обратно)596
Звегинцев В. А. Проблема отношений человека и машины в компьютерной революции // Вопросы философии. 1986. № 3. С. 51–52. См. также: Пономарёв А. Я. Психика и интуиция. М., 1967.
(обратно)597
Танидзаки Дзюнъитиро. Похвала тени // Танидзаки Дзюнъитиро. Избранные произведения. Т. 1. М., 1986. С. 490.
(обратно)598
См.: Ермакова Л. М. Культурные традиции японцев и XX век // Япония: культура и общество в эпоху НТР. М., 1985. С. 307–316.
(обратно)599
Кавано Хироси. Кагаку гидзюцу то гэйдзюцу С. 106.
(обратно)600
См.: Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979.
(обратно)601
Лукач Д. Своеобразие эстетического. Т. 1. М., 1986. С. 24.
(обратно)602
См.: Смолян Г. Л. Человек и компьютер. М., 1981. С. 131–132.
(обратно)603
Сакамото Кэндзо. Указ. соч. С. 193.
(обратно)604
Нитта Хироэ. Компюта-ни сосаку га дэкиру ка (Возможно ли компьютерное творчество?) // Гэйдзюцугаку (Искусствознание). Вып. 1. Осака, 1984.
(обратно)605
Нитта Хироэ. Указ. соч. С. 30.
(обратно)606
Там же.
(обратно)607
Там же.
(обратно)608
Там же.
(обратно)609
Там же.
(обратно)610
Там же. С. 42.
(обратно)611
Там же. С. 36.
(обратно)612
Там же. С. 42.
(обратно)613
Там же. С. 31.
(обратно)614
Там же. С. 32.
(обратно)615
Там же. С. 35.
(обратно)616
Там же.
(обратно)617
Там же.
(обратно)618
Там же. С. 36.
(обратно)619
Там же. С. 35.
(обратно)620
Нитта Хироэ. Указ. соч. С. 38.
(обратно)621
См.: Там же.
(обратно)622
Гартман Н. Эстетика. М., 1958. С. 13–14.
(обратно)623
Нитта Хироэ. Указ. соч. С. 34.
(обратно)624
Данный вопрос затрагивается Ниттой и в его статье «Сотворённое пространство. Сотворённое время». Он, в частности, пишет: «И в живописи, и в музыке слова не употребляются, следовательно, эти виды искусства не могут выступать в качестве вербализованных мировоззренческих систем. Однако каждому известно, что и живопись, и музыка бывают красноречивее любой философии. Философия – не искусство, равным образом, искусство не исчерпывается философией. Это – разные вещи. Искусство взывает к чувству, философия – к разуму» (Нитта Хироэ. Цкурарэта кукан. Цкурарэта дзикан (Сотворённое пространство. Сотворённое время) // Син Иванами кодза (Новый курс лекций Иванами по философии). Токио, 1984. С. 205–206).
(обратно)625
Нитта Хироэ. Компюта-ни сосаку… С. 35.
(обратно)626
Пугачёва Л. Г. Разум тела: шаг в реальность «здесь и сейчас» // Философские науки. 2010. № 3. С. 101.
(обратно)627
Там же. С. 102.
(обратно)628
Сакамото Кэндзо. Сэнтан гидзуцу-но юкуэ (Источники передовой технологии). Токио, 1987. С. 37.
(обратно)629
Там же. С. 44.
(обратно)630
Белла Р. Н. Социология религии // Американская социология. М., 1972. С. 266.
(обратно)631
Ikeda D. Soka Gakkai: Its Ideals and Tradition. Sapporo, 1976. P. 17.
(обратно)632
См.: Игнатович A. H. Нитирэн и Сока гаккай // Место религий в идейно-политической борьбе развивающихся стран. М., 1978. С. 5.
(обратно)633
См.: Ikeda D. Buddhism, a Living Philosophy, Tokyo, 1974.
(обратно)634
Ikeda D. Life, an Enigma, a Precious Jewel. Tokyo, N. Y.; S.-Francisco, 1982. P. 209.
(обратно)635
Икэда Д. Кагаку то сюкё (Наука и религия). Токио, 1965. С. 71.
(обратно)636
Там же. С. 70 и 1.
(обратно)637
Ikeda D. Buddhism, a Living Philosophy. P. 94.
(обратно)638
Тойнби А. Дж., Икэда Д. Нидзюити сэйки э-но тайва (Диалог о 21 веке). Т. 2. Токио, 1975. С. 283.
(обратно)639
См.: Ikeda D. Dialogue on Life. Vol. 1. Tokyo, 1975. P. 41.
(обратно)640
См.: Ibid. P. 8, 129.
(обратно)641
Ibid. P. 195.
(обратно)642
Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 127.
(обратно)643
См.: Кант И. Соч. в 6-ти томах. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 260, 270.
(обратно)644
Ikeda D. Buddhism, a Living Philosophy. P. 46.
(обратно)645
Ikeda D. Dialogue on Life. Vol. II. P. 183.
(обратно)646
Ibid. P. 6.
(обратно)647
Ikeda D. The Global Unity of Mankind, Osaka, 1973. P. 11.
(обратно)648
Ikeda D. Dialogue on Life. Vol. 1. P. 10.
(обратно)649
Ibid. P. 85.
(обратно)650
Икэда Д. Кагаку то сюкё. С. 15.
(обратно)651
Ikeda D. Buddhism, a Living Philosophy. P. 30.
(обратно)652
Икэда Д. Кагаку то сюкё. С. 5.
(обратно)653
Там же. С. 31.
(обратно)654
Ikeda D. Dialogue on Life. Vol. 1. P. 21.
(обратно)655
См.: Сайтё. Гаммон… // Кукай. Санкё сики (Указание целей трёх учений и другие трактаты Сайтё и Кукая). Токио, 197. С. 272–291.
(обратно)656
См.: Japanese-English Buddhist Dictionary. Tokyo, 1965. P. 64.
(обратно)657
См.: Синмэйкай кого дзитэн (Новый словарь по разъяснению архаичной терминологии). Токио, 1977. С. 153.
(обратно)658
Икэда Д. Ватакуси ва ко омоу (Я так думаю). Токио, 1975. С. 11.
(обратно)659
Тойнби А. Дж., Икэда Д. Указ. соч. С. 276–277.
(обратно)660
См.: Там же. С. 279.
(обратно)661
Икэда Д. Какумэй то сэй то си (Революция, жизнь и смерть). Токио, 1973. С. 206.
(обратно)662
Икэда Д. Буккё тэцугаку дайдзитэн (Энциклопедический словарь буддийской философии). Токио, 1966. С. 650.
(обратно)663
Икэда Д. Какукмэй то сэй то си. С. 164, 166.
(обратно)664
Ikeda D. Buddhism, a Living Philosophy. P. 94.
(обратно)665
Икэда Д. Какумэй то сэй то си. С. 65.
(обратно)666
Ikeda D. Dialogue on Life. Vol. II. P. 219.
(обратно)667
Ibid.
(обратно)668
Ikeda D. Buddhism, a Living Philosophy. P. 32.
(обратно)669
См.: Ikeda D. Dialogue on Life. Vol. II. Tokyo, 1975. P. 226–228.
(обратно)670
Ikeda D. Buddhism, a Living Philosophy. P. 92.
(обратно)671
Белла Р. Н. Указ. соч. С. 274.
(обратно)672
См.: Вебер М. Исследования по методологии науки. М., 1980.
(обратно)
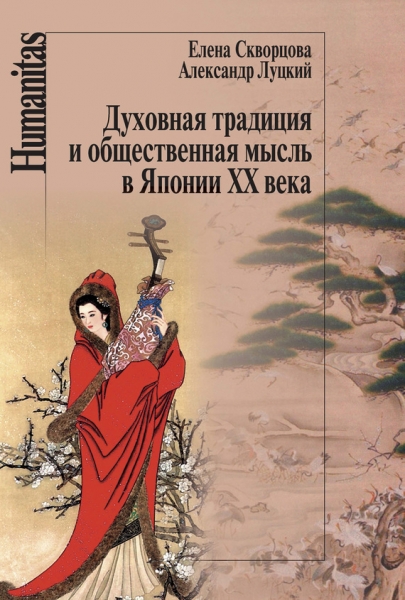

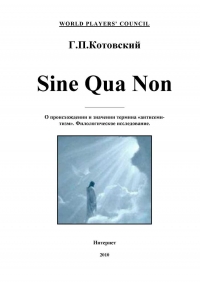

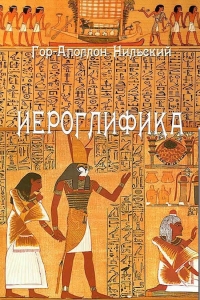
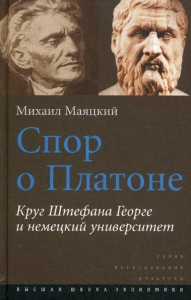

Комментарии к книге «Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века», Александр Леонидович Луцкий
Всего 0 комментариев