Метаморфозы в пространстве культуры
© Свирида И.И., текст, 2009
© Издательство «Индрик», оформление, 2009
Андрей Воронихин. Фавн. Обивка стула. Павловск. Начало XIX в.
О метаморфозах и других сюжетах книги
Понятие метаморфозы, на первый взгляд метафорически вынесенное в заглавие книги, говорит о представленных в ней преображениях смыслов, образов, форм и функций, которые действительно совершались и совершаются в пространстве культуры. Ее способность к творению и претворению явлений неизбывна и позволяет культуре меняться самой и изменять мир. Данной способностью обусловлены все реализации человеческой мысли, как и она сама. Жизнь культуры – это непрекращающийся метаморфоз (греч. – μεταμόρφωσις, превращение), его можно рассматривать как фундаментальное свойство культуры, а само понятие – как обобщающее и претендующее на категориальность в ее сфере. Метаморфозы и преемственность традиций – два основания культуры, влияющие на ее существо, актуальное состояние и положение между прошлым и будущим.
Пространство, образ сада, модель личности, тип эпохи – этот не вполне традиционный предметный ряд служит в книге тому, чтобы в избранных аспектах продемонстрировать, как метаморфозы культуры преображают облик и образ природы, природное и культурное пространство, человека, а также культурные эпохи.
С точки зрения метаморфоза может быть проанализировано, однако, любое явление, находящееся в «культурном обращении». Метаморфоз как универсальное для культуры свойство, осознанно или неосознанно, но неизбежно попадает в поле зрения любого автора, пишущего о культуре. В масштабе «большого времени» в процесс метаморфоза вовлечена даже культура каноничных эпох, что не позволяет им длиться вечно, как это предполагает их внутренняя организация. Традиционная культура, оставаясь традиционной, с ходом времени видоизменяет отношения и соотношения с другими пластами культуры, а ее собственный слой постоянно утончается. Если попытаться представить себе все развивающееся пространство метаморфоз культуры, то ближе всего оно образу ризомы (см. c. 25).
В науке с эпохи Возрождения (У. Гарвей) метаморфоза как понятие используется применительно к растительному и животному миру, что сказывается на его интерпретации в гуманитарных дисциплинах вплоть до нашего времени, обычно с упоминанием, что оно заимствовано из наук о природе. В литературоведении оно появилось со времени формальной школы. По сути, его применение ограничивалось преимущественно зооморфными и антропоморфными преображениями, параллелизмами человек животное, что для культуры – частный случай. Метаморфоза трактовалась и как разновидность тропов, в целом связываясь с языком – производителем метафор и метаморфоз. В современной литературе лексема метаморфоза употребляется все чаще в самом разном понимании – и как термин, и как метафора, не попав еще в какие-либо специализированные словари. Задолго до того, как метаморфоза в качестве понятия получила собственно биологическое наполнение, античная мифология объясняла мир исходя из представления о метаморфозах. Способность к ним считалась свойством богов. Именно они совершали метаморфозы, посредством которых Овидий описал всю предшествующую ему историю, начиная с космогонии и кончая появлением звезды Юлия Цезаря. В таком широком контексте представление о метаморфозах ограничивалось по преимуществу трансформациями с пограничья антропоморфный – растительный, зооморфный; телесный, живой – окаменевший. Вместе с тем в мифологизированном сознании и традиционной культуре распространилось представление об оборотничестве. Оно не свойственно метаморфозам культуры последующих эпох, которые, в отличие от мифологических превращений, всегда необратимы, хотя могут бесконечно продолжаться.
В академическом «Словаре русского языка» слово метаморфоз (м. род, ед. ч.) объясняется как «превращение одной формы чего-л. в другую» и в этом случае определено как книжное. В качестве биологического понятия метаморфоз связывается с изменением формы и строения органов растений и изменением внешнего вида и образа жизни животных. Термин метаморфоза (ж. род, ед. ч.) введен в этом словаре дважды – первый раз без истолкования, лишь с обозначением специальный, и во второй – в конкретном смысле: «коренное изменение кого-, чего-л., превращение». В широком плане оба термина применимы для обозначения смысловых, структурных и образных превращений, происходящих в пространстве культуры. Ее метаморфозы начинаются с того, что все, чего она коснется, становится культурой, даже будучи только отрефлексировано.
Магдалена Абаканович. Рукоподобные деревья. Бронза. 1992–1993
В отличие от Мидаса, все обращавшего в неподвижное золото, прикосновение культуры не приводит к возникновению застывших форм. Культура отсекает тупиковые пути, которые делают невозможными метаморфозы. Даже вербализовавшись, опредметившись в произведениях литературы или искусства, а в скульптуре, архитектуре овеществившись, художественный образ как результат претворения творческого импульса не заканчивает свои метаморфозы, претерпевая их в сознании читателя, зрителя, что может бесконечно продолжаться на протяжении эпох. Культура подвергает метаморфозам само время и пространство, творя их новые образы и научные концепции, меняющие и модель, и конкретную картину мира.
Культура, долгое время преимущественно противопоставлявшаяся природе, теперь все чаще рассматривается с точки зрения их общих свойств. К их числу, наряду с уже называвшимися в литературе, принадлежит и дар метаморфоза. Служащий в природе одним из способов ее воспроизводства, в культуре он приобрел универсальный характер, затрагивая и предметную, и ментальную сферу, что недоступно природе. В культуре можно найти аналогии той разновидности биологического развития, когда на определенном этапе происходит одноразовая и неожиданная для наблюдателя метаморфоза (в качестве художественного образа это пришло в сказку, где царевна-лягушка внезапно сбрасывает свою шкурку, подобно бабочке, освобождающейся от кокона). В культуре могут происходить также постепенные и даже многократные метаморфозы в пределах одного явления – каждый мастерский мазок кисти на холсте преображает его (это документализировал А.Ж. Клузо в фильме «Тайна Пикассо». 1956). В разных слоях семантически насыщенных текстов возможны несинхронные метаморфозы, какие-то слои могут выпасть из этого процесса, что произошло, в частности, с бродячими сюжетами.
Метаморфозы в природе. Колония гидроида, отпочковывающая медуз
Они оставались неизменны – менялись способы их художественного воплощения и общий результат. Несинхронны и преобразования в различных сферах культуры, сопровождающие смену культурных эпох.
Метаморфозы культуры далеко не всегда тотальны, не обязательно означают полное претворение объекта, они могут оставаться на уровне его частичного преобразования. Любой предмет, лишь облаченный в поэтические метафоры, претерпевает метаморфозу. Это происходит и при изменении окружающей его среды: даже утилитарный объект, попав в музей в качестве экспоната, не меняясь физически, приобретает дополнительные функции, иную духовную ценность и коммерческую цену, историю и будущее, на него смотрят иными глазами и открывают в нем новую для себя вещь.
Творить метаморфозы столь же фундаментальное свойство культуры, как ее пограничность. Оба свойства не изолированы: метаморфоза всегда означает пересечение границы, а пограничье культуры и природы – поле постоянных превращений (что лишний раз доказывает справедливость бахтинского положения о пограничье как наиболее плодотворном пространстве). Здесь совершаются практические изменения природных материальных форм, что происходит с куском камня в скульптуре, с естественным ландшафтом под влиянием градостроительства, садово-паркового искусства и цивилизационных процессов в целом. Однако уже переосознание какого-либо явления меняет его смысл и образ – любой фрагмент ландшафта, не утрачивая естественного состояния, только в результате рефлексии становится пейзажем, сформированным в сознании или представленным в живописи и литературном тексте.
Показательна судьба античных богов и героев в мифологии и искусстве последующих веков, многочисленные воплощения в них реальных лиц в портретах «в виде» Минервы, Марса. Возможно, не просто совпадение, что именно Аполлон, «биография» которого отмечена функциональными превращениями и которому приписаны благодетельные и губительные свойства (те и другие присущи и природе, и культуре), стал покровителем всех искусств. Эта роль не досталась Янусу, хотя он двуликий и считался богом всякого начала, богом богов, вращающим ось мира. Сам Аполлон лишь как Мусагет оказался способным соответствовать полиморфному представлению о культуре, ему были приданы не только музы, но и красота – знак гармонии.
Золотые ворота в Киеве. Современный вид. Реконструкция. Фото
В пространстве культуры может преображаться каждый ее текст. Уже его актуализация в той или иной культурной ситуации, как и восприятие посредством различной оптики – сквозь персональные очки, глазами чужой культуры или призму другой эпохи, – это всегда новое истолкование, метаморфоза первоначальных смыслов. Она совершается также в том случае, если какой-либо текст является источником инспирации, выступая в роли «второй натуры». Такой был для Гоголя малороссийский фольклор, для Шопена в те же годы – мазовецкий. При этом может возникнуть цепочка трансформаций, сколь угодно отстоящих во времени образов: Золотые Ворота в Киеве (1037) – рисунок В.А. Гартмана с проектом ворот для Киева в память Александра II – заключительная пьеса сюиты «Картинки с выставки» Мусоргского (Богатырские ворота. В стольном городе во Киеве). Появление этих произведений, объединенных лишь общим мотивом, превратившимся в «бродячий», сопровождалось метаморфозой первоначального смысла и формы, в данном случае ее переходом из визуально-пластической в звуковую. Что касается первоисточника – киевских Золотых ворот, – то их строительство было результатом материализации и префигурации охранительной функции как практической и сакральной в художественно-эстетическую.
Метаморфоз происходит во времени, поэтому в пространственных искусствах он связан по преимуществу с самим процессом создания, а в дальнейшем и бытования их произведений. В музыке же – наиболее «чистом» временном искусстве – на метаморфозе построены такие формы, как транскрипция, парафраз, вариация, так называемая сонатная форма (или сонатное аллегро), которая определила драматургию сонаты и симфонии. Принцип этих жанров – общность тематизма, в разной степени и по-разному выраженного в каждом из них. Метаморфоз лежит в основе исполнительского искусства. Стремление музыкантов раскрыть авторский замысел, строго следовать «предписанному» композитором тексту дает результаты тем более удаленные друг от друга, чем ярче индивидуальность исполнителей, что ведет к наиболее глубокому переосознанию текста, не нарушая его идентичности.
В.А. Гартман. Эскиз городских ворот в Киеве. Карандаш, акварель. 1870
Явление метаморфоза не единственное, служащее общим стержнем книги. Она структурируется также посредством иных категорий и понятий, дискурсивных линий, проблем и мотивов, универсальных и частных. Чрезвычайно важна проблема пространства. Многообразие пространственных форм сравнимо лишь с бесчисленностью временных. Уже текстуализация пространства в научной мысли в ее двух аспектах пространство текста и текст пространства (В.Н. Топоров) – свидетельство постоянно возрастающей вариативной множественности его форм, которые можно обнаружить как в интерпретациях пространства в художественных и других семантически уплотненных текстах, так и в пространственной структуре самих текстов. Но можно говорить не только о пространстве в культуре, но и о культуре в пространстве, что связано со сферой бытия текстов (или шире – бытия культуры), в которой они создаются, а также воспринимаются, в которой реализуется их прагматическая функция (с. 28). В результате культура образует собственное пространство, пространство культуры (то, что обычно называется культурным пространством, – лишь одна из форм его бытования, связанная с геопространством).
Пространство постоянно подвергается метаморфозам. В мифологическом сознании оно отграничивается от «непространства», что происходит посредством отделения от хаоса, а также развертывания пространства по отношению к какому-то центру, его формируют поселенные в нем боги, сакральные локусы, люди, животные, располагающиеся в нем растительность, вещи, совершаемый в нем путь, как это раскрыто в современных исследованиях. Пространство, в Средневековье наполненное божественным присутствием, в эпоху Возрождения обрело новый центр – человека. После Коперника, который затерял землю в Солнечной системе, человек начал чувствовать себя на ней неуверенно, его фигура, утратив ренессансную телесность, в маньеризме приобрела вытянутый, менее прочно связанный с землей силуэт, как в полотнах Эль Греко.
Конструкция барочного пространства, иерархически упорядоченная, вместе с тем была динамична и неустойчива – отсюда популярность винтообразных колонн, любовь к фонтанам с их «разбрызгиваемым» пространством, контрастирующим со строгой геометрией водных каналов и бассейнов второй половины XVII в. Декарт придал мышлению рациональную конструктивность, а театр классицизма научился сводить многообразие внешнего пространства к одному локусу, организуя также время в соответствии с принципом триединства.
В XVIII в. основным местом действия становится земное пространство, его научились более точно измерять (изобретение морского хронометра, 1735). Вольтер призывал соразмерить статьи социальной программы с истинными земными ценностями («Философские письма». 1734). Просветителям было важно прежде всего земное пространство окружающего мира. Расширился «территориальный» кругозор, освоенное той эпохой пространство, хотя материальные свидетельства, собранные на разных континентах, еще воспринимались как признаки жизни «дикого человека» – пространство культуры для просветителей располагалось прежде всего в Европе, все иное по-прежнему виделось как экзотика, чуждый мир. Однако его «великое открытие» состоялось, что наглядно документировали экспонаты Британского музея. Таким «музеем» стал и называемый английским парк с его многочисленными павильонами, имитировавшими архитектуру далеких народов и времен. Культура вступила на путь историзации пространства, который завершила эпоха Романтизма. Она также вновь обнаружила мифопоэтическое пространство Космоса, сакрализовав и мир собственного Дома.
Наряду с проблемой пространства, организующим началом книги послужили также отношения культура – природа. Культура экспансивна по отношению к ней. Наполняя природу знаками и значениями, художественно и технологически преобразуя, культура тем самым включает ее в круг метаморфоз. Пространство культуры, постоянно разрастаясь, в целом никогда не может отделиться от природного, как и человек не способен оторваться от природы физически и интеллектуально. Природа неизбежно остается фактором его деятельности – в науке, выдвигая все новые проблемы и задачи, в искусстве – служа необходимой основой творчества. Оно никогда не порывает с натурой, о чем свидетельствует искусство авангарда вопреки его декларациям. Это делает невозможным футурологическое моделирование художественных произведений, архитектуры будущего, чем пытались заниматься авторы утопий.
Вопросам пространства, отношениям натура – культура посвящен первый раздел книги. Объединяющей по отношению к ним выступает тема ландшафта, посредством которого природное пространство «воплощается» (от русск. – плоть, англ., фр. – incorporation, польск. – wcielenie) в конкретные формы. В культуре ландшафт обнаруживает себя в различных видах и функциях – это как изменяемое ею естественное пространство, так и ландшафт-образ, ландшафт-метафора, ландшафтный код. В ландшафтных понятиях может быть осознана структура культурных процессов, что, в частности, позволяет говорить об их подъемах, спадах, векторах, различных течениях. Однако прежде всего естественный ландшафт служит тем полем, где изначально разыгрывались и продолжают разыгрываться отношения природа – культура и происходят возникающие в их результате метаморфозы. Начавшись с появлением первого, так или иначе освоенного, а тем самым выделенного из хаоса участка земли, они постоянно получали наглядную форму в садово-парковом искусстве. Этот синкретичный вид творчества, долгое время не замечаемый исследователями «высокого» искусства и философами, в последние десятилетия ХХ в., подобно ландшафту, все чаще привлекал их внимание. Сад уникален конкретностью его физического и «смыслового» положения на пограничье природы и культуры, а также полифункциональностью, простирающейся от сакрального до утилитарного, от эстетического до бытового.
Многотысячелетняя история садового искусства, как и семантически насыщенный мифопоэтический образ-топос сада, который вобрал религиозные, натурфилософские, эстетические и этические концепты различных культурных эпох, дают возможность использовать садовый материал при рассмотрении широкого круга историко-культурных проблем. В данном случае речь и де т в особенности о взаимосвязи сакрального и мирского, утопического идеала и прагматики, города и сада. Без садов нельзя обойтись, описывая эволюцию представлений о природе от Средневековья к Новому времени. Это был путь истинных метаморфоз, когда преобразовывался сам объект и тип рефлексии.
В результате мысль о природе пришла от сакрализации естественного ландшафта Святой земли к почитанию отечественной природы даже в ее самых скромных формах. Сад послужил тем эстетизированным и насыщенным разного рода ассоциациями пространством, которое опосредовало этот переход, сохранив дух сакральности и открыв красоту естественного ландшафта, а в дальнейшем родной по ментальной принадлежности природы. Садовый материал позволяет проследить и другие метаморфозы, в том числе связанные с мифологизированными топосами не только Рая и Святой земли, но и Аркадии, обратить внимание на семантические метаморфозы признаков (в данном случае естественный – искусственный). Метаморфозы не позволяют оппозициям жестко структурировать мир, о чем, в частности, свидетельствует анализируемая далее оппозиция сакральное/мирское в истории сада. Садовое искусство дает возможность наблюдать метаморфозы пространства, которые не являются лишь «садовыми», а воплощают отношение различных эпох к пространству в целом, что показано относительно Просвещения, романтизма и бидермейера.
Овидий. Метаморфозы. Иллюстрация к изданию 1585 г. Венеция
Тем самым во втором разделе, как и в первом, в поле зрения попадают универсальные взаимосвязи «пространство – природа – культура», в процессе и посредством которых происходят метаморфозы всех составляющих названной триады. И все это совершается во времени, которое само подвержено метаморфозам, о чем свидетельствует синкретичный хронотоп сада, объединяющий природное, мифологическое и историческое время.
Культура – результат превращения человека в homo sapiens, она сопровождает существование индивида и человеческого рода в целом. В этом смысле «некультурных» людей нет, культура – их вторая натура. Человек творит культуру, и она творит его, выступая по отношению к нему как внешнее и внутреннее пространство. Спроецировав на культуру известный афоризм Вильгельма Гумбольдта о языке, можно сказать, что человек становится человеком только через культуру, но, чтобы владеть культурой, он уже должен быть человеком. Взаимообратимость внешнего и внутреннего как одна из постоянных метаморфоз пространства культуры делает возможной данную, казалось бы, парадоксальную ситуацию. Труднее представить ее визуально, о чем свидетельствуют скульптуры Генри Мура, неоднократно ставившего такую задачу (ил. с. 25).
Возникнув вместе с человеком мыслящим, культура отделяется от него в качестве накопленного знания, духовного и практического опыта, традиции, оказывается способной извне формировать определенный тип личности, конкретную индивидуальность. В этом процессе участвуют природа и сад как окружающая среда.
Проблематика человека, который выступает одновременно субъектом и объектом культуры, с трудом вычленяется при ее изучении – в итоге каждый историко-культурный вопрос так или иначе проецируется на человека. Эту проблематику трудно локализовать и в другом отношении. Человек не сразу обрел себя, свою самость, на разных этапах оказывался погруженным в миф, во взаимоотношения с Богом, в пространство природы и лишь в Новое время как объект познания концептуализировался в своей целостности. Он обособился от мира природы, а также от нечистых сил и эпистемологически был осознан в своей исключительности, что совершилось в годы Просвещения. Его образ в ту эпоху проигрывался посредством множества ролей – это был «человек естественный» и homo ludens, социальный и эстетический, он превратился в страстного любителя садов, плантомана (говоря в терминах той эпохи), стал вольным каменщиком.
Особые отношения складываются у человека с творимым им искусством. В пространстве культуры и в художественных текстах его образ претерпевает метаморфозы, в результате которых он вообще может перестать означать человека – его тело становится вместилищем мифологических и мифологизированных смыслов, их визуальной оболочкой.
Следуя за своей мыслью, человек способен одновременно находиться во множестве времен и миров. Вместе с тем он занимает постоянное место на экзистенциальном для него пограничье природы, истории и культуры и постоянно пребывает в процессе внутренних метаморфоз. Как нельзя два раза войти в один и тот же поток, так не может дважды войти в него один и тот же человек, что не означает потери им идентичности.
Человек может быть описан в мифологическом пространстве, в контексте окружающей его среды, представлен как играющий с нею, формирующий ее и, наконец, – как ее производное. Эти вопросы включены в третий раздел книги.
Воздействуя на природу и человека, культура не остается лишь наблюдателем истории, бесстрастным хранителем ее событий. Служа памятью истории, культура избирательна и субъективна в ее оценке, она выступает интерпретатором и судьей ее событий, актуализуя и увековечивая то, что представляется важным согласно шкале ценностей каждой из эпох (конечно, критерии определяются не только на столь генеральном, «эпохальном» уровне, они могут быть индивидуальны, отражать мнения отдельных групп). Принципиальные изменения в понимание истории внесла эпоха Просвещения, которая разделила священную и гражданскую историю и впервые так настойчиво занялась современностью, в том числе в искусстве. Материалом для освещения в нем исторической проблематики в данном случае послужило польское искусство, дающее в этом отношении особенно благодарный материал. В последние десятилетия XVIII в. оно развивалось в условиях культурного подъема, национально-освободительного движения и многосторонне засвидетельствовало взаимоотношения истории и культуры того времени, отреагировав и на события разделов Речи Посполитой.
Что касается прошлого, просветители старательно его упорядочивали, продолжив начатое предшественниками собирание исторических документов. Благодаря этому Просвещение отсекло мифологическое время, «укоротив» историю, вместе с тем оно впервые столь заинтересовалось будущим, став веком проектов, утопических сочинений и веры в прогресс, что придало эпохе футурологический вектор. Отношение к истории – одна из важнейших характеристик культурных эпох, о чем идет речь в четвертом разделе книги, где на примере Просвещения показаны так же другие его культурно-исторические метаморфозы, преобразившие эпоху.
Среди них – изменение векторов движения в пространстве культуры, ее ориентация вовне. Свойственная барокко трансцендентная направленность по вертикали земля – небо сменилась ориентацией в земную ширь. Открытый характер культуры Просвещения, его экстравертность, универсализм и космополитизм (в тогдашнем смысле слова) вели к преодолению локальной замкнутости культурных процессов и принципов. Это представлено на материале по преимуществу польской культуры, в которой контрасты старого и нового выразительно свидетельствуют о той эпохе. Культура Просвещения строила свою поэтику (это понятие, как представляется, применимо к культурным эпохам в целом) исходя из представлений об адресате. Она не была эксклюзивна по сути, XVIII в. стал временем свершения Французской революции, хотя именно в то столетие доживал свою историю l’ancien régime, достигший рафинированных форм в стиле жизни, «поэтике бытового поведения» (термин Ю.М. Лотмана).
В числе тех, к кому просветители обращали свое творчество, была женщина, что явилось признаком этой «феминизированной», пацифистской по духу и идеалам эпохи, в отличие от воинственного, «мужского» барокко. Вышедшее из него рококо оказалось как самым игровым, так и самым женственным стилем. Это способствовало развитию игрового начала в культуре в целом, повлияв на характер архитектурного и садового пространства, модель поведения, костюм, особенности творчества, включая стилистику научного, часто фривольную. В годы рококо по-новому осуществлялся синтез искусств – театральность в ее сниженных по жанру формах вытеснила монументальный синтез барокко. Эпохе Просвещения был далек барочный, под знаком вечности Театр мира, ее интересовал театр жизни, в котором оттачивалось особое искусство savoir vivre, не сводившееся к хорошим манерам, светскому этикету, оно было важной сферой know-how той социально настроенной эпохи. Театрализация в ее эстетических и бытовых проявлениях принадлежала к феноменам, определявшим тип культуры той эпохи. Он не может быть представлен, если не принять во внимание масонство как влиятельное движение, характеризующее Просвещение как культуру не только экстравертную, но и эзотерическую.
Обозначенный круг вопросов исследован в общеевропейском контексте с введением материала русской, польской, в ряде случаев литовской и чешской культур, обычно рассматриваемых самостоятельно. Это позволяет уделить внимание общим для Европы тенденциям, воспринять «европеизацию» восточноевропейских культур как часть становления европейского культурного пространства Нового времени. Данный процесс просматривается за всеми сюжетами, касающимися Просвещения – одной из наиболее значимых эпох в истории европейской интеграции. Именно тогда зародился характерный для Восточной Европы «ускоренный тип развития» (понятие Г.Д. Гачева).
В книге сделаны отсылки к разным страницам или частям книги, чтобы связать казалось бы далекие фрагменты. Возможность этого определяется внутренней целостностью пространства культуры, ее гипертекст, по словам Умберто Эко, – «многомерная сеть, в которой каждая точка или узел самостоятельно увязывается с любой другой точкой или узлом».
Принятое в книге понятие метаморфозы не взято априорно, оно выявилось из самого материала в поисках того общего, что объединяет распростершиеся во времени и пространстве явления культуры – плод креативности отдельных личностей и целых эпох. Лексема метаморфозы, хотя отягощенная биологическими коннотациями, а благодаря Апулею и Овидию олитературенная, позволяет принять ее в качестве понятия, адекватно определяющего культуру как животворный организм, находящийся в процессе непрерывного становления и преображения. Этот процесс охватывает и постоянно обновляющиеся представления о культуре, а также подходы к ее изучению. История культуры – это история ее метаморфоз, сливающаяся с ее всеобщей и «частными» историями.
В Древнем Риме богом метаморфоз был Вертумн (Vertumnus, от лат. vertere – превращать) – этрусский по происхождению бог земледелия, садов, всяческих перемен. Он принимал различный облик, особенно часто садовника, отождествляясь также с осенью и ее богатыми дарами. Натуралистический коллаж из них сделал Джузеппе Арчимбольдо, изображая императора Рудольфа II в образе Вертумна (1690. Замок Шкоклостер. Швеция), что породило маньеристическую игру форм и не до конца проявленных смыслов. Все остановилось на уровне эмблемы. (Метаморфоза в культуре может реализовываться с разной степенью завершенности.) Сам Вертумн был более последователен, например, легко обращаясь в старуху. Таким он являлся богине плодов Помоне, которую покорил, вновь став прекрасным юношей. Однако метаморфозы обратимы только в пространстве мифа и сказки. В других случаях в культуре, как и в природе, они не знают движения вспять.
«Не удивляйся: моя специальность – метаморфозы», – так говорит Вертумн в посвященной ему поэме И. Бродского. Без этого бога, ушедшего в неизвестность, «…метаморфозы, / теперь оставшиеся без присмотра, / продолжаются по инерции». И поэт, который чувствовал себя собакой, оставшейся без пастуха, обращался к богу: «Вертумн … Вертумн, вернись». Без бога метаморфоз культура не может существовать.
Джузеппе Арчимбольдо. Портрет Рудольфа II в образе бога садов Вертумна. 1590
Исследованные вопросы затрагивались в работах, ранее публиковавшихся в отечественных, частично зарубежных, изданиях. Это статьи, а также монографии, посвященные различным областям и вопросам культуры XVIII–XIX вв.
В них было представлено бытие искусства при переходе к Новому времени («Польская художественная жизнь конца XVIII – первой трети XIX века», 1978), анализировались поэтика сада и модель человека, возникавшие вследствие отношений культура – природа («Сады Века философов в Польше»; 1994), художественные связи рассматривались как движение мастеров, произведений и идей в пространстве, что расширило сам предмет их изучения («Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX века», 1999).
Данная книга сопричастна также коллективным исследованиям, которые велись Отделом истории культуры Института славяноведения РАН. Ряд из них выполнен по проектам автора:
«О Просвещении и романтизме», 1989; «Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX вв.», 1990; «Человек в контексте культуры», 1995, «Натура и культура», 1997, «Культура и пространство», 2004, «Ландшафты культуры», 2007; последние четыре опубликованы под общим подзаголовком «Славянский мир». Как и названные монографические исследования автора, они были поддержаны различными российскими и международными научными фондами.
За творческое сотрудничество в реализации этих проектов и дружескую атмосферу искренняя признательность коллегам. Она обращена также ко всем тем, кто многие годы в разной форме содействовал моей работе. Особая благодарность Г.П. Мельникову и М.Н. Соколову – первым читателям книги и ее внимательным рецензентам.
Cотворение мира. Миниатюра. Франция. Начало XIII в.
Раздел I Пространство, природа, культура
Глава 1 Пространство в культуре – культура в пространстве
Текстуализация пространства: немного историографии. – Пространство бытия культуры. – Человек и пространство. – Семантизация пространства. Признак. Локусы «создающего текст мира». – Пространственное взаимоположение культур
Мориц Эшер. Относительность. Литография. 1953
Категория пространства, подобно категории времени, универсальна. Исходя из нее могут быть описаны самые разные явления и процессы. Обращение к ней позволяет увидеть культуру как многомерное целое, выявить ее характеристики, остающиеся вне поля зрения при других подходах, иначе взглянуть на уже известное, восстановить первоначальные, часто забытые пространственные признаки. «Миропонимание – пространствопонимание», – писал П. Флоренский.
Развертываясь в пространстве, культура – сама пространство и его интерпретатор. Она создает научные концепты и мифо-поэтические образы пространства, а также новые формы пространства окружающего. В результате возникает способное нескончаемо расширяться пространство культуры как единство пространства смыслов и пространства их порождения и бытия. Представления о пространстве служат смыслообразующей константой, а их изменения ведут к смене культурных эпох, модели и картины мира.
Текстуализация пространства: немного историографии
Проблема пространства, непосредственно или косвенно, интересовала представителей всех ведущих направлений гуманитарной мысли ХХ в. Этому способствовали такие явления, как поворот философии к культуре в качестве феномена человеческого сознания, переход от «наук о духе» к «наукам о культуре», антропологизация гуманитарного знания. Она распространилась и на подход к проблеме пространства, разделилась его интерпретация по отношению к природе и человеку. Время и пространство стали не только онтологичны, но под влиянием теории относительности релятивны, как и их познание.
Сущность человека была определена философами по пространственному признаку как его «открытость миру». М. Хайдеггер посредством пространственно интерпретированного понятия Dasein исследовал место человека в бытии. М. Шелер, основоположник современной философской антропологии, констатировал: «…с самого начала человек имеет единое пространство» и ощущение «мирового пространства»[1]. Сформировалось понятие человеческого мира (Lebenswelt и Umwelt Э. Гуссерля), представление о его множественных формах (menschliche Umwelten Э. Ротхакера). Структурная антропология вслед за К. Леви-Строссом описывала эти миры на этноцивилизационном уровне, выстроив их по семантическим оппозициям. Были открыты новые, обладающие самоценностью этнокультурные пространства, что М. Элиаде делал через историю религий, а художники, знакомясь с ритуальными предметами аборигенов Африки и обнаруживая в них источник пространственно-пластических форм, которые позволяли преобразовывать язык искусства.
Культура в целом начала определяться в пространственных понятиях – пневмосфера П. Флоренского, ноосфера Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского, семиосфера Ю.М. Лотмана. М. Бубер и М.М. Бахтин развили пространственную идею диалога как межличностной коммуникации, общения между человеком, миром и Богом. Понятие хронотоп, введенное Бахтиным в анализ литературных текстов, раскрыло нераздельность пространства и времени в художественных образах и структуре произведений. В.Н. Топоров писал о спатиализации временных признаков и темпорализации пространственных (с. 176–177).
Пограничность, рассматриваемая Бахтиным как онтологический признак, выступила одной из фундаментальных характеристик пространства культуры. По его определению, оно целиком располагается на внутренних и внешних границах, которые свидетельствуют об «автономной причастности» и «причастной автономности» каждого культурного акта. Граница, сакрализованная в мифопоэтическом и традиционном сознании, приобретя с ходом истории этнический и социально-политический характер, ментальный и геопрактический, в XX в. оказалась трактована как научное понятие. Собственно, любая пара антитетических признаков, в том числе пространственных (свой/чужой, далекий/близкий, внешний/ внутренний, центр/периферия и т. д.), по которым изначально осознавался, а в современной науке структурно-семиотически описывался мир, содержит представление о границе.
Семиотизация и лингвизация культурологических исследований, восходящих соответственно к Ч. Пирсу и Ф. де Соссюру, разработка понятия текст принесли новый подход к проблеме пространства. «Текст пространственен… пространство есть текст», по обобщающей формуле Топорова[2]. В рамках семиотической культурологии Ю.М. Лотман сформулировал понятие семиосферы, которая «и результат, и условие развития культуры»[3]. Постструктурализм дал новую пространственную интерпретацию понятия текст, что было связано с неомифологизацией и семиотизацией реальности в ХХ в., с изменением содержания оппозиции реальность/текст[4]. Структура текста предстала как текст без границ, возникло понятие письмо как палимпсест (Ж. Деррида). Понятием интертекст были обозначены внутренние и внешние межтекстуальные связи (Ю. Кристева). Р. Барт писал, что он обладает пространственной свободой и представляет собою «не линейную цепочку слов, выражающих единственный как бы теологический смысл (сообщение „Автора-Бога“), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным»[5]. Возникло понятие гипертекст, который конструируется посредством множества отсылок, образуя особое пространство, связанное с гиперреальностью современного мира (понятие Ж. Бодрийяра).
Джорджо де Кирико. Ностальгия по бесконечности. 1913
Преобразовалась концепция Хаоса, речь идет не только о его энтропии, но и способности к самоорганизации[6]. Б. Мандельброт в рамках общей теории хаоса концептуализировал такое свойство пространства, как фрактальность (лат. – fractus ломать, дробить) – полное или частичное подобие отдельных повторяющихся элементов, что присуще и природе, и формообразованию в искусстве[7] [ил. с. 27; ил. с. 1б2]. Ж. Делёз и Ф. Гваттари сформулировали понятие ризома (фр. – rhizome корневище) как пространства, имеющего всегда ускользающие пределы, неустойчивые и смещающиеся границы, нелинейный способ организации целостности. Согласно У. Эко, ризома не что иное, как подлинная схема мироздания, в ней «каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична». Это некий лабиринт, путешествие в нем «являет собою ситуацию постоянного выбора»[8]. Перед выбором всегда оказывается и культура в целом, творя свои метаморфозы.
Наряду с семиотическим, развивался герменевтический подход, раскрывающий в текстах то «потаенное», что не высказано и «неслучайно случайно», если обратить в афоризм мысль Г.Г. Гадамера[9]. Г. Башляр анализировал поэтику пространства, феноменологию его воображения, рассмотрев особый мир локусов – дом от подвала до чердака, ящики, сундуки, шкафы, углы, которые прочитывались как «психологические диаграммы», как «место космопсиходрамы» и которые были увидены в диалектике внешнего и внутреннего, а простор превратился в философскую категорию грезы[10].
Генри Мур. Внешне-внутренняя форма. Деталь. 1952–1953
Исследовались разные типы пространства. Для Элиаде это прежде всего сакральное пространство, для Топорова – пространство мифопоэтическое. Его интересовала также связь природного и культурного начал, их пространственный макроконтекст, в котором встреча духовно-физического и «великих» текстов культуры порождает духовные ситуации «высокого напряжения»[11]. Г.Д. Гачев увидел синкретичное пространство космо-психо-логоса, раскрывая его в национальных образах мира как единство местной природы, характера народа и его склада мышления[12].
Особый пространственный статус получило «эстетическое бытие», которое возникает путем преодоления «материально-вещной внеэстетической определенности»[13]. Это самоценно эстетический, третий «по отношению к субъекту и объекту, к человеку и бытию… мир, где бытие иллюзорно-эйдетически свертывается в картину»[14]. Искусство с его «ежесекундным претворением в новое» (П. Филонов) делает наглядными метаморфозы пространства, овладение которым лежит в основе пластических искусств, что в живописи сопряжено в особенности с переводом трехмерности в плоскостность[15]. Уже то полотно, на котором возникает изображение, является особым типом пространства. В нем определяется масштаб, направление движения в картине, позиция зрителя, разграничение правого и левого, рама, что влияет на семантику изображения и его восприятие[16].
«Вся лирика и музыка, вся египетская, китайская и западная живопись громко возражают против гипотезы о постоянной математической структуре пережитого и увиденного пространства», – писал О. Шпенглер, придав восприятию его протяженности, глубины роль прасимвола и связав с ним образ индивидуального пространства, мирового, а также эволюцию художественного творчества. Этот философ также выявил, что каждая из возможных перспектив в живописи «представляет известное мировоззрение», что выражается «в каждом из больших искусств» и связано с особым типом восприятия[17]. Продолжая рассуждения Шпенглера, Х. Ортега-и-Гассет также поставил эволюцию искусства в связь с видением пространства, акцентировав положение в нем наблюдателя («Абстрактная идея вездесуща… над всяким чувственным образом тяготеет неотвратимая печать местоположения»). Он же отмечал, что «за века художественной истории Европы точка зрения сместилась – от ближнего видения к дальнему». В результате «сначала изображались предметы, потом – ощущения и, наконец, идеи», внимание перемещалось «с объекта на субъект, на самого художника, от внешней реальности, через субъективное, к интрасубъективному»[18]. Об этом ранее писал и Шпенглер: «Только „point de vue“ дает ключ к пониманию… странного человеческого способа подчинять природу символическому языку форм искусства»[19]. Флоренский назвал прямую перспективу лишь особой орфографией, «одной из конструкций», а обратную перспективу – средством создавать пространство символов, а не подобий («Обратная перспектива». 1922). Пространственные аспекты нашли место в иконологии А. Варбурга и Э. Гомбриха, которая обнаружила тенденцию к сближению с семиотикой. Понятие прямой перспективы Э. Панофский ввел в круг описанных Э. Кассирером символических форм, которые создаются мифом, философией, языком, наукой[20]. Особые пространственные значения раскрылись посредством понятия складка, разработанного Ж. Делёзом, в особенности, применительно к искусству барокко и через сравнения с барокко художественных явлений других эпох[21].
Ян Зрзавы. Библейский ландшафт. 1910
В проблему «культура и пространство» был включен природный ландшафт, трактуемый как креативный фактор[22]. В.А. Подорога обратился к анализу «европейских ландшафтных практик мысли»[23] (c. 56). Ландшафт рассматривался как пространственная среда и ментальный образ, участвующий в формировании картины мира, индивидуального и общественного сознания, особенностей художественного творчества[24].
Проблема пространства попала в центр внимания историков, благодаря чему возникли новые подходы к анализу исторических общностей и новые принципы их классификации. Ф. Бродель анализировал Средиземноморье как хозяйственно-политическую целостность, а историю Франции в специальном аспекте – как историю формирования ее пространства[25]. Выделилось направление, связанное с исследованием ментальных карт[26]. Сложился ареальный подход. Особой целостностью предстали Балканы[27]. Вместе с тем они были показаны как часть «средиземноморского макроконтекста», скрепленного в истоках судьбоносным путешествием Энея[28]. Круг исследований оказался расширен за счет обращения к евразийскому пространству, к проблеме пространства в контексте славянских культур[29]. Движению в пространстве, раскрываемом через такие атрибуты, как путь, дорога, любого типа странствие, посвящены этнолингвистические и фольклорные славистические исследования, в качестве движения в пространстве рассматривались художественные связи[30]. Пространство культуры было соотнесено с виртуальным пространством[31]. Историко-культурные аспекты проблемы пространства выступили в активно развивающейся «новой географии», имеющей много разветвлений, оперирующей понятием географического образа (geographical image, vision)[32].
Бенуа Мандельброт. Принцип фрактала
Пространство бытия культуры
Взаимоотношения культуры и пространства могут быть интерпретированы не только с точки зрения пространства концептуального, пространства смыслов, которое претворяется в мифопоэтическом, сакральном и художественном образе, воплощаясь в знаках и структуре текстов. Наряду с рассмотрением метаморфоз пространства в культуре эти взаимоотношения выступают и в другом аспекте – как культура в пространстве, иначе пространство бытия культуры. В данной связи важны привлекавшие мало внимания слова Бахтина о «совершенно реальном времени-пространстве», «исторически развивающемся социальном мире», где «звучит произведение, где находится рукопись или книга… реальный человек, создавший звучащую речь, рукопись или книгу… реальные люди, слушающие и читающие текст». Бахтин назвал его «создающим текст миром» в отличие от «изображенного в тексте мира»[33]. Различные по сути, они не существуют один без другого, образуя неразделимое целое – пространство культуры, всегда отмеченное присутствием человека, который, находясь в нем, одновременно творит его.
В «создающем текст мире» расположены все виды текстов, заключенные в свою материальной оболочку. Они всегда готовы раскрыться, как только человек начнет читать, рассматривать адресованные ему послания. Чтобы это происходило, нужны институты и социокультурные механизмы, практически обеспечивающие все эти контакты, развитие культуры в целом. Их функции не чисто инструментальны. Они порождают особое пространство бытия культуры, которое также несет информацию о мире, отвечает его картине, свойственной той или иной эпохе, и неотделимо от того интерактивного поля, в котором реализуется прагматика текстов. Здесь осуществляется контакт авторов и их адресатов, определяется их круг, образовательный ценз, создаются условия для их духовного и профессионального формирования.
Пространству бытия культуры свойственна дисперсность и неравномерность, оно разрастается в соответствии с ценностными ориентациями общества, а также его структурой. Это пространство формируется на пограничье с другими типами пространства, в которых одновременно и постоянно пребывает человек – географическим, этническим, политическим, конфессиональным, бытовым и т. д. Пространство бытия культуры соотносится и с пространством виртуальным, т. е. не данным в конкретном ощущении, возникающим как состояние сознания – здесь и сейчас. Пространство бытия культуры не только объективизировано, вещно, ему присуща определенная духовная атмосфера[34]. В нем формируется та модель «поведения культуры», согласно которой складываются ее отношения с социальным и природным мирами, в которых она существует, не сливаясь и не совпадая с ними в очертаниях, образуя также постоянно активное пограничье с пространством текстов. Пространство бытия культуры, взятое в том или ином временнóм срезе, свидетельствует о своей эпохе, о принципах строения культуры, способах ее воспроизводства, путях функционирования, а также о способности к созданию новых ценностей и об условиях этого процесса.
Роль механизмов и институтов, функционирующих в пространстве бытия культуры и обеспечивающих развитие культурной деятельности, формирование культурной среды, не сводится к созданию для этого материально-практической основы. Так, например, с появлением музеев возникает не просто место хранения произведений искусства – меняется их восприятие. В музейных экспозициях полотна обычно выстраиваются в хронологической последовательности, т. е. в определенный смысловой ряд. В результате музей становится особым художественно-эстетическим пространством, а его экспозиция – текстом. Сознательно или заблудившись в многочисленных залах, посетитель может разрушить прямолинейность экспозиционного времени. Как в художественных текстах, оно получает субъективизированные формы. На современных выставках это происходит также в результате манипулирования самими вещами[35].
Изменение формы бытования текстов влияло на лексику. Так, наряду с определением несказанный возникло определение неописуемый, оба первоначально применявшиеся к сфере сакрального для обозначения высшей степени совершенства. Они говорили и о пределах устного и письменного языка, а в целом – о границе возможного для человека описания божественного[36]. С изобретением Гутенберга слова стали печатными и непечатными, но уже в оценочном значении. Эти примеры – частные свидетельства принципиальных изменений, которые происходили в пространстве культуры с возникновением новых форм коммуникации. Сейчас совершается прорыв, связанный с развитием виртуального информационного поля, что ведет к изменению типа адресата и автора, форм общения, характера создаваемых текстов (в частности, появление гипертекста). Уже сложилось одно из самоназваний столетия – век информатики. «Мировая паутина» становится все более важным каналом функционирования культуры, служа также полем порождения ее новых форм и смыслов, в чем еще раз обнаруживается общность пространства текстов и пространства бытия культуры, образующих пограничья с различными типами пространства и постоянно утверждающих свою самостоятельность по отношению к ним.
Тип культурного общения и культурной среды – результат не только творческой мысли, сознательно организующей эту среду функционально и эстетически, но и определенной цивилизационной и общественной ситуации, что опосредованно выражается в художественных текстах. Как писал Платон, «нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменений в самых важных государственных установлениях – так утверждает Дамон и я ему верю»[37].
В каждую из эпох бытие культуры обретает особые формы. Синкретический тип пространства представлял сакральный круг ритуала – он и сцена, и зрительный зал, где нет разделения на участников и зрителей. С разрушением этого синкретизма началось постоянное разрастание структур, опосредующих их взаимосвязи[38]. Вместе с тем окружающая среда наполнялась соответствующими артефактами. «Что за классическое ораторское искусство без соответствующего классического пространства – без полиса, без res publica», – восклицал Гадамер[39]. «Античная площадь, по словам Бахтина, – это само государство, высший суд, вся наука, все искусство, и на ней – весь народ… здесь все публично»[40]. Сходную роль играла средневековая рыночная площадь с собором и ратушей. В ренессансной Флоренции площадь Синьории перед ратушей с постепенно наполнившейся скульптурой лоджией Деи Лан ци (1376–1382), свободно стоящими статуями Донателло, Микеланджело, Джамболоньи, Бандинелли стала не про сто музеем под открытым небом (ил. с. 37). Эти произведения создавали эстетическую среду, в которой протекала жизнь города. Она была разнообразна – площадь Синьории послужила и местом казни Савонаролы (1498).
Пауль Клее. Галлюцинирующая перспектива. Рисунок. 1920
Пространство бытия культуры в целом предстает как способное раскрывать новые смыслы. В нем также находит выражение то напряжение человеческого сознания, уровнем которого Вернадский полагал возможным оценивать исторические эпохи[41].
Человек и пространство
Пространство культуры создает человек, концептуально и вещно. По отношению к нему оно суть внешнее, но, оставаясь внешним, способно становиться внутренним, между ними нет неподвижной или сколько-нибудь плотной границы. Согласно Башляру, «часто именно огромность внутреннего мира придает истинное значение отдельным проявлениям того мира, который развертывается перед нашим взором»[42]. Внешнее и внутреннее вступают в собственные взаимоотношения: «Между интерьерным и экстерьерным, спонтанностью внутреннего и детерминированностью внешнего возникает потребность совершенно нового способа соответствия, о котором добарочные архитектуры не имели представления»[43].
Осваивая пространство, человек примерял его на себя, антропоморфизировал (именно по отношению к человеку определились верх и низ, правое и левое; в соответствии с членением его тела было структурировано пространство храма). Мифопоэтическая традиция, искусство придали пространству многие свойства творящей его человеческой мысли, что для обыденного сознания парадоксально. К их числу принадлежит способность пространства субъективизироваться, претерпевая различные метаморфозы: произвольно сжиматься и расширять свои масштабы, далекое превращать в близкое[44], большее умещать в меньшем, менять местами верх и низ[45].
Благодаря свойствам своего непространственного сознания человек постоянно находится во множестве пространств и времен. По словам Б. Пастернака, человек «не поселенец какой-либо географической точки. Годы и столетия, вот что служит ему местностью, страной, пространством»[46]. Х.Л. Борхес писал об особого рода лабиринте, «который охватывал бы прошедшее, настоящее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю Вселенную»[47]. Таким образом эта фигура получала не только пространственные, но и временные признаки, четвертое измерение.
Джованни Баттиста Пиранези. Римский форум (Campo Vacciro). Гравюра. Около 1762
Герой К. Вагинова, потрясенный послереволюционными событиями, чувствовал, что «бежит все глубже и глубже в старый двухтысячелетний круг. Он пробегает последний век гуманизма и дилетантизма, век пасторалей и Трианона, век философии и критицизма и по итальянским садам, среди фейерверков и сладостных латино-итальянских панегириков, вбегает во дворец Лоренцо Великолепного»[48]. Так образуется единый хронотоп, который присущ не только художественным текстам, но и человеческому бытию.
Пространство культуры образует постоянное пограничье с бытовым пространством, что Лотман описал в сфере бытового поведения[49] (с. 34–36). В эпоху романтизма оно было прямой реализацией литературных моделей, оформляясь соответствующими атрибутами. Согласно Новалису, «роман есть жизнь, принявшая форму книги. Мы живем в огромном романе»[50]. Однако и жизнь святого строго следовала агиографическим описаниям[51].
В ХХ в. отношения между художественным текстом и жизнью постоянно занимали философскую мысль. Проблема не исчерпана и поныне. Семантически уплотненные тексты, тексты-произведения не просто воспроизводят реальность. Само ее понятие для культуры многозначно. Это не только объективизированное пространство. Как писал Элиаде, сакральное пространство «для религиозного человека только и является реальным. Все остальное – бесформенное пространство»[52]. В иконе сакральное невидимое пространство визуализировалось. Для художника реальность, действительность, не подчиненная творческому сознанию, – «грозный и чуждый хаос… Туман его грез осаждается на действительность, омывает ее росой творчества; родимый хаос начинает петь для него и в природе. Таков путь фантастического романтизма к романтизму реальности», – полагал Андрей Белый[53]. «Идеи – тоже реальности, но существующие в душе индивида, – писал Ортега-и-Гассет —… Мир иллюзий не становится реальностью, однако не перестает быть миром, объективным универсумом, исполненным смысла и совершенства. Пусть воображаемый кентавр не скачет в действительности по настоящим лугам и хвост его не вьется по ветру, не мелькают копыта, но и он наделен своеобразной независимостью по отношению к вообразившему его субъекту[54].
Каждый творческий акт уникально преображает пространство и его образ. В процессе «прочтения» текстов-произведений, не затрагивая их внутреннюю идентичность, реальность, как бы она ни была понята, берет реванш, способствуя извлечению из них того, что в наибольшей степени соответствует данной культурной ситуации, типу рецептора, а не строго интенциям авторов. (В аспекте прагматики текста проблема была разработана Л. Витгенштейном; Гадамер писал об «окказиональности, сопутствующей всякой речи», зависимости от конкретного случая[55].) Эти условия определяются в пространстве бытия культуры. Сама же возможность многозначного прочтения текстов заключена в их семантической многослойности, глубине. Она делает возможным возникновение традиции, т. е. сохранение и актуализацию тех или иных слоев, а также появление так называемых вечных ценностей, отвечающих каждой эпохе[56]. Однако актуализация – это всегда метаморфоза первоначальных смыслов, их новое истолкование.
Семантизация пространства. Признак.
Каждое осмысляемое пространство, даже так называемое пустое, семиотично. Уже в Библии представление о пустоте получило многозначность (с. 84). Для протопопа Аввакума «пустые» места – это места ссылки. Пустота – также эстетическое понятие. В ампире есть «та самая любовь к пустоте, которая вновь появляется и в модерне после долгого периода боязни пустоты в годы эклектики», – писал Д.В. Сарабьянов[57]. В ХХ в. принцип «пустого места» становится одним из элементов авангардистской поэтики, пустоту можно изобразить[58]. «Отверстия – не более, как места, где находится более тонкая материя»[59]. Беззвучная пауза – не что иное, как «звучащая пустота» музыкального пространства.
Собственно «пустым» пространство может быть только для человека, для животного же «нет пустых форм пространства и времени», – отмечал Шелер[60]. В таком плане Топоров различал пространство и место, которое «предполагает замысел и, следовательно, целенаправленность и установку»[61]. М. Фуко говорил о «пустом пространстве, где уже нет человека. Пустота эта не означает нехватки и не требует заполнить пробел. Это есть лишь развертывание пространства, где наконец-то можно снова начать мыслить»[62].
Осваивая пространство, человек постоянно наполнял его артефактами, знаками и значениями, осмыслял природные признаки. В одних случаях природа, будучи лишь вдохновителем, сохраняла собственное пространство, в других – оно переставало быть таковым, становясь «культурным», независимо от аксиологии происходивших в нем изменений.
Франтишек Купка. Колосс Родосский. 1906
Чтобы природное пространство оказалось в сфере культуры, не обязательно его культивировать и огораживать, превращая в сад или индустриальную площадку. Достаточно, чтобы там поселился genius loci или чтобы оно было осознано как связанное с каким-либо значительным событием, выдающейся личностью, запало в историческую или индивидуальную память, если употребить одну из пространственных метафор, служащих поискам «тождества двух заведомо различных объектов»[63]. Они густо наполняют язык культуры, формируя пространственный код, который подлежит расшифровке. Знаковый характер получают топонимы, маркирующие образ того или иного природного или исторического места (c. 60-61).
Если пространство неким образом осознается, то в него вносится содержательное начало, природные особенности превращаются в признаки, которые приобретают дополнительные значения, символизируются. Признак «не столько „принадлежит“ объекту, сколько „задается“ человеком»[64]. В ходе культурного процесса происходила мифологизация, сакрализация, аксиологизация признаков пространства, их семантизация или десемантизация, стереотипизация. Если в традиционной и народной культуре признак в принципе остается устойчивым, а набор признаков достаточно стабильным[65], то в культуре «ученой» постоянно происходит их забывание и актуализация, они утрачивают собственно пространственную доминанту, из пространственных превращаются в эстетические (как в понятиях высокой и низовой культуры или высокого и низкого жанров). Пространственным понятиям придавались дополнительные значения, в результате географические признаки трансформировались в культурные. Так, Восток и Запад начали ассоциироваться с определенным типом культуры. Стороны света могли вопреки географической реальности перемещаться – Московское государство, первоначально осознававшееся как Север, постепенно стало восприниматься как принадлежность Восточной Европы, само понятие которой сформировалось лишь постепенно и до сих пор существуют различные точки зрения относительно того, когда это произошло.
Пространственные признаки служили разделению сакрального и светского. Как писал П.Я. Чаадаев, «пирамидальная архитектура является чем-то священным, небесным, горизонтальная же – человеческим и земным»[66]. Эти признаки свидетельствовали не только об ориентированности готики и классицизма по горизонтали или вертикали, но и о духовной ориентации той или иной эпохи в целом.
Переосмысление пространственных признаков, изменение их состава и соотношения, то, как это происходит, свидетельствует о характере отдельных эпох, а также позволяет проследить работу смыслообразующих механизмов культуры, вскрыть взаимодействие культурных и социально-исторических явлений. Изменяющаяся семантика пространства, степень «заинтересованности» эпохи или индивидуума данной проблемой служат выражением внутреннего строя культуры.
Локусы «создающего текст мира»
Локусы, какими являются города, другие агломерации разного масштаба, различного рода культурные институты структурируют и по аксиологической вертикали иерархически выстраивают пространство бытия культуры. Ими обозначены его центр и периферия, они служат местами сгущения творческой энергии, маркируют направления культурной ориентации и культурных взаимодействий, информационных потоков, пути передвижения культурных ценностей, самих их создателей. Лишаясь культурных функций, локусы утрачивают свою самость. Это наказание было определено Вавилону: «И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества» (Откр 18:22).
В Средневековье важнейшими культурными локусами первоначально выступали монастыри – хранилища рукописей, «место работы» интеллектуалов, мастеров, вместе с учением своих орденов разносивших по Европе различные знания и художественные умения, как цистецианцы готику. С IX в. к монастырям присоединились университеты (Магнаура в Константинополе), в XVII в. были основаны академии наук и академии художеств, в следующем веке было положено начало музеям (Британский, 1753). На пограничье природы и культуры расположилась вилла, с античных времен образуя вместе с ее садами особый вид сельского жилища, служащего местом наслаждения и интеллектуальных занятий (с. 135). Дворцово-парковый ансамбль как особый локус формирует эпоха барокко, культурными оазисами становятся усадьбы, органично объединяющие бытовые и культурные функции. С разрастанием городов образуются городские урочища, вписанные в конкретный природный и урбанизованный ландшафт[67].
Локусы, занимающие географически определенное место, в текстах культуры наполнялись значениями, символизировались, превращались в особые топосы, образ которых, мифологизируясь, отдалялся от породившей их действительности. С одного локуса на другой, практически или ментально, переходили их функции – культурные, политические. В пространстве движутся путешественники, любые из них – «переносчики» национальной ментальности и стереотипов, а также их создатели. Все они активные участники жизни культурного пространства, творцы его поля напряжения и векторов.
Пространственное взаимоположение культур
В пространстве бытия культуры сосуществуют ее различные типы, так или иначе деля между собой место в культурной жизни, – традиционная и профессиональная, классическая и поп-культура, соседствуют культуры различных народов и культурных общностей, языки и диалекты. Соседства возникают между культурными эпохами[68]. Вместе с тем складываются переходные формы, такие, как русская усадебная и городская культуры конца XVIII – первой половины XIX вв., любительский театр.
Различного рода связи, структурирующие пространство культуры, осуществляются как в пространстве, так и во времени. Если первые ведут к формированию культурных общностей, первоначально по принципу свой/чужой, то вторые делают возможным преемственность традиций. Постоянно пересекая пространственные и временные барьеры, культура хранит и актуализирует архетипы, мифопоэтические образы, сопрягает удаленные друг от друга культуры, культурные эпохи в протяженности «большого времени». Пограничные явления могут вовсе не соседствовать во времени и пространстве, в этом плане можно говорить как о собственно пограничных, так и надграничных явлениях. Сходство возникает и под воздействием «духа времени»: культура порождает близкие явления также вне прямых контактов. Если genius loci привязан к определенному месту, то дух времени все более расширял свое влияние по мере формирования общеевропейского культурного пространства. Однако Европа лишь постепенно становилась «Европой», постепенно осознавалась и принадлежность к ней, что служило элементом самоидентификации народов и личностей[69]. Как писал А. Бергсон, европеец это тот, кто осознает себя европейцем.
Европа знала несколько эпох «великой интеграции». Первая – начатая греческой и продолженная римской колонизацией, которая заложила общую античную основу европейской культуры, актуализированную Ренессансом. Вторая значительнейшая эпоха – время распространения христианства. С Ренессанса и его трансальпийских маршрутов началась третья великая эпоха европейской культурной интеграции. Ренессансные постройки возникли в Венгрии, Польше, Хорватии, Чехии. Культура барокко проникла в восточноевропейские земли, включая Россию.
Эпоха Просвещения способствовала постепенному включению в общеевропейскую культурную жизнь всех европейских народов (IV.1). «Галлизация» Европы, прежде всего языковая, отражала не просто экспансию французской культуры[70]. Французский язык оказался необходимым инструментом в европейских контактах, сменив ученую латынь, которая функционировала лишь в узком кругу «республики ученых» (res publica literaria). Универсализм культуры Просвещения, претендуя на мировой масштаб (космополитизм в тогдашнем понимании), способствовал прежде всего укреплению общеевропейских тенденций. Определенную роль сыграли различные формы освоения восточной культуры.
Площадь Синьории. Фото
Сложилась европейская сеть информации и коммуникации, определились пересекающие всю Европу маршруты, правда, чреватые приключениями и опасностями; ее наполнило движение носителей разных профессиональных знаний и умений, людей, жаждущих получить образование. Все они, а не только торговые люди и дипломаты, добираются теперь до России, часто оседая там и связывая восток и запад Европы интеллектуальными, художественными, а также семейными узами.
Эпоха Просвещения актуализировала идеи Вечного мира, она отмечена рождением модели «человека мира», «космополита», конституированием и распространением наднационального масонства. В его представлениях сформировалось особое отношение к пространству, в них «географическое поле значений было полностью заменено нравственным, и сюжет о перемещении в географическом пространстве воспринимался как аллегория нравственного возрождения»[71]. Это нашло отражение в масонской программе естественных парков того века, где прогулка становилась инициацией, превращалась в моральное путешествие (IV.5). Важнейшее значение для типологического сближения культур православного и католического ареалов имело ослабление их конфессионального противостояния.
Однако периоды европейской интеграции чередовались с противоположным по знаку движением. Так, за христианизацией последовал раскол церквей, а затем Реформация; за эпохой Просвещения наступила «националистическая» эпоха романтизма. Современность, отмеченная глобализацией, означена также сепаратизмом.
Пространственным актом является каждый случай самоопределения, самоидентификации (человека, народа, личности) – это момент осознания, фиксации культурных границ. Пограничье несовпадающих конфессиональных, языковых, национальных, государственных и прочих территорий, хотя и может стать зоной конфликтов, часто оказывается продуктивным пространством для развития культуры, свидетельствуя о ее самостоятельности, об особой вычлененности ее пространства, его надграничности. Восточные земли Речи Посполитой известны не только конфликтами на ее многонациональных землях, но и своеобразными художественными явлениями, а также особыми формами сарматизма[72].
Отношение к национальному пространству окрашивало картину мира и менталитет отдельных народов[73]. Если для французов национальное пространство – это «douce France», как они до сих пор любят нежно называть свою страну, а для англичанина, культивирующего традиции, – это «old England», то для поляка национальное пространство их страны, хотя и стертой с политической карты, сохраняло свои очертания «póki my żyjemy»[74]. У славянских народов, которые в тот или иной период существования были лишены независимости, образ своей земли оказался перенесен в пространство исторической памяти. Его хранителем стало и пространство художественных текстов, которое служило компенсатором утраченного политического пространства. Наряду с этим обращение к образам исторического прошлого было своего рода эскапизмом, бегством из реального в мифологизированное пространство.
Римский форум. Фото
Подобно тому, как борхесовский создатель сада верил не «в единое абсолютное время… [а] в бесчисленность временных рядов, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен», так и культура, обладая собственным пространством бытия, творит бесчисленное множество пространств-текстов, свидетельствующих о ней самой и мире.
Глава 2 Натура и культура
Человек и природа. – Что есть природа! – Между естественным и искусственным. Попытки сближения
Сен-Клу. Терраса сада. Фото.
Взаимоотношения натуры и культуры, воплощаемые в религиозных, научных, этических, художественных и иных формах, неизбывны в истории человечества. Их возникновение и развитие составляют суть такого феномена, как homo sapiens. С его появлением сложилась новая структура земного мира, распавшегося на натуру и культуру.
Человек и природа
Мысль о природе, осознанно или неосознанно, постоянно присутствует в человеке и составляет первоначальную основу его миро– и жизнеощущения, а также миропонимания. Отношения культуры и природы в решающей степени влияли на само состояние мира и его картину, они оказались определяющими по отношению к человеческой деятельности в целом, ее направлениям и результатам. Как культура не может изолироваться от природы, так и человек не способен оторваться от нее не только физически, но и интеллектуально. Природа – необходимый источник существования, деятельности, творчества, она ставит перед ним экзистенциональные проблемы и задачи, стимулируя цивилизационное и духовное развитие. Человек не может отойти от натуры даже в своих фантазиях, как без природной инспирации авторы утопий не могут описать произведения будущего[75].
Отношения культуры и природы, которые семиотика определяет как отношения мира знакового и незнакового, в философском смысле охватывают взаимосвязи Человека, Космоса и Бога, практически включают всю метафизическую проблематику, связи бытия и сознания, мира реального и мира идеального, материи и духа, природной необходимости и творческой свободы, в итоге – проблему места человека во Вселенной и его отношения к ней. Он воплощает и олицетворяет единство природы и культуры. В мифологии, которая изначально их не дифференцировала, культурные герои наделялись способностью как создавать предметы культуры, так и преобразовывать природу.
Архетипическим способом осознания универсума стала антропоморфизация. Согласно представлениям древних, Космос мог строиться по модели человека, по его образу конструировался мир не только природы, но и культуры – он был положен в основу архитектурных пропорций, семантики сакральных сооружений. «Неантропоморфных представлений не существует, – писал Шпенглер. – … Это одинаково приложимо ко всякой исторической религии, как и ко всякой физической теории, как бы хорошо обоснованной ее ни считали. Каждая из них сама есть миф и в каждой своей черте предусмотрена антропоморфически»[76].
Ж. Месмер. Надеждино и окрестности
Человек – производное природы. Однако обладая способностью суждения, в Новое время он противополагает себя всему сущему, пытается овладеть сакрализуемыми им ранее тайнами природы, установить над ней господство, а в дальнейшем вновь в нее вписаться. Взаимоотношения натуры и культуры повлияли на тип личности, свойственный той или иной эпохе. По тому, дается ли плотски-тварное изображение человека со знаком минус, как в Средневековье, или прославляется телесное начало, как в Ренессансе, выступает ли человек в целокупности физического и духовного, как у Монтеня, или это чувствительный человек, как у Руссо, можно судить об отношениях природы и культуры различных эпох. Эти взаимоотношения позволяют понять не только человека, но и мир окружающих его вещей в единстве их прагматической и духовно-символической функций.
Схождение натуры и культуры в человеке – его основная экзистенциальная драма, заключающаяся в возможности осознавать свою биологическую конечность, спасения от чего он ищет как в Боге, так и в сфере культуры. О нежелании людей уйти с земной сцены с неодобрением писал Иосиф Бродский, – «Лицам их привит / к жизни какой-то не-/ покидаемый вид» («Натюрморт»). Наряду с зависимостью от природы, страхом перед ней, человек еще озабочен экзистенциальным «ужасом истории» (М. Элиаде). Пытаясь противостоять природе, человек неудовлетворен также культурой. Едва отделившись от природы, он начинает искать возвратный путь. Возникает парадоксальное «недовольство цивилизованного человека цивилизацией»[77].
Удалиться от природы и вновь соединиться с ней – эти две разнонаправленные тенденции культура постоянно обнаруживала в своем развитии. Уже Библия фиксировала взаимосвязь культуры и природы: человек был создан «возделывать и хранить Эдемский сад», как говорит Книга бытия (2:15). Если отвлечься от ее морального символического толкования, то эти слова можно отнести к двум процессам, определяющим сущность культуры: «возделывание» первоначального материала (включая самого человека – садовником человеческих душ станет Христос) и сохранение природы, накопление, преемственность традиций.
Что есть природа?
«„Природа“ есть функция отдельной культуры»[78], поэтому содержание этого понятия на протяжении эпох подверглось сущностным метаморфозам. Речь шла о разных по составу и объему предметах[79]. При этом границы природы могли расширяться, включать Бога и сверхнатуральные явления, или сокращаться, охватывать прежде всего земное пространство. Различно определялись пути возникновения природы и ее развития, временные рамки существования (всегда, несколько библейских тысячелетий со дня сотворения мира или миллионы лет геологического времени). Это не было связано с тем, что человек видел в окружающем мире. Видимое и мыслимое соотносились различно.
Для греков и человек, и боги были частью натуры (фюсис), которая первоначально понималась как самоорганизующееся живое целое, сущность, имеющая основание в самой себе (Аристотель) и обладающее телесностью. Шпенглер, объясняя отсутствие в античном искусстве собственно пейзажа, так противопоставлял античное и «европейское», «фаустовское», в его терминологии, восприятие природы:
«Наше чувство природы, постоянно выражаемое живописью, музыкой и лирикой, некое могучее, страстное влечение к далям и горизонтам, а также ландшафтам, небу, облакам, лесам, горам и морю, однако только постольку, поскольку они носители и выразители бесконечности, есть строгая противоположность античному чувству природы, которое держится за прекрасные нагие отдельные формы, за близкое, осязаемое, наличное и как раз вследствие этого закрывает глаза на безграничность открытого ландшафта».
В христианском Средневековье природа перестала быть самосущностью. «Аналогия микрокосмоса и макрокосмоса лежит в фундаменте средневековой схоластики, ибо природа понималась как зеркало, в котором человек может созерцать образ божий»[80]. Природа – произведение Бога, Космос-храм, где земное и небесное символически уподобляются, она виделась не как естественная, а как сверхъестественная. Изображения и описания природных элементов символизировались, поэтому сакральный ландшафт мог изображаться в виде отдельно растущих цветов. Однако пути познания «царства природы» и «царства благодати» оставались различны. Первая доступна чувственному восприятию, которое дает импульс для логического суждения о ней, вторая постигается лишь в силу откровения.
В эпоху Ренессанса мыслители начали судить «О природе вещей согласно их собственным принципам» (так назывался труд Бернардино Телезио – один из важнейших в ренессансной натурфилософии. 1565). Произошло пантеистическое слияние творения и творца, а природа была наделена одушевленностью, имманентной творческой силой, ореолом божественности. «Природа, то есть Бог», – писал Альберти. «Бог не внешняя интеллигенция… для него достойнее быть внутренним принципом движения», – утверждал Бруно[81]. Распространилось натурализованное и полное тайн эзотерическое прочтение природы. Гностики, рационализируя мистический опыт, искали власть над ней внутри ее самой, рассматривая ее в качестве живого целого, а человека видели в движении всего бытия[82]. Он микрокосм, центр четырех стихий, сама же природа – бесконечность в бесчисленности ее миров, о чем Бруно и Галилей сделали вывод из гелиоцентризма Коперника. «Я вижу эти ужасающие пространства Вселенной, – писал Паскаль, – … Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе, как атом»[83].
Ренессанс перенес внимание с Бога на его творение, что привело, в частности, к зарождению европейского пейзажного искусства. На первый план выходит проблема отношений натуры и культуры, а с ней возрождается античная теория мимесиса. Художники увидели, что «искусство заключено в природе; кто умеет обнаружить его, тот владеет им»[84]. Однако «умение» уже было сферой культуры. Как говорил Николай Кузанский, «ничто не может быть только природой или только искусством, а все по-своему причастно обоим»[85], отметив генеральную особенность пространства культуры. В XX в. Бахтин сформулирует ее следующим образом: «Внутренней территории у культурной области нет: она вся расположена на границах»[86].
В космологии XVII в. возобладали представления о математическом порядке. Трудами Галилея, Декарта и Ньютона Книга природы с языка божественных символов была переведена на язык математики. Вселенная открылась опытному изучению, при этом природные явления были уподоблены механическим. Естественные тела начали рассматривать как «божественные машины», «естественные автоматы», а отличие между природой и искусством усматривали в способности первой создавать машины, которые «в своих наименьших частях, до бесконечности продолжают быть машинами»[87]. Барокко оживило восходящее к Средневековью понятие machina mundi[88]. Бог был провозглашен Великим механиком и Великим архитектором.
В XVII в. природа понималась как хорошо рассчитанная система, как часовой механизм, полная кладовая, где особенно важен количественный фактор. И всем этим можно распоряжаться по своему усмотрению, научившись искусственно заводить механизм. Автор XVII в., увидев настольные часы в виде небесной сферы, восхищался, «как маленький человечек создал на Земле все то, что Интеллигенции создали на небе, где они вращают огромные своды Вселенной… искусство породило… портативное небо… прекрасное зеркало, в которое смотрится природа и удивляется, видя, как искусства дошли до того, что как бы рождают вторую природу»[89]. Эта «вторая природа», служившая натурой для художественного творчества и источником инспирации, уже с эпохи Ренессанса начала играть в искусстве все расширяющуюся роль. Оно само становится «второй натурой» – для художников и скульпторов того времени ею служили древнеримские произведения, а для архитекторов XVIII в. – постройки Палладио, которые, представлялось, позволяли проникнуть в дух античности. «От образа природы, как чего-то данного извне, – к образу природы, как чего-то понятого изнутри – вот путь классического творчества», – писал Андрей Белый[90].
Опасность утратить связь с природой возникла при переходе к Новому времени, когда «человек от себя и собственными средствами вознамеривается… обеспечить себя в своём человечестве посреди сущего в целом»[91]. Соприкосновение культуры с натурой ощутимо в каждой ее точке. По словам Дидро, прекрасное рождается в тот счастливый миг, когда культура не утратила свою связь с матерью-природой. Поэтому садоводы Века философов хотели искусственно воспроизводить естественную природу.
Карманные часы с астролябией. 1570
Научное знание, соединившись в Новое время с технической мыслью, открыло путь инструментальному пониманию природы, в этом философы усматривают истоки современного экологического кризиса[92]. Хотя экологические проблемы сопровождали человечество со времени верхнепалеолитического продовольственного кризиса[93], однако все больше волновать они начали с эпохи Просвещения, именно тогда все чаще появляются описания вырубленных лесов, испорченных ландшафтов. Концепция возникшего тогда английского пейзажного парка, в который его создатели хотели превратить окружающее человека пространство, была не в последнюю очередь попыткой охранить природу от воздействия цивилизации, равно как и от насилия над ней в искусстве, пример чему видели в геометрических садах предшествующего столетия. Стремясь гармонизировать отношения природы и культуры, мыслители XVIII в. провозгласили естественное начало мерой вещей и этическим принципом.
Тем не менее в восприятии людей XVIII в. природа еще во многом оставалась «аллегорической книгой», как назвал ее Дидро, однако аллегории получили новую интерпретацию. Лесной лабиринт в духе критицизма эпохи был поводом говорить «о заблуждениях человеческого ума, о недостоверности наших знаний… о тщете возвышенных построений метафизики». Лист, падающий в ручей и нарушающий хрустальную прозрачность воды, свидетельствовал о непостоянстве привязанностей, хрупкости добродетелей, силе страстей, волнениях души, он напоминал «о важности и трудности непредвзятого отношения к самому себе и правильного самопознания»[94]. Так эмблематический подход к природе, воспринятый от барокко, соединился с ее эмоциональным восприятием, воспитанным сенсуализмом. Книга природы стала романом для чувствительных сердец.
Между естественным и искусственным
Тоска по естественному как духу природы, которая постоянно живет в человеке, воплотилась в проходящих через всю историю культуры образах Эдема, Золотого века и Аркадии, в постоянном противопоставлении жизни на лоне природы и в городе, а также в особой роли топоса сада в культуре. Все это не мешало осваивать природу и наделять ее не присущими ей значениями. «Хотя в природе много вещей индивидуальных и несравнимых, разум обдумывает для них новые параллели, связи и родство, которые не существуют», – писал Френсис Бэкон.
Естественность трактовалась различно: как хаос или гармония в античности, как греховность в Средневековье – в кругу христианской культуры путь к «обожению» лежал через самоотрицание, а осознание человеком немощи вело к свободе, понятой как свобода от своей природы, от естественной необходимости. В Возрождении естественность – это торжество витального начала. Монтень, не противополагая естественное цивилизации, отождествлял его с манерой поведения, благопристойной и благовоспитанной, т. е. естественность стала растением, «взлелеянным всей культурой»[95].
В XVII в. понятие естественная природа выражало представление о ее субстанции, очищенной от всего случайного. Теоретики ценили природу за регулярность, гармонию и симметрию, которые она «соблюдает в своих столь совершенных творениях», но и многообразие, о чем, в частности, говорил «Трактат о садоводстве согласно установлениям природы и искусства» Бойсо де ла Бародри[96]. В дальнейшем эти признаки разошлись. Регулярности оказалось противопоставлено многообразие английского парка.
В эпоху Просвещения естественность – это следование справедливым законам природы. Рассматривая природу и историю в единстве[97]. Просвещение сделало шаг к тому, чтобы понятие естественность стало означать первоначальное состояние природы. Поэтому ее «дикость» уже не пугала, а была подведена под эстетическую категорию возвышенного и начала воспроизводиться в садах искусственно, давая повод для создания садовых неожиданностей и игровых ситуаций. Тем не менее естественность сохраняла идеализированный характер.
XIX век принес программный натурализм; тогда же появилась наиболее отвечающая его задачам техника фотографии, открывшая, как представлялось, возможность воплотить объективно – достоверный образа окружающего мира, к чему стремилось и изобразительное искусство[98]. Оно хотело быть безыскусным. Ему это не удалось, как и фотографии, которая сразу обнаружила свое видение мира, в признании чего ей долгое время отказывали.
В XVIII в. естествознание стало важнейшей областью науки. Царствование математиков представлялось Дидро окончившимся, а на экспериментальное изучение природы он отводил века. Окружающий мир теперь постигался «не путем созерцания совершенства Бога, а путем созерцания совершенства его творения»[99]. Не механика, как ранее, а широко понятая биология служила основой философских построений. Природный мир был классифицирован (Линней), появилась естественная история (Бюффон), ботаника стала излюбленной «наукой чувствительных душ», как ее назвал Руссо. По мнению людей той эпохи, именно они впервые узнали, «каков действительный облик земли»[100]; главное, полагал Дидро, «заключается не в вопросе… был ли мир создан, но… таков ли он, каким он был и каким будет»[101].
Живой космический дух природы, почитаемый античностью, оживший в герметизме Ренессанса, ей вернули романтики, признав природу сферой абсолюта. Если в эпоху Просвещения натура – это, прежде всего, материя, то в романтизме – торжество духа над материальной действительностью. Для человека XVIII в. природа была образцом, который можно воплотить в жизнь, романтику она являлась недостижимым идеалом, для одного – это видимая реальность, для другого – постоянная тайна. Мыслитель Просвещения постигал природу, гербаризируя и мечтая (Руссо). Истинно романтический поэт, по словам Новалиса, изначально всеведущ, он способен пророчествовать.
Уже с античности в отношениях искусства и природы стержневым стал вопрос о приоритете одной из них[102]. Ответ на него был связан с тем, как представлялся идеал, со стилевой и жанровой эволюцией художественного творчества; в свою очередь, ответ влиял на пропорции символического и натуралистического начал, тип символики, иконографии. Однако искусство и помимо эстетических теорий воплощало свое отношение к натуре, отражая данное уже античностью двойственное толкование этого понятия. Оно содержало представление о натуре творящей, т. е. божественной сущности, и натуре творимой (natura naturans и natura naturata, по средневековой терминологии). Искусства (технэ), согласно Платону и Буало, превосходят ее. Тем не менее утвердилась прежде всего аристотелевская теория мимесиса, что привело к долго доминировавшему пониманию натуры как идеала. При этом мимесис мог означать подражание вещам, как они есть (это низко оцениваемый Платоном иллюзионизм), а также, по Демокриту, подражание созидательной способности натуры[103].
Наряду с символизацией подражание выступило универсальным свойством не только искусств, но и освоения человеком мира в целом. Подражанием природе стал научный эксперимент – имитация деятельности природы в лабораторных условиях. Художники-импрессионисты тоже ставили своего рода эксперимент, стремясь максимально приблизиться к воспроизведению таких феноменов природы, как свет и воздух во всей их непосредственности. На рубеже XIX–XX вв. модерн достиг синтеза изощренной искусности и биологизма.
Провозглашенный в XX в. отход от теории мимесиса не означал отказа следовать натуре. Одним из постулатов творчества стало уподобление природного процесса и процесса художественного, подражание не формам природы, а следование ее творческой способности, что сближалось с демокритовским пониманием мимесиса. Художник почувствовал себя божественным медиумом, частью высшей природы, «объект и субъект в авангардном дискурсе отождествились»[104]. Вместе с тем разрушение традиционных художественных форм в искусстве было попыткой возвращения к изначальной первозданности, к космическому сакруму, его архетипам (Бранкузи), к структурной первоначальной сущности вещи (Сезанн), к выявлению не только созидающего, но и деструктивного начала в природе (постмодернизм). По словам Клее, искусство не изображает видимые вещи, а делает их видимыми. Однако и подражание формам природы не говорит о пассивности культуры. Монтень полагал, что сила воображения – бич человека, так как из-за него тот имеет дело со «второй природой» вместо «первой». Оно неизбежно порождает «творческое» отношение к природе и не позволяет культуре слиться с ней. Сколько бы культура не стремилась к этому, она не может перейти собственную грань. Взаимоотношения между природой и культурой постоянно разыгрываются внутри культуры.
Доменико Мерлини, Ян Христиан Камзетцер. Лазенки. Дворец на Острове. 1772–1793
Природа, так или иначе воспринятая, становится пространством культуры. В отличие от «садообразного пейзажа», каким природа предстает в своих наиболее гармоничных проявлениях, именно в культурном пространстве располагается созданная человеком садово-парковая «вторая натура», которую одному из авторов XVI в. было «непонятно, как и назвать». Сад как возделанный участок земли – это всегда пространство культуры[105], что относится и к временам, не осознававшим специфичность культурной и эстетической деятельности (В полной мере это пришло лишь с Ренессансом. Именно тогда началось художественное моделирование ландшафта[106].) Однако попадая в сферу культуры, сад не перестает при этом оставаться пространством природы – небо служит такой же его необходимой составляющей, как и земля. Декоративность небесных (в прямом смысле) естественных световых эффектов постоянно учитывалась создателями садов как в Версале, так и в английских парках. Природа сохраняет в саду свойство быть живой природой – сад всегда растет, это также принималось во внимание садоводами в их проектах. Сад живет и в природном времени, и в историческом.
Стадлей Ройяль и парк аббатства Фоунтен. Гравюра Энтони Уоркера. 1758
Мастера английского парка программно стремились превратить его в естественную природу. Это был эксперимент, длившийся почти сто лет. Однако тенденция к натуральности, ее все более последовательная реализация ставила предел самому существованию сада, культивированного и, как правило, огороженного пространства (II.4). Оно сохранялось, пока «естественная» природа садов оставалась скомпонованной, выступая в духе классицизма как прекрасная природа.
В XIX в. возобладание натуралистического принципа, культ «родной» природы привели к рождению национальных парков-заповедников, резерватов природы[107]. Так природа получила свое охраняемое место. Наряду с этим развивалась противоположная тенденция – культура сама начала противостоять, хотя и безуспешно, безграничному разрастанию собственного пространства. Это осознается как необходимая предпосылка самосохранения человечества, что проявляется, в частности, в создании натуроподобных заселенных ландшафтов, городов-садов. В ХХ в. началась борьба за охрану воздушного пространства, речь идет не только об атмосфере, но и стратосфере, заполняемой плодами цивилизации и ее отбросами.
Культура не может обходиться без природы, которая предоставляет ей энергию и изначальный материал. Он беспределен, что делает беспредельным и возможности развития культуры. «Наше воображение, – писал еще Паскаль, – скорее утомится постигать, чем природа – доставлять ему материал… никакая идея не приближается к ней»[108]. Этот материал константен, ибо природа, по словам Б. Спинозы, «всегда и везде остается одной и той же»[109] – в этом ее отличие от исторически изменяющейся культуры.
Однако материал природы исчерпаем в своей вещественности, отсюда поиски всевозможных искусственных заменителей – ранее этому служили декоративные имитации, как искусственный мрамор, позднее – полимеры. Ими пользуются не только архитекторы, но и живописцы, связывающие с использованием искусственных красок возможность достижения особой экспрессии.
Культура заимствует у природы не только материал, но и принципы организации текстов, т. е. поэтику. Природа обладает ею в потенциальном виде, ибо «в ней есть язык» (Тютчев). Для Шеллинга вся природа есть «дремлющая интеллигенция», полностью пробуждающаяся в человеке, его духе, что происходит при посредстве культуры. Собственно «само понятие „Природа“ является плодом Культуры, отсоединения человечества на особую жизнь, путь и смысл – путь закона, дхармы [„порядка“, „установления“], ума, блага, любви, труда и т. д.», – писал Г.Д. Гачев[110]. Вместе с тем становится все очевиднее, что культура не свободна от деструктивного начала.
Попытки сближения
По мере развития натурфилософской мысли понятия натура и культура могли гармонизоваться, сочетаться антиномически и даже антагонистически – традиция, заложенная в Новое время и во многом обязанная Канту и Фихте, лишивших «природу всякого в себе сущего достоинства»[111]. В условиях, когда и биологические, и нравственные перспективы человечества оказались под сомнением, возникла тенденция преодолеть противостояние природы и культуры, что проявилось различно. С экспансией индустриализации развитие культуры начали представлять как саморазрастающуюся систему, уподобив ее развитию природы, в которой, в свою очередь, обнаружили механистическое начало. Г. Гельмгольц провозгласил, что «конечной целью естествознания является отыскание всех движений, лежащих в основе изменений и их двигателей, следовательно, сведение себя к механике» (1869). Поэты также оказались склонны к подобным представлениям. М. Метерлинк полагал, что цветы «исполнены гордого притязания захватить и покорить поверхность земного шара, умножая до бесконечности представляемую ими форму бытия… Поэтому большинство растений прибегает к хитростям, комбинациям, к устройству снарядов и силков, которые, в отношении механики, баллистики, воздухоплавания и наблюдений над насекомыми, часто превосходят изобретения и знания людей». Вместе с тем развитие индустрии он видел как воспроизведение эволюции растений («Разум цветов». 1907)[112].
Павел Филонов. Формула весны. 1920
В 1910 г. C. Франк констатировал, что готовится «крупнейший переворот. Вся область органической и психической природы изъемлется из сферы механического мировоззрения». Он признавал, что в природе «имеют место живые, разумные, целеустремленные индивидуальные силы», и это делает «невозможным полагать между природой и культурой непроходимую пропасть», отрицать «соучастие обоих начал в каждой точке бытия»[113]. Подобные представления проецировались на художественное творчество. Архитекторы авангарда рассматривали архитектуру и урбанистику как «живую цепь организмов», социально функционирующие «органы» [ср. ренессансный подход (с. 135). Идея единства культуры и природы легла в основу русского космизма, проявившись особенно в теории ноосферы, согласно которой, человеческая мысль – это геологическая сила, сложившаяся «стихийно, как природное явление, в последние несколько десятков тысяч лет»[114]. Это прямо перекликается со словами Николая Кузанского, который рассматривал разум в качестве божественной космической силы: «Человеческий ум… участвует в плодородии творящей природы»[115].
Симптоматична постановка исследователями вопроса о том, «принадлежит ли искусство к природе или к культуре или же в какой мере одной и другой?» В поисках ответа на него значимы такие аргументы, как роль природных детерминант в формировании личности (что подтверждается исследованиями нейрофизиологов[116]), преодоление дуализма в трактовке познавательного акта (не последовательность, а одновременность физического видения и осознания)[117]. Актуализируя мысль Леонардо да Винчи, что «живопись не требует перевода на разные языки… как и произведение природы» («Парагоне»), Э. Гомбрих трактовал образы живописи как естественные, а не искусственные знаки[118]. Важны идеи о биологических истоках культурных феноменов[119]. Еще в XVIII в., в частности в «Энциклопедии», говорилось, что это природа научила «людей искусству сохранять свои мысли с помощью различных знаков».
Новые «науки о сложных системах», включающие фрактальную геометрию, нелинейную динамику, неокосмологию, теорию самоорганизации и другие, изменили мировоззренческую перспективу. От механистического взгляда на Вселенную научная мысль пришла «к пониманию того, что на всех уровнях – от атома до галактики – Вселенная находится в процессе самоорганизации» и саморазвития[120]. Н.В. Тимофеев-Ресовский выстроил концепцию коэволюции природы и общества (1968). К числу явлений, объединяющих природу и культуру, относится так же способность той и другой к метаморфозам, хотя, как в каждом другом случае, их проявления в этих двух сферах различны – вопрос, заслуживающий дальнейшей разработки. Примером совместного творения метаморфоз являются все виды современных искусственных мутаций.
Теория интеракции Ю. Хабермаса предполагает необходимость диалогических, субъектных отношений не только в социальной сфере, но и во взаимодействиях с природой – освобождение ее посредством технологизации от внешнего принуждения, а также от репрессивности, свойственной сущности человека[121]. В 1970-е гг. возник «технологический детерминизм», рассматривающий развитие техники как самовоспроизводящийся процесс. «Философия техники» ввела эту проблему в социокультурный, политический, экономический и экологический контекст. Осмысление технологизации не как детерминирующего, а как необходимого, но требующего обуздания явления открывает перспективу для попыток избежать эсхатологического исхода отношений природы и культуры.
«Настал общий пир Земного шара… времена несовершенства и предрассудков давно уже прошли вместе с болезнями человеческими… никто не удивлялся прекрасному пиру природы»[122]. Эти события, о которых писал В.Ф. Одоевский в своей утопии (c. 160), он отнес к 4338 году.
Глава 3 Ландшафты природы и культуры
Антропность и антропоморфизация. – Культурный ландшафт и культура как ландшафт. – Ландшафт в контексте эпох. От ландшафта к пейзажу. – Четвертое измерение. Руины. – Движение. – Взаимосвязи географии и истории культуры
Маттеус Мериан Старший. Вид Альтдорфа. Гравюра. 1642
Проблема «ландшафт и культура» связана с фундаментальной универсальной проблемой пространства. Рассматриваемое в качестве категории или некоей данности оно неизбежно возникает с той или иной степенью осознанности при исследовании любой темы, в том числе историко-культурной. Как писал М. Хайдеггер, от пространства «нельзя отвлечься, перейдя к чему-то другому»[123]. Это, соблюдая соответствующие пропорции, вполне может быть отнесено к ландшафту, который не только развертывается в пространстве, но и наследует многие его принципиальные свойства и признаки. Само природное пространство может быть с очевидностью воспринято, стать ощущаемым именно посредством ландшафта, в котором человек постоянно пребывает. Элементы ландшафта структурировали земную поверхность, придав ей первичную форму. Об этом сказано в Библии. Если в преддень творения «земля… была безвидна и пуста», то, чтобы сделать ее «явью», наполнить, Бог «создал твердь посреди воды», которая «отделяет… воду от воды» (Быт 1:2; 1:6), «собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах» (Псал 32:7), «утвердил землю на водах» (Пс 135:6), «распростер небеса», возвел «облака от краев земли» (Иер 10:12,13).
Геологические и биологические элементы ландшафта – горы, воды, флора, фауна – были тем первичным, что в наземном мире подлежало повседневному использованию и осознанию, которое началось с сакрализации и мифологизации ландшафта. Послужив в дальнейшем также объектом исторической, художественно-эстетической рефлексии, он тем самым приобретал семантику и образность, не свойственные природе, преобразовывался в индивидуальном и коллективном сознании, в итоге оказывался в пространстве культуры, становился ландшафтом-текстом, несущим информацию о человеке и его картине мира.
Антропность и антропоморфизация
Естественный ландшафт включен в экзистенциальные взаимоотношения природы и культуры, является их полем и порождающим началом, в результате выступая в функции субъекта. Взаимоотношения с ним человека многообразны. Согласно антропной гипотезе организации Вселенной, она возникла как приспособленная под человека[124]. Предвосхищая современную точку зрения, об этом же говорило библейское описание акта творения, дни которого завершились созданием человека. Вселенским домом ему служили земная и небесная твердь, радости Эдема. Однако и после грехопадения Земля оказалась пригодной для выживания. «И как же им [людям] не радоваться, ища и постигая, для кого это небо украшено солнцем и звездами, ради кого земля покрыта садами, дубравами и цветами и увенчана горами, для кого море и реки, и все воды наполнены рыбой, кому рай и само то царствие уготованы? Как им не радоваться и не веселиться, славословя, постигая, что это – не для кого-либо иного, но для них самих!», – писал Иоанн экзарх Болгарский[125]. Такой дарованный антропный ландшафт многое предопределял в судьбе человека и целых народов, в зависимости от него формировался их круг занятий, менталитет, верования, картина мира.
Ландшафт служит частью не только внешнего, но и внутреннего пространства человека, влияя на индивидуальную психику и художественное творчество. Согласно И. Бродскому, «если стихотворение написано, даже уехав из этого места, продолжаешь в нем жить. Ты это место не то что одомашниваешь, ты продолжаешь в нем жить. Мне всегда хотелось писать таким образом, будто я не изумленный путешественник, который волочит свои ноги сквозь»[126]. Ландшафт становится частью биографии, творческой и персональной. Как вспоминал Г. Гессе, «в те времена, когда я часто оставался один, я обретал ландшафты и лица из моего собственного прошлого»[127]. Ландшафты, претворенные художниками и писателями, превращаются в «свои» и для их зрителей, читателей, «присваиваются» ими.
Естественный ландшафт образует «постоянное пространство», представляя собой «нечто вроде формы для отливки, которая моделирует бóльшую часть нашего поведения»[128]. Это также не просто «ландшафт-панорама, которому можно предстоять… Он служит идеальной позицией для индивидуального видения мира, превращается в метафизический»[129]. Хайдеггеру, по его словам, работа в Шварцвальде «открыла пространство этой горной местности. Весь ход труда остается погруженным в событие ландшафта»[130]. Или как сказал О. Мандельштам о М. Волошине: «Он… почетный смотритель дивной геологической случайности, именуемой Коктебелем – всю свою жизнь посвятил намагничиванию вверенной ему бухты. Он вел ударную дантовскую работу по слиянию с ландшафтом»[131]. Бродский писал: «Я овладел искусством / сливаться с ландшафтом» («Вертумн»).
Если уже от природы ландшафт был наделен антропностью, т. е. предназначен для человека, то сам он не только сознательно приспосабливал природную среду для своих нужд, но и придавал ландшафту, как и миру в целом, свой «образ и подобие» (c. 41–42), хотя могло происходить и обратное. Согласно «Книге Еноха», сам человек был создан из элементов ландшафта – «плоть его от земли, кровь его от роси и солнца, очи его от бездны морскые, кости от камениа, жилы его и косми от траве земние»[132].
Антропоморфизация в разных формах сохранялась на протяжении всего развития культуры. Человеческие фигуры с античности служили аллегорической персонификацией элементов ландшафта (рек, морей и т. п.). В западноевропейской живописи XVII в. фантастичные и одновременно натуралистичные ландшафты приобретали очертания человеческой головы и тела, в то время как у Дж. Арчимбольдо коллаж растительных форм превращался также в аллегорию, фантастический лик или портрет[133] (ил. с. 18). В ХХ в. антропоморфные образы и даже «портреты» усмотрели в реальных очертаниях гор, как Волошина в контуре Карадага.
Метаморфозы были обоюдные. В «Песни песней» красота невесты описана через ландшафт конкретных локусов, расположенных в реальном географическом, а не сочиненном ландшафте: «Глаза твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску» (Песн 7:5). У Овидия антропоморфные персонажи превращались в растительно-ландшафтные и геологические объекты (ил. с. 14). В современном поэтическом сознании выступает мотив уподобления, как это жестко обозначил И. Бродский, говоря о горах: человеку «уподобить не впервой / наши ребра и хребты / ихней ломаной кривой… что я, что ты, /… ихним снегом на черты / наших лиц обречены» («В горах»).
Общность ландшафтно-геологических и антропоморфных телесных форм проявляется в скульптуре. Микеланджело, как известно, для того чтобы выявить искомую форму, полагал необходимым лишь удалить из природной глыбы мрамора все лишнее. Геологический объект – камень служил материалом не только для пластических искусств, но и для поэтических и философских метафор, говоривших о времени разбрасывать или собирать камни.
Мандельштам открыл общность поэзии Данте с геологией и сравнивал структуру его монолога «с горными породами», попутно сожалея, что «к Данту еще никто не подходил с геологическим молотком, чтобы дознаться до кристаллического строения его породы, чтобы изучить ее вкрапленность, ее дымчатость, ее глазастость, чтобы оценить ее как подверженный самым пестрым случайностям горный хрусталь». Вся «Божественная комедия» для Мандельштама – «кристаллографическая фигура, т. е. тело… Она есть… сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник»[134]. Так природный ландшафт наделял культуру своими свойствами и позволял создавать образы, необходимые для ее самопознания. Шпенглер, как и Мандельштам, одержимый ландшафтом (он постоянно писал о духовных, душевных, музыкальных ландшафтах), напомнил о старонемецких юридических и клятвенных формулах, суть которых закреплялась в ландшафтных образах, связанных с вечностью и бесконечностью: «Всегда и вечно, пока стоят земля и горы», «везде, где встает солнце», «пока ветер гонит облака», «идти до пределов, до каких ветер дует и петух поет», «до того места, до которого простирается голубое небо»: такое беспредельное чувство, по мнению Шпенглера, создало могучую форму западноевропейской ландшафтной живописи[135].
Венцеслас Холлар. Антропоморфный ландшафт. После 1625 г. Гравюра
Не метафорически можно говорить и о природной предопределенности некоторых ланд шафтов для развития культуры и искусства, о их культуро– и артогенности, если употребить неологизмы. Точнее полагать, что подобная потенция в принципе заключена в каждом клочке земли, вопрос лишь в том, когда это будет востребовано культурой, которая в соответствии со своим состоянием постоянно открывает для себя духовную плодотворность все новых территорий. Так, в середине XIX в. сила ландшафта, казалось бы «вдруг», прорвалась сквозь «закономерности» художественного процесса. Именно тогда во французском Иль-де-Франсе, около Фонтенбло, художники «нашли» Барбизон с его особой световоздушной средой, позволившей мастерам, названным барбизонцами, нарушить столетиями утверждавшиеся представления о характере живописи и ее функциях. Вскоре Сезанн и Ван Гог открыли Прованс, Гоген – экзотические земли.
Винсент Ван Гог. Звездная ночь.1889
Однако прежде всего для искусства была открыта Италия, отмеченная не только синтезом природы и архитектуры, но и взаимосвязью школ живописи с конкретными местностями, их природными свойствами и культурными традициями, что придало ярко выраженные геокультурные признаки искусству Ренессанса. А.А. Трубников писал: «Нескончаемо огромной книгой была бы география красоты Италии. Многогранное сияние озарило ее: Падую, старую книгу науки, Бергамо в синих горах, Мантую с тайнами дворцов и Мантеньи, Римини с Изоттой и слонами, Парму фиалок и Корреджо, Урбино – Вифлеем живописи, Верону краснокаменную, Сиену легендарную»[136]. «География красоты», о которой писал Трубников, отразилась в именах-топонимах, которые получили многие мастера итальянского Возрождения, как Никкола Пизано, Антонио Венециано, Джованни да Верона. Не случайно Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550) в заглавиях посвященных им отдельных очерков часто отмечал – «флорентинский живописец», «сиенский живописец», «римский живописец»…
Сливая образы итальянского ландшафта с образами искусства, Трубников описывал Умбрию как «страну теней», воздуха «легкого, как божество», долин, над которыми «проносится легкая молитва». Она, по словам его современника П. Муратова, дала Пьеро делла Франческа и его «Крещение» с «волшебностью… пепельно-серых тел», серебристым воздухом, сурово-нежными ангелами в венках из роз и оливковых листьев и осколком фаянсово-голубого неба в реке». «Сияющему воздуху картин Пьеро не могли… научить… ни сьенцы, ни флорентийцы», – утверждал Муратов и продолжал: «Корни [образов Италии] в итальянской земле»[137]. Она была той синтезирующей основой, которая объединяла природу, историю и искусство Италии. Поэтому также в этом плане оказывается возможным отнести понятие ландшафт к культуре не только метафорически.
Культурный ландшафт и культура как ландшафт
Наполняясь не только ментальными смыслами, но и овеществленными артефактами, ландшафт конкретно практически менял свой облик, что в лучшем и более редком случае происходило посредством садового искусства или осмысленных урбанистических процессов. Так возник ландшафт, называемый культурным[138]. По сути являясь природно-культурным (геокультурным), он свидетельствует об активности не только культуры, но и природы в формировании жизненного пространства человека, возникая как результат их синкретического единства и взаимодействия. Даже в местности, преображенной «до неузнаваемости», природный ландшафт запечатлевает свое присутствие в рельефе, топосе и топонимах тех или иных мест, в собственных и собирательных «именах» народов, населяющих их (древляне, поляне, горцы), в природно-ландшафтных аллюзиях, ассоциациях, метафорах художественных текстов, так или иначе связанных с данной местностью.
Культурный ландшафт можно считать неким новым геологическим образованием – он меняет поверхность земли, влияет на климат, растительность, животный мир и другие компоненты, принадлежащие естественному ландшафту, воздействует на самого человека, образуя новую окружающую его среду. Благодаря причастности природно-культурного ландшафта к сферам разума, духа, природы, а также привнесенной в него знаковости это понятие в соответствующих аспектах можно соотнести с принятыми в науке такими пространственными понятиями, как ноосфера, пневматосфера, семиосфера.
Результатом природно-культурного синтеза являются городские ландшафты. Петербург принял «строгий, стройный вид», стал городом-проспектом (образ В.Н. Топорова) благодаря не только влиянию французских градостроительных концепций, но и плоскому рельефу, позволившему про странно развернуть регулярную композицию. Вопреки всем преобразованиям местности города никогда не утрачивают связь с первичным ландшафтом, воспоминания о нем хранят и образы-топосы, закрепляющие природно-культурные коннотации, но иногда отходящие от реалий, как в случае Петербурга. Хотя у впадения Не вы в Финский залив располагалась крепость Ниеншанц и торговый город Ниен, а в центре будущего Петербурга находились шведские усадьбы[139], возникло мифологизировавшееся представление о новой русской столице как выросшей на пустом месте. Этот образ упрочил Пушкин. Однако он очень точно писал, что Петр стоял «на берегу пустынных волн», а не на пустынном берегу. В дальнейшем застройка шведских времен, в том числе взорванного Ниеншанца (руины города зарисовал Ф. Васильев. 1718. ГРМ), не только исчезла реально, но и стерлась из памяти вместе с топонимами. Окраины Петербурга долгое время оставались пустынны. Их поэтизировал в своем рисунке Александр Орловский (На окраине Петербурга. 1812. ГРМ; ил. с. 72).
Образы-топосы, живя самостоятельной жизнью, мифологизируются, сакрализуются, генетически и исторически приобретают множественность значений, обобщенный смысл, вступают во взаимоотношения. Порой топосы превращаются в композиционные ландшафтные клише (отсюда в садах многочисленные «Парнасы», «альпийские горки»), а имена собственные становятся нарицательными: «вторая Венеция», «Новая Голландия». Поводы для этого бывают не только собственно ландшафтные, но и религиозные, о чем говорят такие топонимы, как «Новый Афон», «Новый Иерусалим». В середине XVII в. «перенос» гор и рек палестинского ландшафта на русскую землю осуществлялся патриархом Никоном в Новом Иерусалиме, где наряду с воспроизведением иерусалимского храма воссоздавались священная топография и топонимика Палестины (Елеон, Фавор, Вифания, Гефсимания, Иордан). Существует и другая форма мультиплицирования образа святого места – воспроизведение Храма Господня как повторяющегося символического образца[140]. «Альпийские горки» типичны для современного ландшафтного дизайна, однако лишь как декоративный элемент. В разных странах особенно в XVII в. распространились «Голгофы» с ведущим к ним крестным путем, этапы которого отмечались соответствующими сооружениями (ил. с. 96). Перенос топонима мог иметь иной смысл: в Северной Америке строившимся городам давали называния покинутых в Европе мест с определением New или без него. В результате они символически обретали историю и исторические связи.
Переносились растительные элементы ландшафта – десятками тысяч пересаживались деревья при создании парков, как в Стрельне, Мускау и Бранице (с. 159). В современные музеи под открытым небом транспортируются целые архитектурные ансамбли. Огромные парки соединили миниатюрные копии знаменитых построек всех времен и народов. Фрагменты природного и культурного ландшафта получали новую локализацию как в нереализованных проектах, так и в реальной жизни (передвижка в Москве домов на Тверской улице и Андреевского моста), в художественных текстах – в Чевенгуре А. Платонова с появлением новой власти «шевелились дома…[а] небольшой сад вдруг наклонился и стройно пошел… в лучшее место».
Преобразуя естественный ландшафт, культура творила свои ландшафты – ландшафты культуры: садовые и урбанистические, фантастические или натуралистичные, реалистические или порой мистифицированно далекие от природного прообраза, намеренно отходящие от него, и даже ландшафты небесные[141]. Природные и художественные формы сливались, рождая особое образное единство. Ландшафтная лексика и метафорика, «ландшафтный» код выступили неотъемлемым элементом поэтики литературного творчества[142]. Если ландшафт претворялся в художественные образы, то представления об артефактах, в свою очередь, переносились на осознание природного ландшафта, его форм (отсюда такое понятие, как архитектура скал). Понятие складка вошло в описание природного рельефа и художественно-культурных процессов (Делёз, с. 27).
Карта Чехии в виде розы. Гравюра. 1679–1682
Можно говорить и о ландшафте самой культуры. Местами концентрации духовной энергии в природно-культурном ландшафте становятся такие локусы, как святилище, дом, сад, город, различного рода урочища[143]. Они придают культурному ландшафту особый энергетический рельеф, вместе с тем членя его по принципу центр и периферия, которые могут меняться местами в зависимости от течения культурно-исторических процессов. Рельефность присуща и самим этим процессам, в которых есть ритм и протяженность, вершины и спады, следы расходящихся в разных направлениях информационных потоков, различных идейных, художественных течений. Рельефно и взаимоположение отдельных явлений культуры, их типологическая и аксиологическая иерархия («высокие» и «низкие» жанры в искусстве, официальное искусство и андеграунд). Тем самым рельеф выступает одним из принципов самоорганизации культуры как системы и одновременно одной из ее пространственных характеристик.
Рельефностью обладает сама человеческая мысль, эмоциональные реакции. Рельеф является одним из способов построения художественных текстов, как вербальных, так и визуально-пластических. Он свойствен голосоведению в музыке, смысловой ткани и фактуре живописных полотен, литературных произведений (исследователями отмечено, что сюжетные линии некоторых романов XVIII в. извиваются подобно дорожкам современного им естественного парка). Рельеф нагляден в скульптуре как принцип формирования пластической массы, он определил ее разновидность, так и названную «рельефом» и подразделяемую на барельеф и горельеф. Особые эффекты рельефность придает графической форме (высокая, она же выпуклая, а также углубленная гравюра).
Различия рельефа определили типы садов – разноуровневых, террасированных итальянских; геометрических, тяготеющих к плоскости французских; живописно раскинувшихся английских. Возникнув в разные эпохи, они выражали определенный тип отношений культуры и натуры и появлялись в любой стране независимо от ее природных условий. Даже в садах à l’anglaise, призванных следовать естественной природе, происходили далеко идущие изменения ландшафта, его рельеф, природный материал и природные формы использовались в соответствии с актуальными эстетическими конвенциями и модой (с. 172). Однако генезис садовых стилей был связан с особенностями природного ландшафта, имеющего значительные перепады в Италии, пересеченного и круглый год покрытого зеленью во влажной Англии и только во Франции в наибольшей степени подчинившегося рационализму национального мышления, в котором вслед за Декартом совершенство природы отождествилось с геометрией.
Прямая зависимость от природного рельефа сказалась в ритмах национальных танцев – в равнинной Польше возник полонез (chodzony) и пространственно развертывающаяся в своем хореографическом рисунке мазурка, в то время как жители гористых местностей отдали предпочтение круговому танцу, не требующему широкого разворота, концентрирующему энергию в пределах сакрально-магического круга (хора). Хоровод, но уже как медленный, растекающийся в пространстве женский танец, характерен для равнинной России.
Естественный рельеф повлиял на структуру лабиринта, который является одной из наиболее многозначных пространственных архитектурных форм (с. 150). Его происхождение связано как с ландшафтными элементами, так и с мифологией[144]. Она сама обнаруживает зависимость от ландшафта и его рельефа, о чем свидетельствует крито-микенская культура с ее мифом о Минотавре и Кносским лабиринтом, не утратившим таинственности и после раскопок Эванса. Прослеживается связь ландшафта и с религиями[145]. Все это позволяет употреблять понятие ландшафт культуры и в этих случаях не только метафорически.
Ландшафт в контексте эпох. От ландшафта к пейзажу
Окружающий и ментальный ландшафт каждой из эпох различен, каждая вносит в него свои артефакты и семантику. Античность густо наполнила картину мира и ландшафт богами, их скульптурными изображениями и храмами-жилищами, сакрализуя также геологические элементы ландшафта и его растительность. Христианизированный ландшафт, в отличие от языческого, менее населен, он священен в целом как творение Бога и, казалось бы, не нуждается в божествах-опекунах для каждой его составляющей. Однако основные элементы ландшафта получили новые сакральные смыслы, а многие языческие сохранились под евангельским покровом.
Значимые локусы христианизированного ландшафта первоначально были укрыты, они располагались под землей, в катакомбах. Позднее на ее поверхности появились пустынь, храм, монастырь как обители, служащие духовному совершенствованию. Они стали целью паломничеств и тем самым заняли свое место на географической и ментальной карте мира. Башни храмов и колоколен, возносясь над деревьями или городской застройкой, до сих пор во многих случаях остаются главными высотными точками ландшафта, свидетельствуя о «ландшафтной прозорливости» их строителей и иерархии духовных ценностей.
К небу символически обращены также приземистые миниатюрные каплички с крестами, фигурами Христа, болеющего о судьбе человеческой, Богоматери-покровительницы, различных святых. Расположенные чаще при дорогах они отмечают и духовный путь, широко распространившись в католическом ареале в эпоху церковных реформ и барокко, особенно в Германии, Польше, а также Чехии, где в XVII в. ресакрализация ландшафта, характерная для той эпохи, получила наиболее ярко выраженные формы[146]. Согласно русской мифоритуальной традиции, придорожные сооружения располагались в «страшных», а также священных местах – христианских и природных, часто образующих комплексы[147]. Чехов дал такую ремарку ко второму действию «Вишневого сада»: «Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья».
Сакральными символами различного уровня служили природные элементы ландшафта, такие, как горы, деревья, камни. Часто наделявшиеся противоречивыми значениями, в наиболее высоком смысле они символизировали ось мира и самого Христа, а скальные разломы – его раны. Изображения уступчатых сбросовых гор (так называемые лещадки в иконописи) в библейских и евангельских сценах напоминали о днях творения земной и небесной тверди, о геологии земли. Изображенные на них постройки срастались со скалистыми формами, как бы довершая тектоническую работу природы.
Каждому из возвышенных мест в мифопоэтическом и традиционном сознании придавался особый статус. Они служили медиаторами между земной и небесной сферами. Отсюда древняя мемориальная функция холмов и курганов (современный след этого – архитектурно-скульптурный ансамбль Мамаева кургана). «Холмы – это вечная слава. / Ставят всегда напоказ / на наши страдания право», – писал Бродский («Холмы»).
В Древней Руси курганы первых князей служили «естественными историко-географическими ориентирами для начального летописания»[148]. В Польше традиция подобных сооружений, которые насыпали всем миром, оживилась в романтизме (курганы под Краковом в честь национальных героев – Т. Костюшко и Ю. Понятовского, в ХХ в. такового удостоили Ю. Пилсудского). В стихотворении «Заповiт» Т. Шевченко говорится, что он хочет быть похоронен «на могиле», что по-украински означает курган[149]. Его польский современник описывал Украину «с ее широкими, как взгляд, степями, с ее Бугом и Днепром, которые по граниту выводят Боянову ноту о рыцарях Владимира, о Болеславах, о Ничае, о Колиивщине, с ее церквями, крестами, курганами»[150]. Оставшиеся от кочевников или оседлых жителей, они были многочисленны и с древних времен вросли в восточноевропейский ландшафт.
Часовня на месте основания древнего Белозерска. 1909
Заселенный природный ландшафт – ландшафт геоэтнический. Движение в нем – это движение от одного народа к другому. Зыгмунт Красиньский так описывал поездку, начавшуюся под Брест-Литовском: «Четыре дня и четыре ночи я видел перед собой восемь коней, несущихся по пескам… по воде, по Полесскому болоту… и день и ночь я слышал разговор почтальонов с лошадями – сначала по-польски, чем дальше – тем больше по-русински»[151].
На рубеже Средневековья и Возрождения в европейском искусстве появился метафизический панорамный так называемый Weltlandschaft (Мировой пейзаж)[152]. Он включал набор основных ландшафтных элементов – горы, скалы, воды, лес, среди которых разбросаны поселения, маркирующие присутствие человека в Универсуме. (Бродский отметил «склонность гор к подножью дать / может кровли городка»[153]). Параллельно с Weltlandschaft’ом получили развитие документальные топографическо-картографические гравюры[154] (ил. с. 54, 103). Развитие этих видов творчества было одним из истоков формирования пейзажа как жанра. Из них изображение конкретной местности, чуждое Средневековью, пришло в алтарные композиции, а сам общий вид – в фоны ренессансных картин. (Первым видом реальной местности принято считать изображение Конрадом Вицем альпийской панорамы и Женевского озера, хотя и в функции Генисаретского, в библейском сюжете Чудесный улов. 1444. Женева. Музей искусства и истории.) В более ранних паломнических текстах ландшафт Святой земли уже был описан как таковой, а в лицевых списках русских «хожений» (в частности, игумена Даниила) появились условно-схематичные изображения его отдельных сакральных мест (ил. с. 98).
Метафизика и реальность соединились в пейзажной картине Возрождения, когда природа стала самостоятельным объектом познания и художественного отображения. При этом живопись не утратила способность нести сакральные и символические значения, в ней слились христианское и гуманистическое начала[155]. Становление пейзажного жанра пошло по пути идеализации природы, что происходило параллельно с развитием садоводства как особого вида искусства (II.2). Ландшафт в пейзажной живописи приобрел садообразный облик. Инспирирующим в этом плане оказался естественно-культурный ландшафт Италии.
Курган Тадеуша Костюшко под Краковом. 1723
Это отвечало эстетике и барокко, и классицизма. Если классицизм вносил в изображение ландшафта гармонию, то барокко придало природному пространству динамизм, сделало его более емким семантически и насыщенным артефактами. Количество культурных памятников, вписанных в окружающий ландшафт, могло даже казаться недостаточным[156]. Распространившиеся в европейском искусстве фантастические архитектурные пейзажи с гипертрофированными масштабами изображаемых сооружений и их количеством, предпочтение, отдаваемое артефактам, а не геологическим и растительным элементам природного ландшафта, свидетельствовали о характерных для барокко отношениях культуры и натуры. Переполненность отличала и ставшие в XVII в. модными голландские сады с их малым пространством. Еще в середине XVIII в. Пиранези по барочному перегружал пространство своих графических листов (ил. с. 39°).
В XVII в. живописцы не воспроизводили ландшафты, соответствующие сюжетному месту и времени, – геоисторизм утвердится в искусстве два века спустя. Пока же мифологические и библейские сцены переносились в идеализированный итальянский ландшафт (Пуссен, Клод Лоррен), и теоретики учили, как его выстроить по законам искусства, а не натуры. Земное пространство соединялось с небесным в иллюзионистских росписях куполов соборов и дворцовых плафонов, визуально безгранично расширяясь. В бесконечность уводили взгляд аллеи и каналы садов.
Эпоха Просвещения увидела ландшафт не космологически, а разлившимся в земную ширь. Теперь искали не «пуп земли» – мифологический символ центра, один из первых ландшафтных символических локусов[157], а «центр Европы» – десакрализованный географический пункт[158]. Человек того времени не только осваивал новые пути и континенты, совершал кругосветные плавания, при помощи архитектурных и растительных экзотов воспроизводил в своих садах ландшафты всех времен и народов. Он начал открывать красоту естественной природы, в том числе в ее наводящих ужас сценах (с. 120).
Церковь Покрова на Нерли. 1165
Как портрет не служит лишь воспроизведением физиономических особенностей человека, так и пейзаж никогда не ограничивался представлением конкретной местности. Уже сам ее выбор был творческим актом. В искусстве ландшафт всегда оказывался индивидуально претворенным, не одновременно становясь в разных культурах и областях творчества тем, что принято в отечественной литературе называть пейзажем[159]. Развиваясь как особый жанр, как «картина природы», пейзаж окрашивался религиозной, исторической рефлексией. Романтики его «национализировали».
Со времени романтизма как национальный воспринимался и общий характер ландшафта, и его детали. Живописец М. Нестеров так вспоминал переезд через Альпы: «Пошли столь грандиозные ландшафты, такие сложные, характерные… Вот она „заграница“… Как все не похоже на нашу Россию, такую убогую, серую, но дорогую до боли сердца»[160]. Сквозь национальную оптику по-разному могли видеться те же самые элементы ландшафта. Той же породы деревья, как ива, различно вошли в сознание отдельных народов[161]. Береза, получившая развернутую семантику во всей славянской мифологии, в северном полушарии растущая повсюду, превратилась лишь в русский символ[162].
Четвертое измерение. Руины
Рельеф – свидетель истории естественного и культурного ландшафта. По словам А.Г. Габричевского, среднерусский ландшафт с его «главным образом, растительным покровом, выражающим не строение почвы, лицо земли, а лишь круговорот времен года», «сам по себе „внеисторичен“», в то время как каждая форма Киммерийского ландшафта, который по преимуществу «геологичен», несет «отпечаток движения огня, воды или ветра»[163]. Если растительность – легко разрушаемая составляющая, то природный рельеф под воздействием цивилизации исчезает последним. Она отступает не только перед такими его монументальными формами, как горные хребты и моря, но и перед такими «горами», как Воробьевы, которые сохранили свои очертания. Именно рельеф дольше всего сохраняется в заброшенных старинных садах и парках, оставаясь последним следом облика, приданного им культурой.
Представления о рельефе, будучи одним из универсальных и суггестивных способов осознания и описания пространства, могут переноситься и на восприятие времени: «Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой», как писал оставшийся неизвестным автор начала ХХ в.
Если природный ландшафт постоянно меняется от вмешательства человека, то и сам ландшафт также воздействует на имплантанты, внесенные в него культурой, превращая их в руины. Постройки, обрастающие зеленым покровом, оседающие в землю, выветривающиеся, как горные породы, если были сооружены из камня, стали знаком единства естественных и исторических процессов, пространственного и темпорального начала. По словам Шефтсбери, «непоправимые трещины и разломы опустошенной горы показывают… что сам мир наш – только благородная развалина»[164].
Так ландшафт обнаружил свое временнóе измерение, а сохранившиеся в нем древние руины превратились в исторические знаки и достопримечательности. В 1499 г. изображение руин появилось в «Гипнеротомахии Полифила» – сочинении Ф. Колонны, ставшем кладезем мотивов, распространившихся в литературе и искусстве последующего времени, в том числе в садовом искусстве (с. 93).
Спустя четверть века, в 1525 г., русский посол Дмитрий Герасимов «осматривал святые храмы и с изумлением любовался остатками древнего величия Рима и жалкими остовами прежних зданий»[165]. Петр Толстой в 1697 г. записал, что под Римом «много… древних лет строения каменного, которое уже от многих лет развалилось»[166]. Герасимов оказался более чувствительным к красоте и значительности памятников античности, вероятно, этому способствовали его ренессансные чичероне.
Во времена Grand Tour внимание привлекали прежде всего римские, позднее, по мере их открытия, и греческие руины. В эпоху романтизма местом паломничества европейцев стали развалины средневековых замков на крутых скалистых берегах среднего Рейна (такого типа ландшафты любил изображать как элемент фона Лукас Кранах Старший – Мария с младенцем. Валлраф-Рихартц Музей. Кёльн; Мария под яблочным деревом. ГЭ). Разрушаемые враждой и временем, они обрастали плющом, легендами и поэтическими текстами. Свойственные им готические формы, которые, по словам Шлегеля, «в отношении бесконечности и неисчерпаемой полноты… более всего походят на создания и порождения самой природы»[167], легко сливались с окружающей растительностью. Не случайно столь органично воспринимался ансамбль вписанного в зеленый массив псевдоготического Царицына, недостроенность которого, а позднее и обветшание создавали иллюзию естественных руин. Их имитировала и дополняла Башня-руина (И.В. Еготов. 1804–1805).
В среднерусских землях руины не стали заметным элементом ландшафта. Дерево, из которого по преимуществу велось строительство, этому не благоприятствовало. Облик каменных церквей с геометризмом их четких объемов также не способствовал культу руин, в то же время сохранение традиционных форм в церковной архитектуре придавало им некую постоянную актуальность, а в качестве хранимой руины всегда мыслится что-то давно отошедшее. Что касается остатков тех церквей, которые были разрушены намеренно, то они не украшали окружающий ландшафт. Их одноразово возникшие развалины или полуразвалины (а не романтические руины) не поэтизировались в качестве знаков старины. Они воспринимались как диссонанс окружающей природе, а если и сама она утрачивала первоначальный облик, то вместе они выглядели как деструктивное целое. Бродский писал о руинах Греческой церкви в Ленинграде:
Когда-нибудь… … на нашем месте Возникнет тоже что-нибудь такое, Чему любой, нас знавший, ужаснется. «Остановка в пустыне»Поэтому естественные руины не часто попадали в пространство русских садов, в то время как в Англии такие примеры не единичны[168] (ил. с. 50).
В русской культуре руина как эстетический объект возникла во второй половине XVIII в., что было связано с перспективной живописью, как в случае А. Перезинотти. И. Грабарь назвал этого художника «страстным любителем руин», которые писали и его ученики в Академии Художеств. Появлению павильонов-руин способствовали английские парки[169]. В.И. Баженов, проектируя в 1765 г. «увеселительный дом» для сада Екатерингофского дворца, признавался, что «вздумал… представить [его цоколь] развалинами древнего Дианина храма»[170]. Русские живописцы, обращаясь к теме руин, обычно запечатлевали в качестве таковых остатки античных сооружений (Сем. Щедрин, М. Иванов). Вероятно, в числе первых, кто их рисовал, были ученики Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, изображавшие в качестве учебной программы «рюины замков»[171] – слово руины, как видно из его транскрипции, тогда только что пришло из французского языка и еще не обрусело. Наиболее выразительные места с их изображением оставили архитекторы – Кваренги, Камерон, Томон, Гонзага.
Движение
Ландшафт, в особенности благодаря его рельефу, рождает представление о движении и действительно задает ему различный темп и ритм. Протопоп Аввакум писал о своих хождениях по равнинной России, что там он «двадцеть тысящ верст и больши волочился»[172]. Дипломат XIX в. А.Я. Булгаков сообщал отцу из итальянской Калабрии: «Кроме гор, покрытых снегом, каштанов диких, худых селений… вод, стекающих с гор, и прочего вы ничего не встречаете. Тут природа, кажется, сказала: полно вам в каретах ездить, садитесь-ка верхом»[173]. Однако и ландшафты истории диктовали свое движение: «Смотрите! Какими дрожащими ногами ступает человечество по узкой тропинке рядом с глубокой пропастью», – писал Шефтсбери[174].
Доменико ди Микелино. Данте и его поэма. Фреска в Санта Мария дель Фьоре. Фрагмент. 1465. Флоренция
В обустроенном человеком природно-культурном ландшафте движение приобретает определенный характер не только благодаря проложенным в нем дорогам. П. Муратов писал, что в Италии путешественник из простого любопытного становится пилигримом, а историк-медиевист И.М. Гревс определял походы по Флоренции как скитания, «монументальные прогулки», странствования по «глухим углам». Л.П. Карсавин называл свои хождения «прогулки-дороги» и подчеркивал, что, «несмотря на каменные стены, как-то особенно приятно и интимно гулять по этим узким улицам и кое-где в просветах смотреть на Флоренцию». А. Вознесенский поэтически лаконично воскликнул: «Флоренция! Брожу по прошлому».
В ландшафте движется не только человек, но и его взгляд, мысль. Флоренция К. Петрова-Водкина оказалась «исхоженная и издуманная». В отличие от него, А. Блок писал об Италии: «Причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той поспешности и жадности, с которой мы двигаемся. Чего мы только не видели: чуть не все итальянские горы, два моря, десятки музеев, сотни церквей». Состояние поэта отражено в письме из Флоренции – это даже по итальянским меркам чрезвычайно насыщенный произведениями искусства город, неслучайно в психиатрии есть термин «синдром Флоренции», означающий нервный срыв от чрезмерного общения с произведениями искусства. «Воспринять (Флоренцию)… как нечто, сотворенное вместе с рекой и окрестными холмами, – единственный способ спасения от ее „синдрома“» (П. Вайль), т. е. нужно вписать все переполняющие ее художественные сокровища в макроландшафт природы, который способен вместить любое множество артефактов. Возможность сделать это визуально предоставляют холмы Флоренции, с которых на свой город смотрел Данте.
Грань между культурным и природным, между физическим и ментальным ландшафтом порой трудно уловима. Природный ландшафт, трансформируясь, входит в художественное сознание и пространство. Блок в леонардовской Джоконде узрел итальянский пейзаж не только в фоне картины, он светился, по словам поэта, сквозь ее улыбку, «открываясь как многообразие целого мира. Недаром – за спиной Джоконды и воды, и горы, и ущелья – естественные преграды стремлений духа, и мост – естественное преодоление стихийных преград; борьба стихий с духом и духа со стихиями, разлившаяся на первом плане в одну змеистую, двойственную улыбку». Иначе, но по существу о том же синтезе природы и искусства думал Муратов, заметив: «Божественная комедия как-то слилась с Италией. Без нее неполно все, что узнает здесь путешественник, и без Италии ее терцины не перескажут самой заветной их прелести»[175]. Пастернак спустя десятилетия писал: «Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамариново-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию темную, тесную, стройную, – живое извлечение из дантовских терцин».
Взаимосвязи географии и истории культуры
Слияние природного и культурного начала в сознании и произведениях Серебряного века было показательно для всего европейского модерна. На рубеже XIX–XX вв. растительные биологические формы и образы наполнили различные искусства, во многом определив их стилевой облик и семантику. Наука рубежа XIX – ХХ вв. также занималась поисками взаимосвязи общественно-культурных и природных явлений, но отлично от предшествующих детерминистских концепций позитивизма. Такой подход не был новым, восходя еще к античным временам и выступая в дальнейшем с различной степенью категоричности. В 1719 г. вышло сочинение Ж.Б. Дюбо, в котором утверждалось, что «причины перемен, происходящих в нравах и одаренности жителей разных стран, следует искать в изменениях, затрагивающих свойства тамошнего воздуха, подобного тому, как отличия между характерами разных народов принято объяснять разницей между свойствами воздуха их стран»[176]. Рассуждения Дюбо касались Европы. Однако с открытием все новых земель важно было найти причины многообразия живущих там народов, вид и обычаи которых казались не менее удивительны, чем природа их земель. То и другое было поставлено во взаимосвязь. Этому способствовало в целом повышенное внимание эпохи Просвещения к окружающей среде.
Александр Орловский. На окраине Петербурга. Рисунок 1812
Классическими для географического детерминизма стали сочинения Ш.Л. Монтескьё. Предпосылкой складывания характера и судьбы народов, того или иного типа государственного устройства, наряду с общими причинами морального порядка, он считал ландшафт, понятый как совокупность климата, рельефа, растительного и животного мира. С ландшафтом связывал особенности культуры И.Г. Гердер. Следуя ему, П.П. Чекалевский писал: «Изящные художества… равно как и земные плоды, получают… разные образования по климату той земли, которая их производит, и по старанию прилагаемому о их произращении»[177].
В первой половине XIX в. интерес к проблеме взаимосвязи культуры и природной среды продолжал расширяться[178]. К. Риттер, предшественник геополитики как научной дисциплины, а также так называемой культурной экологии и гуманитарной географии, в духе географического детерминизма романтической эпохи занялся исторической географией, рассматривал «отношения природы к истории, родины к народу и вообще отдельного человека к целому земли»[179]. Подобные идеи циркулировали не только в ученом кругу, обнаруживаясь в восприятии путешественниками различных земель и стран.
Болеслав Русецкий. Воробьевы горы в Москве. 1844
Маркиз Астольф де Кюстин писал о Москве: «До какой степени удивителен вид этого города на холмах, внезапно, словно по волшебству, вырастающего из-под земли среди огромного гладкого пространства… Москва – город панорам». Сравнивая далее ее с Петербургом, маркиз переходил от характеристики ландшафта к социально-политической рефлексии: «Жители этого города движутся, действуют и мыслят по собственной воле, не дожидаясь чужого приказа. В этом Москва разительно отличается от Петербурга. Дело тут, на мой взгляд, в первую очередь в огромных размерах Москвы и разнообразии ее ландшафта»[180].
Если ландшафт как принадлежность мира природы традиционно изучался географией и в качестве понятия означал территорию, обладающую физико-географической целостностью, то с рубежа XIX–XX вв. в трудах французской школы, в особенности П. Видаль де ла Блаша, наметился отход от физико-географической детерминанты. Влияние его журнала «Annales de Géographie» на мировую науку было связано с антропологизацией гуманитарной мысли. Согласно этому ученому, задача «географии человека», как он назвал новое направление исследований, – изучение взаимоотношений Земли и человека, воздействия его на географическую среду и vice versa. Большее внимание французы уделяли влиянию географической среды на человека[181]. Тем самым открылся путь для развития так называемой хорологической географии (от греч. choros, место). Предметом этого нового направления, по словам его основоположника А. Геттнера, стала земная поверхность «во всем ее разнообразии, строение отдельных индивидуальных пространств и местностей». География начала пониматься как пространственная наука «в том смысле, в каком история есть временнáя наука», т. е. наука не «о распределении по местностям различных объектов», а «о заполнении пространств»[182]. Это привело к изучению ландшафта в качестве территории, обладающей физико-географической и культурной целостностью.
Во второй половине ХХ в. сформировалась так называемая новая культурная география, которая образовала пограничье с социологией, политологией, этнографией, историей, психологией, искусствоведческими дисциплинами[183]. Распространилось воспринятое от структурализма представление о географическом пространстве как тексте, обладающем определенной семантикой, знаковостью. Сложилась «герменевтика ландшафта», происходит «активное „чтение“ ландшафта (пространства), ориентированное на концептуальное освоение его разнообразия». Тенденцию стать аксиологической, когнитивной наукой, «гуманитарной географией» обнаружила также отечественная география. Все больше места в работах занимают «мысленные структуры пространства», «образ ландшафта», его способность мифологизироваться[184]. Все это свидетельствует о развитии культурологической ориентации и антропоцентризма, об изменении в географических исследованиях соотношения естественно-научного и гуманитарного подхода в целом (возрастание роли последнего позволяет еще раз вспомнить об античной традиции[185]). В результате преобразовался сам предмет географии, расширился круг ее источников, в который включаются художественные тексты, в том числе далекие от географической доминанты, относящиеся к более широкой группе пространственных текстов.
История культуры со своей стороны никогда не была равнодушна к географии. Топографические составляющие имен собственных художников закрепила еще первая история искусства, созданная Вазари. Впоследствии географические определения стали частью специальной научной терминологии (например, в таких понятиях, как «венские классики» в истории музыки, «озерная школа» в истории поэзии, «Северное Возрождение» и «новгородская икона» в истории искусства и т. п.). Маркируя локализацию культурных явлений, эти определения служат также их систематизации и типологизации. Сама наука издавна получила геокультурные признаки, хотя и не определяющие ее существа, а лишь связывающие ее развитие с определенными центрами, например Марбургская философская школа, Краковская историческая школа. Они свидетельствуют, что и эта сфера человеческой деятельности имеет свой ландшафт.
Концептуализация геокультурного подхода была сопряжена с разработкой философских проблем пространства. Непосредственно геокультурные аспекты занимали Фуко, Делёза, Гваттари, Подорогу, возникла «геофилософия». Топоров в ходе исследований пространства-текста разработал концепты геоэтнической панорамы, городского урочища, города в его истоках («город – дева» и «город – блудница») и как синкретичного образа в контексте различных эпох («петербургский текст»)[186].
Соединение природного и культурного начал, их «макроконтекст» создают духовные ситуации «высокого напряжения» (Топоров). На этом пограничье природы и культуры естественный ландшафт как пространственная среда и объект созерцания выступает в роли порождающего субъекта, служит натурой и импульсом для возникновения новых образов и понятий, предстает как пространство и метафора. Культура же творит ландшафты-тексты, внося в них сакральные, исторические, эстетические смыслы, а также преобразуя природный ландшафт практически, создавая природно-культурные ландшафты, хотя не только дружественные человеку. Природа, в свою очередь, не всегда обнаруживает «образ Божий», свидетельствуя, что она «всего-навсего лишь образ», а потому обладает изъянами, что констатировал в своих «Мыслях» Блез Паскаль. Потенциальное число действительных и ментальных ландшафтов, преобразуемых и заново создаваемых культурой, безгранично. Все они часть ее метаморфоз и истории.
Способ… сажать сад, а также о многих других вещах весьма странных и приятных. Ксилография из французского издания трактата Пьетро де Кресценция. Лион, 1533–1534
Раздел II Сад и его мифологемы
Глава 1 Между sacrum и profanum: топос сада
Сад действительный и мысленный. – Hortus conclusus. – Экзистенциальное и архетипическое. – Сад – рай, польза моральная и практическая. Locus amoenus. – Садовый пантеон
Гданьский мастер. Сад любви. 1490
Становление сада как особого, возделанного и тем самым выделенного из природной среды пространства происходило одновременно со становлением сакрального и бытийного отношения человека к миру. Сады стали местом обожествления природы, которое, вероятно, было столь же первично, сколь и ее обработка. История садов свидетельствует об изначально свойственной человеку двуединости отношения к священному и мирскому. Выступая важнейшими и неразрывными сторонам человеческого бытия, эти сферы с момента возникновения садов в них не столько противополагались, сколько сополагались, взаимопроникали. Здесь слились культивирование и культ природы, который находил выражение в сакральной, впоследствии также в эстетической форме. При этом и в позднейшие эпохи жило «воспоминание об утратившем силу религиозном опыте», эстетическое созерцание природы «сохраняло некую религиозную значимость», а «то, что мы называем любовью к растениям, восходит не к мирскому „натуралистическому“ опыту. Напротив, в этом проявляется религиозный опыт возобновления… мира»[187]. Он обнаруживался и практически – многие особо культивируемые в садах редкие растения происходили с Ближнего Востока, из тех земель, где совершались библейские и евангельские события и некогда располагался Эдем. Этими растениями украшали алтари, они превращались в символы.
Сад действительный и мысленный
Сад всегда выступал субститутом природы, однако не только в ее непосредственной естественной форме. Если природа виделась «огромным хранилищем символов» (Ж.А. Ле Гофф), то ими оказался наполнен и сад. В религиозном сознании он служил проекцией горнего мира. Еще в XVII в. один из польских авторов полагал, что землевладелец достоин похвалы только в том случае, «если его земли по порядку небесному устроены»[188]. В эстетическом сознании природа долгое время ценилась также не в собственном, а в идеализированном, садообразном облике, в качестве прекрасной натуры, по существу оставаясь ею даже в так называемом естественном английском парке. Лишь в XIX в. предпочтение будет отдано ее подлинным формам, и она как таковая будет противопоставлена садам (с. 129; II.IV).
На протяжении своей истории сад обнаруживал инспирирующую силу, выступал неким производителем смыслов, постоянным мотивом священных книг, появившись в египетских текстах в середине третьего тысячелетия до н. э. Образ сада наполнялся множественностью значений, через него метафорически описывался самый широкий круг явлений – природно-биологических и религиозно-конфессиональных, моральных и эстетических, политических и идеологических, он обрел самостоятельную жизнь, не связанную напрямую с развитием и состоянием садового искусства как такового. Оно менялось, в то время как топос сада, хотя и получал новые признаки под влиянием этих перемен, неизменно сохранял свою сакральную подоснову.
Пути сада ментального, внутреннего, и сада реального, внешнего, не были тождественны. «Действительный» сад был лишь одним из истоков его собственного образа-топоса, который, в свою очередь, в большой степени предопределял программу садов. Многоплановость топоса сада в мировой культуре возникла в результате сакрализации и мифологизации садового образа, который выделился из космологических представлений, из общекосмической символики[189], а также его положения на пограничье природы и культуры.
С садом связаны некоторые важнейшие места Библии, получившие аллегорическое истолкование в христианское время. В комментарии к Пятикнижию Филон Александрийский (предположительно 25 до н. э. – 50 н. э.) так расшифровывал слова «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке» (Быт 2:8):
«В божественном же саду все растения были живые и разумные, плодом которых были добродетели, а также нетленное разумение и понимание, посредством которых распознается хорошее и дурное, – жизнь здравая, нетление, и все подобное этому. Все это, как мне кажется, следует истолковывать скорее в символическом, а не прямом смысле. Ведь деревья на земле никогда-либо прежде не являли, ни теперь не являют признаков жизни или разумения. Однако, как кажется, под садом подразумевается владычествующая способность души, которая исполнена, словно тысячами деревьев, множеством суждений, под деревом жизни – величайшая из добродетелей, богопочтение, благодаря которой душа приобретает бессмертие, а под деревом познания добра и зла – среднее разумение, посредством которого различается по природе противоположное».
Эдемский сад, полагал Филон, «ни в чем нельзя уподобить известным нам [садам]… в них растительность неживая», она служит для «услаждения зрения», получения плодов «не только для необходимого пропитания, но и с верх того для изысканного наслаждения»[190]. Однако в Книге Бытия говорилось, что в Эдеме также произрастает «всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи» (Быт 2:9), духовное и телесное здесь не противопоставлялись.
Поэтому Библия могла служить непосредственным источником инспирации для конкретных садов. По свидетельству Бернара Палисси, мысль разбить сад «по образу прекрасного пейзажа, описанного пророком», пришла к нему, когда, гуляя в полях, он услышал голоса девушек, поющих сто третий псалом. Источником аллегорической программы Сада Мудрости для этого естествоиспытателя и мастера-керамиста XVI в. послужили также Притчи Соломоновы и книга Экклезиаста[191]. Степень реализации художником его садовых проектов остается нерешенным вопросом. При всех случаях сад мог лишь символически соответствовать космизму этого псалмодического образа. В середине XVII в. Евангелие вдохновило Джона Фетерстона, владельца Пэквуда, создать сакральный сад, где около имитируемой Христовой горы (место Нагорной проповеди) в прямом смысле выросли фигуры двенадцати апостолов и четырех евангелистов, сформированные посредством топиарного искусства. (Спустя двести лет композиция была дополнена фигурами паломников.) Мистическое и действительное естественно сочетались в пространстве сада. В начале XVIII в. фигуры святых и отшельников появились в лесном, холмистом ландшафте во владениях графа Шпорка Кукс (Лыса-над-Лабой, 1718–1732, скульптор М. Браун), где возник сложно разработанный уникальный по масштабу и семантической насыщенности комплекс, воплощающий единство природного, сакрального и исторического[192].
Hortus conclusus
В садах, описанных в Библии, можно обнаружить оба основных композиционных типа, которые получили развитие в европейском садовом искусстве, – hortus conclusus, отделенный от внешнего мира оградой, и пейзажный, благодаря ее маскировке визуально слитый с окружающим ландшафтом. В Песни песней (4:12–15) говорится:
«Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами».
В христианское время замкнутый сад стал символом чистоты Богоматери – сакральным могло быть только то пространство, которое отграничено от профанного мира. Вместе с тем в Библии приводились метафорические слова Исайи, который пророчествовал: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими» (Ис 40:4). Так посредством ландшафтного кода предвещались приход Христа и моральные перемены. Однако если произвести метаморфозу, обратную той, которую совершил Филон Александрийский (c. 80), и придать этим словам прямой смысл, то окажется, что пророческий образ создан посредством описания действительных приемов ландшафтных работ, хорошо известных древним земледельцам, а также связанных с разбивкой сада, которая начиналась с преобразования рельефа местности.
Священным прототипом садов другого типа, пейзажных, натуральных, послужил Эдем, называемый в древнееврейском тексте Библии «сад в Едеме», «сад Господень». Его принято считать садом неогражденным (Быт 2:8-14). Таким Эдем изображался на древних христианских саркофагах, фресках катакомб. В дальнейшем живописцы писали его как свободно расстилающийся ландшафт, наполненный растительностью и животными. В таком облике он представлялся в гравюрах, послужив прообразом английских пейзажных садов XVIII в.
Хотя в Библии говорилось лишь, что Бог «поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся» (Быт 3:24), в изображении сцены Изгнания из Рая появились врата и ограды (Мазаччо. Изгнание из Рая. 1426–1428. Флоренция. Капелла Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине). К этому предрасполагал не только сюжет, но и этимология слова сад (jardin, garden, garten – от индоевр. ghortos, плетень, изгородь) и рай (парадиз — перс. pardëz, др. – евр. pardes – ограда, забор)[193].
В Библии Эдем получил конкретные координаты, частично соответствующие современным представлениям о географическом пространстве:
«Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделилась на четыре реки… Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш… Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею… Четвёртая река Ефрат»
(Быт 2: 8-14).Однако начиная с Иосифа Флавия, предпринимались попытки локализовать Эдем в разных частях мира. Существует и точка зрения, что в Библии вообще не идет речь о конкретном географическом месте. Его не имел и hortus conclusus Песни Песней.
Экзегеты традиционно стремились сблизить образы Эдема и сада заключенного[194]. Оба типа сада искусно совместил Джон Мильтон. Живописно представив Эдем, так что это описание служило образцом для создателей английского парка, поэт расположил его на недоступной горной вершине. Преграждая туда путь, «Деревья и кусты переплелись корнями меж собой / Столь густо, что ни человек, ни зверь / Пробиться бы сквозь чащу не могли. Лишь по другую сторону горы / Вели врата единственные в Рай»[195]. В результате живописный «потерянный рай» («Paradise lost» называлась поэма) приобрел изолированность сада заключенного.
Именно hortus conclusus был прототипом садов Cредневековья. В замкнутом пространстве происходила сцена Благовещения, туда мог проникать лишь Святой дух. От мира был отделен Розовый сад, в котором обитала Дева Мария. Замкнутый сад разбивался в монастырских двориках, но в качестве locus amoenus, места удовольствий (с. 91–95), он появлялся и в иллюстрациях к произведениям светского содержания, таких как «Роман о розе» и «Гипнеротомахия Поли фила» (с. 138, 139). Замкнутыми были секуляризованные «сады любви»[196]. Во всех этих разных случаях воспроизводился прежде всего символический топос hortus conclusus. Одним из немногих исключений был узор «тысяча цветов» (mille fleurs), замещавший в гобеленах XIV–XVI вв. изображение сада.
При этом сад мог обрамляться кругом. В завершенной Ж. де Меном заключительной части «Романа о розе» Г. де Лори сад описывается как квадрат, а прекрасный рай, куда ведет Христос, представлен как сад, который обрисован кругом. Эта фигура с многозначной символикой, наряду с квадратом, служила одним из «магических средств, с помощью которых создаются защитные стены, vās hermeticum»[197].
В русской иконе рай, в котором пребывает Богородица, появлялся в композиции Страшного суда как Небесный Иерусалим[198]. Он изображался в виде дерева, отдельных цветков или трав. Однако автор народной картинки, созданной в первой половине XIX в., со всей наглядностью нарисовал Эдем с красной оградой, украшенной узорами и декоративными столбами (Неизвестный художник. Сотворение человека, жизнь Адама и Евы в Раю, изгнание их из Рая. Чернила, темпера. ГИМ). В ее открытый проем вслед за Адамом и Евой выбегают животные, которым суждено было стать домашними. Сам же Эдем напоминает усадебный сад с прудом, в котором плавают утки. Автору картинки ограда, вероятно, представлялась необходимой также в практическом смысле. Она была нужна, чтобы «боронитъ ωт перелажения людскаго, и иных звѣревъ немилостивых, тако же и ωт помѣшки водные»[199], как говорилось в сельскохозяйственном трактате Пьетро ди Крещенци, известного в России с XVI в. как Кресценций (c. 111–112).
Титульный лист «Земной рай» к каталогу растений Джона Паркинсона «Paradisus» 1629
Ограде изначально придавался сакраментальный смысл. Она отграничивала область господства тех или иных богов, сферу обитания предков, т. е. метила рубеж определенного духовного «владения» и лишь позднее превратилась из религиозного в социально-юридическое установление, очерчивая владение частное (Руссо видел в первом ограждении источник социального неравенства). По словам Флоренского, «право на собственность… вытекало из страха Божия… страха задеть культ, к которому не принадлежит чужак… Сила таких ограждений – не в механическом препятствии… а в символическом ознаменовании священной неприкосновенности»[200]. Ограда берегла также тайну, которую несли в себе растения как космический знак. Она охраняла и расположенные за высокими стенами лекарственные сады, а также ботанические, которые появились в Европе как место для акклиматизации экзотических растений, – они использовались не только в медицине, но и в магии. Огражденными были и личные, «секретные», сады[201].
Hortus conclusus олицетворял лучшую, дружески обращенную к человеку часть природы. Ограда защищала насаждаемые там растения от разрушающего воздействия природных сил. Сад противопоставлялся хаосу, а также пустоте – земля до начала творения и создания Эдема была «безвидна и пуста» (Быт I: 2). У Мильтона Сатана «пустыню бездны пересек, чтобы разведать мир / Новорожденный»[202].
В Библии образ пустыни двойствен: «от пустыни, из земли страшной» исходит «грозное видение» (Ис 21:1), «совершенная пустота» тождественна делу заблуждения (Иер 10:15), пустыня – это и место искупления, совершенствования (сорок лет пребывания еврейского народа в пустыне после египетского плена). Отсюда мотив пустынника, пустыни, в том числе имитируемой в садах (Эрменонвиль). Это могли быть скиты отшельников, как в парке теолога-евангелика Ричарда Хилла (вторая половина XVIII в.). Над дверным проемом там размещалась надпись из Вергилия: «Procul, o procul este profani» («Прочь, прочь, непосвященные»). Под ней находилась кукла-автомат, изображающая отшельника, а перед ним был помещен натюрморт – череп, лупа, книга и очки. Кукла умела поднимать руку и говорить «Memento mori»[203] (так приветствовали друг друга члены монашеского ордена картузов). В лотарингских садах короля Станислава Лещиньского была деревушка Картузия с эремами[204] – домиками для монахов, а молящийся перед крестом отшельник время от времени «вскидывал голову, бия себя рукой в грудь, чтобы доказать щедрость сердца»[205]. Эта сцена была включена в композицию Le Rocher (скала, утес) в Люневиле, прославившуюся многочисленными автоматическими фигурами (ил. с. 179).
Средневековую традицию сада огражденного продолжили Ренессанс и барокко. С Ренессансом и «расколдовыванием мира» (М. Вебер) началось обмирщение топоса сада. Исследования астрономических явлений, развитие естествознания и агрокультуры вели к разрушению сакрального и эмблематического образа природы, синкретизма символической и лечебной функций растений. В XVIII в. их группировали не по связи со знаками зодиака, а по классам, зависящим от структуры растения. Карла Линнея интересовал не цветок в целом, а количество тычинок. Наука учредила общение с природой в понятиях. «Это общение не живое, не жизненное, – полагал Флоренский. – Даже… искусство… не даст полноты жизненного общения, хотя это лучше, чем общение понятийное, научное, но и оно не столь глубоко, как общение религиозное, мистическое»[206]. Если в садах XVI–XVII вв. культивирование и изучение растений сочеталось с их символическим прочтением, то в XIX в. сады ботанизировались. Утратив символический смысл, сады-питомники стали основой для научных исследований, а также коммерческим предприятием. В них выращивание некогда сакральной ели, как и других растений, преобрело промышленный масштаб. В ботанические сады еще в XVIII в. оказались допущены все желающие, часто за деньги.
Особое внимание концепту ограды, выходящее за садовые проблемы, уделялось в Англии, получив противоречивый смысл. В XVI–XVII вв. там произошла пауперизация большой части населения вследствие огораживания общественных земель. Поэтому ограда представлялась символом узурпации чужих прав. Однако в образах огороженного регулярного сада описывались и добродетели христиан, противопоставляемые ложной «дикой вере» (по аналогии с «дикой природой»)[207]. Ограда также «стала ассоциироваться с упорядоченным, стабильным, законным правительством», но поскольку в начале XVIII в. многие инициаторы и первые любители естественного парка принадлежали к партии вигов, оппозиционной правительству тори, то отсутствие садовой ограды, как и культ естественной природы в целом, сделались знаком свободомыслия. Н. Певзнер назвал это «проявлением либерализма и неким бунтом вигов против тирании и нетерпимости»[208]. В результате ограда, уже ранее утратившая сакральный смысл, превратились в идеологический символ. Вместе с тем геометризм посадок, стрижка растений рассматривались как насилие над природой. Олицетворением его для англичан был Версаль, поэтому критика регулярных огражденных садов стала одним из выражений тогдашних англо-французских противоречий и сомкнулась с критикой деспотизма Людовика XIV. Так садовые дискуссии приобрели политический оттенок, а символизировалась уже не столько ограда, сколько ее отсутствие. В практике ей нашелся заменитель – невидимые издалека рвы, которые отделяли парк, не нарушая иллюзии свободного перехода садового пространства в поля и луга. Возникая перед человеком как неожиданная преграда, они вызывали возглас «ha – ha!» (ха-ха! или ах-ах!), откуда и пошло название этого устройства. С середины XVIII в. такой прием распространился по всей Европе.
Неизвестный автор. Сотворение человека, жизнь Адама и Евы в раю, изгнание их из рая. Чернила, темпера. Первая половина XIX в.
В то время в русской культуре ограда перестает трактоваться как ограждение от греха[209]. Уже в XVII в. украшая русские сады, в XVIII в. с распространением в них регулярной планировки она расширила свои композиционную и художественную функции.
В эклектичный XIX в., признавший все виды садов (с. 183, 187), ограждение считалось «скорее предметом целесообразности, чем эстетики». Так полагал один из ведущих садовых практиков и теоретиков, Г. Пюклер-Мускау[210]. Однако оно получило особое значение в садах бидермейера, где охраняло профанную святыню – частный дом, который был крепостью в тогдашнем неустойчивом европейском мире, неоднократно менявшем свои внутренние границы (с. 189).
Труд Адама и Евы на земле. Гравюра. Библия Василия Кореня. 1692–1696.
Экзистенциальное и архетипическое
Пограничье натуры и культуры, где расположен сад, экзистенциально значимо для человека. Зависимость людей от круговорота и плодородия природы обусловила первичную сакрализацию сада. Представление о нем как рае восходят к древнейшему политеизму[211]. Сад во всех религиях имел значение священного символа, оказался включенным в ритуал, служил местом священнодействий. Об этом свидетельствуют сады Древнего Египта, античные сады-кладбища. Сады были местом пасхальных мистерий, а в садах-кальвариях имитировалось движение по этапам Крестного пути как своего рода ритуальное шествие.
Различные мифологии и религии с садом связывали ключевые моменты человеческого существования. Согласно Библии, сад – первое место обитания людей. Под яблоней родился жених из Песни Песней, отождествленный позднее с Христом, а его невеста названа «жительницей садов» (Песн 8:5,13). В саду произошло зачатие богатыря Волха Всеславьевича, принадлежащего наиболее архаичному слою русских былин. Если в саду человек нашел свое начало, то в античном Элизиуме, христианском небесном саду-Рае, мусульманской Джанне он мечтал упокоиться. В садах Гесперид росли золотые яблоки вечной молодости, а в Эдеме – Древо жизни. Сад – это так же символ ее быстротечности. Об этом говорят так называемые садики Адониса – горшки с быстро расцветающими и столь же быстро увядающими цветами[212]. Согласно мифу, царя тюрков Афрасиаба смерть настигла именно во время прогулки в саду; ангел смерти сумел проникнуть туда, хотя сад был заключен в крепостные стены[213]. Таким образом, сад выступает как локус, где человек обретает свое начало и находит конец.
Топос сада принадлежит к числу не только глубоко насыщенных, но и архетипических понятий. Идея плодородия связывает его с материнским архетипом[214]. Поэтому Богоматерь могла предстать в образе плодородного сада. Различными нитями сад соединен и с образом arbor mundi, с подземным, земным и небесным миром, хотя в качестве изофункциональных вариантов мирового древа обычно фигурируют вертикальные образы «мировой горы», храма, колонны, лестницы[215].
Изображение сада как особого локуса развилось из мотива мирового древа, а представления этого мотива в древней живописи, орнаменте, глиптике вошли в историю садового искусства как иллюстрации к начальным этапам его развития (один из известных примеров – рельефы лестницы в Персеполисе[216]). Дерево – наиболее значимый элемент растительности сада. Это запечатлелось в древнекитайском иероглифе, обозначающем сад: в нем изображены четыре дерева, обнесенные изгородью[217]. Многозначна символика дерева в мифологии. В Библии в описании Эдема фигурируют лишь деревья – там есть дерево «познания добра и зла», Древо жизни), а также растут деревья приятные для глаз и приносящие полезные плоды (Быт 2:9). Мировое древо «в известном смысле и в определенных контекстах становится моделью культуры в целом, своего рода „древом цивилизации“ среди природного хаоса»[218]. Подобную функцию «места цивилизации» выполняет и сад.
В христианской культуре сад стал символом Христа, Рая, Богоматери, Церкви[219]. По словам Симеона Полоцкого, святая Восточная церковь – «Едем мысленный, рай духовный, вертоград небесный»[220]. Сад – это место общения с Богом. В роще, которую Авраам насадил в Вирсавии, он воззвал к Богу (Быт 21:33). В Гефсиманском саду молился Христос. Для религиозной медитации служили сады, расположенные в клуатрах монастырей и больших соборов. Они выступали префигурацией небесного рая. Растущие там вечнозеленые деревья воспринимались как страницы Священного писания – образы рая, сада и книги выступали во взаимосвязи, их единство воплощали духовные книги барокко[221]. Особенно духовная литература барокко была наполнена образами сада-рая. Еще в XVIII в. теоретик садов Стефен Свитцер хотел, чтобы в саду человека посещали «ангельские мысли, высокие идеи», а Джозеф Аддисон считал сад местом, наиболее подходящим для размышлений о Боге[222]. Сотворив сад в Эдеме, он стал, согласно Библии, первым садовником. Адаму предназначалось «возделывать и хранить» этот сад (Быт 2:15) – Ева в подобной ро ли не выступала. В Евангелии Христос, вслед за Богом-отцом, также садовник – садовник человеческих душ. Тем самым на символическом уровне сакрализовалось занятие садоводством.
Стефан Лохнер. Мария в Розовом саду. 1440
Сад сакрализовался и в целом, и в его отдельных элементах. Культивируемые там цветы превратились в знаки важнейших христианских добродетелей, обретя и более универсальные значения как знаки вечности, мудрости и т. п. Сакральным осознавался процесс произрастания растений, поэтому даже жезл Аарона «распустил почки, расцвел и принес миндаль» (Чис 17:8). Почитались и сами растения – их культивировали не только за практические свойства, это побуждала делать «религиозная значимость растений. Все растения, выращиваемые сегодня, первоначально считались священными»[223]. Они включались в магические ритуалы примитивных и традиционных культур.
Сад-рай польза моральная и практическая
В отличие от лексемы сад, слова рай в древнееврейском тексте Ветхого Завета не было. Оно появилось в переводах Библии – Септуагинте (перевод «семидесяти старцев» на греческий, III в. до н. э.), впоследствии принятой в Восточной церкви, а также в латинской Вульгате Св. Иеронима (IV в.), канонизированной Тридентским собором (соответственно др. – греч. paradeisos и лат. paradïsus). Так обозначался и Эдем, и рай небесный, который как прекрасный, благоухающий сад, наполненный деревьями, цветами и певчими птицами, впервые был описан в сказании о Мученичестве св. Перепетуи (начало III в.).
Эдем, «сад Господень», первоначально составлял все жизненное пространство человека, тем самым вырастая до масштабов макромира. Поэтому ему не требовалось ограды, разве что для защиты от сатаны. Другого обитаемого пространства не было, как не было и грешников, от которых Эдем нужно охранять. Понятие рая – огражденного сада – могло возникнуть с представлением о грехопадении. Образ сада как блаженного места был первичен. На его основе сложился синкретичный образ «райского сада», имеющий в религиозном сознании сакральный, а не метафорический смысл, который возобладал в мирских представлениях[224].
«Гартенизация» рая (если создать неологизм от общего корня слова сад в романо-германских языках), как и «парадизация» сада, на протяжении веков постоянно выступала в сочинениях различного жанра. Отождествление рая с садом определило его образ в европейской средневековой культуре, при этом иконография рая, земного и небесного, четко не различалась (рай как Небесный Иерусалим повлиял прежде всего на топос города). Сакрализованный топос сада играл меньшую роль в эпоху Возрождения, когда противопоставление греховного мирского и небесного уже не было столь жестким. Монастырский сад, само местонахождение которого позволяло ему быть символом мироздания, уступил главное место саду при вилле. В ту эпоху и в топосе сада, и в его реальном облике на первом плане оказались антично-языческие и мирские образы. Ренессансный сад заселили не ангелы, а путти; один из них, работы Вероккио, украсил сад виллы Кареджи, открывающей историю ренессансной виллы. В эпоху барокко сакрализованный сад вновь обрел особую значимость. Ф. Пичинелли, который в своем получившем широкую известность труде представил картину мира посредством эмблем, использовал эмблему сада для объяснения многих понятий[225].
Тем не менее в западноевропейских садах XVII в. все более важной становилась развлекательная и эстетическая функция, что сказалось в их программе и декорации. Там утратили значение утилитарные фрагменты (они долгое время сохранялись в польских садах, а в России в ту эпоху были преобладающими). Теоретики начиная со Cкамоцци (1615) решительно отделили сад удовольствий от посадок, имеющих практическую цель. Еще Дезалье д’Аржанвиль спустя сто лет критиковал авторов, которые рассматривали сады прежде всего с точки зрения утилитарных функций и писали только о ботанических садах, виноградниках, садах для охоты и конфитюров[226].
Аркадийская идиллия садов эпохи Просвещения способствовала тому, что утилитарные фрагменты вернулись в сады. В эпоху рококо синтез приятного и полезного реабилитировали. Украшенная ферма (ferme ornée), деревушка (hameau), придававшие разнообразие и театральность общему ансамблю, позволяли ввести элементы, стилизующие деревенский труд, естественный сельский ландшафт, жизнь «естественного человека» (III.2). Этому способствовали и населявшие парк животные – коровы, бараны и овцы паслись в пейзажных садах у колонн палладианских вилл (такие сцены были и сюжетами живописи, графики (ил. с. 191, 235). В результате происходило визуальное слияние садового и окружающего его природного пространства, что было одной из основных задач садового искусства того времени. Однако художественно оформленные сады соединялись и с действительно производительными фольварками, как это было, например, у Изабелы Любомирской в Ланьцуте[227], в русских усадьбах сад переходил в хозяйственную часть, как в Званке у Державина (ил. с. 126, 128).
В ренессансном саду прагматизм отступал перед интеллектуальными увлечениями. Козимо Медичи за год до смерти писал: «Я прибыл на мою виллу Кареджи, чтобы культивировать не мои поля, а мою душу»[228]. Сад, расположенный в прекрасном тосканском ландшафте, служил также обителью «laetus in praesens» (радости в настоящем). Стены там были покрыты надписями, «приглашающими к высшим радостям». Собрания, сопровождавшиеся музыкой, происходили под знаком не только Юпитера (моральные качества) и Меркурия (знание), но и Венеры). Священная лампада горела там перед бюстом Платона. Это была некая «игра эрудитов», для участия в которой женщины не допускались[229].
Согласно представлениям, распространенным в разных культурах, сад служит местом, где душа радуется, очищается, при ходит в идеальное состояние. В русской литературе XVII в. «мысленный сад» служил прежде всего моральной проповеди и искоренению пороков. Симеон Полоцкий писал, что сады творятся «во общую пользу и веселие всем домашним», для «душевного услаждения и… здравия», и уподобил работу Святого духа садовой: «Что детель в винограде, / то божественный дух в церковном саде: / Вредная режет, чистит, насаждает, / копает хранит, да плоден бывает» – деятели русского барокко полагали, что в целом «восхождение к добродетели возможно только в саду»[230].
В эпоху Просвещения сад, перестав быть символом сакральной чистоты, не перестал быть местом пребывания добродетельной личности. В сочинениях того времени подчеркивалось, что возделывание сада – занятие благонравных людей[231] (с. 241).
Образ сада в сознании людей того века слился с образом деревни, противопоставляемой испорченному городу (лишь в Библии сошлись характеристики сада-Рая и Небесного Иерусалима; с. 134). С конца XVIII в. коттедж и примыкающий к нему небольшой сад, традиционные для Англии, переживали свой ренессанс, жизнь там воспринималась как образец добродетели, а выросшая в деревне и служащая там cottage-maiden представлялась олицетворением девичества[232].
Locus amoenus
Афродита-Венера была богиней как любви, так и садов, а к культу плодородия восходили не только сакрализованные представления о саде, но и нашедшее там место чувственное начало[233]. Истоком вновь послужила Библия, с которой постоянно соединена история садов. В Песне песней невеста описала место встреч с женихом: «Ложе у нас – зелень; кровли домов наших – кедры, потолки наши – кипарисы» (1:5, 6), что в христианскую эпоху было переосмыслено и связано с образами Христа и церкви.
Наслаждение в садах, подобно пользе, могло пониматься как духовное и телесное. Последнее осуждалось лишь с точки зрения монастырского аскетического идеала. Святой Ансельм (начало ХII в.) полагал опасным сидеть в саду – там растут розы, искушающие глаза и обоняние, поют птицы, ласкающие слух[234]. Однако век спустя Альберт Великий говорил о добродетелях трав. Этот ученый доминиканский монах впервые описал сад (viridarium), свободный от утилитарных функций и служащий лишь удовольствию. Там должны быть не только растения для услаждения зрения и обоняния, но и специальные места, где человек мог бы сесть, уединившись «в приятном покое»[235]. В плане сад представлял собой заполненный лугом квадрат, по кругу обсаженный душистыми травами, т. е. имел композицию quаdratum in circuitu – квадрат в круге, в буддийской мифологии называемую мандалой. Она символизирует высшую степень совершенства. С ней связаны древнейшие сооружения, в том числе Стоунхендж.
Земной рай. Гравюра из книги Марцина Бельского «Chronika c ałe go swiata». Краков 1564
К.Г. Юнг подчёркивал универсальный характер этой фигуры как «психокосмической системы, задающей особый вселенский ритм», который объединяет макро– и микрокосм. «Идея мандалы и сама ее форма независимо была выработана не только самыми разными религиозными системами, но и творчески одаренными людьми»[236]. Такая композиция играет важную роль в архитектуре, «но ее часто не замечают. Она входит в план как мирских, так и культовых сооружений почти во всех цивилизациях»[237]. К ним можно добавить и сады.
Сад постоянно изображали и описывали в качестве locus amoenus. Это счастливое местопребывания героев «Романа о розе», произведений Чосера, Боккаччо, Колонны, Санадзарро, Тассо, вплоть до Руссо, Гёте и далее. Ренессансные сады любви в соответствии с пантеистским духом эпохи оказались густо заполнены не только любовными парами, но и животными, растениями и цветами, что было призвано олицетворять всеобщую гармонию и плодородие природы. В этих садах действительно царила роскошная благовонная растительность, привезенная из стран Востока в результате установления с ними прямых контактов.
Эзотерический характер получили сады, описанные в сочинении Ф. Колонны (с. 68, 138–139, 195–196). Там герой оказывается в саду, откуда ведут три дороги, обозначенные «Gloria Dei», «Mater Amoris» и «Gloria mundi». Прославлению бога и мира Полифил предпочел поклонение Матери любви. Этим же путем во многих случаях пошло развитие садов и их описание. Еще в Средневековье появились сады любви, где били фонтаны вечной молодости. В эпоху Ренессанса они стали излюбленным мотивом. Сам Бог создал сад в качестве места наслаждения, утверждал Мильтон в «Потерянном Рае», а «только Бог / Умеет верно, и никто иной, / Судить о благе»[238]. Однако и в таких садах присутствовало морализаторство – за утехами там наблюдал дьявол (ил. с. 78). Сад любви мог иметь эмблематический характер. В Вилландри, одном из замков Луары, орнамент стриженых растений представлял любовь страстную, неверную, нежную и трагическую.
В западноевропейских садах XVII в., по мнению одного из исследователей, «бог и мораль не играли… никакой роли»[239]. Категоричность этого вывода далеко не бесспорна – топос «добродетельного сада», несомненно, влиял на садовую практику, в особенности раннего барокко. Теоретик архитектуры и садов Йозеф Фурттенбах, вслед за Эразмом Роттердамским, в принципе не хотел видеть в проектируемых им садах «старого непристойного Приапа»[240]. Некогда провозглашенный богом садов за его свойства, связанные с культом плодородия, и соответственно изображаемый, даже в Версале он предстал как старый садовник, стыдливо прикрывающий наготу (герма Н. Пуссена). Тем не менее в Версале и Марли – частной резиденции Людовика XIV свободной от государственной и политической «нагрузки», а затем и в других европейских садах конца XVII – первой половины XVIII в. эротика заняла немалое, иногда укрытое за различными символами место и получила изысканную придворную оправу. В английском парке XVIII в. ей был придан пасторальный характер – Аркадия с эпохи Возрождения постоянно фигурировала в качестве секуляризованного рая. В ее образе, в том числе садовом, большую роль играло чувственное начало.
Вилландри. Сад любви. Середина XVI в.
Григорий Сковорода в конце XVIII в. писал: «Версалiя (Versailles) именуется французскаго царя едем, сирѣчь рай, или сладостный сад, неизреченных свѣтских утѣх исполнен»[241]. Такое сближение святого и грешного в образе Версаля-Рая у религиозно мыслящего философа не было результатом соприкосновения с либертинской культурой эпохи Просвещения. В принципе современники, как и предшественники Сковороды, обычно не уподобляли Версаль раю. Метафора сад-рай была к тому времени весьма стертой и приведенное сравнение Сковороды уже обладало прелестью присущего ему архаизма, а также наивности, идущей от народной культуры. К тому же Версаль обычно не уподоблялся чему-то; он был самодостаточен, образуя многоплановый культурный топос, который сам служил точкой отсчета, и в этом отношении по функции сближался с топосом Аркадии[242].
Версаль приравнивался философом к Эдему, святому раю, отнюдь не как выдающееся творение искусства. Это Александр Бенуа спустя сто лет напишет: «Версаль – храм. Версаль достоин быть местом паломничества»[243]. У Сковороды произведение А. Ленотра и Ж. Ардуэна-Мансара – место неописуемых светских утех. Такое представление основывалось на давней традиции; еще в XIV в. Василий Калика, цитируя Иоанна Златоуста, писал, что в раю, «яко же бо в цареве дворе, утеха и веселие»[244], что означало не только развлечение («а вне двора – темница», – говорилось далее). В Древней Руси усадьбы нарицательно назывались раем, что до настоящего времени сохранилось в именах собственных некоторых из них и что, как тогда, так и сейчас, имело не столько сакральный смысл, сколько означало лишь приятность места.
Иероним Шперлинг. Амур в лабиринте. Гравюра к «Метаморфозам» Овидия. XVIII в.
От сакральности к эротике эволюционировали отдельные элементы сада, такие, как лабиринт. Обладающий развитой символи кой он изначально был связан с темой оплодотворения, «священного бракосочетания» Матери-Земли и Отца-Неба, а в церковных интерьерах стал знаком очищающего пути. В позднее Средневековье сформировался сад – лабиринт любви (так называемый Maison Dédalus или Labyrinthe d’amour). Следуя форме шартрского лабиринта, он получил совершенно иной смысл. В его центре часто помещалось дерево, напоминавшее о Древе жизни, т. е. об Эдеме как прообразе садов любви[245]. В версальском лабиринте, предназначенном для юного наследника престола, преобладала, однако, дидактика. Там установили скульптуры – персонажи басен Эзопа. (Подобный лабиринт украсил Летний сад.) В общественных садах позднего времени лабиринт стал публичным аттракционом. Форма лабиринта сохранялась и как подвижная граница между сакральным и мирским (с. 150).
Садовый пантеон
Все опыты воссоздания истории садов начинались с упоминания Эдема как первого сада, а Христа – как садовника. В «Письмах о садах» Игнация Красицкого, первом польском очерке садовой истории (1785), говорилось: «Рай, как он описан в Священном писании, содержал все, что следует иметь саду»[246]. Не обошелся без слова «парадиз» по отношению к саду даже Линней в своем сочинении «Philosophiа botaniса».
Боги в саду обитали постоянно, на протяжении веков менялся лишь их состав. Это не только Бог-отец в Эдеме, но и Помона, богиня плодов в римской мифологии, ее муж Вертумн, который как бог метаморфоз, всяческих перемен (времен года, стадий созревания плодов, течений рек, настроения людей), отождествлялся с богом садов. Афродита в античных текстах выступала как Афродита в садах, Афродита в стеблях, Афродита на лугах[247]. Афродиту священно-садовую в той же роли сменила ее римская преемница Венера.
В средневековых садах изображения христианского бога замещали символы. Согласно идеальному плану монастыря для аббатства Сент-Галлен (ок. 900 г.), среди фруктового сада предлагалось поставить крест, от которого, как говорилось в экспликации, «исходит благоухание вечной святости»[248]. Однако позднее Эразм Роттердамский описал сад, где на калитке с библейскими надписями расположилась фигура апостола Петра, а «в симпатичной», по его словам, часовне вместо гадкого Приапа стоял Христос как охранитель тела и души. Одной рукой он указывал на изображения Бога-отца и Святого духа, а другой «словно манил идущих мимо»[249]. Фурттенбах предлагал заполнить ниши в Paradiesgarten статуями Адама, Евы, Моисея и Христа.
Античные боги вновь появились в садах в эпоху Ренессанса. В XVII–XVIII вв. там спокойно соседствовали библейские и языческие персонажи, хотя последние преобладали. Даже Мильтон в описании потерянного Рая не мог обойтись без античных богов.
В его Эдеме «сам вселенский Пан… / Водительствует вечною весной»[250].
В садах поселился и genius loci, имевший не столь универсальные, по сравнению с богами, функции. Это был дух, нашедший себе место и свои корни[251]. В XVIII в. Дева Мария уже не могла быть обитательницей утратившего ограду сада, ее место заняла прекрасная садовница (ил. с. 237). В садовых текстах и самих садах редкостью стала белая лилия Благовещения, Lilium candidum, попавшая в Европу из восточного Средиземноморья, родины Марии, и, как и rosa mystica, символизировавшая Богоматерь и дары Святого духа[252].
В конце XVIII в. в связи со стремлением к естественности и пейзажности статуи богов подвергались изгнанию, как и другие скульптуры. Увлечение масонством и гностическими идеями способствовало оживлению в садах XVIII в. мистических эзотерических элементов (IV.5). Однако эти попытки ресакрализации отношений с природой не были лишены искусственности.
Вернуть утраченное отношение к природе как к таинству пытались романтики. Они чтили природу в ее истинных формах и пришли к прямой, ничем не опосредованной, хотя уже «вторичной», сакрализации сада. Они хотели «священной гармонии со всею природою»[253], а «каждый кусочек мха, каждый камень» представлялся им заключающим «тайный шифр», который невозможно полностью разгадать[254]. Романтики переиначивали первоначальные символы – деревья в их садах, утратив приписываемую им магическую силу, стали священны своей связью с историей. Правда, еще египетские боги записывали деяния правителей на фруктовых деревьях[255].
Эммануэль Эре. Голгофа и Cтанции Крестного пути в монастыре Mission Royale. Нанси. 1743
Таким образом, на протяжении истории образ сада переходил из сакрального пространства в мирское, из добродетельного – в греховное и обратно. По мере развития целительной, развлекательной, эстетической, морализаторской и других функций, а также с общим изменением культурных парадигм сакральная символика сада ослабевала, сакральное первоначало разбивалось на отдельные религиозные мотивы, которые сочетались с мирскими, в том числе утилитарными явлениями. Десакрализация сада вела к изменению значений отдельных его элементов. Символы, наполнявшие сады, переосмыслялись. При этом антикизирующие вазы заняли там место жертвенных сосудов, а декоративные каскады и фонтаны – источника жизни. Такая подмена свидетельствовала, что «профанные пространства – это всегда провалы сакральных пространств, часто оставшихся уже в далеком прошлом»[256]. Прагматическая функция никогда не позволяла саду целиком оставаться в сфере священного, а священные истоки не давали ему возможность превратиться в чисто утилитарный или лишь развлекательный. «Космическая символика добавляет новые значения какому-либо предмету или действию… без того, однако, чтобы посягать на их собственную значимость»[257]. Образ сада всегда сохранял полифонизм.
В художественной традиции, в отличие от расхождения научного и сакрального видения мира, топос сада не утратил священной основы, ибо «даже там, где уже нет прочных религиозных традиций и связей, поэтическое мировидение мифично»[258]. Мировая поэзия постоянно оживляла дух священной тайны в образе сада, а в строках Ахматовой «Но клянусь тебе ангельским садом, / Чудотворной иконой клянусь…» сад, сближенный с иконой, вновь предстал в сакральной целостности. Она не разрушилась в его поэтическом топосе, свидетельствуя, что диалог священного и мирского не имеет своего завершения.
Глава 2 Природа и сад в русском сознании: от игумена Даниила до Карамзина
Сакрализованный ландшафт православного паломника. – От «сада заключенного» к «веселым огородам». – Садовая лексика. – Первые русские в садах Европы. – Петр Толстой и Карамзин. – Природные локусы. Лес. – Горы – Море. – От приюта дриад к родной природе
Гора Фаворская, церковь Преображения. Из лицевого списка «Хождения игумена Даниила»
Природа никогда не может явить себя человеку в своей самости. Уже под его взглядом она всегда антропизуется, он ее созерцает, воспринимает, оценивает, превращает в артефакт, ставит в контекст собственного опыта и традиции, не говоря о метаморфозах, претерпеваемых природой в результате практической деятельности людей. Все ее ипостаси входят в картину мира отдельных эпох и соответствуют присущими им отношениям «натура – культура», способам видения и освоения мира в целом.
С древних времен, наряду с возделыванием природы, человек вырабатывал различные формы взаимоотношений с ней, такие, как сакрализация, мифологизация, символизация. В дальнейшем природное пространство наполнялось сакральными и историческими знаками и значениями, подвергалось другим способам его освоения и «присвоения», «приватизировалось» и «национализировалось» в прямом и переносном смыслах. К числу явлений, влияющих на образ и облик природы, на отводимый ей в ходе культурно-цивилизационных процессов статус, со временем присоединились такие факторы, как идеализация и эстетизация ландшафта.
Господствующие конвенции, позднее индивидуальные вкусы превращались в каноны, правила, стереотип и моду. Тем самым опосредовались отношения человека и природы. Их отчуждение возникало также вследствие стремления людей создать свое пространство обитания. Природа, визуально и семантически, оказывалась все более удаленной от первоначального состояния, а человек – от естественной природы. Опосредующую роль играли и сады, замещавшие прямой контакт с ней. На протяжении веков человек действительно хотел избежать опасного для него непосредственного соприкосновения с ее стихийными силами, интеллектуально упорядочить и практически подчинить своим потребностям природный ландшафт. В Библии же говорилось, что человек создан не только возделывать природу, но и хранить ее (Быт 2:15).
Еще основатель Москвы боярин Кучка, «прииде на реку, глаголемую Москвою… и пшебысть на месте сем 3 дни, зря красоту его, и повеле… сечши и жеши той бор, и сотвори поле великое. Егда же виде поле, наипаче возлюби место сие», – так автор XVII в. повествовал о «зачале великого царства Московского»[259]. Человеку всегда нравилось видеть плоды своей деятельности, поэтому природа была близка и приятна ему в обработанном, приспособленном для его жизни и к его представлениям виде. Отсюда возникла дихотомия естественный ландшафт – сад. Их отношения получали различные формы и интерпретации со сменой культурных эпох.
Если трудно установить первичность сакрального или утилитарного отношения к природе, то столь же трудно обозначить момент возникновения ее эстетического восприятия. В текстах традиционной культуры не зафиксированы эстетические оценки природного пространства. Оно осознавалось посредством связанных с прагматикой смысловых противопоставлений: свой – чужой, опасный – безопасный, хороший – плохой[260]. Тем не менее дикая природа изначально вызывала у человека не только священный трепет за урожай и жизнь, но и желание любоваться ею в те моменты, когда она оборачивалась к нему своей благодатной стороной, одаряя его плодами, распространяя тепло, свет, ароматы. Сакральное отношение к миру включало эстетическое начало, неотделимое от самого его сакрализованного образа, воплощением которого служила божественная природа. Ее элементы стали первыми священными объектами.
Трансцендентное отношение к природе в христианстве, казалось бы, не способствовало тому, чтобы красота видимого телесного мира заняла высокое место в иерархии ценностей, однако средневековый философ рассуждал о ней, «не просто подразумевая концептуальную реальность в ее чисто абстрактном преломлении, он более или менее открыто обращался к чувствам повседневным, опыту пережитому и накопленному»[261]. Такой опыт был и у жителя Древней Руси.
Сакрализованный ландшафт православного паломника
Растения «шумом листвий», благоуханием цветов несут «веселие неоскудное и наслаждение», «златовиднейшим солнцем» освещается земля, на которой растут «сладкоуханные цветы» – такие слова, пришедшие из византийской культуры, с XI в. звучали на Руси во время проповедей[262]. В них восхищение природой как божественным творением соединялось с чувством красоты – подобно свету она выступала фундаментальным понятием средневековой эстетики, в том числе византийской и русской. Согласно преданию, Великий князь Владимир крестился по греческому обряду не случайно, а прельщенный красотой богослужения. Само его созерцание совершенствует душу, что человек постигал через «чувства повседневные». Они обострялись на Святой земле. Об этом говорит «Хождение в Святую землю Даниила, игумена Русской земли» (начало XII в.):
«Суть Винограда мнози около Иерусалима и овощнаа древеса многоплодовита, смокви и агодичия, и масличие, и рожци; и ина вся различнаа древеса бесчисла по всей земли той суть, благословенна всем добром: и пшеницею, и вином, и маслом, и всякими овощами обильна, и скотом умножена».
«Церкви Святаа Святыхъ дивно и хитро создана… и красота ея несказанна есть… [также] извну написана хитро и несказанна; стѣны ей избьены дъсками мраморными… И връх исписанъ издну мусиею хитро и несказанно, а звну врьхъ побиенъ есть былъ мѣдию позлащенною».
Так формировались лексика и подходы к описанию произведений сакрального искусства, в дальнейшем получившие развитие у русских средневековых авторов[263].
С ветхозаветными и евангельскими событиями было связано каждое из мест Святой земли. В порядке своего маршрута Даниил рассказывал о них, приводя конкретные детали, сообщал о расстояниях, напоминал и о самих произошедших там событиях, священность которых придавала всему увиденному и описанному цельность. Сакральное и географическое пространство Святой земли образовывали ее единый топос, имевший признаки райского сада и связанный с определенным климатическим типом ландшафта. Он был прекрасен как природный и библейско-христологический, служил ареной различных «чудных» событий и местом «хожений» паломников, желавших приобщиться к ним. О горе Фавор Даниил говорил так:
«Вышши же есть Фаворьскаа гора всѣх, сущи окресть ея, и есть уединена кромѣ всѣх горъ, и стоитъ посреди поля красно зѣло, яко стогъ будеть гораздо здѣлан, кругло и высоко велми и великъ ободом… Есть гора та вся камена, лѣсти же на ню трудно и бѣдно велми по камению, луками на ню лѣсти, путь тяжек велми; едва бо на ню възлѣзохом: от 3-го часа до 9-го часа, борзо идуще, едва взидохом на самый врьхъ горы тоя святыа. И есть же на самом врьсѣ горы тоя мѣсто высоко ко встоку лиць къ зимнему, аки горка камена, мала, островерха; и на том мѣстѣ преобразился есть Христос богъ нашь».
Палестинские горы как «чудное и дивное Божье устроение» вызывали у Даниила восторг. С них открывался поражавший его панорамный вид:
«И есть гора Елеоньскаа высока над градом Иерусалимом и видети с неа все въ градѣ Иерусалимѣ, и Святаа Святыхъ, и до Содомскаго моря и до Иордана с нея дозрѣти, и всю ту землю, и об онъ пол Иордана, все с неа видѣти: вышьши бо есть всѣх Еленьскаа гора сущих горъ около Иерусалима».
В том же восторженном тоне, но уже совершенно в другой связи вторил Даниилу автор «Слова о погибели Земли Русской» (XIII в.), создавая с сакральным, эстетическим и патриотическим воодушевлением ее умозрительный панорамный образ, который восходил к образам Святой земли и рая:
«О, светло светлая и украсно украшена земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми, удивлена еси реками и кладязьми месточестьными, горами крутыми, холми высокыми, дубровами частыми, польми дивными, зверьми разноличьными, птицами бещислеными, городы великыми, селы дивными, винограды обителными, домы церковьными и князьми грозными, бояры честными, вельможами многами – всего еси испольнена земля Руская, о прававерьная вера християньская!»
Согласно этой картине, Русь обладала совокупным неразделимым богатством, которое составляли природа, достойные люди и плоды их труда. Как целое она персонифицировала свет и красоту. Их православный человек видел не только внешним, но и внутренним взором. Поэтому Русь оценивалась независимо от состояния ее земли, цветущей или разоренной, как в эпоху создания «Слова о погибели». Конкретные формы окружающего пространства были вторичны. «У Святой Руси нет локальных признаков, – писал С.С. Аверинцев. – У нее только два признака: первый – быть в некотором смысле всем миром, вмещающим даже рай; второй – быть миром под знаком истинной веры»[264]. Русь – это «прававерьная вера християньская!» Поэтому ландшафтные реалии – горы, реки, мосты через них, рощи, города, здания, которые описывались путешественниками в Святую землю как конкретное место библейских и евангельских событий, приобрели в идеализированном образе Руси собирательное значение, стали обобщенными и символизированными признаками ее природно-культурного ландшафта.
В результате в описании Руси появились «крутые горы»[265]. Прообразом их был ландшафт Земли обетованной. Там на горах происходили многие важнейшие события священной истории. Средневековым авторам гора была нужна и в качестве напоминания о сакральной вертикали, соединяющей землю с небом. Этот архетипический мотив стал неотъемлемым элементом православных икон, католических алтарных образов. Гора служила синонимом Библии[266], символом Богоматери. Как Гора Нерукосечная, Гора Тучная она изображалась с горой-лещадкой в руках (икона Богоматерь с припадающими святыми Никитой и Евпраксией. Конец XVI в. Сольвычегодский историко-художественный музей)[267].
С киевских времен горы входили в представления о городе в качестве его основообразующего начала: апостол Андрей, «въшедъ на горы сиа, и благослови я, и постави крестъ…», говорилось в «Повести временных лет» об основании Киева[268]. От вида, который открывался с высокой точки, захватывало дух, возносившийся к Богу. Наряду с «холми высокыми» горы придавали масштабность и рельефность панорамному ландшафту-знаку, ландшафту-символу Святой Руси. В ее описании оказались также «города великие». Согласно тогдашнему словоупотреблению, это определение говорило не только о размерах, но и о значимости объекта. В число красот, которыми удивляет Русь, вошли и «домы церковьные».
Маттеус Мериан Старший. Иерусалим. Гравюра. Середина XVII в.
Цитированный фрагмент «Слова о погибели Земли Русской» примыкает к числу текстов, названных В.Н. Топоровым «геоэтническими панорамами», которые ученый рассматривал как универсальное явление, продолжение комплекса «пространственно-временно-персонажных структур космологической эпохи», соединительное звено «космологического» и «исторического». Такого рода панорамы объединяет общий источник – природный субстрат, в который они уходят корнями, свидетельствуя о роли «природ ного» в становлении культуры[269].
В сакральном ландшафте особый облик имела растительность. Важнейшее ее архетипическое сакрализуемое свойство – плодородие. Его олицетворяет земля Ханаана, расположенная на восточном побережье Средиземного моря и согласно Библии обетованная Богом Израилю:
«Пшеницею, и вином, и маслом, и всяким овощом обилна есть зѣло [земля та]… и овци бо и скоти дважди ражаются лѣтом; и пчелами увязло ту есть в камении по горамъ тѣмъ красным; суть же и виногради мнози по пригорием тѣмъ, и древеса много овощнаа [фруктовые] стоятъ бес числа… и… лучи и болий всѣхъ овощий, сущих на земли под небесемъ… И воды добры суть… и всѣмъ здрави, и есть мѣсто то и красотою и всѣмъ добром. Неисказанна есть земля та около Феврона!»
Это своего рода гимн сакрализованному изобилию, а также красоте Святой земли. Называемые Даниилом объекты природного мира пластично включены в ландшафт, за его рельефом следует взгляд читателя – тут он видит поле пшеницы, там фруктовые деревья, следит за стадами скота, поднимает глаза на пчел, которые устроились «по горам тем красным», спускается «по пригорием» вместе с виноградными лозами, в круг его зрения попадают текущие воды. Автор увлекает читателя, желая, чтобы тот «поскорблъ бы ся душею и мыслию къ святым симъ мѣстом».
Даниил стремился возможно полнее обрисовать святые места, священные объекты, которые видел «очима своима»:
«И есть дубот [Мамврийский] не велми высокъ, кроковат велми, и частъ вѣтми, и многъ плод на нем есть; вѣтьви же его близ земли приклонилися суть, яко мужь можеть, на земли стоя, досячи вѣтви его».
В отличие от этого описания, соответствующего натуре, изображения дуба в иконах ветхозаветной Троицы условны. В них дерево часто увенчано шарообразной кроной или напоминает огромный пальмообразный трилистник, пятилистник. Иконописец, даже прочитавший один из многочисленных списков «Хождения» Даниила, не следовал его тексту, а руководствовался традицией и иконными прорисями. Если игумену было важно как можно точнее описать почитаемый объект, то иконописец, создавая предмет культа, шел за каноном, что позволяло ему передавать сакральные смыслы от одной иконы к другой. Священные предметы и истины не подлежали метаморфозам. Это царство Бога и веры, а не человека и культуры.
Даниилу «дивно» и «чудно» казалось, что мамврийскому дубу «есть толь много лѣт», стоя «на толь высоцѣ горѣ, [он] не вредися, ни испорохнѣти, но стоитъ утверженъ от Бога, яко то перво насаженъ». Он рос «ис каменя», как в иконах из скалистых лещадок. Подобные представления о вечной природе олицетворял Эдем. Там «древа не гниющая, травы не ветшающая, цветы не увядаемыя, плоды неистлеваемыя», согласно протопопу Аввакуму[270]. Они не участвуют в круговороте природы, поэтому могут служить неизменными христианскими символами. Однако в качестве таковых выступали и неотвратимо повторяющиеся и меняющие свой облик времена года, как весна, которая «красуеться, оживляющи земное естьство… Весна убо красная есть вера Христова»[271]. «Различнаа древеса бесчисла», увиденные игуменом в Святой земле, воспринимались и как реальные плодоносящие растения, и как символы плодородия и неизбывности природы (в те времена она была щедрее в Святой земле и обильнее влагой в результате ее тщательного возделывания).
Описания ландшафта благодаря их конкретности у Даниила эмоционально различны. Мрачна картина страшной горы каменной у моря Содомского: там лес «велик и част» и «неудобь проходно есть», а природные опасности соединяются со страхом перед сарацинами. Светом наполнен энергичный по ритму рассказ об изобильной земле Ханаана: «Неисказанна есть земля та!» Ее ландшафт столь же священен, как и тот, где сосредоточены места культа. Однако сакрализация Ханаана связана, в первую очередь, не с ними, а разлита по всему его изобильному пространству. Это земля «Богом обетованна и благословена есть от Бога всем добром». Все природное изобилие воспринималось как результат только божьего промысла, что дополнительно вызывало ассоциацию этой земли с раем[272].
«От Бога помощено» мрамором было и пространство вокруг Мамврийского дуба, сразу «уродилося… равно и чисто», как и место, где располагалось жилище Авраама.
Следовательно, люди не участвовали в его обустройстве. Иначе обстояло дело в случае пещеры Авраама: «нынгъ [около нее] созданъ градокъ малъ», сделано это «чюдно и несказанно». Так божественные и человеческие труды соединились для создания священных объектов. Они служили своего рода мемориалами библейских событий и становились образцами, которые можно было копировать и переносить из Святой земли в другие страны[273].
Такие постройки вызывали эстетическую реакцию не только у игумена Даниила, но и других авторов. Василий Поздняков в «Хождении на Восток» (1558) писал:
«Церковь Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа весьма красива, вымощена мрамором, белым и синим; резьба по камню мелкая, расцвечена разными красками и устлана узорами будто камчатными».
Троица Ветхозаветная. Новгород. Рубеж XV–XVI вв.
Паломничество было не просто путешествием любопытствующего человека в земном пространстве, а движением к духовному совершенствованию в пространстве сакрализованном. Даже чтение рассказа о Святой земле давало благодать, а само «хожение» в тогдашних условиях было подвижничеством. Поэтому духовный путь к просветлению мог описываться в качестве паломничества, как в апокрифическом «Хожении Агапия в Рай» (первые списки рубежа XII–XIII вв.). Тем самым оно оказывалось включенным в мировую традицию судьбоносных путешествий Геракла, аргонавтов, Одиссея, Тезея, Энея, а в христианское время – св. Елены.
В текстах хождений сакральное и мирское неразрывно сливались, бытовые действия паломников становились продолжением некогда происходившего в данной местности:
«А где вышли сыны израилевы из моря, то от того места в пяти верстах двенадцать источников… Пришел Моисей… и ударил жезлом, и закипела вода… И тут мы себе воды набрали».
Как видно из приведенного фрагмента, для средневекового человека формирование земного ландшафта не остановилось на днях божественного творения, оно продолжалось в ходе библейских событий. Василий Поздняков так писал о новых геологических превращениях:
«По пути мы видели источник, который синайский старец вывел из каменной горы молитвою… А по дороге от этого места, не доходя святой вершины, находится большая скала; когда Илья пророк поднялся на святую вершину, ангел той скалой заложил дорогу». «Там, где море расступилось от удара жезла Моисея… на поверхности же воды через все море видно двенадцать дорог морских. Море то все синее, а дороги те белые на воде лежат – издали видно. А как подойдешь к морю, море то, как обычно, все лазоревое».
Сравнения увиденного в Святой земле со знакомыми вещами вели к известному обмирщению сакрального пространства. Согласно Даниилу:
«Всѣмъ же есть подобенъ Иордан к рѣцѣ Сновьсѣй – и вширѣ, и въглубле, и лукаво течет и быстро велми… вширѣ же есть Иордан яко же есть Сновь на устии… лозие много, но нѣсть яко же наша лоза».
Поводы для появления в древнерусской литературе ландшафта конкретной местности были связаны с описанием не только Святой земли, но и дороги к ней. Игнатий Смольнянин, рассказав в «Хождении в Царьград» (1389–1393) о водном пути от Москвы до Царьграда по Оке, притокам Дона и самой этой реке к Азовскому и Черному морям, впервые описал настроение, в котором проходили проводы и отплытие в иноземье. Его лаконичное, кадрированное по дням описание дополняют топонимы, в большинстве случаев происходящие от ландшафтных реалий и поэтому помогающие читателю «узреть» упоминаемые места:
Паломникам дали «утешительное наставление, простились, жалостно и с умилением». «В неделю Святых мироносиц жен» они поплыли на стругах по Дону, «грустя и скорбя о путешествии. Места были очень пустынные, не было видно ни села, ни человека, только… лоси, медведи и другие звери… Во второй день речного плавания минули две реки, Мечу и Сосну, в третий же день – Острую Луку, в четвертый – Кривой Бор. В шестой день добрались до устья Воронежа… Оттуда приехали к Тихой Сосне, видели столпы каменные белые, красиво стоят в ряд, как стога малые, над рекою над Сосною. Минули Червленый Яр… В неделю Самарянину минули реку Медведицу, горы высокие и Белый Яр; в понедельник – горы каменные красивые, во вторник – Теркли, городище и перевоз… В неделю Святых отцов погрузились в корабль на устье Дона под Азовом… прибыли в Царьград с радостью неизреченною… Утром же пошли к святой Софии, что именуется Премудрость божия».
Путь паломников синкретично соединял географическое и сакральное пространство, которое в результате получало земные координаты. В древнерусских текстах «понятия нравственной ценности и локального расположения выступают слитно», – отмечал Ю.М. Лотман, земная жизнь не противостоит небесной «в смысле пространственной протяженности»[274]. Синкретично отмерялось и время в пути – по дням путешествия и церковным праздникам.
Передвигаясь от одного достопамятного места к другому, паломники одновременно перемещались от события к событию, которые выстраивались не в хронологическом порядке, а в соответствии с маршрутом. Благодаря этому путешествия и посвященные им описания имели особый хронотоп, образовывался сакрализованный пространственно-временной континуум, своего рода синтез географии и библейской истории. Василий Поздняков так описал путь паломников:
«А от Яковлева моста (где Яков боролся с ангелом. – И.С.) до… Иосифова колодца, где его [Иосифа] продали братья в рабство, и от Иосифова колодца до Тивериадского озера один день пути… не далеко и Фаворская гора, где Христос преобразился. От этого места до Вениаминова гроба, сына Якова, полтора дня пути. От Дамаска до Рамле восемь дней пути, стоит Рамле… где плакала Рахиль о своих детях».
Отмечаемые в текстах «Хождений» расстояния, размеры сооружений позволяли читателю лучше вообразить описываемое, ориентировали будущих путешественников[275]. Они придавали рассказу достоверность, а описываемому пространству – «дополнительную сакральность», которая возникала в результате ритуальной функции измерения, свойственной еще архаическим культурам[276].
Даниил передал атмосферу совершенного им «сакрального измерения». Оно происходило после литургии, ключник храма, «введе [игумена] въ Гробъ [Господен] одиного токмо», заставил его поклясться, что он сохранит все это в тайне. И тот, при свете кадила, «стояща на гробѣ святѣмъ и… горяще свѣтомъ… святымъ… облобызавъ с любовию и слезами мѣсто то святое… измѣрих собою Гробъ [Господен] въдлѣ и вширѣ и выше же, колико есть».
Сообщения о расстояниях переплетались с описанием трудностей совершаемого пути, а тем самым и характера окружающего ландшафта:
«И есть Тивириада град 4 дний вдалее от Иерусалима пѣшему человѣку ити, и есть путь страшен вельми и тяжекъ зѣло; в горах каменых ити 3 дни, а четвертый день подлѣ Иорданъ по полю ити все къ всходу лиць… до верха Иорданова… А отъ Кюзивы до Иерихона 5 верстъ, а от Иерихона до Иордана 6 верстъ великых, все поравну въ пѣсцѣ; путь тяжекъ велми; ту мнози человѣци задыхаються отъ зноя и ищезають, от жажи водныя умирають. Ту бо море Содомское близь от пути того, изходит духъ зноенъ смердящь, зноит и попаляеть всю землю ту. И ту есть, недошедше Иордана, близь на пути, монастырь святаго Иоанна Предтечи; и есть горѣ въздѣлан».
Препятствия, которые ставила природа человеку, также давали повод для описания ландшафтных реалий[277]:
«Вышли мы, отслужив раннюю обедню, а туда, на святую вершину, к ночи взошли: очень труден подъем – все время в гору по камням, тяжек подъем на святую вершину – гора пошла круто вверх. Гора же та очень высока, облака небесные ходят по воздуху ниже горы и трутся о горы. А ветер на горе очень сильный и стужа лютая».
Так рассказывал Поздняков о восхождении на Синай, который был местом общения Моисея с Богом, сакральным центром, и путь к нему не мог быть легким. Гора символизировала духовные трудности этого пути, вместе с тем они материализовались в движении к ее «святой вершине».
Полноценным чувством красоты природы обладал протопоп Аввакум, владевший, кроме того, сочным и пластичным языком барокко для ее описания. Картина сибирских ландшафтов, возникающая в его «Житии», неотделима от изложения злоключений в сибирской ссылке. Их драматичной частью было противостояние дикой природе, которой Аввакум сопротивлялся с упорством ветхозаветного Якова. Однако, в отличие от него, он никогда не оспаривал превосходства небесных сил и всегда взывал к помощи Бога: «Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена, стоит», смотреть на них можно только, «заломя голову» и крича: «Господи, спаси! Господи, помози!»[278]
Движение человека в природе соединялось с движением самой природы. Многочисленные глаголы в тексте Аввакума превращают ее в живой организм:
«В Даурах я был… по льду зимой по озеру бежал на базлуках; там снегу не живет, морозы велики живут, и льды толсты намерзают, – блиско человек а толщины… озеро верст с восьмь… Затрещал лед предо мною и расступися… гора великая льду стала…»
Таким образом, природа, утратив статику – один из основных признаков сакрального пространства, оказалась описана в качестве процесса и в ее взаимоотношениях с человеком, предстала уже не «вечным», а постоянно актуализирующимся явлением. Сочинения игумена Даниила и протопопа Аввакума – великолепное обрамление огромного этапа в истории восприятия ландшафта, что можно отнести и к природе в целом. Он начался в раннем Средневековье и закончился в эпоху барокко, хотя сама эта эпоха ко времени появления сочинений Аввакума не закончилась.
От «сада заключенного» к «веселым огородам»
Особое место в этом процессе занимал сад. В византийской традиции он воспринимался частью сотворенного Богом природного пространства. Согласно Иоанну, экзарху Болгарскому, «земля садом и дубравами и цветом утворена и горами увяста» («Шестоднев»). Даниил, не употребляя слово сад, слитно описывал естественные и культивированные посадки – для него Святая земля вся была садом и раем.
Для русского человека еще в XVII в. сады оставались явлением природы, а не искусства. В них автор того времени видел достоинства, которые издавна приписывались природе как таковой. Ее образ, как и образ сада, восходил к мифологеме олицетворявшего ее Эдема. Плодородие садов ценилось и как божественный дар, и как практический результат: «Яко же кто посещением касается прекрасного и доброплодного сада, таковый наслаждается зрением красоты, обонянием благоухания, вкушением пресладких плодов».
В том веке сады разбивались и в загородных, и в городских усадьбах, которые долгое время мало различались[279]. Эстетическое начало им придавала прежде всего цветущая растительность, ее красочная многоцветность (там действительно было много цветов). Царские усадьбы по-барочному щедро украшали беседками, лабиринтами, резными оградами и калитками[280]. В их архитектуре и садах раньше всего проявились принципы регулярности[281]. Однако в XVII в. не они в целом определяли композицию даже царских садов с характерными для них «многими извивающимися дорожками», которые удивляли зарубежных путешественников[282]. (Подобные им распространятся в Европе с английскими парками в середине XVIII в.)
В тогдашних русских садах живописность не была умышленным свойством, она проявлялась стихийно и действительно естественно. Сады напоминали описание Рая Агапием, который узрел там «различные деревья и цветы разные цветущие, и разнообразные плоды», а также множество птиц, которые были «различными красотами и пестротами украшены»[283]. Сады непосредственно переходили в поля, рощи и леса, наполняли городскую застройку, что не только веками происходило в Москве, но было характерно и для раннего Петербурга, который первоначально состоял из слобод и усадеб с их садами и дворами, что связывало его с древнерусской традицией[284]. Секретарь прусского посольства И.-Г. Фоккеродт с неодобрением писал, что лучшую часть петровского Летнего дворца «затеняет высокий дубовый лес, растущий на прекраснейшем месте в саду»[285]. Еще в 1721 г. в Царском Селе была посажена березовая «дикая роща»[286]. Ранее А. Леблон предлагал не ставить ограду в Верхнем саду Петергофа, заменив ее рвами. Можно пофантазировать в духе альтернативной истории, что было бы, если бы принципы регулярного садоводства столь активно не привносились в живописный мир древнерусских садов. Это происходило в годы, когда в Англии Шефтсбери, Дж. Аддисон, А. Поуп своими сочинениями уже готовили переход к английскому естественному парку. Однако подобные идеи распространились в русском садоводстве во второй половине XVIII в., свидетельствуя, что наличия практических средств и приемов еще недостаточно для возникновения новых явлений (см. также с. 180).
С рубежа XVII–XVIII вв. занятия садами начинают превращаться в самостоятельный вид творчества, они входят в моду, повышают престиж владельца, становятся знаком богатства и роскоши. Тот, кто посвящает себя наукам, «больших не добьется Палат, ни расцвеченна мраморами саду», украшенного «статуями или столбами и другими зданиями мраморными», – иронизировал А. Кантемир (1729)[287]. Так тема «реального», а не мифологизированного сада появилась в формирующейся тогда же русской светской поэзии. Создавать сады учили переводные книги, в том числе «Теория и практика огородов, которые называютца „веселые огороды“» А.-Ж. Дезалье д’Aржанвиля и Леблона[288]. На протяжении XVIII в. они находят все большее место, вытесняя утилитарные посадки на периферию владений.
Получив регулярную композицию и элементы аллегорической программы, сады придали новый облик русской усадьбе и служили объектом особого внимания хозяев. Благодаря им усадьба воспринималась как противостоящий городу приют спокойствия, благих мыслей, творческого вдохновения, а также сельских трудов, однозначно ассоциируемых с садом. Он влиял на общую атмосферу усадьбы, формы быта, тип поведения, личность обитателя. В результате она превращалась в особое культурное урочище. Именно благодаря саду усадьба отождествлялась с Эдемом, еще с древности в ее название благодаря ему же включалось слово рай. Как ранее регулярный сад, так теперь естественный парк, распространившийся в России с 1770-х гг., позволил усадьбе вписаться в пасторальную и утопическую традиции. В атмосфере сада в XIX в. возник русский усадебный миф, развитый в садовых мотивах русской литературы и искусства[289]. Он вобрал в себя образы, восходящие к архетипу рая.
Садовая лексика
С преобразованием садов менялась садовая лексика. Слово сад, встречающееся уже в Остромировом евангелии (1056), не всегда означало сад как таковой, выступая также в символическом толковании, особенно в ранних текстах (в «Хождении Агапия» – это аллегория духовного совершенствования, что совпадает с одним из толкований слова пустыня; с. 84). Согласно И.И. Срезневскому, лексема сад означает растение, дерево, а также деревья, сад, трава, луг, роща. Наряду со словом сад как синонимы употреблялись слова огород, а также виноград[290] (в «Слове о погибели Русской земли», цитируемом выше, говорилось, что земля украшена «винограды обителными», т. е. монастырскими садами).
От XVI в. сохранилась рукопись под названием «Назиратель», которая через польский перевод восходит к латинскому трактату Пьетро ди Крещенци «Liber rura lium commodorum» («О выгодах сельского хозяйства», ок. 1305 г., лат. изд. 1471), который возрождал традиции римской агрономии[291]. Это было также первое и до конца следующего столетия единственное известное сочинение на русском языке сельскохозяйственной тематики (краткая информация по связанным с ней вопросам содержалась в 45-й главе «Домостроя»)[292]. В «Назирателе» говорилось, как засаживать сады, как за ними ухаживать и их огораживать:
«ωгород или сад, подобает бережно укрепити добрым замыканиемъ… в неи тако ж мощно здѣлати прохладныи виридаринъ, сирѣчь травничокъ и бесѣдку гсдн [господину], чтобы был недалече бчелникъ потешныи и птицы, и звѣри различные какъ то сут горличища заичики. и прочие по устроєнию».
Описанный сад предназначался для отдыха и удовольствий, такие назывались веселыми огородами, позднее – увеселительными садами (от нем. – Lustgarten, фр. – jardin de plaisance, сад развлечений; лексическое отождествление сада и огорода могло восходить к латинскому слову hortus, имевшему оба значения). В русской рукописи сад назван виридарин (в польском издании 1549 г., с которого переводился «Назиратель», фигурирует слово wirydarz, от лат. viridarium – древесные насаждения, сад, парк, роща, небольшой сад[293]).
Такие русские сады существовали во время Бориса Годунова (в Борисовом городке, согласно описи 1664 г., был регулярный план, беседки, пруд с искусственным островом)[294]. Так что появление перевода Кресценция пришлось ко времени и могло способствовать развитию русского садоводства.
У Симеона Полоцко го слову виридарин соответствует лексема вертоград, как назывались не только сады, но и воспринятая от польско-литовской традиции многосоставная литературная форма. Она представляла собой некий компендиум идей и знаний о мире, наполненный моральной проблематикой, каким стал «Вертоград многоцветный» этого автора[295]. Он же перевел с польского для царевны Софьи остававшийся в обиходе до середины XIX в. лечебник «Книга глаголемая Вертоград Прохладный, избранная от многих мудрецов о различных врачевских вещах ко здравию человекам пристоящих».
Синонимичное употребление слов сад и огород сохранялось и в дальнейшем. В Измайлове Алексея Михайловича, согласно описи, были Конопляный и Просяной (Просянский) сады, хотя относительно второго из них известно, что там росли яблони, имелись также беседки, иллюзионистические росписи и другие декорации[296]. У Даля упомянуты также сады картофельные, овощные. Возможно, что это более древнее словоупотребление, но не исключено, что оно возникло или актуализировалось в результате влияния польского текста, с которого делался перевод Кресценция, так как по-польски сад – это ogród. Вместе с тем русские, посещая в Речи Посполитой барочные увеселительные сады, могли слышать, как поляки называют их огродами. В петровское время художественно оформленные сады постоянно назывались огород и огрод. В документах французской поездки Петра I (1717) фигурировал Версальский огород. У царя было и сочинение «О огроде, или о саду Версалии», в титуле которого переводчик соединил оба слова.
Пьетро ди Крещенци. Календарь. XV в.
Размытость употребления слов, обозначающих сад, – свидетельство еще не устоявшихся тогда форм самого сада. Однако, когда М.М. Херасков упоминал «простой мой огород» в противовес садам, которые Дамис «в статуи убирает», он уже скорее архаизировал, играя словами и образами, так как под огородом имелся в виду регулярный французский сад усадьбы Гребнево[297].
Наряду с новой лексикой появлялись и новые типы изображения сада. Если до XVII в. «сад заключенный» в иконах представал как отвлеченный символический образ в виде круга[298], то в XVII в. с распространением в русском искусстве западноевропейской иконографии hortus conclusus приобрел вид цветущего прямоугольного огороженного сада (Никита Павловец. Богоматерь – Вертоград заключенный. 1678. ГТГ). Однако еще в 1663–1688 гг. в Измайлово был разбит Круглый (Аптекарский) огород.
Первые русские в садах Европы
Для становления русского садового искусства Нового времени были важны как иностранные мастера, приглашавшиеся в Россию с XVII в., так и зарубежные поездки русских. Первым свидетельством встречи с западноевропейскими садами является «Хождение на флорентийский собор» (1437–1440) неизвестного Суздальца, который несколько раз упоминает увиденные по дороге в немецкой земле «садове красны», а также городские фонтаны, которые называет столпами. То и другое было в Любеке[299].
В Англии Елизавета I пригласила членов посольства во главе с Ф.А. Писемским (1582–1583) «ехать гуляти в свои заповедные островы, оленей бити» (т. е. в так называемый зверинец)[300]. С 1668 г. началось знакомство русских с французскими садами, когда участники посольства П.И. Потемкина увидели Версаль и другие сады Андре Ленотра. В реляции говорилось, что там «строенья, виноград и иные многие деревья плодовитые, [которые] улицами устроены и воды взводные розными образцы». В Версале изобилие редких растений привлекло особое внимание – интерес к ним в России уже отразился в садах Алексея Михайловича. Более подробную информацию о Версале принесло пребывание во Франции А.А. Матвеева, хотя собственно сады заняли в ней малое место[301].
С начала XVIII в. зарубежные садовые впечатления напрямую связывались с новыми явлениями в русском искусстве – в России уже существовали голландские сады, сказывались итальянские, немецкие влияния, однако в это время мастерами всех национальностей распространялись по преимуществу французские образцы[302]. Перенимались не только принципы разбивки и украшения садов, но и их функции, с мыслью о представительском назначении Петром I был задуман Петергоф.
На военных или мирных путях русских в Европу лежали земли Речи Посполитой, там многие из них впервые могли видеть готическую и барочную архитектуру, регулярные сады. Походы в Польшу Алексея Михайловича в конце 1650-х оказали влияние на строительство в Коломенском (1667–1671)[303]. Через А.Л. Ордын-Нащокина царь покупал в Польше архитектурные книги[304]. Петр I уже ранее побывавший в садах Германии, Голландии и Англии, в Польше посетил две резиденции Яна Собеского – Яворов и Вилянов[305]. В Литве царь был гостем епископа К.К. Бжостовского, побывав в его резиденции Верки (ил. с. 375).
Еще в 1797 г. за границу отправился стольник П.А. Толстой. Он ехал на Мальту через Варшаву, где видел Лазенку Станислава Гераклиуша Любомирского:
«Строение великое и зело изрядное, вод пропускных много… палаты предивные… со всех сторон изрядные фонтаны дивным и богатым строением. В… мыльне и в полатах… стены все изнутри деланы гипсом изрядно работою власно… убраны тех полат стены внутри раковинами, и зеркалы великие поставлены… и иными предивными штуками построена, чего подробну описать невозможно».
Это не была, как ранее, божественная «несказанность» сакральных ландшафтов. В русском языке действительно не хватало слов для рассказа о подобных садах и постройках. В целом многие их существенные элементы, прежде всего семантическая программа, оставались вне внимания. Это касалось не только Лазенки, но и Вилянова, вызвавшего у Толстого не меньший энтузиазм. Там «поделаны гульбища изрядные, широкие… сад великой изрядною пропорциею» (имелся в виду геометризм посадок). Беседки также показались необычными: «Два чердака круглые, предивные… внутри поделаны из хрусталей… и зело устроены те чердаки богато и хорошо, и весь тот сад построен безмерно хорошо». (Хотя уже в цитированном фрагменте «Назирателя» встречается русское слово беседка, здесь употреблено распространенное тогда слово чердак.) Толстой отметил «деревья помаранцовые и винных ягод», которые зимой размещаются в ящиках под кровлей с печью (слово оранжерея он еще не использовал), а летом выставляются на открытый воздух.
После Варшавы дорога Толстого шла через Вену, где он посетил «цесарский сад»:
«Травы в нем изрядные и цветы посажены дивными штуками [это были орнаментальные посадки, так наз. broderie]; и дерев плодовитых… розных родов множество и посажены по препорции», а на иных деревьях «листья обровняно по препорции ж» (речь о шпалерной стрижке деревьев, непринятой тогда на Руси). «Деревья в великих изрядных горшках каменных и поставлены по местам, першпективно зело изрядно; так же многие травы и цветы с а жены в горшках разных изрядных и ставлены архитектурално».
Здесь Толстой впервые увидел каскад – «стена каменная изрядною и дивною работою… и с той стены из одного места истекает вода».
В Риме стольник в первоисточнике познакомился с итальянской террасной композицией, уже известной ему по Вилянову. При «Панфилиевом доме», – писал он, – перед палатами «поделаны великие площади, площадь площади выше, а около тех площадей поделаны каменные перила изрядной резной работы». На виллах Панфили и Боргезе «сады зело великие и преудивительною пропорциею построены». В садовых посадках Толстой выделил «огороды и цветники», возможно, имея в виду под первыми фруктовые посадки (но это мог быть и так называемый кухонный сад с овощами и травами). Однако больше всего в итальянских садах тогдашних путешественников, в том числе Толстого, привлекали фонтаны «зело штуковатые и предивные»[306], особенно те, из которых «зело дивно текут вверх высоко чистые, изрядные воды». Эта способность воды «течь вверх», далекая от ее естественных свойств, неизменно вызывала восторг.
Бернардо Беллотто. Вилянов. Вид со стороны сада
Природа как таковая редко попадала в поденные записи Толстого. Подобно паломникам он постоянно сообщал о протяженности проделанного пути, а увидев Венецию, отметил лишь, что она «вся стоит в самом море». «Хотящего же подлинно о Венеции ведать» образованный автор отослал к «Венецкой гистории» Андреа Моросини. В Неаполе наибольшее изумление Толстого вызвал тоннель – «вещь предивная», которую он не сумел назвать, записав лишь, что «в середине того проезду темнота великая». Как курьез его заинтересовало озеро Лукрин, знаменитое своими устрицами и воспетое римскими поэтами. Плавая по Неаполитанскому заливу, он радовался «обычайной утехе неаполитанской» и иллюминации на кораблях, Везувий же упомянул вскользь как место гибели Плиния Старшего. Интерес к садам и отсутствие описаний видов природы было общей чертой европейских сочинений того времени. Особенности поездки Толстого станут более ясными, если, забегая вперед, сравнить ее с путешествием Карамзина.
Петр Толстой и Карамзин
«Записки» о поездке на Мальту и «Письма русского путешественника» по отношению к XVIII в. играли такую же «обрамляющую» роль, как сочинения игумена Даниила и протопопа Аввакума касательно более раннего периода. Как и те, они связаны с «путевым» жанром. Вплоть до появления лирики он в наибольшей мере отражал отношение к природе, не утратив этой функции и в дальнейшем.
Толстого и Карамзина разделяла целая эпоха в развитии культуры и в восприятии природы, различны были цели, характер поездок, жанр их описаний. Толстой был послан Петром I «для науки воинских дел», поэтому назвал свою поездку «нужное странствие», документально описывая ее по дням. Карамзин отправился в путешествие, которое было «приятнейшею мечтою его воображения». Краеведческо-географическое описание Толстого информировало о чужих землях. Письма Карамзина, по его словам, – «зеркало души», а сам он полон эмоций, испытывает «романическия, приятные впечатления», что не мешало постоянно сообщать полезную информацию.
Вплоть до Италии Толстой передвигался, фиксируя проделанные версты. Он как бы все время находился в горизонтальном пространстве, даже поднявшись на гору, не столь обращал внимание на панорамность вида. Для Карамзина, как и для Руссо, а также автора «Слова о погибели Земли Русской», характерно панорамное видение пространства, в дальнейшем излюбленное романтиками (с. 138). С Белой Горы Юрского хребта он созерцает «величественный рельеф Натуры». Оттуда «с высокой горы… [он] мог… обнять глазами великое пространство; и все сие пространство усеяно щедротами Натуры». Кажется, что путешествует не столько тело, сколько легкая на подъем душа писателя.
Маршрут Карамзина непрямолинеен, он постоянно изгибается, напоминает движение по извилистым дорожкам пейзажного парка, выводящим к его неожиданным фрагментам – видовым точкам, павильонам. Это маршрут путешественника, а не паломника, устремленного к святому месту, и не человека делового, направляющегося в определенный пункт. Путь Карамзина отражал его желание увидеть все достопримечательности, в том числе природные, согласно заранее составленной программе.
Ритм и темп его путешествия неровен – программа требует различной продолжительности остановок. В так называемых Письмах Карамзин нарочито по-разному и неточно фиксирует: «Париж Июня… 1790», «Кале, 10 часов утра», иногда только обозначено место – Дувр, Лондон. Толстой также двигался неравномерно, но по другой причине – он подчинялся не желаниям, а внешним обстоятельствам, в том числе природными (сезонная непроходимость дорог), четко фиксируя все в ежедневных записях.
Стольник все воспринимал (а точнее, описывал) с утилитарной точки зрения – земли, как и сады, он оценивал на предмет плодородия (однако без сакрального восхищения игумена Даниила), реки – какие там мосты и мельницы. В окружающем пространстве его интересовали плоды человеческих трудов, европейская цивилизация, а не природа. Поэтому у него можно прочесть не о ландшафтных видах, возникавших по дороге, а о городах, с изображения которых в европейском искусстве началась и собственно пейзажная живопись, ведута.
Иначе смотрел на мир и сады Карамзин. Правда, в начале путешествия его не заинтересовала скромная природа: до Дерпта «смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин». После Митавы – «приятнейшие места». Понравились и виды за Тильзитом – «литовская холмистая местность». Ассоциации с родной природой, которые возникли, когда Карамзин увидел реку, зеленую траву, густые деревья, заставили его ностальгически вспомнить подмосковный вечер.
С «Новой Элоизой» в руках он посетил кантон Во, отметив, что «в романе Руссо много неестественного, увеличенного – одним словом, много романического», что касалось и описания сада Юлии. Вместо его искусно созданной «естественной» красоты, Карамзин, подойдя к селению Кларан, увидел «бедную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы гор, покрытых елями». Работавший рядом поселянин спросил его с усмешкою: «Барин, конечно, читал Новую Элоизу?». Реальный вид не выдержал сравнения с садом и книгой. Карамзин был разочарован.
Природные локусы. Лес
В эпоху Просвещения сад оставался идеальным местом для встречи с природой. Вопреки провозглашаемому принципу естественности, а по сути, в соответствии с унаследованной от Ренессанса идеализированной трактовкой этой категории садоводы предпочитали природу прекрасную и избранную. Под естественным понимался культивированный английский ландшафт, его хвалили за то, что он похож на сад, в садах же восхищались мастерски имитируемым сходством с естественной природой. Они служили постоянным мотивом живописи, фоном портретов. Еще пушкинский англоман князь Верейский «любил сады и так называемую естественную природу», т. е. садовую. Однако к концу XVIII в. belle nature, воспроизводившаяся по полотнам живописцев, постепенно все больше места в пространстве сада уступала «дикой природе». Там представали «всяческие ужасающие прелести», появившиеся и в России, как Горка из «дикого камня» в Царском Селе.
Особую роль в формировании чувства природы в европейской культуре Нового времени, в том числе русской, сыграли горы и море как наиболее экспрессивные и семантически насыщенные локусы природного ландшафта. Важен также лес, образ которого многозначен в древнерусских сочинениях: он служил защитником от набегов соседей, источником жизненных благ, но вместе с тем был опасным местом[307]. В глазах иностранцев со времени Великого княжества Московского лес – составляющая образа России. Томазо Кампанелла, опираясь на описания разных авторов, в «Послании Великому князю Московскому и православным священникам» (1618) так представил ландшафтный образ России: «На много тысяч миль ты владеешь землями и превосходишь всех в Европе их протяженностью… у тебя мрачные леса, огромные ледяные реки, пасмурная страна, частью возделанная, частью пустынная»[308]. Видный шотландский поэт Джеймс Томсон еще в 1726 г. в поэме «Зима» из цикла «Времена года» дал сходную картину засыпанной снегом России, которую да же преобразования Петра I не вывели из инертного состояния.
Однако предпочтение, отдаваемое садообразному ландшафту Италии, опосредующая функция сада в восприятии природы долгое время препятствовали «карьере» леса в искусстве, распространению его образа. В европейское художественное сознание он вошел в XIX в. через лесные сцены «Волшебного стрелка» К.М. Вебера и «хвойные» пейзажи немецких романтиков, прежде всего К.Д. Фридриха, в картине которого соединились и горы, и лес (Тетшинский алтарь. Крест в горах. 1808. Библиотека земли Саксонии и Университетская библиотека. Дрезден), а в русский менталитет и русское искусство – через перевод В.А. Жуковским «Лесного царя» Гёте и неиссякаемо популярное «Утро в сосновом бору» И. Шишкина (в связи с этим можно вспомнить, что художник учился в Германии, в Дюссельдорфе). В. Гау изобразил детей царя Александра II в русских одеждах на дворцовой террасе с псевдоантичными вазами и на фоне елей, а не пейзажного парка.
Горы
Как свидетельствуют приведенные ранее фрагменты «Хождений», уже Даниил слитно дал природный и сакральный образ гор. У автора «Слова о погибели Земли Русской» «горы крутые» предстали в собирательном смысле (с. 101–103). Суздалец, участвовавший во Флорентийском соборе, первым из русских писал об Альпах и красоте местности:
«И всех Полониных [Альпийских] горъ 60 миль… Толико жо высоци суть, облаци вполь их ходят, и облаци от них ся взимают. Сньзи же лежат на них от сотворениа горъ тьхъ; льть же варъ и зной велик в них, но сньг же не тааше». Около города Бирны «рька… Ирнець быстра вельми, чрез ее мостъ камен; и садовъ множество масличных, и мьсто красно меж горъ».
Конкретен и драматичен в описании сибирских гор был протопоп Аввакум. Толстого Альпы ужаснули, он испытал экзистенциальный страх, «великие терп[я] нужды и труды от прискорбной дороги». В описании Альп эмоции Толстого впервые прорвались сквозь его документальный стиль:
Еще издали ему «почели видется оболока, лежащие на горах, и [он мог] выше облаков лежащих видеть горы… а иные облака с тех гор поднимаются высоко, однако ж… ниже верхов… тех помяненных гор… На… горах всегда лежит много снегов, потому что для безмерной их высокости великие там холоды и солнце никогда там промеж ими лучами своими не осеняет». Сам же путь «зело прискорбен и труден, – продолжал Толстой. – По дороге безмерно много каменья великаго острого… пребезмерно высокие каменные горы, с которых много спадает на дорогу великих камней», а по другую сторону дороги «зело глубокие пропасти, в которых течет река немалая и зело быстрая. От… той реки непрестанно… шум великой, власно как на мельнице. Окруженный истинно дикой природой, стольник «видел много смертных страхов», а «от видения… глубокости», в которой «не видно дна», «приходит человеку великое страхование».
Природа в «Записках» Толстого, как и у Аввакума, – самостоятельная, необузданная, дикая сила, от которой стольника «охранила» десница Божья, в отечество здоровым он вернулся «волею Божескою».
В русской светской поэзии первой половины XVIII в. горы не фигурировали как природный феномен, природа в ней – это преимущественно аллегорический мотив или метафора. У Ломоносова по-барочному динамично описанная природа свидетельствовала, «коль росская ужасна сила». Эстетическое соединялось с историческим: «О как красуются места, / Что иго лютое сбросили» (в связи с победой при Анне Иоанновне над Портой).
Горы входили в «толикое земель пространство», осознаваемое Ломоносовым как признак России. Обращаясь к царице Елизавете Петровне, он писал: «Воззри на горы превысоки, / Воззри в поля свои широки». Эта панорама представляла не Святую Русь, а «пространную державу». Ее знаком как страны Севера были «льдистые горы».
Для Ломоносова-поэта горы – это также Парнас, «лавровы вьются там венцы». Ломоносов-ученый описывал Этну, которая «огнем наполнив рвы, / Металл и пламень в дол бросает», из нее «сребро и злато истекает». Говоря об этом, он проявлял не столько свои геологические интересы, сколько следовал античной традиции, в которой горы – источник и «ужаса, который трудно описать» (его, согласно Ливию, испытали воины Ганнибала), и полезных ископаемых (в связи с этим у Ломоносова актуализируется образ пресловутых Рифейских гор из античной географии). У Кантемира возник образ «бумажных гор» как знак книжного богатства.
В 1759 г. А.П. Сумароков уже пародировал высокий стиль барочных описаний: «Гром, молнии и вечны льдины, / Моря и озера шумят, / Везувий мещет из средины / В подсолнечну горящий ад… / Нептун державу покидает / И в бездне повергает трон; / Гиганты руки возвышают… Разят горами в твердь небес… Япония в пучине тонет, / Дерется с гидрой Геркулес». («Пародии. Ода вздорная II»).
В середине XVIII в. в европейской культуре произошел перелом в восприятии гор и природы в целом[309]. Альбрехт фон Галлер воспел Альпы как место аркадийской жизни и национальный ландшафт («Альпы». 1729), сделав их важнейшим элементом самоидентификации швейцарцев, которых горы не разделили, как это бывает в истории, а объединили. Поэт сравнил красоту Альп с садом, под которым понимал ландшафт Италии[310]. Они уже не столь пугали путешественников. Н.А. Демидову путь через горы показался «весьма труден, но чрезвычайно любопытен… все здесь предвещает разновидность и действие природы», – писал он в 1771 г.[311].
Впечатления Карамзина бы ли шире. Швейцарию он воспринял как «величественный рельеф Натуры» (курс. Карамзина). Альпийские ужасы не помешали ему взойти на вершину горы:
Там он ощутил «необыкновенное спокойствие и радость… преклонил колена, устремил взор свой на небо, и принес жертву сердечного моления – Тому, Кто в сих гранитах и снегах столь явственно запечатлел свое могущество… Все земные попечения остаются в долине… Здесь смертный чувствует свое высокое определение, забывает земное отечество и чувствует себя гражданином вселенной; здесь, смотря на хребты каменных твердынь, ледяными цепями скованных и осыпанных снегом… забывает он время».
Горы вызывали у этого воспитанника Просвещения и масонских лож мысль об универсальности Вселенной, он чувствовал себя ее гражданином. Универсален был и царивший в ней христианский Бог, посредством гор запечатлевший свое могущество. В русской живописи горы появились в итальянском по характеру, драматизированном ландшафте в картине Ф.И. Яненко Путешественники, застигнутые бурей (1797. ГРМ). Антикизирующие детали переносили ее действие в древние времена. Снежные горы, связанные с русским сюжетом, впервые были изображены С. Тончи в уже упомянутом Портрете Г.Р. Державина (1801. Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева). Первоначально художник намеревался представить его, следуя И. Аргунову, в портрете которого лицо поэта «в сединах лысиной сияло» (Державин. «К Тончию»). Сам поэт в этом стихотворении предложил иную программу и иконографию:
… нет: ты лучше напиши Меня в натуре самой грубой, В жестокий мраз, с огнем души, В косматой шапке, скутав шубой, Чтоб шел, природой лишь водим, Против погод, волн, гор кремнистых, В знак, что рожден в странах я льдистых, Что был прапращур мой Багрим.В результате в портрет вошел образ России-Севера. Изображение суровой природы получило характер эмблемы, застывшей метафоры – на исходе барокко риторика еще не исчерпала себя, о чем говорила и сочиненная Тончи латинская надпись под портретом: «Правосудие в скале, пророческий дух в румяном восходе, а сердце и честность в белизне снега». Повод для рождения сложной метафорики был бытовой: тобольский купец-миллионер Сибиряков прислал поэту роскошную шубу и шапку, в них он и был изображен, так как предназначал портрет в ответный подарок[312]. Державин был мастером метаморфоз, превращавших прозу быта в поэзию[313].
Море
Красота естественных ландшафтов открывалась с изменением восприятия не только гор, но и моря. В русской письменности оно появилось еще в «Хождении Агапия в рай». Преодолев на пути к духовному совершенствованию «морские пучины» (аллегория жизни) и будучи перенесен по божественному повелению «великими мужами» через «заливы морские», где водятся «звери лютые», Агапий «шел около моря много дней, и нашел стены высокие на море». За ними располагался рай, где он «закончил жизнь… отдал душу свою Господу, славя Пречистую Троицу». Так море оказалось и аллегорией суровых испытаний, и водной границей между грешным миром и раем. Как сакральный «водный» локус само оно не выступало. В качестве такового фигурировали библейско-евангельские водоемы – святые колодцы, купели, река Иордан, Генисаретское озеро[314].
Сальватор Тончи. Портрет Г. Р. Державина. 1801
На пути паломников в Святую землю море возникало со всей реальностью. Игумен Даниил плавал между островами Мраморного и Средиземного морей, вероятно, при благоприятной погоде, так как сообщил только, что корабль был ограблен корсарами. В отличие от него, Игнатий Смольнянин день за днем информировал о смене погоды. На Черном море путешественники «испытали большую усталость и боялись потопления корабля», пока в течение нескольких дней дул «тяжкий встречный ветер»:
«Корабельщики не могли стоять, сваливались, как пьяные, ушибались. Пришли в пролив Азовского моря, вышли на великое мореюю. В пятый день… завеял встречный ветер и погнал нас в левую сторону, к Синопу. Вошли в залив близ города Синопа и тут пробыли два дня. Повеял добрый попутный ветер, и поплыли вблизи берега. Были здесь горы высокие, в половине гор терлись облака».
Смольнянин сообщал о состоянии моря лишь с точки зрения того, способствует ли оно или препятствует приближению к цели, достижение которой рождает «радость неизреченную». Однако цель была не только прагматична, но и в высшей степени духовна, так как паломник изначально обрекает себя на смертельные опасности, чтобы очистить душу контактом с Землей обетованной, походить, по словам игумена Даниила, «своими ногами… недостойными» там, «где Христос ходил своими».
Море, то грозное, то доброжелательное, лишь на первый взгляд описывалось как транспортный путь, по которому паломники движутся к своей цели. У читателя возникало представление о море как организме, живущем особой жизнью. Иррациональное в своих проявлениях, оно насылает то тяжкий, то добрый ветер – куда подует он, туда и поплывет легкий струг. Море изматывает человека, заставляя испытывать «большую усталость», страх, терять самоконтроль, т. е. создает экстремальную ситуацию. Так в конкретном «реалистическом» описании море выступало как фортуна или фатум, что отражало не только мистический характер взаимоотношений природной стихии и человека, но и уровень тогдашней цивилизации. Силе моря можно было противопоставить только молитву. В ней соединились все участники поездки на Флорентийский собор (он собирался с целью преодолеть раскол христианской церкви). По словам Суздальца, автора «Хождения», «пришли немцы к господину [речь о русском митрополите Исидоре], говоря: „… случилась беда – наступила тьма и прекратился ветер… мы пришли просить тебя: помолись Богу, а мы будем молиться по-своему“». Путешествие завершилось благополучно.
По-барочному полифоничен образ моря у Аввакума. Неразделимое сочетание двух планов – реального и мистического обретало у этого автора особый характер. Каждый из символов для него – не отвлеченный знак, а «конкретное, иногда до галлюцинаций доходящее явление-видение… реальные сцены плавания… привлекали его внимание именно потому, что они ассоциировались в его сознании… с церковно-библейским символом корабля»[315]. Он мог быть как символом праведности (икона Корабль веры. Гонение на христианскую церковь. Начало XVIII в. ГТГ), так и «Кораблем нечестия», как в росписи церкви Ильи Пророка в Ярославле (1680). Поэтому, поднимаясь на корабль, Аввакум не только готовился следовать определенному дорожному маршруту, но и воспринимал происходившее как вступление на собственную жизненную стезю. При этом его описание морских приключений совершенно конкретно:
Корабль нечестия. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680
«Лодку починя и парус скропав, чрез море пошли. Погода окинула на море, и мы гребми перегреблись: не больно о том месте широко, – или со сто, или с осмьдесят верст. Егда к берегу пристали, востала буря ветреная, и на берегу насилу место обрели от волн. Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки».
У Толстого образ моря при всей незначительности уделенного ему в тексте внимания отличается многозначностью, хотя и не столь образной, как у Аввакума. Подобно паломникам, стольник описал Адриатическое море прежде всего как место, где испытал «страх пребезмерной», он рассказывал также о взаимном противостоянии человека и водной стихии, о ветре, который подобно одушевленному существу «переменил дыхание», о ветрах «непостоятельных»: это и «способный ветер», и ветер «в противность надлежащего нашего пути». Шторм он назвал «противной фортуной». Во время «не-безстрашных фортун» он «прикладывался до всякого порядку корабельного с прилежанием и бесстрашием» и «в познании ветров» и «карты морской» стал искусен.
Превращение России в морскую державу, создание флота, морские маршруты из Петербурга и в Петербург, мотив дальних странствий «через воды… в неведомы народы» (М.В. Ломоносов. «На день восшествия… Елизаветы Петровны»), осмысление образа новой столицы в связи с ее морским положением, освоение берегов Финского залива – все это делало топос моря неотъемлемой частью русского сознания и русской культуры. Для Петербурга оно стало частью его природно-культурного синтеза[316].
На протяжении XVIII в. образ моря, как и гор, в русской литературе претерпел метаморфозы. Сначала оно появляется как грозное. «Страхи моря», связанные с путешествиями и корабельной службой, описывал Кантемир, подобно Аввакуму используя образ моря как аллегорию трудностей жизни («Сатира II»). Но «флот и море не страшат» того, кто предпочел жизнь в деревне, – там растут виноградные лозы, а «с гор ключи струю гремящу льют» (В.К. Тредиаковский. «Строфы похвальные поселянскому житию»). У того же поэта плаванье по морю предстает в качестве приятного пути, на котором путешественника «не оставят добры ветры», а если причаливать «отишно… так не будет волн и слышно» («Песенка, которую я сочинил, еще будучи в московских школах, на мой выезд в чужие края». 1726):
Льются воды, И погоды; Да ведь знатны нам походы. Канат рвется, Якорь бьется, Знать, кораблик понесется. Ну уж плынь спешно, Не помешно, Плыви смело, то успешно.Игривость образа моря у Тредиаковского была предчувствием рококо [IV.3]. (Познакомиться с этим стилем поэт мог, уже приплыв на своем «кораблике» во Францию времени регентства.)
А.Т. Болотов на пути из Кёнигсберга в Петербург, между Ревелем и Нарвой, «имел первый случай досыта насмотреться на море, сие неизмеримое скопище вод!» Уже этот неодолимый интерес к природе означал новый подход к ней. «Любопытство мое при смотрении на столь удивительное дело рук божеских было так велико, – писал он далее, – что я на каждой почти версте останавливался, выходил и хаживал на самый край сего крутого берега»[317]. С его «преогромною и страшною каменной стеною» он «и подлинно в состоянии навесть на всякого страх и ужас». Таковы были первые, посвященные увиденному строки – совершенно в духе Суздальца и Толстого. По непосредственности и выразительности, а также своеобразию языка текст Болотова вызывает в памяти также сочинения протопопа Аввакума, хотя по сути совершенно иные. Это пишет человек эпохи Просвещения, сам просветитель, экономист, агроном, философ, первый русский мастер и теоретик садового искусства, личность универсальная и уникальная – автодидакт, сочетающий наивность, которая свойственна слою культуры, называемому примитивом, и европейскую образованность. Болотов как человек своего времени в отношении к природе сочетал практицизм и чувствительность, сохраняя при этом целостность ее видения:
«Я не могу устать взирая на [море]… и на плавающия вдали и парусами своими блистающияся суда и корабли… С другой стороны увеселяли зрение мое прекрасныя рощи и луга… Инде простирались они прямою чертою на дальние расстояния, а в иных местах извивались изгибами, кои неинако как разными фигурами быть казались. Вдававшиеся в них… прекрасныя травяные и цветами испещренныя лужайки придавали местам сим еще вящее украшение. О, сколько раз принуждены мы были останавливаться… видя или растущие на лугах и поспевшия тогда ягоды, или… великое множество наипрекраснейших грибов».
Андрей Болотов. Богородск. Сцена вечерняя… с вечерней сиделки. Акварель. 1780-е гг.
Главным «маринистом» в русской литературе того времени можно назвать Карамзина, описавшего море в разных состояниях. В Паланге он «около часа смотрел на пространство волнующихся вод. Вид величественный и унылый». В Данциге с горы созерцал город и его гавань с кораблями, рассеянными «по волнующемуся, необозримому пространству вод». «Все сие образует такую картину… какой я еще не видывал в жизни своей, и на которую смотрел в безмолвии, в глубокой тишине, в сладостном забвении самого себя»[318]. Постоянно движущееся море сопровождает действие в «Острове Борнгольме». Катя «пенистые валы… в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности… с глухим ревом», оно предстает «предметом величественным и страшным». Цитированный монолог Болотова о море в процессе его чтения заставляет ожидать, что автор выведет описание природы на сакральный уровень. Однако рассказ завершается не восторгом по поводу ее плодородия и с каждым шагом все более поражающей красоты, а прагматичным сообщением, что сбор грибов и ягод послужил пополнению дорожного рациона. Непосредственность самовыражения, не стесненного канонами и поэтическими нормами, позволила Болотову впервые в русской литературе столь открыто передать свое индивидуальное видение природы, эмоциональное и эстетическое. Оно свидетельствовало об одаренности его натуры. Именно за это он благодарил Бога:
Меня способным сделал Ты… Чувствовать и знать изящность всех в натуре дел. И везде ими любуясь, мир душевной ощущать — И свой дух их красотами непорочно утешать …сколь иного ощастливил ты и сим жизнь мою «Вечернее чувствование щастия».Непосредственное ощущение природы и желание писать о ней явились достоянием эпохи Просвещения – ее сенсуализм был не только философским. Она культивировала и оттачивала чувства. «О, великий Сенсориум!» – восклицал Руссо.
Владимир Боровиковский. Вид Званки. Деталь портрета Д.А. Державиной.
От приюта дриад – к родной природе
Своим отношением к природе, проявившимся и в созданных им садах, Болотов опередил близких ему по времени поэтов. В поэтических садах Хераскова обитали Помона и Бахус. Чтобы описать восход солнца, поэту был необходим аллегорический образ увенчанного розами Феба в алмазной колеснице. «В явлениях природы он усматривал игру мифологических существ и богов»[319]. Поэтому в его стихотворении «Тишина» «зефиры желты класы в поле / Колеблют, будто океан». Пантеон Хераскова был языческим.
Природа, воспринятая через мифологическую завесу, имела пасторальные черты. Их игровой дух сохранил костюмированный Портрет Е.Н. Хованской и Е.Н. Хрущёвой в виде пастушка и пастушки работы Д. Левицкого, который написал его на фоне раскидистых нестриженых деревьев и розовых просветов голубого неба (1773. ГРМ). В пасторальном ландшафте обитают также дриады, «феи здесь свой держат хоровод», летая «вкруг мечтания, / отрады, / В охране древ, у падающих вод» (М.Н. Муравьев). В сентиментальном ландшафте, где «светлой ручеек журчанием унылым – / Как будто жалуясь… вздох из сердца извлечет», прогулки совершают не с мифологическими спутниками, а со «злощастным Вертером, Аглаей, с бедной Лизой» (А.И. Шаликова. «К М.Н. Х-ой. На отъезд ея в деревню»). Таким не был, но таковым воспевался поэтами и изображался художниками природный ландшафт. Развитие собственно пейзажного жанра началось в России с видов Павловска и Гатчины Семена Щедрина[320]. Идиллически выглядит его Вид в окрестностях Петербурга со стадом на водопое, хатами и хороводом крестьян, скорее представляющий не деревню, а усадьбу (по предположению Тайцы Демидовых. 1780-е гг. ГТГ).
На рубеже XVIII–XIX вв. сады оказались вписаны не только в окружающее пространство, но и в реальную жизнь. Они служили повседневной средой человека и составляющей национального ландшафта, способствовали нарушению статики «вековой инертной массы российских просторов»[321].
Владимир Боровиковский. Портрет Д.А. Державиной. 1813
У Державина в поэме «Евгению. Жизнь званская» усадьба сливается с природным ландшафтом, а бытие там – «с вольностью златой». Ее ощущение давало уже расположение жилого дома на высоком берегу Волхова, где раскинулась усадьба этого рачительного хозяина со скотнями, пчельниками, птичниками (вид на нее с другого берега реки представлен в фоне Портрета Д.А. Державиной работы В. Боровиковского; ил. с. 126). Был там и сад с фонтаном. «Восстав от сна», поэт каждый раз взводил «на небо скромный взор» с благодарностью Богу, что он вновь и вновь открывает ему «чудес, красот позор». К тому моменту Державин, очевидно, уже успевал бросить взгляд на волховский ландшафт с его «чашей вод», лугами, прислушаться к токованью тетеревов и свисту соловьев.
В поле зрения хозяина сразу попадал и сад, разбитый, по предположениям, Н.А. Львовым. Этот теоретик и создатель садов «во вкусе натуральном» (с. 167), пропагандировал принцип регулярности для территорий, прилегавших к жилищу. Скорее всего, такая планировка была и в Званке, о чем свидетельствует ее фонтан (в то время уже немодная, чуждая садам английского типа деталь). Благодаря этому природа и культура сливались, их синкретично соединил и Державин в одной из строф своей поэмы, не забыв внести в образ природы моральный оттенок. Сад же оказался связан с понятием красоты:
Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос, Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще, Ищу красивых мест между лилей и роз, Средь сада храм жезлом чертяще. «Евгению. Жизнь Званская».Для романтиков одинаково приемлемыми стали и геометрический, и пейзажный принципы, различия которых ранее выступали на эстетическом и даже мировоззренческом уровне (с. 182–183).
Алексей Венецианов. Пастушок. Начало 1820-х гг. Деталь
Природа как таковая ими оказалась противопоставлена саду в целом, что сделало возможным принять любой садовый стиль, открыв путь садовой эклектике. Это была своего рода победа природы над искусством, она воспринималась как самоценная, при этом в ее обмирщенном образе всегда сокровенно сохранялось сакральное начало, как у Венецианова с его идеализованными крестьянами в идеализированном ландшафте[322].
Не исчезало и представление о вечности природы – пытаясь приобщиться к ней, романтики еще вырезали на деревьях свои имена и оставляли на них амулеты. В это время учились также видеть достоинства каждой конкретной местности, далекой от эталонов и «вечной», и «прекрасной» природы, что неизбежно соединилось с индивидуализацией ее образов, их конкретной ландшафтно-климатической локализацией, а тем самым – «национализацией». Карамзин и его современники хотели наслаждаться скромными видами природы, правда, все еще находя их в саду: «Друзья мои! – писал он. – Приготовьте мне простое сельское жилище, опрятное, с маленьким садом, где я мог бы найти всего понемногу: зелени, цветов весной, тени летом, плодов осенью»[323].
Такой стереотипный набор элементов не имел собственно национальных признаков, восходя к идеалу «золотой середины» Горация: «Вот в чем желания были мои: необширное поле, // Садик, от дома вблизи непрерывно текущий источник, // К этому лес небольшой!» (Сатира II, 6. Пер. М. Дмитриева). До образов истинно русской природы, как у Саврасова, Тургенева или Левитана, было еще очень далеко. Однако сад постепенно перестал быть идеалом природной красоты, тем более что разраставшиеся старинные усадебные парки часто уже теряли вид искусственно сочиненных композиций. В XIX в. природный ландшафт как эстетически осмысленный пейзажный образ занял особое место в русской литературе, в частности лирической поэзии, тогда же пейзаж вошел в круг ведущих жанров в русском искусстве.
Так в ходе многовековых процессов восприятие природы в русском сознании от сакрального синкретизма, в котором представления о ее божественном плодородии и красоте соединялись с описанием реального ландшафта Святой земли, через поклонение «прекрасной природе» в ее естественных – «садообразных» или искусственных – садовых формах, пришло к культу отечественного ландшафта. Это не зависело от его конкретных природных особенностей – величественных или камерных, броских или скромных черт. Сложился образ родной природы, который, сохранив отблеск сакральности, а также присущей каждому национальному явлению идеализации, обладал способностью волновать человека своей индивидуальной красотой.
Глава 3 Город и сад: между антитезой и синтезом
Сакральные истоки двух локусов. – Город и сад Ренессанса. Вилла. – Идеальный город-крепость. – Город и сад утопий. – Лабиринт – фигура города и сада. – Версаль: сад-город барокко. – Сад в городе Нового времени. – Город-сад ХХ века
Клод Николя Леду. Дом полевых сторожей в Мопертюн. Около 1780
Город и сад относятся к числу основных локусов, с которыми связана жизнь человека и движение мировой культуры. Им принадлежит важнейшая практическая и символическая роль в организации его жизненного пространства. Сад, восходя к архетипу Эдема, слился с образом божественной плодоносящей природы. Это инспирировало появление разветвленной садовой метафорики, развитого садового кода, разномасштабных садовых образов, в том числе всеобъемлющих, как «сад мирозданья» (А. Фет. «Соловей и Роза»). Город в древних мифах также олицетворял весь мир. В архаической латыни одним из значений слова mundus было «город, отграниченный бороздой или межой», и только впоследствии оно стало означать мир[324].
Вместе с тем возник ли города, породившие особенно широкий круг значений, собственный «текст города» (термин Топорова). Сад как источник смыслов обладает меньшей потенцией, чем город с его «семиотическим полиглотизмом» (Лотман). Однако еще сад виллы Адриана выполнял функцию собирателя образа мира – расположенные там сооружения получили названия завоеванных городов, которые входили в состав Римской империи. В Средневековье сад, очерченный кругом, символизировал всю Вселенную. С середины XVI в. он коллекционер растений всех континентов, в XVIII в. – имитаций архитектурных сооружений разных эпох (а в ряде случаев хранитель их руин; ил. с. 249). В этом отношении тогдашний сад – предшественник современных музеев-скансенов и парков-гигантов, сосредоточивших модели знаменитых мест мира. В наивысшей степени потенции сада обнаруживаются в его способности быть заместителем природы. Город же – олицетворение земной цивилизации.
Сопоставление город – сад в широком смысле всегда подразумевает взаимоотношения культуры и природы, искусства и природы, цивилизации и природы. Сад – это прекрасная природа, «усовершенствованная» посредством искусства. Город – это прекрасная архитектура, способная «произрастать» из природного ландшафта и врастать в него, но это также «контрагент» природы. Поэтому в интерпретации отношений город – сад возникают многие перекрестные ситуации и смыслы.
Практические и семантические отношения города и сада на протяжении истории складывались противоречиво. В классической античной традиции они противопоставлялись. Согласно Горацию:
Блажен, кто вдалеке от всех житейских зол, Как род людей первоначальный, На собственных волах отцовский пашет дол, Не зная алчности печальной… Бежит он Форума, Зато с раскидистой и юною лозой Высокий тополь сочетает… «Сельский Альфий». Перевод А. ФетаВ последующие эпохи мысль, заложенная в этих строках, по-разному претворяясь, звучала как гимн сельской жизни. То, что у Горация речь шла скорее о неосуществимой мечте, чем о состоявшейся реальности, и что приведенные слова он вложил в уста ростовщика Альфия (это придавало эподу оттенок иронии), не сыграло роли. Тот же мотив, претерпев различные метаморфозы, звучал спустя тысячелетия:
Журчливый садик, и за ним Твои нагие мощи, Рим! … А струйки, в зарослях играя, Поют свой сон земного рая. Вяч. Иванов. «Староселье»Cакральные истоки двух локусов
В мировой культуре прослеживается и противоположная отмеченной тенденция – к сближению топосов города и сада. Если прообраз сада можно видеть в первом огороженном дереве как объекте культа (оно же послужило прообразом храма), то и «город организуется… как ритуальный центр, как храм, место жертвоприношения, алтарь»[325]. Разбивка сада начиналась с обработки земли и ее ограждения, аналогично закладка города – с пропахивания борозды, обозначающей место его будущих стен, как говорилось в легенде о Ромуле. Оба процесса ритуализировались. В плане западноевропейского города лежал квадрат, в центре которого пересечением прямых улиц, ориентированных по сторонам света, образовывался крест, что служило символом Вселенной. В древнерусских городах перекрестки улиц назывались крестцами, каждый из них «словно воспроизводил генеральный план Иерусалима, который „на четыре углы крестным знаменем назнаменован“»[326]. Сад также часто разбивали на плане креста, в особенности в монастырских клуатрах, крест образовывали пересечения дорожек в садах русских монастырей.
Олицетворяя природу, сад нес священное начало, уже сама его практическая плодородная функция была «райской». Приобретя впоследствии полифункциональность и развитые художественные формы, которые опосредовали восприятие человеком природы, сад всегда сохранял «некую религиозную значимость»[327]. В отличие от этого, образ города имел двойственную сущность – он не только посредник между землей и небом, но и средоточие цивилизации и ее грехов.
Город – воплощение и Космоса, и Хаоса, образ сада – Гармонии. Он не знал внутренней антиномии, его оппозиции были внешними; антагонистами по отношению к нему выступали или город в ипостаси зла, или пустыня (с. 84). Сад неизменно воплощал моральные ценности, символизировал плодоносящее, порождающее начало, именно изгнание Адама из сада-рая определило трагичную в сущности земную судьбу человечества. Может быть, поэтому сцены Грехопадения и Изгнания из рая во фреске Сикстинской капеллы Микеланджело непривычно представил на фоне каменистого ландшафта, утратившего зеленый убор вместе с потерей человеком бессмертия.
Потерян даже путь в рай: «Как сказать, где же помещается Рай, ибо одни утверждают, якобы он в Иерусалиме, другие – якобы на небесах? – задавался вопросом св. Афанасий. – Ответ: Ни одни, ни другие не говорят истину. И то, что в Иерусалиме нет Рая, свидетельствует [череп] Адама, лежащий на лобном месте. Ведь ясно, что Адам не погребен в Раю, но был изгнан из Рая. О том, что на небесах нет Рая, свидетельствует Писание, где сказано: „И насадил Бог Рай в Едеме, на Востоке“»[328].
Образ сада-рая отмечен мечтой об утраченном и обращен в прошлое, а если в будущее – то вечное. Иначе город, который «в мифопоэтической и провиденциальной перспективе… возникает, когда человек… оказался предоставленным самому себе… выживание и, более того, перспектива пути к максимальному благу, к обретению нового рая… отныне были связаны с незащищенностью, неуверенностью, падшестью, в известном смысле – богооставленностью… страданием. И тем не менее человек… в феномене города нашел для себя наиболее адекватную форму существования, хотя и связанную с огромным риском»[329]. Отсюда мифология города как Хаокосмоса.
Золотой дом Нерона. Гравюра. 1765
В Библии саду, как и городу, приписывалось божественное происхождение: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на Востоке» (Быт I2:8), а Небесный Иерусалим сошел «от Бога с неба» (Откр 21:2). Так опосредованно сближались разделенные в других библейских текстах характеристики сада и города. В христианстве они соединились также в образе Девы Марии, который ассоциировался с «запертым садом» из «Песни Песней» и образом Небесного Иерусалима из Апокалипсиса, в апокрифических текстах часто представая единым городом-садом, а в иконах композиция Вертоград Заключенный могла служить центральной частью изображения Небесного Иерусалима[330]. Садом виделся паломникам и Иерусалим земной (с. 101)[331].
Благодаря мифологеме Небесного Иерусалима каждый христианский город получал отблеск божественности. «Взгляни же и на град, величием сияющий! Взгляни на церкви процветающие, взгляни на христианство возрастающее, взгляни на град, иконами святых освящаемый и блистающий, и фимиамом благоухающий, и хвалами… и песнопениями святыми оглашаемый», говорилось в «Слове о законе и благодати» (середина XI в.). Образ Иерусалима как идея, а часто и топографически лежал в основе градостроительства Средневековья, в частности Новгорода, Суздаля, Москвы, Архангельска[332]. С Иерусалимом, как и с другими сакральными локусами Святой земли, сравнивали Москву иностранные путешественники. По словам Адама Олеария, «снаружи город кажется Иерусалимом, а внутри он точно Вифлеем»[333].
Согласно мифопоэтической традиции сад, как и город, располагался на трех уровнях – небесном, земном и подземном. В христианской культуре сад – это рай земной и небесный, однако еще с Гомера в описаниях Аида появились Елисейские поля для праведников (Одиссея. IV. 561–569). Подземный сад представлен также садами Адониса, прорастающими в темном закрытом помещении[334]. В то время как архаический образ города был связан с пещерой, современные метрополии все больше углубляются под землю.
Сад и город были огражденными. Если в саду символизировалась ограда (с. 84), то в городе особое значение приобрели также ворота как место ее разрыва – Новый Иерусалим, окруженный «большой и высокой стеной», имел двенадцать ворот, которые не запирались, тем не менее в него не могло войти «ничто нечистое» (Откр 21:12, 25, 27). Огражденность в целом означала особое организованное пространство, отделенное от Хаоса. Поэтому четко локализовалось пространство не только сада, но и утопических городов, которые начиная с города Платона имели каменные или водные пределы.
Восходя к райскому и аркадийскому мифам, сад всегда мыслился как идеальная среда обитания. Обитатель сада, в отличие от горожанина, обычно выступал как человек добродетельный. К этому его предрасполагало общение с природой и эстетизированное садовое пространство (III.2). Город также был не только блудницей, Вавилонской башней, главным локусом дистопий. Красота во все эпохи придавала городу ареол сакральности: «Флоренция с архитектурой Рая» – такой увидел ее Иосиф Бродский («Декабрь во Флоренции». 1976). В качестве идеального город фигурировал в легендах о затонувших городах, в архитектурных проектах, живописных и графических изображениях, утопических сочинениях.
Город и сад Ренессанса. Вилла
В виде самостоятельного вида искусства сад конституировался в эпоху Ренессанса[335]. Это означало выработку особых садовых форм образного претворения мира. Сад приобрел полифункциональность, многообразную содержательную программу и развитое архитектурно оформленное пространство. Всем этим еще не обладали вписанные в окружающую природу сады, которые восхвалял Петрарка[336]. У Боккаччо местом действия новелл «Декамерона» была прекрасная садоподобная природа, которую он противопоставил охваченному чумой городу. Однако именно в эпоху Ренессанса получила развитие апология города, появились такие панегирики, как «Восхваление города Флоренции» Леонардо Бруни[337].
Если в Средневековье город как бы произрастал из ландшафта, во многом следуя природному рельефу и парафразируя его в силуэте разновысоких построек, то теперь, в согласии с античной традицией и духом геометрии, город начал принимать более строгие регулярные формы. Частично они сохранялись с древности. На рубеже XIV–XV вв. Дж. Дати так описал восходивший к римскому времени облик Флоренции: ее улицы, «прямые и широкие, все открытые, и имеют выходы… улица начинается от одних ворот и ведет прямо к другим»[338]. В то время город уже окружали виллы, о многочисленности которых говорит тот факт, что в 1371 г. гражданам Флоренции было запрещено проживать там постоянно[339]. Городские виллы с их садами органично соединяли две основные формы жилого пространства.
Отношение к городу не было однозначным. Леонардо да Винчи воспринимал его сквозь «гущу толпы, полной бесконечных зол», и хотел сделать его просторным, наполненным светом, водой, а тем самым созвучным природе. Вода у Леонардо всегда в движении, ею «движет та же сила… что и кровь в человеческих органах»[340]. Она оживляла, одухотворяла и сады, из естественных скважин и источников она била в фонтанах и лилась потоками каскадов. Леон Баттиста Альберти полагал, что дорога в городе должна быть «подобной реке, извивающейся мягким изгибом… она много придаст прелести… и создаст много удобств… И как хорошо будет, когда при прогулке на каждом шагу постепенно будут открываться все новые стороны зданий»[341]. В таких описаниях обнаруживался внутренний синкретизм города и сада.
Представления о них были связаны с размышлениями о жизни созерцательной и активной, об оtium (лат. – праздность, покой) и negotium (лат. – практическая деятельность, служба, домашнее хозяйство). Эразм Роттердамский устами одного из участников «Разговоров запросто» признавался: «Я не могу понять людей, которым любы дымные города». Другой защищал их как место учения, «выгод и прибытков»[342]. Однако и созерцательность уже понималась не как средневековый уход от мира, а в качестве особого типа интеллектуальной деятельности, требующей уединения, покоя и свободы.
Условия для этого можно было найти на окруженной садами ренессансной вилле. Согласно Альберти, это принадлежащий владельцу «истинный рай». Таким она становилась прежде всего благодаря садам. С ансамблем виллы связывались основные ценности ренессансной культуры: он был воплощением чтимых пропорций, благодаря которым «чудесно озаряется весь лик красоты»[343], прогулки же по саду, синкретически соединявшие время и место сада в его единый хронотоп, способствовали зарождению философских и эстетических идей. В этом гуманисты следовали Платону, который обосновался с учениками в садах, посаженных в честь героя Академа, а также Аристотелю, прогуливавшемуся в садах храма Аполлона Ликейского со своими учениками-перипатетиками (от греч. – peripatos, крытая галерея). Сократ, однако, не был «садовым» философом.
«Прогулочный» способ беседы был свойственен не всем народам, на что обратил внимание Сигизмунд Герберштейн. Бывая в первые десятилетия XVI в. в России, он отметил, что там «в домах господа обыкновенно сидят и редко или даже никогда не рассуждают о чем-либо прохаживаясь. Они весьма удивлялись, когда увидели, что мы прохаживались в своих квартирах и тем временем часто рассуждали о делах»[344].
Если последователей Эпикура называли «философы сада», то Козимо Медичи мечтал, чтобы его вилла Кареджи стала otium philosophicum, философским приютом (с. 90). Марсилио Фичино, получив ее в дар от Козимо, которого наставлял в вопросах неоплатонизма и герметики, превратил это небольшое владение «в эзотерический и очаровательный сад», сделал местом собраний возглавляемой им Платоновской академии[345]. Ученые встречи происходили и в садах Польши. Филипп Каллимах (так называли там итальянского гуманиста Буонаккорси), проводил время в саду Яна Мирики под Краковом, где читал историю Венеции Сабеллика вместе с другими «учеными и владеющими красноречием мужами»[346].
Модель виллы своей эпохи в классическом виде представил Альберти в трактате о зодчестве (опубликован 1485). Однако теория опережала садовую практику – ансамбль виллы как нераздельное целое приобрел зрелые формы лишь к середине XVI в. Его создателями были те же мастера, которые строили ренессансные города.
Густо Утенс. Палаццо Питти, сады Боболи и крепость. Люнета виллы Артимина. Около 1599
Под воздействием ренессансного архитектурного мышления композиция сада развивалась не только по горизонтали (что было присуще Средневековью с его цветочными лугами и прямоугольными грядками), но и по вертикали, которую выявляли пирамидальные фонтаны и высокая стриженая растительность[347]. В отличие от этого, город начинал терять свой средневековый вертикализм, которым был обязан не только соборам, но и тому, что «повсюду вырастали леса башен»[348]. Эти противоположные тенденции способствовали сближению композиции города и сада. В обоих случаях возникало трехмерное пространство, обладавшее пропорциями, перспективой, что соответствовало представлениям о гармонии Космоса. Человек чувствовал себя уверенно в таком окружающем мире. Зрелище его открывалось с высоты флорентийских холмов, откуда снимались также панорамные топографические планы и виды города (в отличие от его изображений в XIV в., которые строились снизу вверх[349]), так организовано пространство и у Мериана Старшего (с. 103).
Вид сверху представал и с высоты садовой террасы, где располагалась вилла. Он расстилался у ног человека и простирался в даль, где открывался горизонт, появившийся и в живописных полотнах. Согласно Альберти, такой вид необходим для виллы и должен был поражать ее посетителя. Позднее Ф.Р. Шатобриан писал: «Я не мог перестать восхищаться перспективой с высоты террасы: под вами раскинулись сады с платанами и кипарисами; за садами следуют остатки дома Мецената; за рекой, на горе, царит роща старых оливковых деревьев, где находятся виллы Варрона… В целом мире было бы трудно найти вид более волнующий и способный возбудить более сложные рефлексии»[350]. Для ренессансного интеллектуала они были связаны с неоплатонизмом, мистическими представлениями, античной мифологией.
Все это сказалось в сочинении Франческо Колонны «Гипнеротомахия Полифила», имеющем развитую символику, в том числе геометрическую, а также эротическую окраску[351] (с. 93). Приключения героя развертываются в гипертрофированно прекрасном ландшафте Киферы, где царит Венера. Это один из гористых Ионических островов, который во время сна Полифила чудесно преобразился в идеально ровное место, как некогда у Вергилия суровый ландшафт пелопонесской Аркадии превратился в идиллическую пастушескую страну (мотив метаморфозы является сквозным в названном сочинении). В отличие от большинства греческих земель этот остров (современная Китира) избежал турецкой оккупации и с эпохи Крестовых походов застраивался венецианцами, однако Колонна наполнил его по преимуществу реминисценциями древнеримской архитектуры.
По существу же, описывая фантастическое природно-архитектурное пространство Киферы, автор все время думал о садообразном ландшафте Италии, природно и архитектурно изобильном. Экзотическая растительность острова на страницах сочинения соединяется с характерными для Древнего Рима ордерными сооружениями. Здесь купольные постройки, перистили «со статными колоннами», «благородные» врата-арки, «великолепные мосты», роскошный амфитеатр, украшенный изображениями триумфов, торжественные колоннады и лестницы, протяженные перголы, беседка с фонтаном, мощеные дороги, декоративные ограды, но тут же стоит греческий пикностиль с узкими интерколумниями, украшенный римской по генезису мозаикой. Кто был творцом этих сооружений, сочетающих прекрасный каменный и живорастущий зеленый строительный материал, Колонна не пишет, отметив лишь, что главный входной портал так велик и роскошен, что не мог быть «созданием смертных». Вместе с тем автор сообщает, что работа обитателей прекрасного пространства «была посвящена единственно плодоносной Природе и состояла в служении ей». В результате на роль архитекторов этого языческого рая могли претендовать только боги.
Иллюстрация к «Гипнеротомахии Полифила». Париж. Гравюра. 1546
Особое внимание в сочинении уделено описанию руин[352]. Они служили общим архитектурным элементом городского и садового пространства. Если в городах это были остатки древнеримских сооружений, то в садах появились также искусственные руины, напоминавшие о почитаемых античных временах и способствовавшие развитию семантики паркового образа в целом. Первым из таких искусственных сооружений стал Нимфей Браманте в Генацанно (1501–1503), долгое время принимаемый за подлинные остатки древнеримской архитектуры (в фундаменте сохранились лишь ее незначительные фрагменты). Поиски синтеза природы и архитектуры, достигнутого в описании Колонны, надолго определили развитие европейской градостроительной и садовой мысли. Влиянием «Гипнеротомахии» отмечен не только Нимфей Браманте как садово-архитектурный ансамбль, но и его городские постройки (Темпьетто. 1502)[353].
Это сочинение и иллюстрации к нему дали импульс садовым концептам последующего времени и развитию воображаемой архитектуры, архитектуры «бумажной». Особенно характерная для XVIII в., она получила в ту эпоху «реальную власть»[354]. Это был век грандиозных проектов, и социальных, и художественных. Последние вынужденно оставались архитектурой на бумаге, даже начав реализовываться, как город Шо при Королевских солеварнях К.Н. Леду. Другие образы сразу рождались лишь как «воображаемая архитектура», хотя их составляющей были реальные постройки. В такого рода архитектуре синтез города и природы нагляден и неразрывен, как у Пиранези. Однако город всегда доминирует у этого художника-урбаниста, хотя он уже превратился в руины, и видно, как растения постепенно, но неотступно начинают его заполнять, в нем появляются даже пасущиеся животные, как в изображениях Пестума, что не придает им «аркадийского» характера, в отличие от коров, пасущихся в английских парках того времени.
В.А. Жуковский. Два монаха на террасе виллы Маттеи. Вид на Римскую Кампанью. 1840-е гг.
Идеальный город-крепость
Теоретиками и практиками Ренессанса владела мысль о создании идеальных городов, что вслед за Платоном связывалось с представлением о гармоничном устройстве общества. По средневековой традиции, а также в силу актуальных исторических обстоятельств ренессансная архитектурная мысль обратилась к крепостным сооружениям. Они получили форму многолучевой звезды, что, казалось бы, нарушало ренессансную мечту об открытости пространства, однако воплощало идею гармонии, что отвечало эстетической парадигме эпохи. Таким планом, по словам С. Гидиона, в течение полутора веков был загипнотизирован Ренессанс[355]. Проектировщики ренессансных идеальных городов хотели создать защищенное пространство для благоденствия. Платон же в Законах писал, что городу во избежание изнеженности жителей лучше не иметь стен.
Антонио ди Пьетро Аверлино, прозванный Филарете, первым обратился к звездчатому плану в проекте Сфорцинды, описанной им с различными, в том числе висячими, садами, в архитектурном трактате-романе (1461–1464; ил. с. 162, 163)[356]. За ним последовал Микеланджело, применивший звездчатый план для укреплений Флоренции (1527–1530). В XVI в. этот же план был использован для постройки новых «идеальных» городов, претендующих на совершенство гармоничной формы и функциональной программы. Первым стала Саббионета (1554–1571), вторым – хорошо сохранившаяся Пальманова (1593). В XVII в. такая модель получила блестящее развитие благодаря Вобану, который построил и преобразовал более трехсот крепостных сооружений, способствовавших военным успехам Франции времени Людовика XIV. Особым случаем было соединение крепости с садами Боболи, сохранившейся в измененном виде, а в первоначальном состоянии изображенной в люнете виллы ди Артеминия (около 1599 г.; ил. с. 137). Идеальной виллой-крепостью стала Капрарола Виньолы (1547–1559).
Внутри города-крепости для сада оставалось немного места, однако зеленым поясом становились окаймлявшие ее земляные валы. Сад мог быть разбит и перед фасадом дворца, как в Замостье – идеальном городе-крепости, построенном в 1582–1618 гг. по проекту Бернардо Морандо для Яна Замойского, крупнейшего польского военного, государственного и политического деятеля того времени (ил. с. 142). Обратную ситуацию представил Стефен Свитцер в плане сада для Пастон Манор (1718) – в его центральной части он разместил цветочный партер в виде десятиконечной звезды[357]. Бетти Лангли предложил проект «Беседки на укрепленном острове», напоминающей скорее некое триумфальное сооружение[358]. Город-крепость становился садовой fabrique, как французы в XVIII в. называли садовые постройки (это слово выступает в некоторых французских выражениях и контекстах в значении выдумка).
Тадеуш Костюшко. Чарторыск. Акварель, кисть, перо. Рубеж 1760-1770-х гг.
Водный сад в виде крепости, органично вписанной в живописный ландшафт, в котором расположены также два других регулярных сада, показана на плане Чарторыска Тадеуша Костюшко. Он был военным инженером и прежде чем бороться за независимость Северной Америки и возглавить польское национально-освободительное восстание учился в парижской Академии живописи и скульптуры.
В России такого рода сооружения появились как потешные крепости в конце XVII в. В следующем веке это была знаменитая Петропавловская крепость и мало известный Петерштадт, построенный в 1756–1762 гг. Мартином Гофманом, «каменных дел мастером», по заказу будущего императора Петра III в Ораниенбауме, его резиденции с 1743 г. Хорошо вымощенный городок с каменными казармами, казематами, домами высших гольштинских офицеров и кирхой был миниатюрным государством в государстве. Окружавшие его рвы с подъемными мостами, земляными валами и бастионами образовывали двенадцатиконечную звезду. Рядом был устроен небольшой увеселительный сад, вероятно, первый такого типа в России, как и дворец, созданный Антонио Ринальди – оба были отмечены чертами рококо[359]. В ряд городов-крепостей, восходящих к ренессансной традиции должен быть включен и план Санкт-Петербурга, созданный Андре Леблоном, который уделил там значительное место садам (1717).
Петерштадт. Крепость и сад на плане П.А. де Сент-Илера. 1758–1782
Вступление на трон и строительство Михайловского замка не позволили Павлу I продолжить постройку крепости Ингербург на въезде в Гатчину (заложена в 1794 г.). Она создавалась по всем правилам фортификационного искусства, имела в плане пятиугольник и необычную внутреннюю планировку[360].
Это была не столько трапеция, как ее определяют, сколько фигура, близкая очертаниям мастерка каменщиков – предмета, символичного для масонов. Об их символике напоминали и Ингербургские ворота крепости в виде двух отдельно стоящих пилонов со сдвоенными колоннами. Хотя они были сооружены в 1830 г., но по форме восходили к проекту Павловского времени. Очертания строительной лопатки имел в плане и дворец Петра III в Петерштадте, в основе которого лежит квадрат со срезанным полукругом углом. Дворец имеет форму куба, его нижняя часть обработана рустом, а гладкий верх украшен пилястрами. Такой декор отвечал представлениям масонов о необработанном и обработанном камне, который возникает как результат моральных работ вольных каменщиков. Аналогично оформлена башня Екатеринвердер в Гатчине. С нее началось строительство крепости под тем же названием, предназначенной для жилья военных.
Однако и Михайловский замок вписывается в традицию звездчатых сооружений с садом. Правда, в данном случае эту форму получил внутренний двор, внешние очертания здания не нарушали гармонии регулярной городской застройки. Интерес к подобным сооружениям в России сохранился вплоть до XX в. (И.В. Жолтовский. Проект Дома советов в Махач-Кале. 1927).
План Замостья из атласа Георга Брауна и Франца Хогенберга «Civitates Orbis Terrarum». 1627.
Такие дворцово-парковые ансамбли, как Ораниенбаум (начавшись с придворцовой слободы, с 1784 г. он застраивался главным образом по «образцовым» проектам), Петергоф, Царское Село, Гатчина, послужили исходной позицией для формирования связанных с ними садово-городских организмов, что происходило различными путями и с градостроительной точки зрения, и в функциональном отношении.
Город и сад утопий
Возрождение в своей классической итальянской форме не знало социальной утопии, оно «само по себе было грандиозной „утопией“… подлинная „утопия Ренессанса“ – ренессансный антропологический миф»[361]. Его частью был миф эстетический. Поэтому если в античной утопии город и архитектура выступали на ее периферии[362], то теперь они оказались в центре внимания, когда и сад-Эдем начал приобретать архитектурные формы. Ренессанс шел своим путем.
В отличие от идеальных городов, которые проектировались и создавались, утопические города (их иногда ошибочно смешивают) для этого не предназначались и были невозможны для реализации. Филарете о садах на кровле дворца говорил: «Вы, возможно, не можете ясно понять эти размеры и планировку, ибо я сам не вполне ясно их постигаю»[363]. Нечеткость была свойственна даже наиболее подробным описаниям утопических городов. Попытки их графической реконструкции очень разнятся между собой.
Первые сочинения, моделирующие разумно организованную жизнь и ее практические реалии, принадлежали англичанам – в Новое время они лидировали в различных практических сферах, связанных с устройством общества и городской жизни. Необходимыми для благополучного существования, наряду с соответственно выстроенными городами, они считали сады, что следует из сочинений и Томаса Мора, и Фрэнсиса Бэкона. Национальная приверженность садам и идея английского естественного парка возникли не только благодаря морскому климату, способствовавшему произрастанию зеленых газонов, но и как следствие особой ментальной традиции (другое дело, что она складывалась в условиях определенного климата). Принц де Линь полагал, что «Англия верно сделалась бы пастушескою страною, если бы в ней не было так сыро… В щастливейших только климатах можно прославлять любовь Коридона»[364]. Однако и сам принц, и его современники в XVIII в. ездили в Англию изучать как работу ее парламента, так и устройство садов.
1. Страна Утопия и ее столица
В Утопии Мора (1516) было «пятьдесят четыре города, все обширные и великолепные»[365] (столько же было в тогдашней Англии и Уэльсе).
Утопийцы считали, что «созерцать природу и затем восхвалять ее – дело святое и угодное Богу». «Сады они ценят высоко. Поэтому основатель города ни о чем, по-видимому, не заботился в такой степени, как об этих садах», – подчеркивал автор. В садах «имеются виноград, плоды, травы, цветы; все содержится в таком блестящем виде и так возделано, что нигде не видал я большего плодородия, большего изящества… Нелегко можно найти в целом городе что-либо более пригодное для пользы граждан или для удовольствия».
Если отмеченное Мором плодородие садов напоминало о топосе Эдема, то их изящество о том, что с эпохи Ренессанса они стали особым искусством. Тем не менее об их устройстве Мор сообщил лишь то, что в городах Утопии они располагаются «длинным и непрерывным рядом» вдоль всех улиц сзади домов и что в уходе за ними соревнуются целые улицы. Современному исследователю это дало повод не без некоторого преувеличения назвать Утопию городом-садом[366]. Подобные унифицированные садовые поселки будут создаваться и в ХХ в. (с. 163).
Насаждение садов, по словам Бэкона, – «это самое чистое из всех человеческих наслаждений… без него здания и дворцы всего лишь грубые творения его рук… люди научатся скорее строить красиво, чем насаждать прекрасные сады»[367]. В «Новой Атлантиде» Бэкона (опубликована посмертно. 1527) ее ученые обитатели поставили целью «познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным». Они разбили «обширные и разнообразные сады и огороды», в которых стремились, правда, «не столько к красоте, сколько к разнообразию почв, благоприятных для различных деревьев и трав», к выведению новых растений. Там были и «всевозможные парки и заповедники для животных и птиц, которые нужны не ради одной лишь красоты или редкости, но также для вскрытий и опытов»[368]. Что же касается садов «достойных государей», то Бэкон описал их в «Эссе о моральной жизни», соединив свободно живописные фрагменты («вересковая пустошь или луг») с регулярными (такой, нужно полагать, была центральная часть сада), – последние сохранят свою роль в континентальных садах Европы в эпоху господства пейзажного стиля (с. 173–174).
Ганс и Амброзиус Гольбейн. Карта Утопии. Гравюра к базельскому изданию «Утопии» Томаса Мора. 1518
Города Утопии вписаны в природный ландшафт. Они лишь «до такой степени… похожи… друг на друга, насколько этому не мешает природа местности». Пересеченный рельеф острова способствовал их многообразию. Амаурот, столица Утопии, по-средневековому был «опоясан высокой и широкой стеной с частыми башнями и бойницами» и «расположен на отлогом скате горы», уподобляясь в этом отношении земному Иерусалиму – город, как и сад, всегда заключал скрытую символику. Квадратный план Амаурота связывал его с древним символом земли, а также образами Небесного Иерусалима, Вавилона, Рима, космология которого «была основана на образе земли (terra), разделенной на четыре региона»[369]. Партеры ренессансного сада также представляли собой квадрат, состоящий из четырех частей, (подобный по типу сад, «флорентийский», по определению В.Я. Курбатова, будет разбит около Монплезира в Петергофе). Квадрат многократно повторялся в Сфорцинде, сама ее звезда состояла из двух квадратов, наложенных один на другой. Так мог разделяться на четыре части в композиции сада и города круг (пример последнего – Город Солнца).
Часто обе фигуры совмещались, образуя знак, означающий единство микро– и макрокосма, гармонизацию Хаоса, как это происходило и в садах (с. 83, 92). Филарете рекомендовал поместить окружность в центральном квадрате главного сада Сфорцинды с изображением всемирной карты.
Символика сада создавала атмосферу, соответствовавшую научным и магическим занятиям гуманистов. Разбивка по квадратам была также удобна для организации самого садового пространства, создания декоративных партеров, развившихся из цветочных грядок средневекового сада.
2. Город Солнца
Если за описанием Амаурота просматриваются некоторые лондонские реалии, то Город Солнца не вызывает ассоциаций с каким-либо конкретным местом. Его план воспроизводил структуру Космоса. «Семь обширных поясов, или кругов, называющихся по семи планетам», представляли их орбиты. Четыре мощеные улицы с входными воротами обозначали четыре стороны света, а флюгер на башне центрального храма показывал направление ветров (оно постоянно учитывалось в планах городов).
Образцом для Кампанеллы, как показала Ф.А. Йейтс, послужило описание магического города Адоцетина, приписываемое Гермесу Трисмегисту и содержащееся в текстах арабской книги «Пикатрикс»[370]. С Адоцентином связаны также «Новая Атлантида» Бэкона и Христианополь Иоанна Валентина Андреа (1619). От этого города происходит само название города Кампанеллы (Адоцетин – это древнеегипетский священный город Ину или Анну с храмом бога Солнца Ра, он же Илиополь, Гелиополь). Адоцетин в плане представлял собою круг, олицетворяющий Космос. Круг, который выступал в планах и символике также других идеальных и утопических городов, был графической моделью гео– и гелиоцентрической систем.
При всей привлекательности гипотезы, согласно которой город Кампанеллы композиционно воплощал именно гелиоцентрическую систему Коперника[371], его замысел в целом был масштабнее. Вряд ли амбициозный Кампанелла удовлетворился бы тем, чтобы свести свое сочинение к иллюстрации одной, к тому же чужой идеи. Также не из чистой осторожности, как предполагается, этот автор писал, что жители Города «восхваляют Птоломея и восхищаются Коперником». В пользу этого предположения не говорит и добавление Кампанеллы, что обитатели Города Солнца «отвергают Птолемеевы и Коперниковы энциклики и утверждают, что существует только одно небо и что планеты сами движутся». Та и другая концепции служили познанию Космоса, который интересовал Кампанеллу именно как целое (сам Коперник пришел к новой идее, изучая и пытаясь усовершенствовать Птолемееву систему.) Взгляды Кампанеллы, по словам Вл. С. Соловьева, «удивительным образом совмеща[ли] все три главных направления новой философии – эмпирическое, рационалистическое и мистическое, которые в раздельном виде выступили у его младших современников Бэкона, Декарта и Я. Бёма»[372]. Магия и астрология, которыми Кампанелла активно занимался, помогали познавать «неисчерпаемое богатство бытия, не определенного раз и навечно, неподвижно прочного, но всегда покоящегося на грани предельного риска»[373]. По мнению Кампанеллы, именно открытия, совершенные при помощи магии (а к ним он относил все достижения мысли и творчества), ведут к познанию природы, позволяют человеку овладеть этим божественным творением, делают его всесильным, в том числе способным преобразовывать собственную, данную от Бога натуру.
В соответствии с подобными представлениями Кампанелла и «строил» свой Город Солнца (1602), о чем свидетельствуют детали его описания. Сама идея города под таким названием, как уже упоминалось, была много более древней, чем теория Коперника (поэтому и в этом отношении названная гипотеза не получает подтверждения). Композиционным центром, концентрировавшим суть программы Города, служил «воздвигнутый с изумительным искусством» храм с алтарем, на котором был помещен «один большой глобус с изображением всего неба и другой – с изображением земли». Тем самым главным конкретным объектом культа выступало не Солнце как таковое, а весь Универсум. Планеты в концепции Кампанеллы оказались равноправными – каждой соответствовала золотая лампада, горевшая неугасимым огнем, каждая занимала особое место и в герметической символике[374]. На своде раскинувшегося над алтарем большого купола были изображены «все звезды неба от первой до шестой величины», под каждой указывалось «в трех стихах ее название и силы, которыми влияет она на земные явления» – их изучение было главной задачей астрологии. Подобным же образом звезды были представлены на внешних стенах храма и висящих в нем занавесях. В результате храм становился образом космического пространства, понятого как объект, целостность которого можно раскрыть посредством астрологии, герметических знаний, а Город Солнца воплощал представления Кампанеллы о путях преобразования мира.
Каменные кольца Города выполняли двойную функцию – они защищали от чужаков и были хранителями герметической тайны. Внутреннюю стену третьего круга заполняли «все виды деревьев и трав; иные из них, – писал Кампанелла, – растут… в горшках на выступах наружной стены строений», что до некоторой степени компенсировало отсутствие в городе садов (они были вынесены за черту города, где жители работали по очереди, т. е. по практической необходимости). Однако прежде всего это служило иной цели – показать единство мира, связь между Космосом и земными делами: все изображения растений сопровождались надписями, пояснявшими, «в чем сходствуют они с явлениями небесными», какие аналогии имеют с металлами, человеческим телом, «каково их применение в медицине».
Такие растения выращивались в соответствии с астрологией и магией[375]. Отец Рапен в сочинении, появившемся в XVII в., популярном и позднее, писал: «Когда вы сажаете цветы, обращайтесь за советом к небу; наблюдайте движение звезд и дыхание ветров… познайте законы небесных сфер, проникнитесь их гармонией… Боги установили тайные связи между нами и звездами, они влияют на все наши работы»[376]. На стенах Города это было представлено «в изумительных изображениях». Кампанелле как поэту и автору «Поэтики» (1596) не были чужды эстетические эмоции. Вместе с тем он хотел такого искусства, которое не заменяет историческую истину «соблазнительными баснями и пустыми домыслами». Превыше всего он ставил Данте[377].
Поэтому росписи стен в Городе были выполнены с натуралистической точностью, благодаря чему они показывали «прекрасное распределение наук», сходство между «предметами небесными и земными, созданными природой или искусственно». «Увидев рыбу-епископа, рыбу цепь, панцирь, гвоздь, звезду, мужской член, в точности соответствующих по своему виду [существующим] предметам», можно было постичь представление о человеке как части природы, а природу как явление, обладающее теми же свойствами, что и человек, чем «был совершенно поражен» Мореход – рассказчик о Городе, не сведущий в герметических делах. Однако это не было секретом для Леонардо, писавшего, что «живое человеческое тело – живое тело земли», а «движение воды – кровообращение».
Верховным правителем в Городе Солнца был «священник, именующийся на их языке „Солнце“, на нашем же, – разъяснял рассказчик, – мы называли бы его Метафизиком». О метафизике как учении об основах и принципах бытия говорило все сочинение Кампанеллы. Познать их помогало в числе других наук открытие Коперника. Гелиоцентризм ценили не просто как научную систему, он был одним из путей к постижению запретной божественной тайны, открывал возможность интерпретации Вселенной как множества миров.
Соправителями Метафизика выступали Мощь, Мудрость и Любовь. В концепции Кампанеллы они «проявляются в мире, как три зиждительные влияния… как абсолютная необходимость… рок, которым все вещи и события определенным образом связаны между собой и… как всемирная гармония, которой все согласуется или приводится к внутреннему достоинству»[378]. На постижение этих идей была направлена вся дидактическая программа Города Солнца, которая благодаря росписям приобрела наглядную форму иллюстраций к научному трактату. Там «великолепною живописью» были изображены «все математические фигуры, которых значительно больше, чем открыто их Архимедом и Евклидом… каждая из них снабжена подходящей объяснительной надписью в одном стихе: есть там и определения, и теоремы, и т. п. На внешнем изгибе стены находится прежде всего крупное изображение всей земли в целом; за ним следуют особые картины всевозможных областей, при которых помещены краткие описания в прозе обычаев, законов, нравов, происхождения и сил их обитателей; также и алфавиты, употребляемые во всех этих областях, начертаны здесь над алфавитом Города Солнца». В результате этого он становился энциклопедией мира и его культуры.
Визуальный способ подачи материала отвечал риторике. Она включала в себя искусство памяти – мнемонику, которая построена на системе свободных ассоциаций мест и образов и была унаследована Ренессансом от античности[379]. Все сведения, вынесенные в виде росписей и надписей на стены города, подлежали усвоению во время прогулок по галереям (в этом отношении жители Города могут быть названы перипатетиками). Дети там «без труда и как бы играючи» знакомились со всеми науками, запечатлевая в памяти места галереи, чтобы потом, вспоминая те или иные из них, восстанавливать в сознании связанные с ними образы.
Позднее Ян Амос Коменский в дидактическом сочинении «Мир чувственных вещей в картинках» писал: «Теперь перейдем к пище человека и к… искусствам, которые ее добывают». Это не был метафорический «переход» – в гравюре к Введению на фоне города показан сельский пейзаж, изображен ребенок и его наставник с посохом, говорящий ученику: «Я поведу тебя повсюду, покажу тебе все, назову тебе все… Затем мы пойдем по свету и посмотрим все»[380]. Заставка к разделу «Садоводство» представляла замкнутый прямоугольный сад с фонтаном, беседкой, цветочным партером и перголой (от лат. pergo – продолжать путь, движение) – каркасной сквозной постройкой, вытянутой по длине сада и обвитой зеленью. Все элементы были обозначены номерами и разъяснены в тексте. Так появился первый учебник по садоводству, адресованный детям, – педагогические таланты чешского ученого простирались и в эту сферу.
В отличие от урбанизованной утопии Ренессанса и барокко, с конца XVII в. природа начала занимать больше места в сочинениях такого жанра, что говорит о переориентации отношения к городу и саду. Это было связано с утверждавшимся культом естественности, с пропагандой земледелия. Как главный источник богатства его показал Дени Верас в «Истории севарамбов» (1675–1679), Фенелон в «Приключениях Телемака» (1699). Сад вытеснил город в небольшом, не лишенном иронии и курьезности забытом сочинении принца де Линя под названием «Утопия или Царствование великого Сельрахсингиля» (с. 269–270).
Против городской цивилизации резко выступал Руссо. У Э.-Г. Морелли в его счастливой стране росли вечнозеленые деревья, цветы наполняли воздух ароматом, люди были добры, жили в мире даже с дикими зверями («Базилиада». 1753). Ретиф де ла Бретонн по контрасту с парижской жизнью описал утопическую деревню, имевшую традиционные для социальных утопий одинаковые дома (приложение к роману «Развращенный крестьянин, или Опасности города». 1775). Образ красивой деревни, в которой живут счастливые просвещенные люди, вдохновлял Гракха Бабёфа.
В стремлении создать идеальную окружающую среду (одним из проявлений этого стала концепция естественного сада) Просвещение выходило за практические возможности своей эпохи. Отсюда изобилие нереализованных проектов. Более «реалистичным» оказался Л.-С. Мерсье, описав Париж 2440 года с хорошо известной ему классицистической архитектурой и скульптурными монументами, отличавшимися от виденного им в действительности только революционностью идейной программы. Привычно выглядели и иллюстрации к этому сочинению[381].
В середине XIX в. сады попали в русскую утопию. Чернышевский видел город как единое здание в футляре из чугуна, хрусталя и алюминия, окруженное роскошными благоухающими деревьями рощ и садов («Что делать?»). Нечто подобное – у Одоевского. Его учеными утопами на середине Невы было построен огромный дом, который имел «вид целого города». В нем под крышами располагались сады. Однако в них царила не природа, а наука. Город-дом, позволяющий вспомнить о «Доме Соломона» в Новой Атлантиде Бэкона, включал Ближний остров (он «в древности назывался Васильевским»), на ко тором в одном из огромных крытых садов росли «деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляли разные звери; этот сад есть чудо искусства!», – восклицал автор. В другом саду стояли «деревья, обремененные плодами… некоторые из этих плодов были чудное произведение садового искусства» – результат «постепенных прививок», которые позволяли «произвести новые, небывалые породы»[382].
Лабиринт – фигура города и сада
Фигурой, семантически и пространственно связанной с городом и садом, служил лабиринт. Как символ он уводил от истины и вел к ней, соединял жизнь и смерть, высокое и низкое, движение и статику. Лабиринт символизировал путь к духовному очищению и совершенствованию, поэтому мог пониматься как крестный путь Христа. Верующие на коленях проделывали его по полу средневековых готических соборов, где были выложены лабиринты. Неудивительно, что план Христианополя, описанного Андреа, напоминает лабиринт Реймса, хотя в строгом смысле слова такой фигурой не является[383]. Однако обычно образ города-лабиринта – следствие исторически сложившейся хаотической застройки. (Подобный характер в Средневековье могли приобретать и бывшие римские города.) Коменский в сочинении «Лабиринт света и рай сердца» (1623) трактует рисуемый там Город как лабиринт греха, который преображается духовным усилием в идеальное нравственное пространство души, приобретающее черты ренессансного идеального города[384]. В нем узнаются черты реальной Праги конца XVI в., сочетаемые с моделью идеального города. В других случаях образ города-лабиринта выступал метафорой зла, что восходило к легенде о Кносском жилище Минотавра.
В садах же лабиринт был реальным сооружением. С XVI в. он популяризировался в садово-архитектурных трактатах и постоянно включался в композицию садов. Это цветочные партеры, в которых декоративный узор принимал легко прочитываемую форму лабиринта, а также обманчивый Irrgarten (сад заблуждений) с высокими живыми ограждениями[385]. То и другое стало особенно характерно для садов маньеризма и барокко, когда лабиринтом казался весь мир. Градом-лабиринтом виделась Библия, в которой человек может запутаться, если не руководствуется Богом[386]. Обладая развитой символикой, лабиринт выступал и как выразительная декоративная форма, служил дидактическим и развлекательным целям. Существовал также Labyrinthe d’amour (ил. c. 94).
Лангли, который был в числе зачинателей естественной садовой композиции, в 1728 г. предлагал два варианта лабиринтов: одни были подобны геометрическому саду, а изощренная спиральность и зигзагообразность других предвещала извилистые дорожки естественного парка (именно такой вид этот автор придал версальскому лабиринту в своей «улучшенной», по его словам, редакции). Хотя лабиринты за регулярность формы были изгнаны из английского парка, однако желание владельцев на небольшом пространстве разместить максимальное количество садовых павильонов приводило к переусложнению общей схемы («Английский парк маленький, но сложный, как лабиринт», – писал К. Вагинов о подобных композициях[387].) Так было в Монсо Кармонтеля (с. 340)[388]. Визуальные и смысловые ассоциации с лабиринтом вызывает в особенности Лес гробниц с его дорожками, извивающимися среди густой растительности. Масонский подтекст этого сада, присущий и другим садам того времени, способствовал сохранению символики лабиринта.
В XIX в. садовый лабиринт превратился в общедоступный аттракцион городских садов. В лабиринтах блуждали путешественники и персонажи литературных произведений. Джером К. Джером отправил своих героев в старинный лабиринт королевского Хемптонкорта. Символическая серьезность образа лабиринта нарушалась еще в XVI в., когда он служил игровым полем для фишек. Однако ее сохранила поэзия. «Земля зеленела, светился эфир, / Сады-лавиринфы, чертоги, столпы, / И сонмы кипели безмолвной толпы» – так Тютчев описывал картину мира, который «неподвижный сиял», когда поэт, «как Бог», шагал «по высям творенья» («Сон на море». 1830).
Версаль: cад-город барокко
Задолго до того, как архитекторы сформулировали идею города-сада, садом-городом стал Версаль. Если его общий план представляется произведением классицизма[389], то прогулка в нем – это путь в пространстве барокко, о чем свидетельствует сочинение Людовика XIV «Способ показывать сады Версаля»[390]. Предписанный там маршрут строился на контрастах, сочетал движение и покой, в нем чередовались далекое и близкое, открытое и закрытое, виды, замкнутые в боскетах, сменялись далекими перспективами. Следование королевским маршрутом в чем-то напоминает поведение человека в лабиринте: король предлагал целенаправленное движение от одной видовой точки к другой, остановки, чтобы обозреть открывающуюся перспективу, углубление в боскеты, где движение вокруг центральной композиции в виде фонтана или скульптуры не завершалось, направляясь в неожиданно открывающуюся аллею. Останавливаясь, следовало посмотреть то в одну, то в другую сторону. Если обычно человек искал выход из лабиринта, то здесь он искал все новые виды, на движении между которыми строился маршрут. В боскете Лабиринта, согласно Ш. Перро – автору его программы и проекта, – «нет почти поворота, который бы не являл собою вид сразу нескольких фонтанов»[391], подобное происходило и в других местах парка.
В Версале посетитель постоянно попадает в «пространственные ловушки… пространство теряет однозначное направление»[392]. Математический расчет создал игру пространственных форм, не раскрывающихся сразу перед посетителем. Попав в изолированные боскеты-кабинеты и обойдя по кругу скульптуру или фонтан, расположенный в центре, уже легко потерять первоначальное направление в окружении кустарниковых шпалер. Иначе происходит зимой, когда опадают листья и боскеты делаются более прозрачными. Тогда становится нагляднее классичность общей композиции.
Авелин. Вид Версаля. Гравюра. Около 1705
Извилистым путем вела посетителя также сюжетно-аллегорическая программа Вер саля, объединенная сквозным мотивом Аполлона-Солнца, на котором первоначально была построена программа садов (то, что тогда называлось собственно Jardins, позднее Малым парком). В отличие от Города Солнца, оставшегося чистой утопией, Сад Солнца появился в реальности. То обстоятельство, что Солнце было знáком короля, имело прежде всего социально-политическое значение. В мифопоэтическом же ключе Версаль служил жилищем Аполлона-Феба, движение которого по небесному своду предначертало композицию и универсальную семантику ансамбля.
Здесь нашла продолжение ренессансная идея геометрического пространства с космической символикой. Небесное и земное, космическое и профанное сливались на главной оси парка, где Зеленый ковер королевской променады переходит в латинский крест, образуемый пересечением Большого канала с боковыми. Низкие скульптуры Бассейна Аполлона не прерывают перспективу, а воды, широко разбрызгиваемые мощными фонтанами, создают завесу, за которой основная перспектива приобретает мистическую нечеткость. Уходя на восток, канал завершается бассейном-зеркалом. В свете отраженных в нем лучей восходящего солнца пространство садов сливается с воздушным, земное с небесным, создавая иллюзию бесконечности и делая наглядной метафору сад – мир. Изощренная поэтика барокко была пронизана игрой, отсюда не только «обманки» барочных садов, но и обманчивость его пространственных форм.
Версаль. План Делагрифа. 1746
Искусство барокко было ученым искусством, оно нуждалось в разъяснениях. Это касалось аллегорий, основанных на мифологии и сакральной символике. Однако Людовик XIV не описал сюжеты скульптур, как и их известные не всем посетителям актуализированные смыслы (например, фонтана Латоны, аллегорически связанного с событиями Фронды, не говоря о садовых аллюзиях, касающихся личной жизни короля). Он ограничился практическими указаниями, как передвигаться по парку, чтобы постичь красоту садов.
Версальский ансамбль был барочным концептом и связывал противоположные начала. Он превратился в «сад-город» с дворцом, широкими проспектами-аллеями, зелеными улицами и площадями, колоннадой и монументами, театром и бальным залом, водоемами, каналами и гаванью, зданиями различного назначения и масштаба. Там появился свой транспорт – наземный и водный, объединявший парковое пространство в единое целое.
Версаль не только метафорически стал садом-городом – в государственной практике более ста лет (1682–1789), хотя и с перерывами, он замещал Париж, откуда в Версаль была перенесена королевская резиденция вместе с соответствующими учреждениями, атмосферой и стилем жизни. В «большом» Версале его сады соединились с примкнувшим к нему новым городом, который расположился на исходящем из дворца трезубце, образуя композиционное целое с парком благодаря их единой оси. Вслед за Версалем сад и город срастались в других резиденциях (Карлсруе, Шветцинген, Бялосток). Пограничность отличала барочную композицию entre cour et jardin (между двором и садом), согласно которой дворец располагался одной стороной к городу, цивилизации, а другой – к природе.
Сближение садовых и архитектурных форм, начатое Ренессансом, в эпоху барокко достигло наивысшей точки, их создателями часто были одни и те же архитекторы, о них писали те же теоретики. Не только рисунок декоративных партеров повторял форму архитектурных волют, определявших вид зданий, сблизилось также оформление интерьеров и садовых боскетов (кабинетов, по терминологии той эпохи), – они служили органичным продолжением жилых покоев. По образцу дворцовой мебели устраивались каскады (buffets d’eau), но для «водных затей» сооружались и специальные, весьма солидные помещения, как грот Фетиды (Бани Аполлона) в Версале. Так синтез искусств, которым в непревзойденной степени владело барокко, сказался на развитии взаимоотношений город – сад.
Сад в городе Нового времени
Геометрия, превратив сад в «живую архитектуру» (Шефтсбери), на протяжении XVIII в. оказалась вытеснена пейзажными композициями на периферию садового искусства. «На протяжении ста лет, прошедших с момента возведения Версаля до появления зданий Лансдаун Кресчент в Бате, зодчие строили в окружении парковых ландшафтов»[393], стремясь как можно лучше вписать в них постройки. Сад утверждал свою роль в городском пространстве в виде парков, а также прямоугольных зеленых скверов (от англ. square, квадрат). В XVIII в. в городе и сельской местности особую роль играли ансамбли усадебного типа.
Это не препятствовало тому, что в городах побеждала регулярная планировка – так строились новые города (Петербург, Филадельфия, Вашингтон), а старые подвергались перепланировке или дополнялись регулярными частями (Бат, Эдинбург). В начале XX в. Шпенглер констатировал: «В конце концов мы подчинили… основной идее версальского парка вид улиц больших городов и устроили длинные, прямолинейные, исчезающие в далях, убегающие улицы, пожертвовав даже старинными историческими кварталами, символика которых теперь утратила свое первостепенное значение»[394].
Противопоставление города и деревни не сразу стало эксплуатируемой темой. Ее нет в пасторалях Поупа, рисующих картину мирной жизни пастухов на берегах Темзы (с. 169), Сэмюэль Джонсон же писал: «Если человек устал от Лондона, он устал от жизни»[395]. Однако Джон Гэй еще в 1713 г. использовал названную антитезу как рамочную конструкцию своих «Сельских досугов» и тем самым придал ей значимость[396]. Это могло происходить в силу горацианской традиции – оппозиция, выстроенная римским поэтом, постоянно проступала в подтексте всех «садовых» сочинений, подразумеваясь или обнаруживаясь уже в самой несдерживаемой хвале сельской жизни.
В 1750 г. Руссо публично и отрицательно ответил на вопрос, «способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» Тюрьма предстала олицетворением каменного города в графических циклах Пиранези (Carceri d'invenzione. 1745, 1761). Мерсье в принципе не любил город: «Поеду искать по свету какое-нибудь тихое селение и там, на чистом воздухе, средь мирных наслаждений, стану оплакивать судьбу несчастных обитателей этих гнусных тюрем, что зовутся городами»[397]. Чем ближе было к концу века, тем острее была критика.
Ранние немецкие романтики вновь «открыли» город и предпочли его деревне, ища именно в нем уединения[398]. В России это противопоставление не имело длительной традиции, однако во второй половине XVIII в. стало распространенным мотивом и в русской поэзии, выступив, однако, в смягченной форме. Пушкин же «от скуки, столь разнообразной» городов хотел попасть под «тенисты клены огорода», отождествляя его с естественной природой и деревенской свободой. Татьяна Ларина «ветоши» петербургского маскарада предпочитала «дикий сад». Она была воспитана усадьбой. Так постоянно трансформировался антично-ренессансный дискурс о преимуществах города или деревни.
Хотя в XVIII в. заметного увеличения числа городов не произошло, однако расширение их функций и рост народонаселения, все более интенсивная городская жизнь ослабляли непосредственный контакт человека с землей. От дыма труб страдал не толь ко Лондон, но и Париж. Мерсье писал, что он «скрывает от нас остроконечные верхи колоколен». Компенсацией этого стали окрестности, которые «разнообразны, прелестны и очаровательны; там культура усовершенствовала природу, но не задушила ее. Таких садов, аллей, прогулок не встретишь нигде, как только здесь в непосредственной близости к городу. На четыре лье в окружности все дышит изобилием»[399]. По выходным дням пешком, в экипаже или верхом туда отправлялось до трехсот тысяч парижан («Картины Парижа»). Аналогично поступали лондонцы, бежавшие за город «от черных труб дымящих, / От будней городских, от зимнего тумана» (Ж. Делиль «Сады». 1782).
Вернувшись в прошлое, традицию создания садов, доступных для общественного пользования, которая восходит к садам Цезаря за Тибром, можно обнаружить в средневековой Европе XII в. В то время в итальянских городах начали засевать цветочные лужайки, которые размещали также за чертой города[400]. Они получили название Pratum (лат. – луг; отсюда Прадо в Мадриде, Пратер в Вене). Эти территории использовались и как рыночные, ярмарочные площади, там проходили встречи членов различных средневековых братств. В результате сад входил в городское пространство и городскую жизнь. Зеленые пригороды образовывались и иным путем, как в Варшаве. В XVII в. расположенные недалеко от нее монастыри становились местом паломничества, костельных празднеств, постепенно превратившись и в место привычных гуляний, что сопровождалось развитием местной торговли (в ней участвовали русские купцы, которых запечатлел в рисунке Ж.П. Норблен). Так произошло с Белянами (название от белого облачения монахов-камальдулов, польск. – kameduły): по мере расширения Варшавы они срослись с ней. Еще иначе дело обстояло в России, где усадьба, в составе которой были сады, играла важнейшую градообразующую роль. Она проявилась не только в Москве, но и в раннем Петербурге, повлияв на развитие города[401]. Для садов традиционно оставлялось место между домами, как в Византии. Особая связь между городом и садом возникала, если город формировался на основе резиденции, как было в Версале, Берлине, Белостоке Я.К. Браницкого[402].
Тип градоустройства первоначально оказывал решающее влияние на отношения город – сад, в последующем они менялись вместе с преобразованиями городского организма, характера общественной жизни. То и другое сказалось на судьбе берлинского Тиргартен (Große Tiergarten, заложен в 1527 г.). Расположенный около замка Бранденбургских курфюрстов, он, хотя постоянно сокращался с ростом города, однако до сих пор остается одним из самых больших внутригородских парков мира. В 1742 г. Фридрих II распорядился преобразовать его в общедоступный увеселительный парк, придав ему барочный характер (Г.А. Кнобельсдорф). В 1766 г. Иосиф II открыл для публики Пратер. Начало славившимся в Европе французским публичным променадам положил Людовик XIV, открыв сначала вход в сады, а затем и в боскеты Версаля. В 1789 г. революционные власти сделали общедоступными сады знати.
Прага. Первый публичный сад у Летнего дворца королевы Анны. Гравюра Е. Шмидта
На протяжении XVIII в. такие сады появились во многих городах Европы. Они становились ареной светской жизни, где можно было демонстрировать наряды и экипажи, как в Булонском лесу – месте прогулок еще в XVII в., особенно популярном со времени регентства герцога Орлеанского. О варшавском Саксонском саде, созданном в 1728 г. польским королем и саксонским курфюрстом Августом II и частично открытом для публики, иностранный путешественник писал, что там можно было встретить «всех самых красивых, самых богатых, самых изысканных людей, всех политических знаменитостей… Здесь обычно царило необычайное оживление». В годы Четырехлетнего сейма (с. 283) споры, разгоравшиеся здесь, по описанию того же очевидца, напоминали те, которые сразу после революции происходили в Пале Рояль в Париже – превращение городского сада в политический клуб становилось тогда распространенным в Европе явлением. «Все, что прогуливающиеся разных сословий могут только пожелать», они могли найти в Лазенках Станислава Августа, поэтому «беседки, тенистые рощицы… всегда [были] полны гостей среднего класса». «Для развлечения публики» там был возведен Турецкий дом[403]. В саду при бывшем Дворце Красиньских, построенном Тильманом Гамерским, где с 1776 г. размещались правительственные учреждения Речи Посполитой, устраивались праздники и иллюминации для горожан. В 1770–1780-е гг. доступные для публики сады возникли во многих польских городах.
В России начало этому было положено при Петре I[404]. В Летнем саду «есть длинная галерея, или зал, где царь ежедневно бывает с 11 до 12 часов дня; туда всякий имеет свободный доступ, и царь принимает прошения от своих подданных всех сословий», записал П.Г. Брюс[405]. В 1735 г. К.Р. Бёрк хвалил расположенный там же екатерининский сад, отметив однако, что «горожане весьма редко могут [там] повеселиться. В дни Комедии, когда действуют также водометы, некоторому количеству простого народа дозволяют войти в сад; в куртаги – лишь обычным придворным лицам, а в остальное время – никому, так как императрица (Анна Иоанновна) желает гулять со своими наперсниками в тишине»[406]. С 1722 г. по указанию Петра I доступными стали сады московского Лефортова[407]. Анненгоф, преобразованный «в улучшенном вкусе», был открыт для публики Екатериной II[408]. «Галерея или амфитеатр для общественных гуляний», украшенная надписью на русском, французском и немецком языках «Для всех честных людей», существовала в 1780-е гг. в Петербурге на Каменном острове. Общедоступными были так называемые воксалы, где устраивались концерты, балы.
Версаль. Вид на Большой канал от Фонтана Латоны
Для развлечения публики владельцы предоставляли некоторые усадебные сады, одни для всех, другие – для избранных. К числу наиболее примечательных садов принадлежала Красная мыза А.А. Нарышкина под Петербургом. У видевших ее вырывался возглас «Ба-Ба», так ее и называли. И.Г. Георги среди прочего сообщал о ней:
«Сад… открыт в летнее время по воскресениям для почетной публики; гостеприимчивый знатный владелец оного приглашает даже к прогулкам в оном и увеселяет приезжающих туда музыкою, танцеванием, качелями, кегельною и другими играми; в сии дни раздается также большое количество прохлаждающих напитков и лакомств. В прекрасные летние дни многочисленные дорожки в саду прогуливающимися всех классов, а большая площадь перед садом экипажами, так сказать, покрыты».
Карамзин, полагая, что «в больших городах весьма нужны народные гульбища», в таких словах мечтал о реализации этой идеи:
«…если бы можно было сломать… Кремлевскую стену, гору к соборам устлать дерном, разбросать по ней кусточки и цветники, сделать уступы и крыльцы для всхода, соединить таким образом Кремль с набережною и внизу насадить аллею». Тогда можно было бы видеть вдали Воробьевы горы, леса, поля… Вот картина! Вот гульбище, достойное великого народа!»
Популяризации городских садов способствовала пятитомная «Теория садового искусства» К.К.Л. Гиршфельда. Любимой идеей этого автора был Volksgarten, народный сад. Его он предназначал не только для отдыха, но и для учения – каждый должен найти тут «eine gute Lehre». Здесь место не дорогим произведениям искусства, а зданиям, украшенным картинами из национальной истории, памятникам важнейших событий, надписям, напоминающим о деятельности патриотов[409]. Спустя несколько лет Гиршфельд констатировал, что в Европе нелегко найти город, который бы «не заключал в себе или не имел в соседстве места для публичных прогулок»[410]. Городские сады, маня людей на природу, должны были, по его мнению, отвлекать их как от дорогостоящего, так и от «неблагородного» времяпрепровождения. О желании наполнить садами все свободное место в городе свидетельствовало сочинение «Соображения о городских садах, или Сведения о возможностях использовать пространство за и между зданиями»[411]. В данном случае речь шла о небольших садах, которые особенно культивировались в годы бидермейера (с. 189–196).
В XIX в. активное развитие городских садов связывалось как с урбанистикой, так и широкими социальными программами. Теперь общедоступные сады появлялись не только благодаря щедрости частных владельцев, но и по инициативе городских властей и создавались в основном на месте средневековых городских стен, которые сносились, чтобы не мешать застройке и жизни городов. Так произошло в Кракове, где были разбиты бульвары (Планты. 1818–1822). В Москве первый бульвар, Тверской, на месте укреплений XVI в. был устроен в 1796 г. В 1820-е гг. образовалось Садовое кольцо. Во второй половине 1860-х гг. в Вене обустраивался Ринг. Подобные садовые композиции реализовалось и в других городах Европы и Америки. Впоследствии Маяковский напишет о Чикаго, что там «самая лучшая система бульваров во всем земном шаре – ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни на какую улицу» («Моё открытие Америки». 1925–1926). Однако и в Варшаве, где не было кольцевых бульваров, до сих пор можно проделать «садовый путь» от Королевского замка до Лазенок вдоль возникшей в XVIII в. так называемой Станиславовской оси, по которой располагались многие наиболее известные варшавские сады того времени.
Первый коммунальный публичный парк был создан в Ливерпуле (Birkenhead Park. 1847). В 1857–1871 гг. на болотистом каменистом пространстве Фредерик Олмстид разбил Центральный парк Нью-Йорка, живописно соединив равнинную, пасторального характера местность с более диким, холмистым ландшафтом, что давало посетителям возможность по-разному организовывать досуг. В 1864–1867 гг. в Париже появился парк Бютт-Шомон, позднее так описанный Жюлем Роменом: «Это изумительный парк, где мы находим склоны горы, настоящие овраги, гроты, озера, карусель, толпу очень тесную, с трудом передвигающуюся; большую усталость от солнца и от воскресного дня» («Люди доброй воли»). Еще создатели естественных парков мечтали превратить все окружающее пространство в «Эдем, в единый сад» (Делиль). Того же хотел владелец Вёрлица князь Франц Ангальт-Дессау, создавая свою «садовую империю» (Gartenreich). Подобную идею в 1815–1845 гг. осуществлял князь Герман Пюклер-Мускау, пока не пришел к полному финансовому краху, все же заложив самый большой в Европе парк площадью в 3,6 кв. км. (Мускау и современный Мужаков. ФРГ, Польша).
Город-сад ХХ века
На рубеже XIX – ХХ вв., в ситуации кризиса больших городов, начала разрабатываться идея города-сада, реализовывавшаяся на всех континентах, однако не означавшая решения проблемы[412]. Эбенезер Хоуард писал: «Город и деревня должны сочетаться воедино, и от этого радостного единения родятся новые надежды, новая жизнь, новая цивилизация»[413]. Как и авторы утопических сочинений, он представлял свой город-сад в виде идеального круга. В центре архитектор разместил не храм, а площадь-парк с расходящимися от него лучами-бульварами. Вокруг города должен был простираться общественный парк. Первым воплощением этой идеи стал Лечуорт (заложен в 1902 г. Архитектор Р. Ануин).
Бруно Таут. Лист из серии «Альпий ская архитектура». 1918
Иначе взаимосвязь города и сада осуществилась в Германии. Там особую роль играл сад при доме (Hausgarten), продолжающий его жилое пространство, что восходило к традиции бидермейера. При этом «не правила или философские рассуждения… должны определять вид домашнего сада, – писал один из авторов, – в большей степени его особенности должны вытекать из потребностей и желаний застройщиков»[414]. «Kommende Garten» (Грядущий сад), согласно терминологии 1920–1930-х гг., виделся как единый газон, на котором спокойно цветут маргаритки. Этот «маленький мир» следовало «обязательно оградить от соседей» – в годы национал-социализма сад понимался как убежище, где человек «может хозяйничать свободно и без помех».
Однако мир представлялся и в другом облике. Ранее родилась «утопия прозрачного города», развитая Паулем Шеербартом, Бруно Таутом, а параллельно с ними – Велимиром Хлебниковым («Мы и дома». 1915)[415]. Еще Одоевский, сидя «в прекрасном Доме, на выпуклой крыше которого огромными хрустальными буквами изображено: Гостиница для прилетающих», сочинял свои утопические «Петербургские письма». «Здесь такое уже обыкновение, – сообщал он, – на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, когда дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид». Из хрусталя строил свой утопический дом Н.Г. Чернышевский.
Мифологема прозрачности, связанная с идеей света в целом, восходила к образу Небесного Иерусалима, который был подобен «драгоценнейшему камню», «яспису кристалловидному», «чистому стеклу» (Откр 21: 11, 18). Таут в проекте города-сада («Корона города». 1918), вознеся его центральную часть на пологую гору, увенчал ее прозрачной кристаллической крышей. Благодаря этому сверкающий город как бы спускался с неба. В листе из серии «Альпийская архитектура» (1918) тот же архитектор достиг прямого слияния архитектуры и природного ландшафта, минуя опосредующую роль сада, – прозрачным куполом он предлагал перекрыть верх альпийской горы Резегон, придав всей композиции динамику и энергию, позволяющие вспомнить о барокко.
Иное предназначение прозрачного города у Мандельштама, связавшего его с подземными садами Аида (с. 207):
В Петрополе прозрачном мы умрем, Где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, И каждый час нам смертная година. Богиня моря, грозная Афина, Сними могучий каменный шелом. В Петрополе прозрачном мы умрем, — Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.В дистопиях и антиутопиях ХХ в. природа, подвергнутая насилию, уже не выступала как благотворное начало[416]. Вместе с тем метафизическая забота о гармонии с природой соединялась с социально-гуманитарными концепциями, что вело к возникновению новой парадигмы архитектурно-урбанистического мышления. Френк Ллойд Райт проектировал город как открытое пространство, где нет различия в стиле городского и сельского существования (Broadacre City, 1932. От англ. broad – широкий, совершенный, acre – акр, земли, поместье, acred – раскинувшийся на много акров). Райт предполагал раздать будущим жителям земли площадью 1–4 акра. Такой город становился частью окружающего ландшафта, а его постройки врастали в природное окружение благодаря открытости композиции и использованию естественных материалов[417].
Совершенно иначе видел свой «Лучезарный город» Корбюзье (1935), подняв его на опоры, под которыми планировалось создать сплошной садовый массив. Сады, также восходя, заполняли плоские крыши-террасы – этот прием стал одним из «Пяти пунктов новой архитектуры», провозглашенных архитектором[418]. Лучшими формами для создания построек он считал многогранники, конусы, шары, пирамиды, цилиндры, что, по его словам, делает искусство плодом чистого разума[419]. Если проекты Райта позволяют вспомнить о композиции естественного сада, то формы, предложенные Корбюзье, – о регулярных садах барокко[420]. Интерес к ним возродился в культуре модерна, такие сады предпочитали поэты-символисты и русские художники «Мира искусства»[421]. (По воспоминаниям А. Бенуа, при первом посещении Версаля его «особенно поразили черные конусы и кубы стриженых туй»).
«Висячие сады» проекта Корбюзье заставляют вспомнить еще об одном типе пространственных взаимоотношений город – сад, а именно идею легендарных садов Семирамиды. Ее использовал Ренессанс – не только Филарете, но и Леонардо (с. 135). В верхнем ярусе планировавшегося им двухуровневого города, имевшего также подземную, сугубо утилитарную часть, он предлагал разместить протяженные дороги для прогулок и висячие сады (1484)[422]. В XVII в. такие сады появились в московском Кремле, а в ХХ в. Ильф и Петров с иронией описали плоские крыши нью-йоркских небоскребов. Там был помещен «небольшой одноэтажный домик с садиком, чахлыми деревцами, кирпичными аллейками, фонтанчиком и дачными соломенными креслами».
В послереволюционной России обнаружились разные подходы к проблеме города-сада – от ретроспективных, предполагавших, в частности, распространение пейзажных композиций и домов усадебного типа[423], до авангардных (в названном «Лучезарном городе» Корбюзье, который предназначался для Москвы, от ее старой застройки должен был остаться только Кремль). Идея города-сада имелась в виду и при создании плана «Большого Петрограда» как системы городов-спутников (руководитель И.А. Фомин. 1919–1921)[424], а также «Новой Москвы», в котором архитекторы надеялись реализовать актуальные идеи, сохранив радиально-кольцевую структуры (И.В. Жолтовский, А.В. Щусев. 1918–1924)[425]. В поисках идеального пространственного решения архитекторы начали отводить максимально возможную роль транспорту как связующему элементу дезурбанизованной, вынесенной в ландшафт застройки (М.Я. Гинзбург, М.О. Барщ. Проект Зеленого города на севере Москвы. 1930).
Филарете. Дворец идеального города Сфорцинда. 1461–1464
Еще до революции родилась мысль о создании зеленых рабочих поселков. Один из проектов для завода «Богатырь» был задуман в марте 1917 г., но построен этот «великолепный поселок» был только «на канцелярской бумаге», как в мае 1922 г. писал об этом М.А. Булгаков в маленьком газетном очерке о закладке другого такого поселка в Перловке под Москвой[426]. У Маяковского в «Рассказе Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» (1929) есть «город-сад», который «будет». В дальнейшем при сокращенном цитировании этого стихотворения его образ абстрагировался от реальности, в которой он создавался[427]. Превратившись в метафору прекрасного будущего, он переместился в пространство мифа, где и закрепился. Однако на протяжении 1930-х гг. архитекторы все же продолжали создавать проекты, рассчитывая на их реализацию, о чем говорят «Город-парабола» Н.А. Ладовского и «Зеленый город» К. Мельникова.
Взаимоотношения города и сада в европейской культуре – столь же незавершенный и незавершимый процесс, как и взаимоотношения природы и культуры, частью которых они являются. В противопоставлении города и сада природа всегда скрывалась за образом сада как ее метаморфозой. Именно с природой слит образ города у Мандельштама:
Природа – тот же Рим и отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде рощи.Подобный совершенный синтез доступен лишь мифопоэтическому сознанию, такой синтез продолжают искать архитекторы. Чем более город удалялся от природы, тем более явным становилось стремление превратить его в сад, наполнить зеленью, слить с природным пространством, сделать «немного Эдемом». Город и сад нераздельны как выражение противоречивого отношения человека к миру – желания создать для себя счастливое пространство обитания и вместе с тем постоянно включаться в ситуацию риска, реализуя свои креативные возможности.
Филарете. План идеального города Сфорцинда. 1461–1464
Глава 4 Метаморфозы естественного сада: от просвещения к романтизму и бидермейеру
Сад Просвещения и естественность. – Парадоксы естественности. – Садовые полемики, поиски истоков. – Полистилизм эпохи. Классицизм.
Рококо. – Романтичный и романтически. – Естественность глазами романтика. – Возрождение регулярного стиля. – «Малые романтики», или бидермейер.
Джакомо Кваренги. Царское Село. Китайская деревня. Акварель
Английский сад был воплощением идеи естественности – одной из тех, которые определили сущность Просвещения как культурной эпохи. Естественное начало было признано мерой вещей, а нецивилизованная природа – эстетическим образцом изощренного галантного века. Идея естественности объединила поэтику пейзажного сада, его морально-философскую программу, образ идеального обитателя, садовый быт, пространственно-временные и функциональные характеристики, т. е. весь тот круг явлений, который конституирует тип каждого сада, делая его художественным и шире – культурным феноменом своей эпохи. Именно в годы Просвещения сады поднялись как никогда высоко в иерархии искусств, стали предметом всеобщего интереса, острых дискуссий, полем рождения новых художественно-эстетических идей, объектом изображения в разных областях творчества. Садовый образ служил излюбленным источником поэтических тропов и кодов, посредством него метафорически излагалось множество вопросов – морально-нравственных, политических, идеологических. Распространившись по всей Европе и за ее пределами, естественный сад стал жизненным пространством человека и составляющей национального ландшафта, влияя на его облик в целом. Лишь в Италии, земля которой сама была садом, рельеф сопротивлялся созданию масштабных английских парков, а ранее и французских. Как бы компенсируя это, в середине XVIII в. возникла Казерта, в которой дворец и трехкилометровый канал соединились с пейзажным парком, что произошло в предгорном ландшафте. В результате возник особый природно-культурный феномен, в качестве такового признанный памятником мирового культурного наследия.
Идея естественности вышла за хронологические границы Просвещения. Парки времени романтизма даже стали «естественнее», чем ранее. Однако это была естественность не в том контексте, в котором она выступала в садах Просвещения. В XIX в. они уже не наполнялись «чертогами, вратами, / Столпами, башнями, кумирами богов / И славой мраморной, и медными хвалами». Все это оказалось по преимуществу в сфере воспоминаний. Пейзажность вытеснила программные элементы садов, хотя не одновременно в разных странах, неокончательно и не полностью – мемориальная функция садов всегда способствовала сохранению в них исторических и танатологических мотивов и ассоциаций. То обстоятельство, что естественность стала феноменом «большого времени», перешла границы культурных эпох, осложнило адекватную интерпретацию взаимоотношений естественного сада с романтизмом[428]. Его трактовка «всегда была мучительной для истории искусства и истории культуры», по словам А.В. Михайлова.
Франческо Беттини. «Великолепный английский сад». Гравюра из «Nouveaux Jardins …» Ж.Л. Ле Ружа. 1776–1778
В России на представления о естественных садах повлияло их преимущественное рассмотрение в контексте усадьбы, ее истории, романтизированного усадебного мифа. В результате в позднейших интерпретациях реалии естественных садов, свойственные просветительской эпохе, соединились под знаком романтизма с реалиями садов следующего века. Этому способствовали особенности самого русского романтизма, не давшего ярко выраженных форм, а также его сосуществование с Просвещением в первые два десятилетия XIX в. В данном отношении русская ситуация была иной, чем западноевропейская, в которой различия двух эпох носили более определенный характер. Присутствовавшая в садах нового века «романтическая меланхолия» не была меланхолией романтиков, она досталась от XVIII в. с его сентиментализмом.
Сад Просвещения и естественность
В представлениях XVIII в. природа, сенсуалистски воспринятая, не походила на картезианский, подчиненный математическим законам геометризованный универсум XVII в., визуализацией которого был французский регулярный сад. Ориентиром садового искусства и его естественной утопии выступила античная Аркадия, превращенная Вергилием и всей мифопоэтической традицией в прекрасный ландшафт. От этой идилличной природы были неотделимы обитатели Аркадии. В садах XVIII в. просвещенные владельцы также старались вести аркадийский образ жизни.
Естественность в разных проявлениях становилась не только основным признаком сада, но и его мифологемой. Вопреки всем условностям, сад воспринимался действительно натуральным — такое определение относили к нему современники, хотя употребляли его не так часто, как можно было бы предположить[429]. Однако оно было важно для таких авторов, как Хорас Уолпол в Англии, Жан Мари Морель во Франции[430], А.Т. Болотов и Н.А. Львов в России. Этот архитектор и создатель многих садов использовал по отношению к ним также примечательную для эпохи формулировку – во вкусе натуральном. Она не абсолютизировала естественность и свидетельствовала, что в реализации этой идеи предполагалась достаточная свобода, как и в определении самого понятия вкус[431]. Как писал Эдмунд Бёрк, влиявший на садовые теории, «чувствительность и рассудительность – качества, составляющие то, что мы обычно называем хорошим вкусом… недостаточное развитие первого из этих качеств ведет к отсутствию вкуса; слабость второго – к неправильному или дурному вкусу»[432].
Эта эстетическая категория была связана с индивидуализацией образно-эстетического мышления, отходом от жесткой нормативности господствующих стилей. В ту эпоху вкус, подобно моде, впервые оказал столь активное влияние на искусство, в том числе садов, выступая «организатором» творчества и художественного бытия. За ним признали право быть разнообразным, учась ценить «божественный энтузиазм» (Шефтсбери) и «прелести воображения» (Джозеф Аддисон). Однако вкус имел тенденцию конвенциализироваться. Ш. де Линь, возражая против однозначной приверженности естественным и регулярным садам, утверждал, что, вкус бывает только хорошим или плохим, поэтому не выбирал однозначно между Ленотром и Кентом (с. 271). Львов, возможно знакомый с сочинением принца, проектируя сады канцлера А. Безбородко, аналогично писал, что хотел бы «согласить учение двух противоположных художников». Д. Юм же в принципе полагал, что о вкусах не спорят, что не означало действительной свободы эстетического суждения. Тем не менее XVIII в. стал временем рождения и эстетики, и художественной критики[433].
В последние десятилетия XVIII в. речь впервые зашла о программировании в садах национального вкуса. К.К.Л. Гиршфельд желал, чтобы появились немецкие сады. Болотов мечтал разбивать российские сады «собственного своего вкуса, и такие, которые бы, колико можно, сообразнее были с главнейшими чертами нашего нравственного характера»[434]. Однако это происходило и независимо от теоретических установок. Сады Болотова, как и его рисунки, изначально обладали национальными и индивидуальными признаками. Они проявлялись во всей деятельности этого талантливого автодидакта (c. 125).
Отойти от английской модели успешно старались и французы, сады которых не были просто «недоразвившимся» пейзажным стилем (способность следовать ему показал Жирарден в Эрменонвиле). Кармонтель, предворяя публикацию гравюр с изображениями Монсо (с. 340), писал, что в этих заметках о современных садах (nouveaux), он хотел бы только показать, что если французские «судьбы, нравы, вкусы, наш климат иные, чем у англичан, то и сады не должны быть рабской имитацией их садов, но быть основаны на иных принципах»[435]. Особенностями отличались сады всех стран, что не оставалось незамеченным людьми той эпохи, о чем свидетельствуют, в частности, описания садов, сделанные Ш. де Линем под влиянием его многочисленных путешествий (III.3).
Тем не менее И.Г. Гердер полагал: «Есть идеал красоты для любого искусства. Существуют, правда, народы, которые вносят в свои представления об этом идеале национальный оттенок… но можно и отучить себя от этого врожденного или навязанного извне своеобразия… и в итоге уже не руководствоваться вкусами нации, эпохи или личности, [а] наслаждаться прекрасным повсюду… Блажен тот, кто постиг подобное наслаждение»[436]. Такое универсальное понимание красоты в первой половине XVIII в. позволяло в качестве комплимента сравнить чью-либо резиденцию с Версалем, а во второй – с работами Ланселота Брауна (как это произошло относительно Царского Села).
Та эпоха любила давать «чужие» имена – «второй Версаль», «Новая Венеция» и т. п., что способствовало классификации явлений[437] (с. 60–61). Вместе с тем XVIII век обнаружил потребность и способность к творению терминологии. Об этом свидетельствует емкое и адекватное самоназвание эпохи – Просвещение (с. 371). Термин естественный сад (или натуральный – двойственность, возможная в русском языке[438]) также оказался соответствующим, акцентируя суть[439].
Чаще, чем естественными, сады называли английскими. Первоначально под понятием English garden имелись в виду регулярные сады Англии предшествующей эпохи. В этом смысле его употреблял Аддисон, отмечая специфику этих садов по сравнению с садами Франции и Италии. Стефен Свитцер как английский сад описывал Кенсингтон времени правления королевы Анны (1707–1714)[440]. Однако определение английский быстро переросло рамки национального признака и начало выступать как типологическая характеристика в одном ряду с ранее сложившимися понятиями итальянский и французский сад. Все они говорили о генезисе этих садов, их семантике, а также пространственных признаках, связанных с типом естественного ландшафта соответствующих стран (c. 62). Подобно итальянскому и французскому, английский сад мог появиться в любой стране. Английский парк – таково было имя собственное пейзажного парка в Петергофе (1770-е гг. Д. Кваренги и Д. Медер), в дальнейшем переименованного в Александровский парк – «чужое» имя сменилось на «свое». Englische Garten в Мюнхене сохранил это название до наших дней (Ф.Л. Скелл, 1804).)[441].
Возникновение естественных садов, определяясь общим интеллектуальным климатом эпохи, происходило не стихийно. В XVIII в. садовая теория получила как никогда широкое развитие[442]. Идея естественности была привнесена в нее поэтами и философами. Они писали о величии и прелестях дикой натуры, философичности уединенных прогулок, гении места (слова А. Поупа «Consult the Genius of the Place in all» воскрешали этот образ Петрарки, забытый в столетия регулярных садов) и хотели в садах «большого разнообразия», свободы для растений и для развития личности – идея свободы в не меньшей степени, чем идея естественности, определяла концепцию новых садов. Для ее достижения первоначально казалось достаточным отказаться от симметрии, употребления шнура при планировке посадок, ножниц для стрижки растений и сделать незаметными ограждения. Как должна выглядеть окружающая природа, а следовательно и сад, говорила поэзия:
Овец курчавых по траве росистой Алексис гнал вдоль Темзы серебристой. Шурша листвой, зеленая ольха Прохладой овевала пастуха.Так писал тот же Поуп в одной из своих четырех «Пасторалей», посвященных временам года (1704)[443]. Теоретикам оставалось осмыслить, как это превратить в садовые пейзажи. Путь оказался не столь быстрым, и цель была достигнута к середине века.
Стремясь к нерегулярности композиций, в садовых планах первоначально не столько нарушали принципы регулярности, сколько усложняли узоры цветочных посадок и прогулочных дорожек. Свитцер описал «natural and rural Way of Gardening». Этот естественный путь он предлагал только для садов, расположенных в сельской местности, полагая, что в городе они должны сохранить регулярность. Естественным садовником он называл мастера, который в своих композициях следует не правилам геометрии, а естественной природе[444]. Свитцер также ввел в садовые планы извилистые дорожки. Лангли рисовал лабиринты и цветочные узоры, очертания которых напоминают такие дорожки (с. 150).
Даже такой теоретик, как А.Ж. Дезалье д’Аржанвиль, главный пропагандист регулярных садов, внес свой вклад в развитие пейзажных принципов. Популяризируя создание «естественных перспектив», он описал прием, называвшийся ha-ha, а у англичан также sunken fence (утопленная ограда)[445]. Это устройство упоминалось еще Кресценцием (с. 84), в Англии со времен нормандского завоевания оно применялось в оборонительных сооружениях, также постоянно служа военному делу у французов. Однако именно в XVIII в. этот элемент композиции был концептуализирован как художественный и семантический, что означало не просто преобразование ограды, а метаморфозу ее символической функции и взаимоотношений садового пространства с окружающей природой.
Андре Леблон, делавший таблицы к сочинению д’Аржанвиля, во время работы в Петергофе предложил снять ограды в Верхнем саду, «дабы вид не был заслонен» (с. 110). Позднее Ф.Б. Растрелли все же установил там решетки, что в российских условиях было лишь следованием традиции регулярных садов, а не полемикой с формировавшимися принципами естественного сада.
Его признаком стала живописность. В 1727 г. К. Хансен издал сочинение «On the picturesque elements of landscape» (picturesque — живописный, от лат. pictūra – живопись, картинное изображение). В современной англоязычной литературе, как отмечалось, термином picturesque garden (живописный сад) определяется целая эпоха в его развитии (с. 414)[446]. Он отражает сложившееся в XVIII в. представление о живописности садов как важнейшем выразительном свойстве, а также характерную для первого этапа в истории английского сада особую роль живописных полотен в построении садовых видов (c. 205). Это понятие говорит также о «живописании» природными материалами садовых картин природы, что умели делать пришедшие в садовое искусство живописцы – У. Кент («отец» английского сада, по выражению Уолпола), Г. Робер, театральные художники Л. Кармонтель, П. Гонзага. Относительно Робера может даже возникнуть сомнение – воспроизводит ли он в картине вид разбитого им сада или в саду – вид, изображенный им в картине. С этим было связано и появление соответствующей лексики в садовом деле: «Художниками быть пристало садоводам!.. / Округлые холмы и резвые ручьи – / Вот кисти с красками и вот холсты твои!
Гюбер Робер. Павильон Аполлона и обелиск. 1801
Природы матерьял в твоем распоряженье», – писал Делиль (перевод И.Я. Шафаренко). Это были не метафоры, а практические рекомендации. «Живописная» лексика пришла и в Россию[447].
«Живописание» природными материалами, а также оперирование природным пространством, а не только пространством холста, позволило Уотли отдать садовому искусству первенство перед живописью (ср. с. 185):
«Садоводство, в том его совершенном состоянии, до которого оно недавно было доведено в Англии, заслуживает выдающегося места среди свободных искусств. Оно настолько же выше пейзажной живописи, насколько реальность выше ее изображения… будучи ныне освобожденным от ограничений регулярности и перерастая задачу создания обыденных удобств, оно сделало своим достоянием самые красивые, самые простые, самые благородные сцены природы».
Благодаря Бёрку расширилось понятие естественность, оно было связано с понятиями возвышенного (sublime), а также ужасного (scenes of terror, согласно Уильяму Чемберсу). Юведейл Прайс поставил в один ряд живописное, возвышенное и прекрасное, а по контрасту с ними необходимым в садах считал дикое и безобразное[448]. Теоретики учили восторгаться «ужасными дикостями» природы. Образец видели уже не в аркадийских полотна Клода Лоррена, как первоначально, а в бурных и мрачных пейзажах Сальватора Розы. Меценаты хотели от художников изображений разбушевавшейся грозы и «дикой» природы, в чем специализировался модный Жозеф Верне. Подобные виды имитировались в садах. Там действительно появились водопады, скалы, огнедышащие вулканы, которые извергались в честь гостей (Вёрлиц). Они воспринимались как наиболее полное выражение естественности, имея и символический смысл (вулкан – знак огня, одной из четырех стихий).
Парадоксы естественности
Естественный сад, отражая и формируя мироощущение человека просвещенной эпохи [III.2], откликался на ее рационализм и сенсуализм. В дидактической программе садов проявился антиномичный характер Просвещения – утопизм и прагматизм, обращенность его культуры вовне и эзотерические тенденции, стремление к социализации и индивидуализации личности, желание «натурализовать» сады и культивировать природу, сочетать приятное и полезное[449]. Сады разбивались «по законам природы», искусственно и искусно воспроизводя ее формы, в чем заключался один из парадоксов английского сада. Он образовывал пространство, которое уподоблялось природному, замещая его и опосредуя связь человека и природы. Принять ее не в сакрализованной форме и садовых имитациях, а в естестве, он оказался готов лишь к концу века (II.2). Пока же царила в большей или меньшей степени искусственная естественность, в чем можно видеть проявление двойственности мировосприятия той эпохи (c. 318, 323, 327, 358). Она была присуща и ее вкусу, что ощущали сами просветители[450].
Это было возможно, так как естественность означала лишь идеал, к которому стремились создатели садов. Естественное превращалось в искусственное, а искусственное выдавало себя за естественное. Их оппозиция снималась. Просвещение в этом случае, как и в других, обнаружило характерную для него тенденцию разрешать антиномии (с. 319). Еще в начале века у Шефтсбери проявилась «эстетическая примиренность», позволявшая без критической остроты осуществить ломку «философской архитектуры» барокко и перейти к принципам естественного разума[451].
Другой садовый парадокс состоял в том, что естественный сад оставался в рамках нормативной поэтики, хотя активно способствовал растворению ее норм. Желание следовать гению места также укладывалось в рамки классицистического требования «соответствия» (decorum). Естественный парк был скомпонованным ландшафтом. Местные особенности сказывались в той мере, в какой они сочетались с общим замыслом – создать пейзаж-картину. Лишь Руссо и Чембeрс акцентировали различия между естественным и сотворенным ландшафтом.
Даже Ланселот Браун, наиболее «естественный» из английских мастеров, не сохранял вид конкретной местности, в которой располагались сады. Более того, он оперировал прежде всего именно ландшафтными элементами. В его садах извилистыми стали не только ручьи и реки, берега водоемов; волнистым он делал сам парковый ландшафт. Его прозвали «Капабилити», так как договариваясь об очередном заказе, он говорил владельцу о больших «возможностях» и «способностях» принадлежащей тому земли (англ. – capability), что подчеркивает потенции самого ландшафта и делает понятным псевдоним-комплимент, полученный мастером и охотно им употребляемый. Он действительно умел извлечь из местности максимум выразительности, переделав или разбив заново, как принято считать, от ста до двухсот садов (называются самые разные числа). Повлияв на национальный ландшафт, он лишил Англию большинства исторических садов, в том числе знаменитых.
Приор Парк Ланселота Капабилити Брауна в Бат и Палладианский мост. 1765
Сходные изменения осуществлялись в разных странах при закладке новых садов или преобразовании старых. В саду графа Хотека в Богемии (современная Чехия) можно было наблюдать, как за три месяца исчезли «аллеи, партеры, террасы, марши лестниц, балюстрады из тесаного камня» и образовались огромные газоны, омывающие их воды, запруды, декоративные мосты, зеленые скамьи над рекой, с которых можно было созерцать прекрасные виды – живописный и неожиданный «спектакль природы»[452]. Но можно было найти и другие примеры. Де Линь, который направлял все эти преобразования, сохранял барочный сад в Белёй (c. 271), так происходило и в Царском Селе, что хорошо видно на плане Джона Буша. Историк Уильям Кокс хвалил Екатерину II за то, что она оставила петровские сады Петергофа в старом виде[453]. Хотя в подобных случаях прочитывается волновавшая Екатерину идея преемственности власти (с. 186), при этом сохранялась связь времен, что было проявлением историзма, рождавшегося в эпоху Просвещения. Это можно обнаружить в целом в садах той эпохи, где время выступало не только как природное и мифологическое (сад – Аркадия), но и как историческое[454].
Отношения между регулярными и нерегулярными садами в практике принимали различные формы. Элементы того и другого типа длительно сосуществовали на пограничье барокко и Просвещения как части общего садового пространства, особенно во Франции, которая неохотно отказывалась от собственной традиции (что видно, в частности, из приводимых строк «Энциклопедии»; с. 174), а также в садах других стран, следовавших французскому вкусу. (О его популярности свидетельствовало, среди прочего, многократное переиздание трактата Дезалье д’Аржанвиля.) Садами смешанного типа были Собственная дача Екатерины II в Ораниенбауме и варшавские Лазенки Станислава Августа, где широкая прямая Королевская променада до сих пор существует в пейзажном окружении.
Сочетание регулярных партеров около жилого дома с пейзажным парком стало характерно для русской усадьбы. Прямые аллеи вошли в национальную традицию. Болотов в 1786 г. констатировал, что «регулярство еще повсюду в употреблении», хотя далеко отстает «от истинного регулярства», что же касается английских садов, то это пока «самое малое начало»[455]. В русской садовой книге конца века говорилось, что шпалеры являются необходимой принадлежностью садов[456]. В России регулярные сады имели не слишком долгую историю, а потому не могли наскучить. Их изображения переходили в искусство народного примитива (Коврик «Усадьба». Конец XVIII в. ГИМ; ил. с. 196). Аналогично происходило с элементами пейзажного сада – «достраивали» то, чем не в полной мере имели возможность воспользоваться в XVIII в. Поэтому и в XIX в. в садах продолжали сооружаться руины, как в Зубриловке.
Особые формы перехода от регулярных садов к естественным сложились, когда Екатерина II запретила стричь деревья в Царском Селе (1768). Многие владельцы усадеб по разным причинам также прекращали это делать. В результате в запущенных садах растительность утрачивала четкие очертания, что придавало этим садам неупорядоченную романтичность, и в таком виде благодаря природе они вписывались в эпоху романтизма, хотя были наследием предшествующего времени.
Садовые полемики, поиски истоков
Естественность в садовом искусстве распространялась в ходе острых выступлений ее приверженцев против принципов регулярного сада à la française, в чем нашли выражение также англо-французские противоречия более широкого плана. С середины века полемика происходила в среде самих теоретиков нового вкуса. В то время столкнулись взгляды Л. Брауна и У. Чемберса – проповедника принципов китайского сада, критиковавшего коллегу за то, что его творения походят на обычные поля – столь они подражают природе. Станислав Понятовский, будущий король, посетив в 1754 г. Англию, писал в мемуарах, что сторонники нового стиля «образовали своего рода секту», поэтому, когда он «несколько раз осмелился упомянуть, что все же жаль совсем отказаться от прямых линий в аллеях и водоемах, то сразу заметил, что это грозит… потерей благосклонности»[457].
У французов также выступали различные точки зрения, о чем свидетельствует статья о садах, опубликованная в «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера. Посвятив восторженные слова Андре Ленотру, автор раскритиковал современные ему французские сады нового вкуса, который считал «смешным и жалким», и писал с иронией:
«Длинные прямые аллеи нам кажутся безвкусными, палисады холодными и унифицированными, мы предпочитаем искривленные аллеи, изрезанные партеры, а боскеты стриженные en pompons; большие пространства заняты маленькими фрагментами, украшенными без изящества, без благородства [его автор находил в Версале], а также простоты. Корзины с цветами, увядающие за несколько дней, заняли место стойких партеров, повсюду видны терракотовые вазы (de terre cuite), неуклюжие китайские фигурки (des magots chinois), балванчики (des bambochades) и другие подобные посредственно выполненные скульптурные изделия, которые нам довольно ясно доказывают, что легкомысленность достигла своего апогея во всей продукции подобного жанра». Однако автору нравились сады англичан: они «сделаны в хорошем вкусе… глаз очаровывает зелень газонов и булингринов, а многообразие цветов приятно тешит обоняние и зрение».
Измельченная стрижка растений en pompon, которая предлагалась садоводам в качестве образца в начале XVIII в., а в его середине вызвала насмешку д’Аржанвиля[458], в 1748 г. пародировалась в маскарадных костюмах на «Тисовом балу» в Версале, как это изображено в картине Шарля Николя Кошена[459].
Английский сад, в полемиках появившийся на свет, нуждался в представлении его генеалогии. В результате всю историю садового искусства переосознали как историю признака естественности. Его истоки нашли в садовых описаниях Гомера, Вергилия, Горация, Плиния Младшего, Саннадзаро, Боккаччо…
В качестве садового приема естественность, нерегулярность были известны еще античности. В дальнейшем он по мере необходимости актуализировался на периферии садовых композиций. В эпоху Ренессанса пейзажные фрагменты представали в виде зверинцев, пасек, рощ для прогулок, лесов для охоты, примыкавших к садам. В них можно было найти и другие элементы, которые в дальнейшем станут признаками естественного сада. Это, в частности, руины, не только естественные, что было неудивительно на земле Древнего Рима, но и искусственные, как Нимфей Браманте, для которого архитектор использовал античный фундамент. Он также придал нерегулярные очертания искусственному озеру, включенному в садово-архитектурный ансамбль (c. 139).
В английской традиции предшественником идеи естественного сада был Френсис Бэкон. В описанном им идеальном саду был большой газон, так называемый green. «Нет ничего приятнее для глаза, чем зеленая трава, к тому же коротко подстриженная», – говорилось в его эссе «О садах»[460] (c. 144). За квадратом центрального сада он предлагал посадить кустарник и разнообразные цветы, чтобы все выглядело как «естественное дикое место» (natural wilderness).
Склонность англичан к пейзажности в садах проявилась и в других сочинениях XVII в., в которых можно прочесть о «нерегулярностях, как естественных, так и искусственных», о «нерегулярных участках ландшафта, которые могут быть оформлены столь же красиво, как регулярные»[461].
Шарль Николя Кошен. Бал в Версале 25 февраля 1748 года. Фрагмент
Создатели английского сада, возводя его образ к Эдему, адекватное ему описание находили в поэме «Потерянный рай» высоко ценимого ими Джона Мильтона (1667). Уолпол именовал его пророком, а Изабела Чарторыская поставила ему в Пулавах памятник. Следуя Библии, поэт описывал, как первые обитатели Рая некогда гуляли на берегах прозрачных ручьев, «в тени ветвей нависших», «в душистых рощах», наслаждались прохладой «тенистых гротов». Эти «прекрасные счастливые места», разбросанные «по долинам и холмам», представляли «различных видов сочетанье». Тем самым были названы существенные признаки естественных садов – свободно текущие воды, нестриженая растительность, разнообразие плавно перетекающего рельефа и живописность видов. (При этом Эдем Мильтона имел свойства и «сада заключенного»; с. 82). Тогда же француз, отец Рапен, писал, что предпочитает те сады, которые «более других похожи на благодатные поля, где улыбается сама природа»[462].
Полистилизм эпохи. Классицизм. Рококо
Эпоха Просвещения принесла стилевое многообразие. К нему привело быстрое возникновение все новых стилевых тенденций, длительное сохранение старых, а также продолжительность Просвещения как культурной эпохи, определяемой в расширенном варианте как конец XVII – начало XIX в. Барокко, рококо, классицизм (неоклассицизм), предромантизм сосуществовали в разных концах Европы, в одних и тех же национальных культурах и даже в творчестве тех же мастеров, свидетельствуя как о типологических неравномерностях культурного процесса, так и о полистилизме Просвещения. В садовой архитектуре разные стили не просто сменяли один другой, а сочетались, наслаивались и даже рождались. Следуя экстравертному духу Просвещения (IV.1), сады были открыты для неклассических тенденций. Здесь впервые нашли место различные типы «возрождений» – готическое, неолитическое, египетское, дорическое, возникли псевдостили и парастили, связанные преимущественно с садовыми постройками, такие, как рустикальный (всевозможные деревушки, fermes ornées), многочисленные разновидности экзотического, который был формой освоения в особенности восточной культуры.
В сферу эстетического оказались включены художественные явления далекие как во времени, так и в пространстве. Возникала некая взаимообратимость времени и пространства, в принципе не чуждая культуре (с. 24). Частым приемом это стало в ХХ в. у Борхеса, Вагинова. Гессе в «Паломничестве в Страну Востока» писал: «Мы направлялись на Восток, но мы направлялись также к Средневековью». Совершить такую метаморфозу во времени – пространстве позволял не только вербальный текст, но и естественный сад с его особым хронотопом. По садовым дорожкам посетитель мог прогуливаться от классицистического храма (он же «античный») к китайскому павильону, который одновременно был знаком и рококо, и древней китайской культуры, от действительно готической или псевдоготической руины к гроту, только что сложенному из валунов доисторического времени, как в Аркадии Радзивиллов (ил. с. 201), Зофьювке Потоцких.
В качестве совокупного произведения искусств естественный сад вбирал все стили. Как объединяющее начало была важна театрализация садового пространства (с. 340–346). Общий тон задавал классицизм, который обладал насыщенной идейной программой, спокойствием причастного к вечному и «чувственной улыбкой»[463]. С классицизмом был связан образ belle nature. Классицистическая, часто неопалладианская архитектура жилых зданий и большинства наиболее значимых павильонов образовывала с живописным пространством гармоничный контраст (эстетические концепты той эпохи, как отмечалось, не порождали напряженного конфликта форм). Это было возможно, так как задачей не только сада, но и классицистического здания было подражать природе. Архитекторы, будучи классицистами в постройках, разбивали сады, следуя естественному вкусу. Так работал Ч. Камерон в России, в Польше – Я. Камзетцер и Ш.Б. Цуг. Классицизм и садовая естественность в таких случаях соединялись «в одних руках».
Классицизм помогал реализации в садах дидактической программы, которой была наполнена вся культура Просвещения (с. 292). «Моральной архитектурой» (выражение Шефтсбери) служили неопалладианские постройки, постоянно появлявшиеся в окружении зелени, подражания древнеримскому храму Сивиллы в Тиволи (ил. с. 298), Темпьетто Браманте. Они демонстрировали моральное через эстетическое, внутреннюю гармонию через внешнюю, благодаря чему эта архитектура могла трактоваться вольными каменщиками как ars regia, королевское искусство (их взгляды постоянно проявлялись в культуре XVIII в., в том числе в садовом искусстве; IV.5).
Сложнее складывались отношения с наследием барокко, хотя из него многое заимствовалось. Массивный барочный дворец Джона Ванбру в Бленем, лишенный Капабилити Брауном окружавших его регулярных садов, в пейзажном, еще не разросшемся окружении казался посетителям, в частности де Линю, слишком тяжеловесным (таким он является и сам по себе, но вид издали хорошо вписывается в общую панораму).
Метаморфозы садов начались еще в пределах регулярного стиля. Местом разработки принципов питореск, разнообразия (variété), лежавших в основе поэтики рококо (с. 326–332), стали сады бывшего польского короля, отца французской королевы Станислава Лещиньского в Лоррен (Лотарингии), где он правил с 1737 г. Это были истинно jardins de plaisance, сады удовольствий и наслаждения. Здесь царила атмосфера игры, изысканных забав и вместе с тем формировался вкус к живописности, получив в садах, разбитых для Лещиньского архитектором Эммануэлем Эре, отточенные формы.
Коммерси. Королевский павильон. 1753
Де Линь увидел в них предвосхищение английской моды. Коммерси, Айнвилль, Люневилль и Мальгранж образовывали целую садовую страну, состоявшую из отдельных садово-парковых ансамблей. Уже здесь начала реализовываться идея превратить окружающее пространство в сад. По словам де Линя, в садах Лещиньского были «прелестные картины», «занимательные детали», которые не позволяли скучать, а также прекрасно рассчитанные природные эффекты, в особенности водные, что проявилось в Коммерси с его сложной системой водоемов, каскадов, каналов, фонтанов (один из них был расположен в лесу). В садах царило «бесконечное очарование», их населяли «грации, или, скорее, феи». Уотли писал о Доме Кента в Стоу, что он «кажется просто созданным для сада; так он изящен, многообразен и так откровенно декоративен». Эти слова английского теоретика применимы и к ансамблям Лещиньского.
То обстоятельство, что Людовик XV после смерти своего тестя (1766) обрек его сады на исчезновение, ограничило их влияние и привело к одной из наиболее крупных садовых утрат XVIII в.[464] До сих пор их особняком возникший феномен остается известен преимущественно благодаря так называемому Театру автоматов (Le Rocher) в Люневилле, уникальному в своем роде – там в виде объемного макета были представлены сельские сцены, оживлявшиеся посредством автоматов, а в бассейне перед ним плавал целый флот. Подробное описание всего устройства дал Эре[465]. Выполненные им гравюрные изображения дворцов и садов – свидетельство высокого уровня предпринимавшихся Лещиньским художественных работ, о чем свидетельствует также сохранившееся оформление Королевской площади в Нанси с ее великолепными золочеными решетками изысканного рокайльного орнамента и не менее примечательным пространством, открытым посредством них в мир, окружающий короля и его дворец.
В кругу этого высоко образованного человека, короля-философа, как его называли, формировались садовые вкусы Ришара Мика, автора деревушки Марии-Антуанетты, маркиза Р.Л. Жирардена, создателя руссоистского Эрменонвиля, теоретика архитектуры М.А. Ложье. Вместе с тем владения Лещиньского служили оазисом «польскости», где бывали многие его соотечественники, в их числе композитор М.К. Огиньский и поэт Станислав Трембецкий, автор поэмы «Зофьювка» (так первоначально назывался знаменитый парк на украинских землях).
Монтескьё в садах Лещиньского, оригинальностью которых восхищался, писал «О духе законов» (1747). Вольтер, несколько раз гостивший у короля (1748–1749), провел там в сумме почти два года, восторженно описывал адресатам времяпрепровождение. Однако не без злословия он отметил, что в садовых павильонах есть что-то «полутурецкое и полукитайское». Речь шла о павильоне Киоск в Люневилле, которые был в числе ранних проб подобного жанра (1737–1747. Чайный домик в Сан-Суси, получивший сходные очертания, появился в 1754–1757 гг.). В Мальгранж, очевидно, был целый турецкий ансамбль, расположенный в лесу, где один из посетителей почувствовал себя, как в Турции, и вздохнул с облегчением, увидев перед собой статую св. Франциска, а не Магомета.
Недостоверность также позднее оставалась свойством большинства павильонов-экзотов. В chinoiseri воплощались не китайские традиции, а представления о них европейцев[466]. Игра могла превращаться в курьезы. Л.А. Нарышкин в имении Левендаль под Петербургом (иначе Гага. Рубеж 1760–1770-х гг.) устроил, по словам П.Н. Столпянского, «пустыню… в китайском вкусе из мрамора», а садовников наряжал в китайскую одежду[467]. Это не сближало их со страной Конфуция, на учение которого в Европе была мода.
Андре Жоли. Театр автоматов. 1775. Люневиль. Деталь
Пейзажность в садах рококо была первоначально связана с англо-китайским вкусом, как называли ранние формы питореск. Именно о них критически говорилось в статье Энциклопедии, а Уолпол позднее не без иронии именовал их Gallo-Chinois (он был поклонником натуральности, садов Кента и Брауна, а кроме того, всего английского). Однако французам действительно удалось создать особое театрализовано-игровое пространство таких садов с изобилием видов, сюжетов и садовых павильонов. Увлечение декоративностью было особенно характерно для немецких княжеских садов, к тому же не располагавших обычно большим пространством[468].
Распространение chinoiseri способствовало разнообразию и нерегулярности садовой композиции. Такой киоск есть и в проекте «Великолепного английского сада» (ил. с. 166), который пропагандировал Ж.Л. Ле Руж в тетрадях гравюр, выходивших еще в 1780-е гг.[469]. Теперь рококо отошло от регулярности и соединилось с пейзажным началом. В таком виде сады рококо сохраняли значение на протяжении XVIII в., пока жил l’ancien régime.
В Англии о зарождении рококо свидетельствовал Цветочный сад в Чизвике лорда Берлингтона, запечатленный в рисунке работавшего там Кен та (конец 1730-х гг.) и его же иллюстрации к «Временам года» Джеймса Томсона (1730). Рококо принадлежали садовые гроты того времени, один из первых в Твикингеме Александра Поупа. Утратив ренессансную архетипическую символику, они приобрели богатую декорацию и меланхолическо-философское настроение. С приходом Л. Брауна в английских садах утвердилось пейзажное направление, однако сосуществовавшее с линией Чемберса (с. 174)[470].
В России уже в 1710-е гг. сложились предпосылки для раннего развития рокайльных черт в искусстве. Владение ими демонстрировал Франсуа Пино, декорируя резными дубовыми панелями интерьеры Петергофа. В рокайльно-классицистическом ключе можно прочесть слова И. Грабаря о проектах Леблона: «Все эти чертежи исполнены с изумительным мастерством и отличаются той скромною и в то же время изящною архитектурою, которая, вне всякого сомнения, породила бы целый стиль, совершенно иной, чем Мансаровский или Блонделевский, если бы ранняя смерть не прервала жизнь этого гениального фантазера, сумевшего так увлечь самого Петра»[471]. Об особенном почерке Леблона свидетельствуют и его садовые проекты.
Однако Леблон внезапно умер, а Пино уехал. Рокайльная линия нашла более последовательное продолжение в России лишь в середине века в работах Антонио Ринальди (рококо Ф.Б. Растрелли всегда оставалось слишком барочно). Появление chinoiseri в русской архитектуре, игрового пространства англо-китайских садов связано с уже фигурировавшей в другой связи миниатюрной крепостью Петерштадт (c. 141–142 и ил.), где Ринальди возвел небольшой рокайльный дворец, ворота с изящной башенкой, увеселительный англо-китайский сад с причудливой формы прудами, а также многочисленными павильонами (на плане Сент-Илера 1775 г. обозначены Эрмитаж, Соловьиная беседка, Менажерия с фонтаном, Китайский домик, Каскад, Птичий двор). Вопреки военизированному стилю жизни, введенному будущим императором для овладения новейшими принципами военного дела, там присутствовал также дух искусства – Великий князь любил устраивать концерты и сам играл в них на скрипке. Место нашли также другие развлечения[472]. Петерштадт предвосхитил важнейшие для русского рококо постройки того же архитектора также в Ораниенбауме – Китайский дворец и Катальную горку.
Романтичный и романтический
Сами создатели английского парка начали применять к нему определение романтический (romantic), которое к тому времени уже имело свою историю.
Оно возникло в Англии в середине XVII в. как производное от слова роман и означало причудливое, преувеличенное (с пейоративным оттенком). В этом же значении с конца XVII в. во Франции выступало понятие romanesque (в таком смысле Карамзин употребил слово романический относительно «неестественного», «увеличенного» в описании сада Юлии). Со временем оно приобрело смысл живописный, что во французском языке первоначально обозначалось словом pittoresque. Вплоть до середины XVIII в. этим словом переводилось английское romantic. Руссо, отождествив их, начал писать romantique («Юлия, или Новая Элоиза». 1761). Чемберс противопоставил romantic (как удивительное) ужасному, считая, что то и другое должно найти место в парке, чтобы будить разнообразные чувства.
На этом метаморфозы данного понятия не закончились. С развитием сентиментализма понятие романтический начало означать поэтичное, романтичное. Клод Анри Ватле разделил их, поэтичным называя парк, в котором имелись различного рода храмы, надгробные памятники, а романтичным тот, который украшали руины[473]. Болотов, поместив в «Экономическом магазине» раздел «Общие замечания о садах романтических», назвал их также бесправильными, т. е. отождествил с определенной композицией.
Если в Англии «натурализция» садов дала результаты уже к середине века (Твикингем Поупа, Лизоус Шенстона, Стоу Кента и Брауна), то на континенте это происходило в 1760–1780-е гг., а масштабные пейзажные парки появлялись на рубеже XVIII–XIX вв., как Павловск (создавался с 1780-х гг.; Камерон, Бренна, Гонзага), мюнхенский Английский парк[474]. В результате они оказались современниками не Голдсмита и Руссо, а Новалиса и Шатобриана. Подобные парки разбивались на протяжении всей первой половины XIX в. (русские усадебные парки, Александрия около Петергофа П.И. Эрлера, парки Г. Туэна и Ж.А. Альфана во Франции, П.Й. Ленне в Германии, ирландца Д. Мак-Клера на украинских землях).
Между Просвещением и романтизмом как бы не оказалось заметной границы ни в теории, ни в практике. Однако принципиальное изменение состояло в том, что иной стала общекультурная ситуация, а садовые сочинения, по словам Н. Певзнера, перестали быть «концепцией мыслителей», как это было в эпоху Просвещения, превратившись в практическое руководство по садоводству. Естественный сад в качестве особого художественно-культурного феномена, рожденного эпохой Просвещения, вместе с ней заканчивал свое творческое существование, постепенно утратив просвещенческую концепцию, иконографическую программу, от которых теперь отказывались в погоне за естественной живописностью.
В результате естественный сад становился иным садом. Изменились обитатель и посетитель садов, их функции. Естественность в качестве парадигмы, а также важнейшего признака, долгое время служившего главным опознавательным знаком садов натурального, некогда нового вкуса (Уолпол, который, как говорилось, ввел это обозначение, писал свое сочинение в 1760-е гг.), в XIX в. сохранила свое значение как композиционная форма, визуальное свойство паркового ландшафта. Что касается других составляющих естественного сада, то как соавтор различных стилей и историзирующих метастилей он нашел продолжение в историзме и эклектике XIX в., выступив их предтечей, в своем же цельном виде будучи связан лишь с эпохой Просвещения.
Естественность глазами романтика
Романтикам оказалось чуждо то, что теоретиками XVIII в. называлось «искусственной дикостью» и наряду с идиллическими аркадийскими сценами часто определялось как романтичное[475]. Уже Шиллер называл естественный парк «фальшивой природой», Гофман критиковал его создателей за «непонятную тягу к натуре»[476]. Сакрализуя творческую силу искусства, романтики видели мир божественным произведением. Они вновь оценили барочные сады с их искусственностью, не маскирующейся под естественную природу. В результате на смену смысловой оппозиции регулярный сад – естественный сад пришла оппозиция сад – естественная природа, а принципы естественный и регулярный к началу XIX в. перестали противопоставляться, потеряв оценочный характер. То, какой из них выбрать, как их сочетать, стало выражением индивидуального вкуса и возможностей. Метафизика сада, его философско-эстетический подтекст не волновали практиков и заказчиков. Появилась свобода выбора. В отличие от Уильяма Шенстона, который писал о landscape garden как пейзажном саде, а мастера, разбивающего его, назвал landscapе-gardener («Unconnected Thoughts on Gardening». 1764), согласно Джону Клодиусу Лаудону, ведущему садовому теоретику первых десятилетий XIX в., Landscape-gardening – это не пейзажный английский сад. Лаудон трактует эти слова как ландшафтный дизайн, включающий любые типы планировки, в том числе его собственный эклектичный стиль, который он называл Natural Style[477], но известность получил прежде всего его стиль gardenesque (с. 187).
В результате оба признака – естественный и пейзажный — уже не отсылали к английскому парку как историко-культурному феномену, а означали набор композиционных приемов, позволяющих создавать красиво оформленные ландшафты, способные вызывать различного рода эмоции. Естественный сад начала вытеснять естественная природа. Обнаружилась разрушительность для искусства сада самого принципа естественности, что наряду с ботанизацией садовых увлечений выводило сад из круга высоких искусств, из знаковой сферы. Так проявился еще один садовый парадокс.
Теперь посетители естественных садов часто уже не умели или не хотели читать его дидактический текст, даже если еще сохранились павильоны и скульптуры, в которых раскрывалась его программа, заложенная эпохой Просвещения. Новым поколением все это воспринималось сквозь романтический флер старины или иронически. Так Гоголь описывал сад Манилова и его беседку «с плоским зеленым куполом, деревянными колоннами и надписью „храм уединенного размышления“», заметив при этом, что такие беседки «не диковинка в аглицких садах русских помещиков». Подобным образом поэт Ю. Словацкий рассказывал о пасторальных сценах садовой «Аркадии», театрализовавшихся к приходу гостей (с. 253), а также причудах, созданных фантазией чудака-«язычника» (судя по всему масона) в его саду, перегруженном гротами, лабиринтами, скульптурами и другими «программными» деталями (поэма «Бенёвский»).
В первой половине XIX в. развивалась механизация садового дела, способствовавшая совершенствованию форм ухода за растениями[478]. Вместе с тем продолжалось слияние парка с природным пространством. «Истинное искусство» виделось в том, чтобы «со вкусом использовать естественные красоты» для создания ансамбля, очаровывающего своей живописностью, образец которой предоставляет «неиcчерпаемая природа» (Н. Верно). Возрастала склонность к масштабным эффектам, архитекторов интересовали «широкие пространства водоемов среди лесов» (А. Лаборд), «пейзажи de grand style» (Лало). Они, как и их предшественники, стремились к созданию парков, которые охватывали бы все окрестности[479]. Э. Делякруа, посетив Лондон, отмечал: «…зеленеющие поля очень красивы, а берега Темзы – это сплошной английский сад». Тем не менее все это казалось ему «игрушечным и недостаточно естественным»[480]. Причина была, вероятно, в том, что садовое искусство по-прежнему воспроизводило «свободную природу, однако в ее благороднейшей форме» (Г. Пюклер-Мускау)[481].
Романтики воспринимали в качестве наивной утопии «идеальный мир» естественного парка, в который «способны верить только дети»[482]. Наивной им казалась и условность его декораций. Ф. Глинка в «Письмах к другу из г. Павловска» (1815) признавался, что там он «рассорился со своими глазами» перед обманками Гонзаго и «поспешил уйти из сей области очарований и волшебств». Не ощущая себя органично в садовом парковом пространстве, романтики возносились «душой в небесные сферы… и воспринимали всю Вселенную как смысл духовной жизни»[483]. Если сады просветителей с их разработанной дидактичной морализаторской программой были популярной книгой для чтения, доступной просвещенным любителям, то для романтиков «в каждом кусочке мха, в каждом камне был заключен тайный шифр, который нельзя ни описать, ни полностью разгадать», но который, по словам Новалиса, они «неизменно полагали возможным воспринять»[484]. Поэтому, хотя естественный парк эмоционально готовил романтизм, «романтичность» этого парка еще не означала романтизма как такового.
Последующая литературная традиция, как и изображения естественных парков, акцентировали в них элегические, «романтические» настроения, связанные с прошлым, утраченным. Уже Юведейл Прайс говорил об одичавших садах[485]. «Огромный запущенный сад» унаследовал Онегин. Во многих описаниях немецких романтиков сады заброшены, статуи разбиты, пруды и бассейны высохли. В «живописном беспорядке» застал сады предшественников Т. Готье. Романтики видели их сквозь свое Я, они заставили и потомков смотреть на эти сады своими глазами.
Созданный ими образ оказался отличным от прочтения текста естественных парков их создателями и владельцами, когда, по словам Гиршфельда, удовольствием было видеть «согласие… между описанием и его объектом», а тогдашние поэты открывали в них то, «что мы бы не увидели сами». Если сочинения XVIII в., как фундаментальный пятитомный труд того же Гиршфельда, четко локализовали пейзажные сады в культуре Просвещения, то сочинения романтиков заставляли видеть в старых садах нечто другое. С романтизацией их образа (это могло касаться и английского, и регулярного сада), переоценке подверглась сама естественность. Пушкин видел в английских садах «так называемую природу» («Дубровский»).
Философ Ф.Г. Якоби говорил о их «принужденной непринужденности». Гофмана они в принципе удивляли «непонятной тягой к натуре» и перегруженностью «нелепым мелочным хламом». Сад, описанный им в «Житейских воззрениях Кота Мурра», подобен лесу, это всего лишь «частица необъятного сада, созданного природой»[486]. Дж. Констебл признавался, что «усадебные парки вызывают у него отвращение. В них нет красоты, потому что нет естественности», а встречающийся там «новый готический храм» казался ему столь же нелепым, «как новые развалины»[487]. Гоголь же хотел, чтобы естественный парк утратил «хлад размеренной чистоты и опрятности», а по его «по-аглицки» разбросанным клумбам «с кустами сиреней и желтых акаций» прошла бы «окончательным резцом своим природа» («Мертвые души»).
Садоводству было отказано в статусе свободного искусства, который утвердился за ним в предшествующее столетие. Если авторы XVIII в. писали, что оно, следуя живописи, превосходит ее (c. 171), то теперь А.В. Шлегель упрекал сады в несамостоятельности именно за использование приемов живописи.
Возрождение регулярного стиля
Еще с рубежа XVIII–XIX вв. вновь начали привлекать внимание регулярные сады. В 1809 г. Шарль Персье и Пьер Франсуа Фонтен выпустили «Собрание наиболее знаменитых вилл Рима и его окрестностей», где впервые опубликовали их обмеры и за рисовки, способствуя тем самым обращению садовых вкусов к старым традициям (это обычно не включают в число их основных заслуг на фоне роли, которую они сыграли в развитии ампира в архитектуре и прикладных искусствах). Живописность и разнообразие, за что раньше ценили английский парк, они нашли в ренессансных садах Италии, обвинив английские парки в монотонности и наивной простоте и призвав для «прогресса искусств» следовать итальянским садам. Живописность итальянских парков, по их мнению, вовсе не результат беспорядка или печального образа руин и разрушения, который копируют в английских садах недостаточно просвещенные художники. Эти французские архитекторы с пренебрежением высказались о парках, где на небольшом пространстве собраны руины Пальмиры, скалы Швейцарии и каскады Тиволи. Они назвали плохим вкусом китайщину, экзотические растения, стремление ко всему новому и необычному[488].
Хотя регулярные композиции никогда не уходили из практики (естественный парк в эпоху Просвещения был в Европе не столько самым распространенным, сколько наиболее отвечающим ее духу явлением), тем не менее на фоне моды на английские парки они воспринимались как анахронизм. Теперь их восстановили в эстетических правах: «Я люблю прежде всего такой сад, – писал Л. Тик, – … который является зеленым вместительным продолжением дома, в котором я снова встречаю прямые стены, где меня не поражают неожиданные изгибы… где я нахожу открытые большие и широкие цветочные партеры и превосходные живые играющие фонтаны, от которых я испытываю неописуемое удовольствие»[489]. Регулярный стиль знал два разные по характеру «возрождения» – в начале XIX в. и в его конце, на рубеже с XХ в.[490]. В промежутке между этими двумя моментами технического совершенства достигло возродившееся топиарное искусство, чему пример работа Вильяма Барона в Илвестон Кастл.
В этом свете три итальянские террасы перед дворцом в еще голицынском подмосковном Архангельском (Д. Тромбара. 1790-е гг.) оказались не просто своевременными, но даже опережали события, хотя были скорее не поисками нового, а выражением любви к традиции (Тромбаро как итальянцу она была близка). Подобно и французские связи этой усадьбы времени Н.Б. Юсупова, когда она стала называться «подмосковным Версалем». Там мастера состязались «в искусстве вдохновенном», царила «нега праздная» и дух Аристиппа, проповедника разумного наслаждения[491].
Прямые связи с парком à la française и собственно версальской традицией, в частности мифологемой Аполлона, проявились в регулярных фрагментах Гатчины и Павловска, созданных под впечатлением Шантийи и Версаля[492]. Однако они отвечали новым романтическим представлениям, аналогично тому, как это происходило в архитектуре с Михайловским замком[493]. Павел I в своих начинаниях воплотил свойственное романтизму отношение и к Средневековью, и к барокко – двум эпохам, наиболее близким этому типу культуры.
Заимствования носили характер не только ретроспекции, совпав с духом наступавшего времени. Этот император был художественно одаренной натурой. Его меценатская деятельность далеко выходила за традиционные рамки великокняжеского и императорского быта в собственно эстетическую сферу. В садах Павловска и Гатчины обитал Аполлон, в многозначном образе которого персонифицировалась развитая Версалем идея Храма искусств[494]. Она восходила к античным истокам и ренессансной вилле. Именно в этой функции Аполлон перешел в Век Просвещения[495]. Вместе с тем регулярные фрагменты, если не уравняли, то сближали Гатчину «с императорскими парками, ведущими свою историю с петровского времени»[496]. К установлению таких садово-династических связей стремилась и Екатерина II, сохраняя петровский Петергоф (с. 173). Однако независимо от интенций названные примеры регулярности в русских садах лежали в русле возрождения к ней интереса, наблюдавшегося в Европе, что происходило в рамках становления ампира, историзма, и художественная политика Павла I в полной мере этому отвечала.
В эпоху романтизма вкусы разделились. Йозефа Эйхен дорфа радовал сад, в котором «нигде не было заметно строгого соблюдения французских или английских правил, но все выглядело чрезвычайно привлекательно, как будто природа в радостном вдохновении захотела украсить себя собой самою»[497]. Шлегель и Гегель предпочитали регулярные формы, а Шопенгауэр и Шлейермахер – пейзажные[498]. Габриэль Туэн по типу декорации выделил jardins romantiques наряду с champetres, sylvestres, pastoreaux (сельскими, лесистыми, пасторальными). От таких садов он отличал масштабные парки или карьеры (parc, carrières). Пропагандируя сады всех разновидностей, он предлагал для них постройки и монументы, напоминающие о сооружениях разных типов в садах XVIII в. В проект преобразования Версаля наряду с romantic areas Туэн включил все разновидности рекламируемых им садов, сохранив, однако, историческую центральную часть. В загородном саду он охотно видел бы Колосса Родосского[499].
Влиятельный Лау дон, учитывая вкусы и возможности заказчиков, предоставлял на выбор регулярный стиль (для небольших прямоугольной формы пространств), питтореск (для больших парков с неровной местностью), гарденеск (для садов не столько ландшафтных, сколько служащих экспонированию отдельных растений[500]) и рустикальный, «будь то в нерегулярных или в геометрических формах… для особ с романтическим или сентиментальным образом мыслей»[501]. В пользу регулярности приводились разные аргументы, в том числе внехудожественные. Прайс обращением к формам французского регулярного парка хотел продемонстрировать «некоторую склонность к старой монархии», которую приобрел после якобинского террора[502]. Гиршфельд же ранее доказывал, что «прямые аллеи не только подходящи [для городских Volksgarten], но и заслуживают предпочтения, поскольку они облегчают наблюдения для полиции, которая в подобных местах необходима»[503]. Все же первый такой, Английский парк в Мюнхене, самый большой из внутригородских парков, стал пейзажным.
Признаки естественности и регулярности, уравнявшись в эпоху романтизма в оценке, утратили значение как принцип мировосприятия: «Эту пресловутую Красоту, – писал Делякруа, выделив эти слова разрядкой, – некоторые видят в извилистых линиях, другие – в прямых, но все настойчиво ищут ее только в линиях. Я стою у окна, и передо мною открывается прекраснейший пейзаж, но мысль о линиях не приходит мне в голову»[504].
Новая романтическая эпоха в целом иначе, чем эпоха Просвещения, отнеслась к топосу сада. Если Болотов одобрял, что в садах, названных им романтическими, «искусство принимает малое участие», а герцог д’Аркур полагал, что «искусство состоит в том, чтобы прятать искусство», то Лаудон считал первой задачей, чтобы в саду «сразу можно было распознать искусство»[505].
«Художественное произведение непременно должно как бы декларировать, что оно не является природой и не претендует на это», – писал Август Шлегель[506]. Он полагал также, что «наблюдать, как произвол со всей очевидностью оставляет след на творениях натуры, может заключать в себе некую фантастическую прелесть»[507]. Эйхендорф уподоблял сад стихотворению, а Вальтера Скотта восхищало, что сад «был в высшей степени искусственным, это был… триумф искусства над первозданностью, ничто не является в такой мере плодом искусства, как сад», – заключал он[508].
Несомненными плодами искусства были «литературные» сады писателей-романтиков. «Разнообразие и богатство [этих садов] не поддавались описанию», «под раскидистыми кронами облачных деревьев… [в них стояли] бесчисленные воздушные замки»[509]. Там росли деревья, цветы и фрукты из драгоценных камней и металлов (Гофман, Новалис), но сады могли состоять из звезд и кометного мерцания (К. Брентано). Они были яркие, наполненные цветами и ароматами, пением птиц, или, наоборот, молчаливые. Это были сады, где растения умели вздыхать, кричать от ужаса, разговаривать между собой, а также подвергаться различным метаморфозам. Романтики любили описывать сады-игрушки. В театре местом действия мог стать «волшебный сад, как бы парящий в разноцветных волнах света», что публика встречала горячими аплодисментами[510].
От образа естественного сада романтики отходили также в другом отношении. Вслед за Шефтсбери, они полагали, что «сады и рощи – внутри нас». «Художник не должен писать, что он видит перед собой, а то, что он видит в себе», – считал К.Д. Фридрих[511]. Аналогично высказывался Тик: «Я хочу описывать не деревья и горы, а мою душу, мое настроение, которое правит мною в этот час»[512].
Согласно Новалису, романтизировать означает придавать явлениям новые смыслы[513]. Ими романтики хотели наполнить и сад. Однако, как было замечено Н.Я. Берковским, «главный интерес романтиков относился к невоплощенному»[514], а возможно, и к невоплотимому. Увлечение садами проявилось у них прежде всего в литературных описаниях. Что касается садовой практики, то романтики не претендовали на создание особой формы парка. Как признавал А. Мюссе, «мы не наложили отпечатка нашего времени ни на дома наши, ни на сады… Наш вкус – эклектизм, мы живем только обломками старого» («Исповедь сына века»). Однако именно эклектика как одно из выражений историзма (историзм – понятие другого масштаба, чем эклектика, синонимом которой он часто служит, хотя такая замена возможна далеко не во всех случаях) стала своеобразным вкладом той эпохи в садовое искусство, о чем говорит, в частности Алупка Воронцовых (К.А. Кебах. 1824–1840-е гг.) и Ливадия Льва Потоцкого (Э. Делингер. 1830-е гг.). В крымских парках выступила также характерная для романтиков панорамность видения мира.
Джон Клоудиус Лаудон. Сад в стиле Гарденеск. Гравюра из Gardener’s Magazine. 1838
Пейзажный парк XVIII в., хотя там могли быть «парнасы» и «бельведеры», развивался преимущественно вширь – культурное пространство Просвещения, обмирщенное, было ориентировано по горизонтали. Философ-просветитель чувствовал себя космополитом, человеком всей земли, – ее пространство осваивал парк, наполненный китайскими, турецкими, мавританскими, швейцарскими и прочими павильонами (И.Г. Громанн рекомендовал включать в их число и русские; ил. с 193). Картина мира романтиков имела вертикальную ось. Она устремлялась вверх, в Космос, к Богу, и вглубь, в историю. Если же по горизонтали – то вдаль. Как писал Новалис, «в отдалении… все становится романтическим»[515].
Романтики любили итальянские парки в особенности за виды с высокой точки. Ф.Р. Шатобриан полагал, что нет видов более волнующих и вызывающих более сложные размышления (с. 139). Панорамность столь нравилась в ту эпоху, что даже гоголевскому Манилову хотелось «иметь дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть… Москву».
«Малые» романтики, или бидермейер
Эпоха романтизма знала и другое восприятие пространства. А.Ф. Воейкову было «сладко гулять в дремучих лесах» Царицына, потому что там «природа дика без грубости, величава без ужаса… холмы круты, но не стремнисты; долины глубоки, но не бездонны; [эти] картины [парка]… роднее сердцу чувствительному, претерпевшему кораблекрушение на море жизни»[516]. Чувствительным сердцем обладал человек бидермейера. К нему был близок иронически сниженный персонаж Гоголя. Манилов полагал чрезвычайно приятным «под сенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться». Это перекликается с более поздними строками сатирического стихотворения И.В. Шеффеля: «Перед моим домом стоит липа / Я охотно сиживаю в ее тени… и восхваляю господа Бога»[517]. Стихотворение называлось «Вечерний уют Бидерманна», имя которого послужило лексической основой для одного из противоречивых и до сих пор не устоявшихся понятий.
Слово бидермейер, поя вившееся как мистифицированный писательский псевдоним (1855) и сразу ставшее знаком филистерства, на рубеже XIX–XX вв. пришло в науку и обрело широкую сферу применения от стиля мебели до стиля всех искусств[518], от стиля жизни – до стиля эпохи[519]. Тем не менее это понятие до сих пор не утратило негативного звучания. В отличие от готики и барокко оно родилось не просто как оценочное, но и как ироническое, что оказалось труднее преодолеть, а исходная этимологическая и историко-культурная привязанность к немецкоязычному ареалу мешает признать его общеевропейский характер. Рассмотрение бидермейера на русском материале углубило представление о сходстве такого типа явлений в европейской культуре того времени[520].
Они наполняли английскую культуру викторианской эпохи, существовали в Польше[521] и Чехии, могут быть обнаружены в итальянском и французском искусстве. Мастера этого направления передвигались по всей Европе, распространяя свойственные ему стилевые черты. Их творчество имело общие истоки – ампир и англоманию в различных ее выражениях, голландское искусство[522]. Бидермейер вызвал и общеевропейские последствия, выступив одним из предшественников реализма (в связи с этим его называют «ранний реализм»), а также академизма[523]. В эпоху модерна бидермейер пережил свое возрождение в качестве одного из неостилей[524], влияя и на образ жизни[525].
Джон Клоудиус Лаудон. Вид Остан кино. An Encyclopedia of Gardening
Романтиков и представителей бидермейера в некотором смысле можно сопоставить с великими и малыми голландцами. К этому предрасполагает то обстоятельство, что те и другие художники XIX в. опирались на соответствующие традиции предшественников. Романтикам был дорог Рембрандт, бидермейер любил голландские натюрморты и жанр. По аналогии представители бидермейера могли бы быть названы малыми романтиками, что определяет их место в культуре эпохи романтизма, а также позволяет не делить ее на две противопоставляемые части. Однако дело в интерпретациях, а не в названиях, которые в искусстве складываются обычно исторически.
Между «малым» и «высоким» романтизмом не было непроходимой границы – они представляли одну, глубоко неоднородную историко-культурную эпоху, развивались в едином культурном времени, сосуществовали в пределах национальных культур, в творчестве мастеров. По мировоззренческой и ментальной сути бидермейер, стиль «без имен и шедевров» (Д.В. Сарабьянов), не претендовал на великие свершения и их не осуществил, тем не менее значительно изменил облик культуры первой половины XIX в., заострил отличия понятий культура романтизма и культура эпохи романтизма. На одном ее полюсе оказались героический и несчастный романтик, на другом – более благополучный домашний человек бидермейера. Именно он, вслед за вольтеровским Кандидом, хотел возделывать свой сад. Ему предназначалась в жены «прелестная Кандида», а во владение – сад, в котором «за прекрасными деревьями произрастает все, что необходимо для домашнего обихода», в том числе «отменная капуста» (Гофман. «Крошка Цахес»). Утилитарность стала общим признаком садового искусства той эпохи[526], и Гёте в 1825 г. опасался, что «роскошные сады вскоре будут снова обращены в картофельные поля»[527]. От построек, возводимых в парках, требовалось, чтобы все они имели практическое назначение и не были бы просто maisons de plaisance.
Бидермейеровская линия ясно обозначилась в садовых композициях 1810–1840-х гг. «Маленький викторианский сад» называют это явление английские исследователи[528], хотя оно возникло еще до 1820 г., в позднюю георгианскую эпоху; немцы говорят о «kleine Hausgarten» или «bürgerliche Garten»[529]; понятие «Biedermeiergarten» употребляется в основном относительно австрийских садов[530].
Путь к таким садам проложили англичане, они у них уже давно существовали[531]. Не случайно автор сочинения «Рустикальные украшения для дома со вкусом» писал о соотечественниках как о «домашнем народе»[532]. Хэмфри Рептон, последователь Капабилити Брауна, провозглашая «уют, удобство, пристойность», пропагандировал маленькие цветочные сады при доме, считая также полезным делить большой парк на отдельные фрагменты, заключенные в него, как в раму (Asbridge Park)[533]. Огромное влияние на всю Европу оказал Лаудон, создатель и популяризатор садов при коттеджах. Однако бидермейеровский дух предчувствовал уже Гиршфельд, писавший: «Пусть царят в наших садах, дорогой Gartenfreund, усердие, вкус и заботливость; благопристойность, семейное наслаждение, дружба, доверие, общительность, любовь, согласие, радость, счастье и мир! Тогда они, конечно, станут земным раем»[534].
Хэмфри Рептон. Итальянская терраса в пейзажном саду. Из Fragments on the Theory and Practice of Landscape Gardening. I816
Подобно другим произведениям бидермейера его сады отличались скромностью, в дальнейшем их не сохраняли как особую ценность – облик таких садов зафиксирован преимущественно в описаниях и изображениях, в том числе альбомных. Казалось бы, прежде всего размер отличал эти малые сады от масштабных пейзажных композиций, относимых к романтизму. Действительно, Лаудон рисовал планы для садов в одну сотку, а истинно романтически настроенный князь Пюклер-Мускау разорился, пытаясь безгранично расширить свои пейзажные парки в Мускау и Бранице[535]. Это не мешало ему включить в них маленький розарий по проекту Рептона, расчерченный как лепестки цветка, а кадки с розами расставить как в Чизвике, который предвосхищал переход к пейзажному стилю. Теперь произошел обратный переход, но в садах научились соединять оба стиля, что было еще одной особой садовой метаморфозой. Поэтому и в собственно романтическом художественном пространстве Мускау природа могла предстать в больших и малых измерениях[536].
Разбить ли малый сад или большой парк в большинстве случаев зависело не столько от эстетических взглядов, сколько от финансовых возможностей. По состоятельности владельцев Лаудон делил сады на 4 класса (Suburban Gardener. 1838). Все их объединял так называемый смешанный стиль, в котором сочетались признаки, раньше вступавшие в противоречие, как регулярность и живописность, симметрия и разнообразие, усложненность планов и гармония[537], ибо «настоящий художник сада легко сумеет избрать средний путь и при этом придаст целому значительность и созвучие»[538].
Габриэль Туэн. Fabriques. Цветная литография Шарля Мотте из Plans raisonne´s de toutes les espe´ces de jardins. 1838
Бидермейер распространился в широкой среде, не только собственно буржуазной, но и дворянской, придворной, интеллигентской. Портреты, миниатюры, написанные художниками этого направления, висели в самых разных домах, а коттедж вместо дворца мог появиться и в царской резиденции (в Петергофе он называется Дворец Коттедж. 1826–1829. А. Менелас). Это свидетельствовало о внимании эпохи к индивидуму, усилившемся на фоне социальных и военных катаклизмов, что «высокий» и «малый» романтизм выразили по-разному.
Уже в предшествующие столетия в картине мира возникли «два новых комплекса в душевных настроениях». Один позволял ощущать причастность «космическому, бесконечному, вселенским ритмам», другой, продиктованный любовью «к дому, к быту, его мелочам», давал возможность пребывать в атмосфере, «которая создается вещами и которая превращает их из простой совокупности, беспорядочного набора в близкий душе и осмысленный порядок, жизненную опору – в вещный космос»[539]. В садовом искусстве, наряду со стремлением вписать сад в природу, постоянно проявлялось желание создать «личное» природное пространство, породившее античный атриум, итальянский giardino segreto (подобный ему появлялся и во французских и в английских парках), бюргерский голландский сад, «собственный» сад в английских парках (Царское Село, Павловск).
Если в «высоком» романтизме мир становится домом, а Космос – обителью его приверженца («…и вот стою я над небесной бездной», – писал Ю. Словацкий), то в «малом» романтизме – дом становится миром. Однако, согласно мифопоэтической традиции, интерьер Космоса воплощается в интерьере дома, поэтому «между домом и миром нет принципиального противопоставления»[540]. Благодаря этому дом может срастаться с природой: домик Гёте в веймарском парке оплетают розы. У Пушкина в Михайловском домовой выступает хранителем и дома, и природы – под его опеку поэт отдает «селенье, лес… малый сад и берег сонных вод» («Домовой»).
Эрмитаж в виде избы. Иоганн Готфрид Громанн «Ideenmagazine». 1797
Жилище и сад перетекали друг в друга, оформлялись при помощи тех же элементов, как обвитые плющом трельяжи. Если в доме появились комнатные и оконные сады[541], то вне его возникли «сады-ковры». Садовая растительность по функции сливалась с домашними вещами. У лермонтовской казначейши в Тамбове «…пред окнами цвели / Четыре стриженых березки / Взамен гардин и пышных стор / Невинной роскоши убор». Живые растения меблируют комнаты, они все более становятся «комнатными». В особый вид искусства превратилось составление букетов[542]. Для цветов создается специальная мебель, жардиньерки изготовляют лучшие мастера из дорогих материалов[543]. Горшки, в которых растут цветы, прячут в специальные кашпо (cache-pot). Украшенная цветами одежда хозяек дома сливается с цветочным убранством самого дома. Размеры растений уменьшаются. Особенно распространились кактусы, их ценили, вероятно, не только за экзотичность и символику, в частности эзотерическую, но и за вещественность, предметность. Эти увлечения увековечивались в картинах (К. Шпицвег. Kaktusfreund. 1845. Оббах. Частное собрание).
Карл Кольман. Гостиная-веранда. Акварель. 1838
Дом, сад и мир связывало окно. В ту эпоху оно играло особую роль в литературе, в иконографии живописи[544]. «Угловое окно», как назвал свою новеллу Гофман, дало возможность его герою изучать окружающий мир (другое дело, что мир оказался тесным). Окно могло послужить и посредником в человеческих отношениях – через заставленное цветами окно происходит встреча главных героев мицкевичевского «Пана Тадеуша». Окно в культуре эпохи романтизма образует то пограничное пространство, которое М.М. Бахтин определил в качестве особо значимого для культуры.
В XVIII в. садам и павильонам давали названия – Монплезир, Сан-Суси, Багатель. Теперь сад называют Chez moi, т. е. у себя дома, даже если он помещен отдельно от него, как в одном из немецких описаний. Согласно ему, в таком саду человек не гуляет, что раньше было непременным занятием обитателей естественного парка, а сидит среди виноградных лоз. Есть в этом саду и маленькая беседка в виде ротонды, и цветочная терраса, недостаточная для прогулок, но «приятная для глаз»[545]. В таком саду «уютный мир растений говорит языком человеческого сердца», – так начинал И.А. Риттер предисловие к немецкой энциклопедии садового искусства. Вся жизнь этих растений «созвучна мыслям и чувствам образованных людей»[546]. У философа XVIII в. Григория Сковороды эмблема сердца оказалась связана с образом кустарника. В домашнем саду кусты, изолируя человека, создавали милые сердцу замкнутые, уютные уголки. Они стали характерным элементом и больших парков. Разбивая их композицию на фрагменты, кустарниковые посадки изолировали посетителя от внешнего мира (особенно ценили рододендроны, совмещающие функции куста и цветочного букета).
Развитие бидермейера сопровождалось демократизацией круга заказчиков. Большинство из них представляло совершенно иной тип любителей, чем плантоманы-conaisseur’ы XVIII в., и сами трудились над разбивкой садов. В них высокие образцы упрощались, сентиментализм чувств переходил в сентиментальность, а некогда содержательная иконография естественных парков эпохи Просвещения порой сводилась к созданию беседок и храмов, как у Манилова. Возникал своего рода «садовый примитив». Вероятно, именно здесь брал начало тот «вульгаризованный романтизм», который войдет в примитив второй половины XIX – начала XX в.[547] Все спасали цветы – их разведение и коллекционирование стало главной целью садовых занятий.
Карл Шпицвег. Садовник. Середина XIX в.
Сады в деревне так или иначе оказывались вписаны в окружающую природу. Однако в эпоху романтизма сады – принадлежность также горожан и городской культуры, их место – город и пригород, в частности дачный. Батюшков так описывал один из фрагментов Москвы: «Вот маленький дом с палисадником, с чистым двором, обсаженным сиренями, акациями и цветами… Комнаты чисты, расписаны искусной кистью… здесь обитает приветливость, пристойность и людскость»[548]. Теоретики предоставляли также «Соображения о городских садах, или Сведения о возможностях использовать пространство за и между зданиями»[549] (говорящее об эпохе название).
В эпоху романтизма теряет остроту противопоставление город/деревня, один из лейтмотивов культуры XVIII в., «романтики открывают город»[550]. «Я люблю большие города и многолюдство», – эти слова принадлежали молодому Карамзину. С рубежа веков создаются масштабные пейзажные, в том числе общественные, парки, появляются их малые разновидности, предназначенные для отдыха и развлечений, в частности возникают Kindergarten[551] (русское название «детский сад» забыло о своем флористском происхождении). Городские сады выполняют практические общественные функции, они приносят, по мнению устроителей, физическую и душевную пользу – в естественных парках Просвещения социальное благо не только декларировалось, именно тогда начали создаваться места для публичных гульбищ.
Таким образом, история естественного английского парка оказалась нетождественной истории его идеи. Как принцип следования естественной природе она продолжала жить и в эпоху романтизма. Однако в качестве целокупного явления, имеющего морально-философскую, литературную и эстетическую программу, естественный парк сошел со сцены с эпохой Просвещения.
От этого парка взяли начало две тенденции. Одна вела к сужению его счастливого пространства, заключенного в ограду домашнего сада, другая – к созданию масштабных пейзажных парков, вписанных в равнинную даль или панораму моря, к безграничному расширению садов, а также их ботанизации, что превращало эти сады из артефакта в факт природы или научную лабораторию.
Коврик «Усадьба». Конец XVIII века.
Идея естественности, хотя и редуцированная до формального признака, жила дольше рожденного ею естественного пейзажного парка. К середине XIX в. она растворилась в натурализме, а частично была поглощена эклектикой. В результате садовое искусство, стоя в стороне от эстетических дискуссий и переживая момент кризиса, оказалось причастно этим двум важнейшим художественным направлениям своего времени. Сады также создавали ту среду обитания, то природно-культурное пространство, которое, вероятно, способствовало рождению подобных эстетических идей в умах их обитателей.
Пейзажный парк и одомашенный сад находились по разные стороны семантической оппозиции открытый/закрытый, характеризующей пространство. Это свидетельствовало о противоречивом отношения эпохи романтизма к топосу сада. Как символ замкнутости и огороженности, он, казалось бы по определению, не соответствовал менталитету романтиков. Однако именно в их эпоху он возвратился к дорогой романтикам барочной традиции – были восстановлены в правах принципы сада регулярного и огражденного, с которыми так боролась эпоха Просвещения.
В отличие от предшественников, которые посвятили своим садам особого жанра описательные поэмы и другие опусы, как Жак Делиль, Шарль де Линь (не говоря о многочисленных трактатах, в том числе философского уклона), романтики не воспевали современные им пейзажные парки. Изображения парков – как портретный фон или как самостоятельные виды, наполненные стаффажем, – оставили преимущественно их современники круга бидермейера, «малые романтики»; они же писали сцены при доме в саду. Мастера «высокого» романтизма делали пространством картин, эмоциональным и смысловым, бурное море, разрушенную Миссолунгу, баррикады Парижа. Образ «своих» садов романтики создали не столько в окружающем их пространстве, сколько в литературных концептах, которые весьма далеко отстояли от садов реальных. Эти ментальные сады также могли быть «заключенными» и сакрализованными. Таков пушкинский «вертоград уединенный» и его «запечатленные воды».
Романтик владел «мызой как поэтической собственностью» (Гофман. «Золотой горшок»). Его «родной мир» был «повсюду и нигде» (Новалис), он легко переходил грань действительного и воображаемого, поэтому, сидя в уютном саду, мог ощущать себя частью бескрайней Вселенной – для него, по словам Шеллинга, «каждый атом материи был столь же безграничным миром, как весь Универсум»[552].
Глава 5 Аркадия Пелопонесская и Аркадия Радзивилловская
Сад живой и запечатленный. – Жизнь, смерть и любовь. – «И я была в Аркадии». – P. S.
Зыгмунт Фогель. Святилище Дианы со стороны озера. Рисунок. 1795
Сад живой и запечатленный
Сад соединил два, казалось бы, несовместимых, фундаментально противостоящих явления – жизнь и смерть, которые в действительности могут выступать лишь как последовательность. «Пока на свете мы, она еще не с нами; Когда пришла она, то нас на свете нет!» (В. Жуковский). Когда человек жив – он не мертв и обратно (выражение «полуживой человек» является метафорой). В дальнейшем в саду сохранялось оба начала, и в его природной основе (плодородие – сезонная гибель растений; попытка преодолеть ее – насаждение вечнозеленой растительности), и в его символике, привнесенной культурой. Сад стал местом рождения былинных богатырей и смерти мифологических героев, там росли золотые яблоки вечной молодости и Древо жизни, здесь же человек находил упокоение после завершения жизненного пути (греческий Элизиум, подземные сады Аида). Считается, что сады Мецената были разбиты на месте рва у Эсквилинских ворот, где первоначально располагался доисторический некрополь, а позднее «было здесь всякого нищего люда кладбище», «Белые кости везде попадались печальному взору» (Гораций. Сатиры. I.VIII. Пер. М. Дмитриева). Вместе с тем сад служил местом мистерий и празднеств, которые также не были лишены танатологических коннотаций. Все это выводило его пространство и образ за пределы повседневности. Он мифологизировался и сакрализовался. Практическое и символическое выступали неразрывно (II.1).
Сад был местом не только земного, но и вечного блаженства – Елисейскими полями и Раем, куда человек стремился при жизни. Все это способствовало соединению в образе сада небесного и мирского начала. (Не случайно Афродита «священносадовая» отдала своего сына Эрота на воспитание Гермесу – посреднику между загробным и земным миром.) Сад был необходим как источник плодов и душевного отдохновения, как место обитания и медитации. Человек всегда хотел превратить город в сад. Он был желанным местом – в античности выступал как locus amoenus, в христианстве стал символом рая. Сад всегда служил объектом особой заботы, приобретя со временем изощренный эстетизированный облик – там культивировались редкие растения и особые архитектурные формы.
Повседневно-мирская и сакрально-погребальная функции садов пространственно не сливались – сад как место утех (jardin de plaisance) и кладбище-сад, некрополь, т. е. город мертвых, обычно были разделены[553]. Однако в мифопоэтической модели сада как Аркадии выступала тенденция к их синтезу, выявлялось экзистенциальное соседство жизни и смерти. Наиболее последовательно это было выражено в садах эпохи Просвещения. Воплощавшие идею естественности, идеал прекрасной природы, создававшие «естественную», счастливую среду для «естественного» человека, они неизбежно пришли к пасторальной идиллии, а тем самым оказались соединены с образом Аркадии. Но и там есть смерть. Поэтому в садах появились как гробницы и кенотафы, так и хатки Филемона и Бавкиды. Они были и в Аркадия Хелены Радзивилл.
Жизнь, смерть и любовь
Наука savoire vivre, совершенствовавшаяся в XVIII в., включала этикет не только жизни, но и смерти. То и другое эстетизировалось. О принце Шарле де Лине, умершем в дни Венского конгресса, Сент-Бёв сказал, что он устроил «великолепный похоронный спектакль между двумя балами». Сам же принц – плантоман и воин, эпикуреец и стоик – писал так: «Для кого смерть не годится? Она хороша для всех»[554] и хотел, чтобы ее изображали как хорошо сохранившуюся пожилую женщину, «высокую, красивую лицом, величественную, приятную и спокойную, с отверстыми для нас объятиями. Она есть эмблема вечного успокоения». Садоводов он призывал: «Научитесь усыпать цветами то малое пространство, которое, как я доказывал уже своим аллегорическим садом, отделяет колыбель от гроба»[555]. В его садах в Белёй дорожка, окаймленная цветами, соединяла Салон философии с Кабинетом с мерти, который был наполнен «летними и зимними розами, мыслями и иммортелями». Там располагался склеп из белого мрамора. Принц, как писал, предназначил его для себя, поэтому предварительно снял мерку. «Столь же ленивый после моей смерти, как был при жизни, я хочу остаться на том же месте, где закрою глаза»[556]. Склеп окружали лавры и мирты – листья одних были знаком вечной славы, вторые, также используясь для почетных венков, посвящались и покойникам, вместе с тем служа символом любви как знак Афродиты.
Естественные сады изобиловали мемориальными сооружениями, что свидетельствовало, в частности, о спокойном отношении к смерти. Это было связано с масонской принадлежностью большинства творцов концепции и владельцев английских садов, как правило масонов, в число которых входил де Линь. В соответствии с их учением о трансформации земного и загробного мира воспитывалось стоически равнодушное отношение к ней. Моральный кодекс масонов в целом оказал воздействие на формирование типа личности той эпохи.
Идея смерти находила выражение также в вечных мотивах. Среди них важнейшим для садов той эпохи явились те, которые, как уже сказано, были связаны с образом мифологизированной Аркадии, прекрасного идиллического ландшафта, каким обладала не реальная пелопонесская страна, а лишь ее поэтический образ. В нем идея смерти соединилась с образом счастливой жизни и необходимым ее составляющим – образом любви. Путь аркадийских мотивов начался в «Идиллиях» Феокрита, а непосредственно восходил к пятой Эклоге Вергилия, описывающей сочувственную реакцию природы на смерть любимца Аполлона Дафниса. После нее «дикий овес лишь один да куколь родится злосчастный», но природа радостно возрождается после достижения Дафнисом Олимпа, что наполняет леса «ликованьем веселым» (пер. С. Шервинского). Затем этот мотив проходит через «Аркадию» Якопо Саннадзаро (1502) и «Аркадию» Ф. Сидни (1590), «Астрею» Оноре д’Юрфе (1610–1625), к которым, как и к Вергилию, апеллировали создатели садов.
Однако наиболее значимым оказалось сочинение Франческо Колонны «Гипнеротомахия Полифила» (с. 93, ил. с. 138) или полностью – «Любовное борение во сне Полифила, в котором показывается, что все дела человеческие есть не что иное, как сон, а также упоминаются многие другие, весьма достойные знания предметы»[557]. Это сочинение содержит фантастически прекрасные описания архитектуры и садов, послужив в дальнейшем источником и их программы, и их форм. В нем размыта граница между жизнью и смертью – уже само состояние сна героя придает особый характер тому пространству, в котором он находится. К пересекаемым героем границам между разными типами пространства и времени относится и граница между жизнью и смертью, ее переходит также Полия – возлюбленная Полифила.
Мотив смерти в этом сочинении является одним из центральных – он связывается не только с происходящими событиями, под ним подразумевается также процесс инициации, который был частью древних мистерий. О нем напоминают и многие детали. В роскошных благоухающих садах, которые окружали аркады «редкостного и изумительного перистиля из статных колонн», среди множества птиц летал жалобный соловей Дедалион, оплакивающий смерть своей дочери Хионы. Там жила Итис, «скорбная и погребальная птица». «Были здесь укромные места для печальной Филомелы, вечно поющей свои нежные жалобы, которые звучали совершенно отчетливо, ясно и без всякого эха». Отсутствие его, т. е. удвоения, было признаком загробного мира.
Аркадия. Готическая капелла и Грот Сивиллы. Аквафорта Яна Захариуша Фрея по рисунку Зыгмунта Фогеля. 1806
У Священного источника, под сенью галереи находился «достойный почитания предмет… был он чудесен и полон тайны, похож на гробницу». Она скрывала прах Адониса, на ней была вырезана история его гибели и изображена Венера, скорбящая о нем. В гробнице помещалась «божественная кровь» богини, которая поранила голень о розовые шипы, пытаясь спасти Адониса. Теперь в присутствии героев совершался ежегодно дважды повторяемый обряд оплакивания и очищения, во время которого Венера «бросается… на гробницу и обнимает ее, увлажняя плачем свои розовые щеки»; затем «крышку чтимого склепа отмыкают и открывают». Во время торжественной церемонии все радостно пели «ликующую песнь». Так траур переходил в торжественное празднество. После этого Полия по просьбе нимф рассказывала драматичную историю своей любви.
Зыгмунт Фогель. Тополиный остров в Аркадии. Рисунок. 1795
В результате в этом ренессансном сочинении концепт смерти оказался неотделим от образа любви, красоты (восторженному описанию Венеры посвящен большой поэтичный фрагмент). Вместе с тем он слился с образом прекрасной природы.
Этот синтез в интерпретации аркадийского мифа был характерен для художников XVII в. Первым так его представил Гверчино (Et in Arcadia ego. Ок. 1621–1623. Рим. Палаццо Барберини). Однако популярность и влияние приобрели две картины Пуссена – Аркадские пастухи (1629–1630. Четсворт. Собрание герцога Девонширского) и прежде всего вторая из них, чаще называемая Et in Arcаdia ego (1638–1640. Лувр). Эта фраза, высеченная на гробнице, изображенной во всех названных полотнах, может быть прочитана в двух смыслах: идиллическом – «И я был в Аркадии», а также мортальном – «И я, смерть, есть в Аркадии»[558]. В ней присутствует и характерный для барокко мотив Memento mori. В картине Гверчино два пастуха с сочувственно напряженными лицами представлены в тревожно освещенном пейзаже у каменной гробницы, на которой лежит череп. И череп, и барочная экспрессия, и бурный пейзаж есть в первом полотне Пуссена, где пастухи неожиданно натыкаются на саркофаг, скрываемый густой растительностью. Это «барокко смерти»[559]. В более поздней картине классицистически сублимируемая тема смерти включена в идеализированный и упорядоченный величественный ландшафт.
Святилище Дианы сквозь Греческую арку. Гравюра Яна Захариуша Фрея по рисунку Зыгмунта Фогеля
Якопо Саннадзаро, «Аркадия» которого, согласно Панофскому, послужила Пуссену источником второй картины, так описывал надгробие в Аркадии: «Я прославлю твою могилу среди простых поселян. Пастухи будут приходить с холмов Тосканы и Лигурии, чтобы поклоняться этому уголку лишь потому, что ты жил здесь. И они прочтут на прекрасном прямоугольном надгробии надпись, от которой ежечасно холодеет мое сердце, которая переполняет мою грудь скорбью: „Та, которая всегда была высокомерна и жестока к Мелисео, ныне смиренно покоится здесь, под этим холодным камнем“»[560].
Пуссен придал сюжету более универсальный характер. Его картина – памятник самой мифологизированной Аркадии, Золотому веку, мечта о котором окрашивала эпоху барокко. Картина создана в 1630-е гг., когда в Европе шла Тридцатилетняя война, затронувшая и Италию, где уже многие годы жил Пуссен. В то время эта мечта об аркадийской идиллии возникала в самых необычных ситуациях. Пауль Флеминг, лирик немецкого барокко, оказавшийся на берегах Волги, нарушая все стереотипы описания России, слагал такие стихи: «До Волги я дошел / И отдых сладостный на берегу нашел», «Так, значит, здесь сошла ты в наше поколенье / Святая простота, святое украшенье, Ушедшее от нас?»[561]
В аркадийском контексте тема смерти оказалась соединена, как в «Гипнеротомахии Полифила», с темой любви и эротическими мотивами. В отличие от Гверчино, Пуссен изобразил не только мужские фигуры. В четсвортском варианте картины хитон, в который облачена молодая женщина, служит не столько сокрытию, сколько открытию ее тела. В луврской картине ее фигуре придан более строгий вид – хитон дополнен непрозрачным гиматием и не спадает столь свободно с плеч, обнажая тело. Это больше отвечало идее moralité, популярной в барокко. Скульптуры того и другого рода украшали сады того времени, не сразу исчезнув и в XVIII в.
В его первой половине литературные и садовые сочинения широко прославляли сельскую жизнь, агрикультуру, сельский труд, сады, в которых еще господствовали регулярные композиции, фруктовые и овощные посадки, но садовый ландшафт постепенно начинал приобретать живописное разнообразие и с вязь с окружающей природой[562]. Пасторальность, не осложненная мотивом смерти, проявилась в эпоху рококо в образах fêtes champètres, хотя и тогда сохранила экзистенциональную подоснову, как у Ватто. Любовная тема связывалась с островом Киферой (именно о ней речь в рассмотренном фрагменте «Гипнеротомахии»). Отплытие туда любовных пар изображал Ватто, под звуки контрданса «Le jardin de Cythere» танцевали на балах[563].
Прямое использование мотива смерти было лишь одной из форм ее появления в садах. В более широком плане он был связан с темами времени, вечности, памяти, которые находили воплощение в садовых постройках, растительных композициях, а также символике отдельных растений, как кипарис – дерево траура, символ печали и смерти, скульптурах – мемориальных и посвященных богам, которые общаются с подземным царством, подобно Гермесу и Адонису с его расцветающими и умирающими садами[564].
«И я была в Аркадии»
Сад как целое изначально стал объектом воспоминаний – уже изгнание из рая давало для этого повод. Другим служила Аркадия. Она входила в садовое искусство в результате подражания композициям Пуссена, Лоррена, Г. Дюге. Именно этих художников, прославившихся своими идеальными классицистическими ландшафтами, а также нидерландца Николаса Берхема, автора итальянизирующих пейзажей с пасторальными мотивами, и голландца Питера Поттера, создателя сельских пейзажей с животными, упоминала Хелена Радзивилл в описании созданного ею сада, которому дала название «Аркадия»[565]. Ее «Guide dArcadiе», изданный в 1800 г.[566], входит в круг описаний садов, сделанных в XVIII в. их владельцами, начало которым положил Людовик XIV (c. 151). В их числе такие получившие широкую известность авторы сочинений и садов, как А.-К. Ватле, герцог Д’Аркур, принц де Линь, маркиз Жирарден.
В отличие от их сочинений, текст Хелены Радзивилл более скромный, она не занимается теоретическими вопросами, а просто ведет посетителя по своему саду, стараясь передать ему те мысли и настроения, которые стремилась в нем воплотить. Этот путеводитель написан на одном дыхании, как единый текст без разделения на абзацы, и прерывается лишь цитируемыми надписями, которые были помещены в Аркадии. Все описываемое позволяет соотнести сделанное здесь с основными садовыми тенденциями той эпохи. Х. Радзивилл относилась к числу высоко образованных людей своего времени и как страстная любительница садов хорошо ориентировалась в этих тенденциях.
Если ее приятельница И. Чарторыская охотно принимала вид садовницы, похожей на пастушку, что отвечало ее внешности – в таком театральном костюме, предназначенном для выступлений на садовой сцене в пасторальных Повонзках, ее зарисовал Ж.-П. Норблен (акварель, гуашь. 1778. КГБВУ; ил. с. 237), то Х. Радзивилл предпочитала роль жрицы. В таком образе она фигурирует в портрете работы Э. Гебауэра (ок. 1817 г. Неборув). Обе княгини были плантоманками и сестрами по масонской ложе, что отразилось в программе их садов[567]. Галантный де Линь, соединяя реальность и метафорику, так представил владелицу Аркадии в одном из своих известных в тогдашней Европе литературных портретов (он называл Хелену Аркадской, а также Армидовской от имени волшебницы Армиды, владевшей прекрасными садами – их описание у Тассо было еще одним источником вдохновения для создателей английских садов): «Когда смотришь на нее в профиль, ее можно принять за Великую жрицу, готовящуюся к жертвоприношениям, в фас – за воплощение божества, которому они приносятся… Она имеет прекрасный, благородный, подвижный и экспрессивный голос… В качестве музыкантши, она, как Амфион, заставляет танцевать камни, чтобы они сложились в волшебные храмы, как Орфей укрощает медведей, которые иногда приходят посмотреть на Аркадию»[568].
В соответствии с названием парка главным в его программе была мифология, а если проявлялся исторический интерес – то к античности, о чем свидетельствует и скульптурная коллекция, собранная княгиней[569]. Об этом говорили уже первые строки ее путеводителя: «Аркадию можно считать древним памятником прекрасной Греции. В ней видны следы почитания мифологии, которое раньше сохранялось в искусстве… У входа расположен фонтан, напоминающий живительный источник Палемона… Хатки Филемона и Бавкиды свидетельству ют о гостеприимстве». Путеводитель настраивал посетителя на соответствующее восприятие: «Природа, обретя свои права [речь о принципе естественности в композиции парка], сотворила… уединенное романтичное прибежище. Там душу наполняет желание обожествлять эмоции, испытанные в таинственных, посвященных [богам] рощах… Каждый рад принести дань чувствам… на острове, специально для этого предназначенном [Остров Чувств или Жертвоприношений]». Там располагались «алтари любви, дружбы, благодарности и воспоминаний». Так создавалась атмосфера почитания античной древности, культа природы и сокровенной экзальтации.
Пройдя через сад Бавкиды, в котором росли фрукты, доставлявшиеся на Остров Жертвоприношений, а также через сад Филемона, гость попадал в посвященный культу природы Грот Сивиллы, который «искусство окружило… вечнозелеными венками». Туда ведет тропинка, которую затеняют хвойные деревья, а вход ограждают «огромные валуны, воздвигнутые как бы рукою титанов». В последние десятилетия XVIII в. ужасное как эстетическая категория было уравнено в правах с возвышенным и прекрасным, поэтому такие каменистые фрагменты становились объектом эстетизации, в том числе в танатологическом контексте (Вёрлиц, Зофьювка).
«Взбираясь со скалы на скалу, – продолжала рассказ Х. Радзивилл, – с трудом добираются до дверей готического сооружения, обители несчастья и меланхолии [небольшая изящная постройка типа часовни]… Далее дорога ведет к арке – смелому сооружению в греческом стиле». Сквозь нее открывается вид на «вечно цветущие рощи, на фоне которых вырисовываются округлые очертания Святилища [Дианы]». Это было главное, сложное по внутреннему плану и семантике сооружение, предназначенное для «ока души». «При выходе из [него] взгляд тонет в глубине озера, колышащегося от бега разделяющей его речки; невидимая, она с тихим шумом оставляет пену на его поверхности… Остров Жертвоприношений отражает в своем лоне деревья, рощи, луга и заросли, а также прекрасное небо».
Мотив отражения – удвоения, как и скрытая река, связывает сад с образами «другого» мира. Там предметы, утрачивая телесность, приобретают один из его основных признаков – прозрачность (ср. у Мандельштама: «Когда Психея-жизнь спускается к теням / В полупрозрачный лес вослед за Персефоной», там возникает «лес безлиственный прозрачных голосов», а ее «душа не узнает прозрачные дубравы») (с. 161). В Аркадии прозрачными, из цельного хрустального стекла были сделаны окна в «разбитом в тени берез» Шатре рыцаря (стекла, в то время являвшиеся редкостью, были вставлены в рамы красного дерева), а также покрытие купола (такой был и в пулавском Святилище Сивиллы у Чарторыской – подарок Александра I – именно тогда в России было налажено хрустальное производство). «Очарователен вид этого прозрачного приюта… особенно когда луна, повторяясь в каждом стекле… [и] погружаясь в глубину прозрачной волны, преломляет в ней свой свет».
История Психеи была изображена на плафоне Этрусского кабинета в Святилище Дианы, где хранились древние сосуды и светильники. Один из них висел в центре, наполняя пространство рассеянным светом. В кабинете находились также «кресла римской формы и пред меты, выполненные по древним образцам, [они] включают все элементы, служившие некогда религиозным обрядам. Треножники, старинные подсвечники, кадильницы, мраморные и порфирные сосуды, ванны и сейчас служат для омовения жертвенной розовой водой счастливого помазанника, который, проходя около статуи Молчания, посвящается в чудеса Пантеона[570]… Пораженное им воображение переносит во времена оракулов. Скульптуры весталок охраняют священный огонь, еще горящий на древнем алтаре, окруженном апельсиновыми и миртовыми деревьями, жасмином… Таинственный рассеянный свет дополняет иллюзию» (ил. с. 208). Ее усиливал «аромат, долетающий с лона волшебных рощ», а также музы ка «благодаря звучанию органа, располагающего к мечтаниям» – играя на нем, Х. Радзивилл пела своим глубоким контральто.
В Пантеоне висело зеркало, в котором отражалась скрытая от посетителя картина Э. Виже-Лебрен, изображавшая «чудесные рощи любви… Там она подстерегала весталок, принимая тихое поклонение, которого нельзя было ей смело оказать» – любовный мотив присутствовал в Аркадии дискретно. В Пантеоне он соединялся с мотивом смерти, не только благодаря наполнявшим ротонду предметам (рядом с алтарем в виде римской гробницы находился также саркофаг). Эта ротонда располагалась в западной части храма, а именно на запад была ориентирована дорога в потусторонний загробный мир. (Елисейские поля, впервые описанные Геродотом, Страбон поместил в лежащей на европейском западе Испании.) Однако настроение становилось светлее от плафона работы Ж.-П. Норблена, на котором крылатая Эос выводит коней Аполлона. Изображенная там же тем ная завеса с разорванными очертаниями напоминала о Ночи, постепенно исчезающей под лучами восходящего солнца. Лучи заходящего солнца вечером отражались в зеркале, пронизывая благодаря этому весь интерьер Святилища (их можно было также видеть, покинув Храм через открытые двери восточного портика).
Различные завесы, наряду с освещением, служили в Аркадии дематериализации предметов, усиливая роль мотива прозрачности. Драпировки из марокканского муслина спускались из купола Шатра рыцаря (возможно, именно поэтому данное восьмиугольное сооружение получило название шатра). Ложе спальни в Святилище Дианы окружала драпировка из японского перкаля, которая «сдвигалась ночью, чтобы своей полутенью успокоить… возбужденное воображение». Другая драпировка, имитируя шатер в Повонзках Чарторыской, окружала изображения этого парка, написанные Норбленом. Их прикрывала «легка я занавесь из газа зеленого цвета», которая «идеализирует вид, далеко переносит мысль и душу», – говорилось в путеводителе.
Оформление интерьера садовыми и садоподобными ландшафтами было традиционно для построек естественного парка, что соединяло их с окружающей природой. Вместе с тем возникал текст о саде в тексте сада, в свою очередь, вписанного в природу. Подобная игра природы и искусства нашла место в «Аркадии» Санадзарро, где «получался как бы эффект поставленных друг против друга и многократно отражающихся одно в другом зеркал: внутри романа в аркадийскую природу вставлено искусство, а в нем опять видна аркадийская природа и т. д.»[571]. Так природа и культура, соединяясь, создавали образ мира и в целом свидетельствовали об их участии в его творении[572].
Следуя путеводителю, через стеклянные двери спальни (на ее внешней стене располагался алтарь Пана), по «пышному ковру» цветов, можно было выйти к Санктуарию Верховного жреца. «Его прекрасные руины, украшенные рельефами, фонтанами, колоннадами, служат приютом овечкам… Саркофаги, урны, перевернутые капители покрыты диким виноградом. Множество ползущих растений обвивает различными узорами две колонны, установленные по бокам двери». Под сводами храма «аркадские пастухи… утвердили господство Золотого века». Так возникал мотив мифологического времени.
Александра Радзивилла. Интерьер Святилища Дианы. Рисунок. 1820
Место, где «шаловливые пастухи» пасли овец, представляло «аркадийскую сцену», «пасторальную картину». Однако в Санктуарии «звон колокольчиков, повешенных на шеи овечек, веселым эхом отража[лся] от их стен, среди которых недавно текла кровь приносимых жертв» – так Аркадия еще раз предстала пограничьем двух миров.
В ее садах непосредственно выступил и мотив «Et in Arcadie ego». Эта фраза фигурировала на кенотафе, который Х. Радзивилл сделала для себя (это было принято, о чем свидетельствует пример де Линя; с. 200). Подобно гробнице Руссо в Эрменонвиле, он находился на Тополином острове. В нише саркофага помещалась фигура усопшей св. Цецилии, покровительницы музыки (копия П. Стаджи со скульптуры Стефано Мадерно, называемой также Аллегория счастливой смерти. 1599). Как говорилось в путеводителе, «в тени густых деревьев на черном мраморном возвышении покоится женская фигура из белого мрамора… Очарование места наполняет душу чувством глубокого покоя. Отсюда с сердцем, наполненным сладкой меланхолией[573], направляются к Гробнице Иллюзий по проекту Иттара, расположенной за островом среди зеленых трав[574]. Ее окружает река Забвения… затененная плакучими вербами… Входят в эту часовню размышлений через саркофаг, поднятый на опорах».
По словам современника, после прохода под его крышкой создавалось впечатление, что «расстаешься с жизнью и попадаешь в объятья смерти»[575]. Здесь были захоронены сердца трех дочерей Х. Радзивилл. Здесь же находились «утешающие», по ее словам, сочинения, в том числе Э. Юнга, согласно которому, «блажен человек, который, восчувствовав омерзение к ложным забавам мира… осмеливается посещать кладбища… и в нощи среди гробов находит удовольствия»[576]. («С смертию дружа, дружишь ты нас с жизнью!» – писал о Юнге Карамзин). Поэтому «мысль о смерти не имеет здесь ничего поражающего… отсюда следует направиться в сторону водопада, чтобы под его тихий шум закончить размышления Юнга». В Гробнице иллюзий были изображения двух Гениев – Смерти (помещенная на двери авторская реплика надгробья Елены Павловны в Павловске работы И. Мартоса. Патинированная бронза. После 1806) и Славы (копия Я. Зейдельмана с картины А. Карраччи на плафоне).
Хенрык Итар. Гробница иллюзий. Проект. 1799–1800. Фрагмент
«Через Цирк покидают Аркадию». Так, казалось бы, умиротворенно заканчивалось путешествие по парку. Однако оно имело скрытую конечную цель. Если ранее мотив времени проходил лишь в подтексте программы Аркадии, то в Цирке, а также Вратах времени и Обелиске (Х. Иттар. Oколо 1800–1804) он выступил со всей определенностью. Цирк, согласно древнеримской традиции, получил форму прямоугольника («Длинная мостовая в саду, с столпами, пирамидами и триумфальными воротами, представляет бег или ристалище древних греков, описанное Гомером и Пиндаром воспетое», так сообщил о нем Ф. Глинка[577]). В Древнем Риме подобные сооружения предназначались для конных соревнований, а символически связывались с мыслью о беге жизни к смерти. В этом свете последняя фраза путеводителя по Аркадии приобретает танатологический смысл. Вид мемориального комплекса имеет проектный рисунок Иттара, в котором соединены изображения названных сооружений. Этот архитектор был связан с авангардным течением европейской архитектуры, представленным Леду и Булле. Все его сооружения выходили за рамки традиционных аркадийских садовых мотивов, а точнее, давали им новое истолкование.
Последним их проявлением был Швейцарский домик (1810), окруженный двором, где бродили домашние животные. В его интерьер был заключен «хрустальный дворец»[578]. Возможно, это был бывший Шатер рыцаря (c. 208), который стал теперь интерьером простой хаты. Сооружения подобного типа с роскошными интерьерами, заключенными в пейзанскую оболочку, во множестве украшали естественные сады. Истоком швейцарских мотивов для всей Европы служило стихотворение Галлера «Альпы» (с. 120).
С романтическими веяниями можно связать Жилище рыцаря (1814). Оно было создано в Готическом домике в память о погибшем на войне 1812 г. Михале Гидеоне, сыне Хелены. Она собрала там предметы, связанные с военной деятельностью этого наполеоновского генерала, что превратило домик в небольшой историко-военный музей. Над ним была помещена надпись: «Доброму сыну, Чести и Родине». Так тема памяти в Аркадии получила патриотическую окраску, в целом ей не свойственную.
Аркадийскую тему Х. Радзивилл провела с нетипичной для садовых программ последовательностью, не нарушая цельность модными экзотическими павильонами, свойственными в особенности садам рококо. С ним Аркадию сближает ее миниатюрность, обилие павильонов, замысловатость плана сада, который связывают с планом ритуального ковра масонской ложи[579].
В оформлении этого сада тон задавали антикизирующие постройки – Святилище Дианы и Акведук с каскадом, соединивший основную часть парка с Елисейскими полями, а также Цирк. Другая важная составляющая – сооружения, восходящие к первобытности и готике как наиболее древнему из осознававшихся тогда постантичных стилей. Связующим началом служил также эзотерический подтекст программы. Большую роль играла тема уединения, самопознания, а также меланхолии. В целом Делиль был прав, посвятив Аркадии в своей поэме следующие строки: «Поместью этому название дано / Аркадия: вполне заслужено оно»[580]. В этом не сомневался и де Линь, писавший, что хотел бы быть пастухом в этой Аркадии.
К созданию сада были привлечены лучшие мастера, работавшие тогда в Польше – Норблен, Цуг, молодые А. Орловский, М. Плоньский, Х. Иттар (по предположению воспитанник Французской академии в Риме). Однако общий облик ансамбля был результатом влияния самой владелицы, высоко образованной в художествах. Она была цельной натурой и одержима мыслью о преходящести жизни, в чем ее убедила смерть четырех из шести детей. Все они оказались увековечены в Аркадии[581].
Основное действующее лицо в парке и в «Guide d’Arcadie» – сама Хелена с ее радостями и горестями, символически заключенными в тексте Аркадии. Она как чуткий вожатый вводит паломника-посетителя в сокровенные смыслы своего парка. Хотя рассказ ведется в неопределенно-личном наклонении, однако сделанные в парке и приводимые в путеводителе надписи (в том числе две, взятые из Горация и Петрарки), говорят от первого лица. Такие надписи Х. Радзивилл поместила на двух сторонах кенотафа: «Et in Arcadia ego» и «J’ai fait Arcadie et j’y repose» («Я создала Аркадию и я в ней покоюсь»)», несомненно, и первая прочитывалась по аналогии со второй «И я был[а] в Аркадии». Такое перенесение на себя литературных образов и ситуаций было характерно для эпохи (c. 251). (От первого лица сделана «Надпись на гробе пастушки» у Батюшкова в его стихотворении, на текст которого написан романс Полины в «Пиковой даме» Чайковского: «И я, как вы, жила в Аркадии счастливой, / Любовь в мечтах златых мне счастие сулила: / Но что ж досталось мне в сих радостных местах? – / Могила!») Если кенотафу на Тополином острове не было суждено стать гробницей (Х. Радзивилл похоронена в костеле Неборова), то свою Аркадию она, несомненно, создала, придав особое направление аркадийской идее – ее венчает не смерть, а искусство.
Аркадия. Акведук. Фото
Вопреки различным интерпретациям сакраментальной фразы об Аркадии[582], она во всех случаях неизбежно каждым проецируется прежде всего на самого себя, о чем говорят и надписи на кенотафе. В результате снимается двузначность концепта – оба прочтения, раскрытые Панофским, оказываются экзистенциально синонимичны. Главной персоной в том и другом случае выступает смерть. Начало ее изображению в прекрасном облике (даже превосходящем тот, который хотел видеть де Линь) положил Ренессанс. От этого отошло барокко в своих восходящих к Средневековью концептах, где драматично сопоставляются жизнь и смерть[583], но восстановил классицизм (поэтому вторая «Аркадия» Пуссена так отличается от первого варианта, как и картины Гверчино). XVIII век с его руссоизмом, культом естественности, склонностью к выражению сентименталистских эмоций смягчал трагизм смерти, мотив которой воспроизводился в идеализированном «естественном» ландшафте. Если могильные камни в Аркадии расставляло Провидение, то краеугольный камень в ее мифологизированный прекрасный топос под звуки свирели Пана заложила Природа. Ее культ в идеализированно-естественных формах заключал в себе как миф Аркадии пелопонесской, так и образ Аркадии радзивилловской.
P. S.
Под датой 29 мая 1829 г. в Памятную книгу Аркадии вписано стихотворение В.А. Жуковского «Воспоминание» (1821)[584]. В нем дана еще одна метаморфоза аркадийской темы:
О милых спутниках, которые нам свет Своим сопутствием для нас животворили Не говори с тоской: их нет! Но с благодарностию: были!Аркадия здесь не упоминается, от максимы «И я был в Аркадии» остался лишь глагол быть (но в прошедшем времени и множественном числе). Однако этого достаточно, чтобы почувствовать скрытую в этих строках аркадийскую аллюзию, что и позволило писавшему вспомнить их после посещения парка Хелены Радзивилл. Сличение этой не привлекавшей ранее внимания записи с автографами поэта из Российского государственного архива древних актов, позволяет считать, что ее оставил сам автор. В пользу этого свидетельствуют также биографические данные – в то время Жуковский находился в Польше, где посетил Неборув, Аркадию, а также владения Антония Радзивилла в Антонине[585].
Иные настроения вызвала Аркадия у Федора Глинки. Побывав там в 1813 г., он описал, в частности, фрагменты сада, возникшие после издания его владелицей Guide d'Arcadie:
«Далее на дороге пре красно обстроенное село Неборов княгини Радзивиловой. В нескольких верстах оттуда ее же – Аркадия: достойна сего имени. На прекрасном месте прекрасный Английский сад, украшенный развалинами. Из всех подделанных я от роду не видал лучше этих. Они готические, пусты, и заросли травою, и совы гнездятся в них, и ветры воют. Кто-то выбрал себе один уголок сих развалин и отделал в нем одну комнатку. Не разбитое стекло, с белою занавескою, делает приятную противоположность с пустотою необитаемых стен. Длинная мостовая в саду, с столпами, пирамидами и триумфальными воротами, представляет бег или ристалище древних греков, описанное Гомером и Пиндаром воспетое. Лучше всего здесь сельский домик во всей простоте. На резных воротах представлены серп, коса и прочие полевые орудия. Войдите в него – первая комната проста: вот хижина; но далее видно превращение. Какая-то волшебница, может быть в благодарность за ласковое гостеприимство, захотела преобразить хижину в великолепнейший чертог. Она махнула жезлом – и чудо вполовину свершилось. Явились хрустальные стены, и одна из величайшего цельного зеркала; явились мраморные столпы. Золото, серебро и фарфор украсили все прочее. Но в одном углу, среди зеркал, хрусталей, мрамора и золота, к удивлению, видите вы простые полусгнившие брусья, сквозь которые торчит солома и слышно воркование горлиц. Что бы это значило? – А вот что, богиня или волшебница, превращая хижину в храм, заметила в одном простенке гнездо голубей и – чтоб не обеспокоить сих невинных тварей – оставила гнездо и брусья, в которых оно заложено, неприкосновенными. И теперь, среди великолепнейших предметов роскоши, служит оно напоминанием прежней простоты и неложным знамением совершившегося чуда. – Какова выдумка! Видно, что хозяйка имеет воображение. Такие-то чудеса могут творить богачи! О! Если б они делали такие же превращения с бедными хижинами своих соседей! Богач, имеющий вкус, есть уже человек; но богач-благотворитель – есть ангел! В одном из здешних гротов можно видеть собрание самых редких древностей из архипелага…»
Анатомия. Гравюра из «Энциклопедии» Дидро и д ’Аламбера
Раздел III Человек: миф, модель и образ
Глава 1 Человек/нечеловек в искусстве: о границах бытия
Антропоморфизация. Персонификация. Аллегория. – Идентичность – Сакрализация. Живоподобие. Идеализация. – Лицо и тело. – Мифологизация и костюмирование. – Живой/мертвый.
Эдвард Бёрн-Джонс. Пигмалион и Галатея. The Hand Refrains (Рука не смеет). 1878
Человек наряду с миром природы и миром вещей – постоянный и главный объект искусства. Возникающий образ обнаруживает со своим прообразом различную семантическую связь. Уровень сближения видимого и сущего зависит от характера взаимоотношения натуры и культуры, мифопоэтического начала и действительности, идеала и повседневности, частного и общего, символического и конкретного, личностного и внеличностного, знака и значения, которые свойственны той или иной культурной эпохе, той или иной художественной системе, тому или иному мастеру.
Представление конкретной особы – лишь одна из функций человеческой фигуры в искусстве. В качестве главной ее взял на себя портрет как персонализированное воплощение человека.
Антропоморфизация. Персонификация. Аллегория
Изображение человека может не подразумевать его как такового, а выступать в качестве антропоморфизации – одной из форм уподобления как неотъемлемого свойства психики и мышления. Антропоморфизация относится к архетипическим способам осознания универсума, ей подвергались боги, демонические силы, природа, Космос в целом. По образу человека строилась модель мира, макрокосм раскрывался через микрокосм, создавался «пространственный портрет» тела и телесный образ мира – глаз становился знаком солнца, уши – сторонами света, кровеносные сосуды уподоблялись рекам и т. д.[586] В древнеиндийской мифологии мир в целом предстал в образе первочеловека Пуруши, затем вместе с его телом распадаясь на основные элементы. Ртуть, серебро, олово, из которых, по представлениям алхимиков, должен был возникнуть философский камень, в иллюстрациях к их сочинениям изображались в виде человеческих лиц[587].
Носителям традиционных культур было важно определить себя в категориях человек/нечеловек, отделиться от сверхъестественных существ, наполнявших фольклорный мир, от «нечистых сил», всех разновидностей «чужого», чтобы исключить негативное вмешательство в свою жизнь. Метаморфозы, связанные с изменением облика человека, переходом границы живой – мертвый были обусловлены действием добрых и злых сил, Бога и дьявола, они сопровождали его во всякого рода инициациях. Триада Бог – человек – дьявол могла выступать непосредственно и полностью или скрываться под аллегориями добра и зла[588]. В мифопоэтической традиции сам человек под действием колдовства мог приобрести вид нечеловека, зверя[589].
В античности человеческим обликом наделили богов и мифологические существа, персонифицировались также различные понятия, ценностные категории, превращаясь в аллегории. Альберти так пересказывал лукиановское описание картины Апеллеса:
Сандро Боттичелли. Клевета. Около 1495
она «изображала человека с огромными ушами, а рядом с ним… стояли две женщины… одна называлась Неведением, а другая – Подозрительностью. Со стороны подходила Клевета… на вид очень красивая женщина, но с лица уж очень коварная… Был там и бледный мужчина, некрасивый, весь покрытый грязью, с недобрым выражением лица, которого можно было бы сравнить с человеком, исхудавшим и изнуренным долгими невзгодами… Он вел Клевету и назывался Завистью… спутницы Клеветы… поправляли ее… одежды… одну звали Коварство, а другую – Обманом. За ними шло Раскаяние – женщина, одетая в погребальные одежды, которые она сама на себе рвала, а сзади ее следовала девочка, стыдливая и целомудренная, по имени Истина»[590].
При всем живоподобии изображений, само описание которых вдохновило спустя почти две тысячи лет Боттичелли написать полотно Клевета (Уффицы), а Мантенью сделать рисунок (сюжет повторялся у разных художников), зритель в те времена всегда понимал условную природу аллегорий и не искал в них реального человека. Он воспринимал их не как персоны, а как персонификации.
Персонифицированная аллегория, наглядная и назидательная, столетиями пропагандировалась нормативной эстетикой, потом не всегда с пониманием ее сущности критиковалась. Казавшаяся отжившей, она весьма неожиданно актуализировалась в российской рекламе начала 1990-х гг. Ожившими аллегориями Богатства и Успеха, а не конкретными людьми, при всей их нарочитой будничности, служили участники различных счастливых сцен, разыгрываемых под сенью того или иного банка, фирмы, будь то владельцы псевдосредневекового замка в телерекламе Русского дома «Селенга» или едоки огромного пирога фирмы «Хопер». При этом телереклама постоянно стремилась выдать аллегорию, нечеловека, за реальную особу, выбирая актеров с заурядной внешностью, в отличие от старого искусства, где аллегории – носительницы положительного начала – представали в идеализированном прекрасном облике. Типаж такой рекламы-обманки восходил к изображениям «простых» людей в соцреализме.
«Очеловечен» был не только Космос, но и мир созданных человеком вещей – развалины разрушенных войной домов могли уподобляться человеческим фигурам, простершим к небу руки, как в графическом цикле Б. Линке «Камни кричат», а растерзанная человеческая фигура символизировать разрушенный Роттердам, как в памятнике О. Цадкина (1953). Совершалось и обратное: человек превращался в вещь, что различно осуществлялось средствами разных искусств и зависело от цели метаморфозы. Ее могли ограничить физической трансформацией, созданием обманки, натуралистическим эффектом подобия. В человеческие фигуры и головы (даже портреты) превращались керамические кружки и кувшины, которые изготовляли народные мастера, а также выпускали знаменитые фаянсовые и фарфоровые заводы[591].
Осип Цадкин. Памятник разрушенному городу. Роттердам. 1953
В садах антропоморфизм возникал благодаря стрижке растений, в результате которой появлялись различные фигуры из зеленого материала (ил. c. 175). Так прежде чем был провозглашен принцип естественности, природа оказалась подвергнута «очеловечиванию». Это был антропоморфизм как иллюзионизм. Вместе с тем он был связан с эзотерическим прочтением природы. Астрологи Ренессанса хотели неразрывно соединить Историю и Космос. Гностики рассматривали природу в качестве живого целого, а человека связывали с движением всего бытия, что сохранялось в маньеризме. Некий коллаж, составленный из природных элементов, возник в портретах Дж. Арчимбольдо (ил. c. 18). Антропоморфизация стала не только игрой, но и эмблемой. Смысл изображения современник выразил словами: «несогласное согласие»[592].
С кругом П. Брейгеля Старшего и И. Босха, а также маньеризмом связаны пейзажи, причудливо принявшие форму человеческой головы или тела[593] (с. 57). Подобные изображения можно найти и у С. Дали. Бесконечная загадка (1938. Театр-музей Фигерос) назвал он картину, в которой в изображении гор проступают контуры человеческих тел, демонстрируя взаимоперевоплощение биологических форм и форм неживой природы.
Иначе происходило опредмечивание образа в русском искусстве конца XVII в., впервые обратившегося к портрету. Парсуны представляли человека в застывших позах и одеждах, подчеркивали «вещные свойства» телесного, что придавало изображениям сходство с расписными изваяниями. Спустя полвека в полотнах Ф.С. Рокотова даже изображение одежд стало одухотворенным благодаря размытости живописной фактуры[594].
Идентичность
Если относительно антропоморфизации и персонификации встает вопрос, кто изображен, человек или нечеловек (что в одних случаях очевидно, в других – нет), то в портрете существует иная дилемма: присущи ли ему «наглядное единство личности» и «„внутреннее“ сходство», если воспользоваться определениями А.Г. Габричевского[595], т. е. возникает проблема идентификации.
Корни идентичности – в различных истоках портрета, который восходил к греческой идеализирующей и этрусско-римской натурализующей традициям. Греки были далеки от представления характерного облика индивида, они увековечивали не конкретных победителей спортивных игр, а создавали статуи идеального, физически совершенного атлета. В этом случае изображение человека развивалось от общего к частному: от антропоморфного бога, идеализированного героя, канонизированного лика христианских святых к самоценной личности Нового времени. В другом случае движение шло от частного к общему: от физиономической дословности этрусских посмертных масок, через физиологизм римских портретов к экспрессивному натурализму позднеготических образов. Оба истока соединились в эпоху Ренессанса, когда портрет складывался как самостоятельная область творчества, наполняясь более универсальными нравственно-психологическими характеристиками и сохраняя внешнее сходство с моделью.
Первые индивидуальные изображения представляли умерших людей, что было связано с внехудожественным фактором – погребальным обрядом. Протопортрет служил изоморфной заменой человека, что включало его в контекст мифопоэтических представлений о двойничестве[596]. Этрусские маски, выглядевшие «как живые», имели магически-ритуальное предназначение. Позднее погребальные фаюмские портреты (I–III вв.) писались с живой натуры. Это не меняло их функционального смысла – стереть грань живой/мертвый и было присуще также надгробным портретам – древнерусским и польским сарматским[597]. Эта идея никогда не уйдет из портрета – написанный с живой модели или посмертно, он будет причастен мысли о бессмертии.
Сакрализация. Живоподобие. Идеализация
В христианском искусстве всеобщее преобладало над конкретным, его интересовало не разнообразие, а повторяемость, родовые свойства. По словам Дионисия Ареопагита, иконы были призваны «отразить начальный свет и излучение первобожественности», «сверхзадача непортретного портрета состояла не в выявлении сходства, а скорее в снятии его»[598]. Иконописцы стремились удалить из лиц все случайное, бренное, вывести человека за пределы реального времени и пространства, воплотить совершенство Творения и горнего мира. В более позднее время характерным стало свободное перенесение внешних признаков, биографических данных от одного святого на другого, использование общего образца для их изображения и описания. Главным было передать представление об объединявшей всех их святости[599]. Узнать святых помогали атрибуты и надписи. В XVII в., когда в русском искусстве лишь зародился портрет, «достаточно было намека на портретное сходство, чтобы персонаж для них выглядел „яко жив“»[600].
Если античность придала богам человеческий облик, то в христианской культуре человек был признан богоподобным, его связь с Вселенной оказалась «как бы опрокинутой по сравнению с античными понятиями… Уже не человек спасается вселенной, а вселенная человеком, потому что человек есть ипостась всего космоса… земля обретает личностный, ипостасный смысл в человеке»[601]. Но не он сам. Лишь в позднем Средневековье можно найти примеры индивидуализации в посмертных изображениях, однако при этом обычно нет сравнительного материала, чтобы судить о степени реального сходства (как, например, в Надгробье Казимежа Ягеллончика в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове[602]).
Христианство к индивидуальному изображению отнеслось с сакральным почитанием – права на нерукотворный лик, некий портрет или, скорее, автопортрет (если можно так назвать отпечаток на плате Вероники) оно удостоило лишь своего основателя – Иисуса. Характерно, что в древнерусском искусстве разработка жанра портрета началась с различных вариаций на тему Спаса Нерукотворного[603]. Другой «портретированной» особой стала Мария, правда, для этого потребовался особый художник – Святой Лука.
При переходе к Ренессансу круг святых и иерархов, практически единственных до сих пор персонажей, имевших личные имена, пополняется. Изображения различных конкретных людей, в том числе автопортреты художников, появляются как безымянно, под видом святых (однако современники, подобно Вазари, сообщают для потомков, кто послужил прототипом), так и в собственном, хотя еще недостаточно индивидуализированном облике, в качестве донаторов. Более крупным планом они выступают на боковых крыльях триптихов, обрамляя фигуры Богоматери или святых. Затем средняя часть триптихов исчезает, остаются профильные изображения, которые укрупняются, приобретают трехчетвертной разворот, позднее пишутся анфас, и в результате возникает композиционная схема ренессансного портрета.
С Ренессанса в европейском искусстве утверждается реальный индивидуализированный человек. Требование «живоподобия» стало одним из главных эстетических постулатов. Вазари, когда хвалил картины, неизменно подчеркивал, что они как живые. Портретный жанр сложился в эпоху кватроченто именно на основе стремления к выявлению индивидуальных свойств, к познанию и самопознанию человека, а не к узнаванию идеи.
В сходном направлении позднее пошло русское искусство. Стоглавый собор (1551) узаконил писание в иконах царей, князей, народа. В XVII в. русские мастера будут «не знамения бо ради и чудес… персони святых или прочих человек писати… но истинного ради образа и вечного их воспоминания»[604]. Эту тенденцию продолжит искусство первой половины ХVIII в., вступив на путь Нового времени. К.Б. Растрелли взял на себя обязательство «работать в службе царского величества в кумироделании всяких фигур… которые подобны живым людям», это была постоянно актуализирующаяся утопическая мечта – делать «супротив натуры точь-в-точь»[605], «живо-писать». Однако лишь пигмалионовской Галатее при помощи Афродиты удалось перейти рубеж живой/мертвый, вещь/ человек, что в принципе искусству недоступно. Оно не может также преодолеть границу, отделяющую жизненное и художественное пространства, натуру и культуру, всегда оставаясь в сфере культуры. Это не зависит от того, как разные эпохи понимали проблему пограничья – подчеркивалась ли грань между искусством и действительностью, как в классицизме, или ее хотели стереть, перенеся искусство в жизнь, подобно романтикам, или же, как этот делали реалисты-натуралисты, переносить жизнь в искусство.
Граница жизнь/искусство всегда сохранялась, даже если театрализация и театральность ее старательно стирали (c. 346–349). Портрет, как и искусство в целом, в принципе не может остановиться на фиксации мира и человека такими, каковы они суть, если это и провозглашается. Искусство творит собственную «реальность», о чем свидетельствует не только опыт ХХ в., но и долгие поиски в искусстве прошлого образца, идеала.
Греческая культура, в которой боги были человекоподобными, активно эксплуатировала метаморфозу человеческих и божественных образов, сделав переход человек/нечеловек легким, а порой незаметным. Человек мог быть как награжден свойствами Бога, соответственно бессмертием, так и лишен их. В греческом искусстве отличить изображения богов или смертных можно, прежде всего, по атрибутам, в числе которых рост. Хотя греки выводили пропорции архитектуры из человеческих, ее масштабы были рассчитаны на сверхчеловеческие.
«Огромность» как признак идеализации, свойственный древним культурам, сохранялись в сакральных сооружениях Средневековья, чтобы дистанцировать человека от Бога. Эллинская идеализация образа человека сделала возможным возникновение вымышленного портрета (изображения Гомера), что, казалось бы, противоречит самой сущности портретного искусства. Такой портрет выполнял мемориальную функцию и получил особое развитие в годы становления исторического сознания Нового времени, когда создавались целые галереи вымышленных портретов предков, правителей (c. 315).
Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1500
Христианство признало человека богоподобным, он несет в себе высший образец. Это не изоморфизм, присущий людям и богам в античности, а соединение Бога и человека в одном лице. А. Дюрер в Автопортрете из мюнхенской Старой пинакотеки (1500) обратился к иконографическому типу Христа как Спасителя мира (Salvator mundi). Композиция портрета чисто фронтальна, как в иконе. Сходство с ней усиливают нейтральный фон, а также какое-то сияние, исходящее от золотисто-медных волос и заставляющее вспомнить о нимбе (в Автопортрете 1498 г. из Прадо они не вызывают мистических ассоциаций). Портрет необыкновенно красив. На нем художник сделал надпись: «Альбрехт Дюрер такими хорошими красками изобразил самого себя в возрасте двадцати восьми лет». Краски были действительно хороши, и художник сумел выстроить цвета в благородную гамму. При всем нарциссизме, свойственном и другим автопортретам Дюрера[606], здесь проступает более общая концепция. Протестантизм, активным приверженцем которого был Дюрер, особо подчеркивает в Богочеловеке, Христе, человеческое начало, а конкретного человека трактует как центр религиозно-духовной активности. Здесь как бы воссоздается Бог в человеке, а человек – в Боге. В результате Автопортрет насыщается метафизическим смыслом, выходит за рамки показа конкретной особы, обретает аллегорическо-символический, мистически-визионерский смысл, раскрывая идущее от Ренессанса представление о художнике как «втором Боге» (Альберти). Тем самым изображение конкретной персоны отступает на второй план, а лицо художника оказывается подходящей моделью для воплощения высших смыслов, переданных через красоту модели и самой живописи, что было адекватно эпохе Возрождения, в которой искусство правило бал[607].
Лицо и тело
Отношения идеального и реального в искусстве по-разному отражались на изображении лица и тела. Они могли жить самостоятельной жизнью (не случайно можно восхищаться античными скульптурами с утраченными головами). Индивидуализировалось прежде всего лицо, в котором, согласно мифопоэтической традиции, видели зеркало души.
Греки компоновали идеальное тело из прекрасных частей. Средневековье могло натуралистически, остро характерно показывать его особенности, однако это были изображения определенного типа тела, подвергнутого аскезе или казни – как в изображениях Иоанна Крестителя и Христа. Донателло так изобразил Марию Магдалину (1455, Флоренция, музей Опера дель Дуомо). Это могло быть и задрапированное в искусном S-образном изгибе тело так называемый «прекрасной Мадонны» – иконографический тип, распространенный в Центральной Европе в XIV–XV вв.
Вит Ствош. Надгробье Казимежа Ягеллончика. Вавель. Кафедральный собор. 1492
Ренессанс заинтересовался эстетически значимым, а не индивидуальным телом, как живым, так и мертвым (Джованни Беллини. Оплакивание Христа. Берлин. Далем музей). ХVII век придал его изображению типовое разнообразие – барочную экспрессию или классицистическое спокойствие. В рамках нормативной эстетики, где художественное и жизненное пространство резко отделялись, тело и лицо могли изображаться с различной мерой условности: лицо воспроизводить реальную особу, а тело служить аллегорией, эмблемой, как это было в случае работы Луи Каравакка, представившего Елизавету Петровну в детстве с лицом, имеющим портретное сходство, и обнаженным телом богини[608] (1750. ГРМ). Однако люди X V III в. уже не могли со всей серьезностью играть в миф и, по свидетельству современников, стыдливо занавешивали часть изображения кисеей[609]. Г.К. Гроот, копируя портрет, счел необходимым усилить мифологическое начало и, чтобы сблизить образ царицы с образом Флоры, дал ей в руки вместо медальона Петра I, как в оригинале, букет цветов (см. также с. 367). Соединение идеального тела с портретной головой можно было найти еще в ХIХ в. у Кановы в статуе Наполеона (бронза. 1810. Милан. Брера) Пример тела-портрета принес уже XVIII в. (Ж.Б. Пигаль. Вольтер. 1776), а в ХIХ в. появился роденовский обнаженный Бальзак.
Лицо преимущественно идеализировалось, однако в отличие от тела редко мифологизировалось. Один из крайних примеров – автопортрет Караваджо в виде отрубленной головы Голиафа (Давид с головой Голиафа. 1605–1610. Галерея Боргезе). Реальные изображения нужны тем, полагал Дюрер, «кому надо изобразить человека со сходством», «скорее для достижения различия, нежели для создания прекрасного»[610], а именно это, второе, долгие века полагалось целью искусства, чему как бы в принципе не соответствовал жанр портрета. Вероятно, это одна из причин, по которой в классицистической системе он считался низшим видом искусства.
Мифологизация и костюмирование
Микеланджело да Караваджо. Давид с головой Голиафа. 1606–1607
Изображение человека мифологизировалось, получая иконографические признаки различных богов и мифологических персонажей, выбиравшихся в соответствии со вкусом эпохи и характером, который хотели придать портретируемой модели. При этом индивидуализация отступала на второй план, как и в иконографически устойчивых портретах-типах, подобно конному, восходящему к изображению Святого Георгия. Если в вымышленном портрете домысливались черты лица, то здесь домысливался тип человека. Л. Бернини говорил об изображениях лиц высокого социального положения, что здесь нужно, «помимо сходства, выразить то, что присуще героям»[611] – так видел человека скульптор барокко, независимо от того, отвечало ли это реальности. Происходило абстрагирование образа портретируемого, который осмыслялся в соответствующем коде. Поэтому не только вырабатывалась общая иконография эпохи, но и возникала возможность замены основного действующего лица. Бернини создал терракотовую модель конного памятника Людовика XIV, предназначенного для Парижа, сделав его похожим на Александра Великого. Однако модель не понравилась и была отправлена в ссылку в Версаль, где Жирарден переделал всадника в римского героя Марка Курция. Традиционным было подражание знаменитым античным памятникам. Б. Торвальдсен превратил Юзефа Понятовского в Марка Аврелия, вылепив памятник польского национального героя по образцу римского конного монумента этого императора (II в. Капитолий). В ярмарочных фотографиях все происходило проще: там можно было легко превратиться в Чапаева и Буденного, вставив голову в отверстие в фанерном макете их фигур. Одновременно решались две задачи – фотографировавшийся превращался в героя, а его фотография утверждала миф чтимых народом военачальников.
В качестве иконографического образца мог быть использован портрет Данте, которому следовали живописные или рисованные портреты (Э. Делякруа. Шопен. Рис. 1838. Лувр), а позднее фотографические портреты[612]. Это своего рода цитирование, рассчитанное на эрудицию зрителя, уводило в легенду, сформированную культурной традицией, помогало включить образ в соответствующую конвенцию, создать портрет-знак.
Мифологизированные одежды и реквизиты, используемые в портрете, выводили образ человека за пределы индивидуального бытия, а также «конкретного» времени, связывая с вечностью. В результате мифологизировалась сама суть образа, что было одной из форм его идеализации. В XVIII в. она приняла изящные кокетливые формы – эпоха философов мало верила в мифы, а костюмированный портрет начал служить, в частности, знаком политической ориентации, масонской принадлежности (Э. Виже-Лебрен. Портрет Станислава Августа Понятовского в костюме Генриха IV. 1797. Киев. Музей западного и восточного искусства)[613]. Еще в начале ХIХ в., по словам мемуаристки, «никто не хотел быть представленным в собственном облике»[614]. Антикизирующие одежды стали достоянием женской моды. Мужчины и даже женщины, в частности мадам Рекамье, носили прическ и à la Titus. Мифологизация образов превратилась в стилизацию, что не лишало их очарования.
Жан Пьер Норблен. Казнь изменников in effigie. 1794
Романтики вернули мифу серьезность, воскресили мифопоэтическую традицию, создав мифы национальные, исторические. Доносили они их и при помощи аллегорических фигур, нашедших место в живописи и в романтической литературе[615]. Художники того времени обычно не рядили героев в античные одежды, а представляли их обнаженными или облачали в национальное платье и помещали в национальный пейзаж (Ф.О. Рунге. Утро. 1809. Кунстхалле, Гамбург; А. Венецианов. На пашне. Весна. Первая половина 1820-х годов. ГТГ). А. Орловский написал Автопортрет в костюме польского крестьянина (около 1820. Национальный музей в Познани). Аллегорические фигуры в произведениях романтиков оказались способны воплотить «ужас истории» – таков атлет, засыпаемый землей, в рисунке Рунге (Падение отечества. 1809. Кунстхалле, Гамбург). Аллегории могли воплощать и исторический оптимизм (Э. Делякруа. Свобода на баррикадах. 1830. Лувр).
Романтизм не выразил себя ярко в портрете. Художники хотели запечатлевать не внешность модели, даже как воплощение души, а, прежде всего, свое отношение к ней. Они сочли проблему сходства интересной лишь для родственников портретируемого (Г. Гейне). В дальнейшем внехудожественной ее признает и история искусства[616]. «Очная ставка между картиной и действительностью заходит обыкновенно так далеко, – писал Б.Р. Виппер, – что произведение искусства, портрет, перестает быть центром внимания, превращается во что-то второстепенное… Как будто в портрете играет главную и самодовлеющую роль не сам портрет, не изображение, а живой оригинал, стоящий позади»[617].
Бертель Торвальдсен. Памятник Юзефу Понятовскому. 1820–1829. Варшава
Во второй половине ХIХ в. портрет в полной мере выступил носителем личностной характеристики, человек предстал в его индивидуальной неповторимости, как у Репина в Портрете М.П. Мусорского (1881. ГТГ). Однако даже эта цель не была единственной. «Прежде чем мне пришла мысль запечатлеть черты, к которым я был так привязан, – вспоминал К. Моне о своей работе над портретом только что умершей жены, – мой естественный автоматизм прореагировал на удары цвета»[618]. Э. Манэ потребовалось дополнить уже законченный Портрет Т. Дюре (1868. Пти Пале) введением натюрморта, чтобы быть удовлетворенным созданным образом[619]. Сама живописная материя теперь стала носительницей личностной характеристики. Прежде всего «удары цвета» интересовали Ван Гога в его поздних автопортретах, именно через цвет раскрывавших состояние духа художника. Для этого даже не всегда нужно было изображать себя. Не случайно Э. Панофский назвал «духовным автопортретом» гравюру Дюрера Меланхолия. В принципе каждое большое произведение является неким автопортретом художника, его субститутом, свидетельствуя о «присутствии» в нем мастера. Вместе с тем автопортрет – это и отстраненность от самого себя:
Что, в сущности, и есть автопортрет. Шаг в сторону от собственного тела, повернутый к вам в профиль табурет, вид издали на жизнь, что пролетела. Вот это и зовется «мастерство»: способность не страшиться процедуры небытия – как формы своего отсутствия, списав его с натуры. И. Бродский. «На выставке Карла Вейлинка»Живой/мертвый
Раз созданный портрет начинает жить своей жизнью, включается в быт, ритуал, может подвергнуться магическим воздействиям при лечении, заговоре, выполняя функцию замещения человека[620]. Он способен подменять его в различных ситуациях, как, например, при обручении, что особенно практиковалось в случае королевских браков. Магическую подоснову имела долго сохранявшаяся казнь через портрет, in effigies, произошедшая, в частности, в 1794 г. в Варшаве, когда во время восстания рядом с реальными людьми были в прямом смысле повешены портреты отсутствовавших инициаторов пророссийской Тарговицкой конфедерации, что запечатлено в акварели Ж.П. Норблена (Национальный музей в Варшаве) (ил. с. 226).
Изображение человека, вышедшее из мифопоэтической традиции, могло возвращаться в миф. Альберти так определял эту способность искусства: живопись «заставляет отсутствующих казаться присутствующими», а «мертвых казаться живыми по прошествии многих веков»[621]. Портрет, но чаще скульптура как трехмерное изображение наделялись свойством оживить человека, вызвать его тень, призрак. Здесь не требовалось вмешательства богов, как в случае Галатеи. Посредником выступало искусство. Со всей непосредственностью это описал И.М. Долгорукий в стихотворении, посвященном масонскому саду И.В. Лопухина:
Тут Жан-Жаков образ славный В бездыханном гипсе зрю; Жив философ благонравный, С ним я духом говорю; ………………………. Здесь угрюмый озирался С удивлением Сократ, Истукан его шатался, — Он бежать хотел назад. ………………………. Ужас вдруг вселился в чувство, Сердце дрогнуло во мне! В куклах разнаго искусства Мысль моя наедине Тени мертвых возбуждала, И сладчайшею мечтой Зренье, слух и речь давала Им подобныя со мной. «Прогулка в Савинском»Атмосфера сада способствовала общению двух миров. Там само мемориальное сооружение, сила воспоминаний могли вызвать мысль о духах. Как сказано у Пушкина о царскосельских памятниках: «Садятся призраки героев / У посвященных им столпов».
В пушкинском мифе «губительной статуи» и Командор, и Медный всадник приходят в движение, обретают особую, выходящую из-под управления силу благодаря внутренней энергии[622]. Такое «ожившее» изображение человека, именно как нечеловек, наделялось демоническими, разрушительными свойствами (это не только Голем[623], но и гоголевский портрет ростовщика). Однако оно могло временно взять на себя защитную функцию (О. Уальд. «Портрет Дориана Грея»). Литература по-разному запечатлела превращение человека в статую, переход от живого к мертвому. А. Мицкевич в «Отрывке III части „Дзядов“» так описал Медного всадника, уловив реально заложенное скульптором движение: «Царь Петр коня не укротил уздой /…скакун… /Топча людей…/ Сметает все…/ Одним прыжком на край скалы взлетел,/ Вот-вот он рухнет вниз и разобьется. / Но век прошел – стоит он, как стоял» – ожившая статуя вновь превращается в бронзового истукана, возвращаясь из мифологизированного в конкретное историческое пространство (перевод В. Левика).
Изображение человека может совершать иного рода переходы из одного пространства в другое, как у Ахматовой:
Ты сбежала сюда с портрета, И пустая рама до света На стене тебя будет ждать. …………………………… На твоих щеках алые пятна: Шла бы ты в полотно обратно. «Поэма без героя»Ахматова описала еще одно изменение, которое может произойти с человеческим изображением:
Когда человек умирает, Изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы Улыбаются другой улыбкой. Я заметила это, вернувшись С похорон одного поэта. И с тех пор проверяла часто, И моя догадка подтвердилась. «Из шести книг»При всех трансформациях, которые претерпевало изображение человека, заключенное в произведении искусства, оно, в отличие от бальзаковской шагреневой кожи, но подобно рукописям, которые не горят, не могло исчезнуть. Показательно, как Гоголь изменил концовку во второй редакции повести «Портрет», которая расширяет круг ее мифопоэтических образов – портрет ростовщика не растворяется на полотне, его крадут. Белинский не понял мифологической основы, полагая, что следовало описать судьбу художника «на почве ежедневной действительности», тогда «не нужно было бы приплетать тут страшного портрета».
Изображение человека в искусстве, которое может и не являться собственно его изображением, постоянно служит связующим звеном реального и трансцендентного мира, Земли и Космоса, материи и духа, жизни и истории, мифа и реальности, действительности и идеала. Многоплановая роль этого изображения была маркирована многозначностью латинского слова effigies, которое означало образ, портрет, изображение, куклу, подобие, отражение, описание, образец, идеал, призрак, тень умершего. Все эти значения перерастают рамки портрета как такового, свидетельствуя, что через образ человека, как и через образ антропоморфный, могли выстраиваться картина мира, взаимоотношения мира живого и неживого, земного и потустороннего, мифа и действительности, а также аллегорически визуализироваться представления о добре и зле. Изображение человека включалось в магические, ритуальные действия, обретало независимость. Полифункциональность и смысловое многообразие представления человека в произведениях искусства говорят о неисчерпаемой способности культуры к метаморфозу и вместе с тем о желании человека не только запечатлеть свое присутствие в этом мире, но и преодолеть духовно-физические, пространственно-временные границы земного существования, об осознанном или подсознательном стремлении индивида выйти за пределы собственного бытия.
Гравюра из книги Михаила Мейера «Химический цветник». Уфа, 1789
Глава 2 «Человек естественный» и «человек играющий» в садовом пространстве
В поисках себя. – Неестественность «естественного человека». Идеальный владелец сада. – Естественность, утопизм, театральность. – Игра и иллюзия. – Амплуа. – Человек на садовой сцене
Фонтебло. Большой канал. Гравюра
В поисках себя
Максима «Познай себя» была выписана еще на святилище Сивиллы в Дельфах, а Сократ, хотевший ей следовать, жаловался: «Я никак не могу познать самого себя». Достичь этого стремился и человек Просвещения, появившийся на исторической арене в качестве личности становящейся. Та эпоха, целью которой было сделать всех счастливыми, оказалась временем проектов. Один из них назывался «естественный человек», l’homme de la nature, которому Руссо, его создатель, противопоставлял деформированного и лишенного прав l’homme de l’homme, человека культуры. Она, по словам Шпенглера, представлялась Руссо «великой болезнью естественного человека». Чтобы излечиться и достичь счастья, люди должны были освободиться от излишеств цивилизации, теологических догм, туманной метафизики и всех заблуждений прошлого, т. е. стать «естественными».
Мыслители предшествующей эпохи, признавая вслед за Бруно множественность миров, искали место человека во Вселенной, созерцая в телескопах и воспроизводя в своих садах ее безграничность (c. 153). Однако Паскаль уже скептически вопрошал: «Что есть человек в бесконечности?», а Спиноза писал: «Не все происходило по причине человека», и мыслители XVIII в. были согласны с ним. Это не мешало в дальнейшем разрабатывать идею антропности мира (c. 55).
Изменение отношения к человеку четко обозначилось в написанной в 1734 г. поэме «Опыт о человеке» Александра Поупа. Она показательна как для формирования модели человека новой эпохи, так и для рождения программы естественного сада[624]. В том и другом случае этот поэт и мыслитель считал необходимым следовать природе, видя в ней пример для построения справедливого социума. Современника он призывал: «Познай себя! Не тщись познать [дела] Бога! Основной объект изучения человека – сам человек»[625].
В своей поэме Поуп актуализировал античный образ «цепь бытия», в которой человек составляет среднее звено между природой и Богом. Комментируя эту распространившуюся в XVIII в. идею, а также высказывания Поупа о познавательных возможностях человеческого разума, А. Лавджой писал: «Ограничение сферы интересов человека и даже границ его воображения… было проявлением того предпочтения, которое оказывалось простым схемам идей; [вместе с тем] настроение интеллектуальной скромности отчасти было выражением предубеждения, питаемого к непознаваемому, запутанному, мистическому»[626]. В этой «интеллектуальной скромности», добавив к ней рассудочную эмоциональность, можно видеть предпосылки ослабления мифопоэтического начала в искусстве Просвещения. «Поистине все хорошо, что есть» (курс. Поупа), «На самого себя направь ты взгляд», «со страстями разум сочетай», «Любовь к себе и обществу одна» – такие наставления давал этот автор читателю, рассмотрев человека в четырех эпистолах поэмы в отношении к Вселенной, к самому себе, к обществу и к счастью[627]. В созвучии с идеалами Поупа вольтеровский Кандид призывал возделывать свой сад и полагать, что все к лучшему в этом лучшем из миров. На таких основаниях покоился оптимизм разумного человека той эпохи (ср. с. 323–324).
В годы Просвещения «поиски себя» в прямом смысле заземлились, теперь внимание больше привлекали не дуализм души и тела, а открываемая двойственная сущность человека как биологического и социального существа. Земное пространство воспроизводила живопись – это были часто серийные виды городов, какие писал популярный Бернардо Беллотто и в Дрездене, и в Варшаве (c. 115), изображения садов или садообразной природы, как в многочисленных панно Гюбера Робера (ил. с. 170). Именно с земными делами были связаны представления Просвещения о месте человека в сотворенном Богом мире: «О, человек! Придерживайся своих пределов и ты более не будешь жалок», в созвучии с Поупом полагал Руссо («Эмиль»),
Эпистемологически человек долгое время оставался частью природы, еще не осознавая той «частичной, ограниченной, особенной „природы“, которая отроду дарована ему»[628] (c. 301–302, 351). Даже самопознание уподоблялось экспериментальным методам, которыми исследовалась природа. Желая «дать себе отчет в изменениях своей души», Руссо хотел поставить «на самом себе те опыты, которые физики производят над воздухом, чтобы знать ежедневные изменения в его состоянии. Я приложу к своей душе барометр, и эти опыты… долгое время повторяемые… могут дать мне результаты, столь же надежные, как и у них»[629], – уверенно заключал он.
Осознание индивидуального начала происходило еще в рамках универсалистских представлений: человек понимался как воплощение изначально неизменной, подчиняющейся всеобщим естественным законам человеческой сущности. Однако он по-разному представал в различных обстоятельствах, поэтому был способен к совершенствованию. Отсюда особое значение, придаваемое окружающей среде, а также дидактичность, нравоучительность культуры Просвещения (с. 304–305). Это сказывалось на ее поэтике[630].
Лишь с развитием наук о человеке он высвободился из космизированной natura naturata, натуры сотворенной, и выступил как способная к творению сущность. Именно к Просвещению восходят такие науки о человеке, как социология, этнология, антропология, психология.
Изучение природы также служило полем самопознания, путь к которому вел и через углубление эмоционального общения с ней.
Местом свободной реализации каждой личности должен был стать сад. «Естественный человек» мог иметь только естественный сад, вся атмосфера которого предрасполагала к самопознанию и самовыражению. Его извилистые дорожки увлекали посетителя в укрытые уголки, солитюды. В век, который «слишком много говорит и пишет»[631], уединение казалось необходимым и для того, чтобы изолироваться от пороков и скуки светского общества. О важности этого напоминали помещаемые в садах надписи. Так было в Аркадии Х. Радзивилл, где, глядя на Святилище Дианы, можно было вспомнить древнюю максиму в смягченном горацианском варианте: «Удаляюсь от других, чтобы найти себя» (II.5).
Вобурн Фарм. Гравюра Люка Селивена. 1759
Пришедший из Библии образ hortus animae в Век философов оказался переосмыслен. Ранее в такой сад можно было попасть лишь путем «внутреннего переживания участия в божественной идиллии»[632]. Теперь представление о райском саде души десакрализовалось: идиллия подверглась обмирщению, а новозаветного Христа-садовника, культивировавшего человеческие души, сменил садовод-любитель, правда, не отказавшийся от пастырских амбиций – программа естественного сада была насыщена дидактикой. Она была связана и с утопическими идеями Просвещения, его эвдемонизмом[633]. Вместе с тем сад, согласно программе, превращался в некое культурное урочище, садовые павильоны наполнялись произведениями искусства и книгами.
Непринужденность живописной композиции английских садов, ассоциативность образов, множество литературных и исторических аллюзий, возникавших у посетителя благодаря программным элементам композиции, в особенности постройкам, содействовали индивидуализации восприятия. Усилению личностного начала способствовало ощущение движения, свободы, возникавшее в этом парке, где высокие ограды были заменены мало заметными приспособлениями (c. 86, 170). Этому помогало «приволье… ежедневных прогулок», во время которых человек мог «принадлежать себе безраздельно» и на самом деле сказать, «что он таков, каким природа пожелала его сделать»[634]. Каждый был самим собой – в сад ходили, «оставя шумный свет, / Мудрец обдумывать, красавицы рвать розы… / Счастливец вспоминать, несчастный же лить слезы» (Делиль. «Сады»).
Индивидуальное начало выразилось в многообразии садов, каждый из которых был чем-то примечателен. Полистилизм построек давал свободу для авторского и зрительского самовыражения (c. 170–174). В садах Просвещения впервые столь значительное место заняла экзотическая архитектура. Возникли целые «китайские» деревни (Царское Село, Дроттнингхольм), в других случаях дело ограничивалось созданием отдельных китайских, турецких павильонов (ил. с. 164, 242). Экзотикой были и просто деревушки (hamеаu), фермы, соседствовавшие с классицистическими дворцами и виллами, искусственными руинами. Принцип variété определял подбор растений. Сохраняемые в садах одинокие старые деревья, растительность разного возраста, стилизованные под древность архитектурные формы – пирамиды, обелиски, надгробья, искусственные руины – возбужали историческую рефлексию.
В таком окружении человек приходил в состояние не только покоя, но и тревоги, оживлялся его разум и чувства, осознанные и неосознанные эмоции. Они были подобны тем, которые испытывал читатель сентиментальной поэзии. Его душа, как писал Шиллер, приходила в движение, была напряжена, балансируя «между враждебными друг другу чувствами»[635]. Естественный сад служил одним из мест, где витала «философия беспокойства», отражавшая настроения недовольства и неуверенности в предреволюционной Европе[636]. В нем происходила и гармонизация конфликта. Возникавшее напряжение, если продолжить слова Шиллера, приводило к желанию ощутить «свободное влечение… создать в себе гармонию… сделать себя целостным, довести в себе человечность до ее совершенного выражения»[637]. По крайней мере, таков был замысел.
Образ жизни просвещенного человека всегда предполагал общение (c. 282). В саду можно было насладиться не только уединением, но и приятным обществом. Гедонистический элемент был неотъемлем от его программы. По словам Кармонтеля, «там узнают друг друга… там возникают те связи, которые без конца оживляют удовольствие»[638]. Де Линь как человек, для которого садовые занятия стали жизненной потребностью и средством самовыражения его одаренной натуры, так определял свое отношение к ним: «Я хочу сад для себя, я хочу его для других, чтобы там прогуливаться и почти затеряться; это сад для моих ног, но он должен быть и для моих глаз; я туда иду, чтобы не только дышать и размышлять, там можно также испытать озарение гения и духа»[639].
Если процитировать поэтов того времени, сад – это место, где человек «пользуется милой свободой», откуда «убегает печаль, а радость делает всю округу приятной, приветливой». Сад – приют идиллических пасторальных сцен, спокойной жизни в кругу семьи, друзей, благополучных крестьян, в нем, как писал Дидро, должны царить согласие, любовь к истине, чистосердечие и мир, а все философские секты быть «в дружественном единении».
Данью дружбе были многие элементы естественного сада: ей посвящались храмы, алтари, она определяла сферу садовых контактов. Особое место имел мотив семьи. Этим известен Павловск Александры Федоровны, Повонзки и Пулавы Чарторыских. Семью воспринимали как союз, наиболее близкий природе[640]. Садовый быт носил естественный, непринужденный характер, в такой атмосфере охотно принимали гостей, которых, по выражению Д.С. Лихачева, «угощали» садом. Это свидетельствовало об изменении стиля жизни, об отделении ее частных форм от общественно-публичных, об ослаблении (а точнее, видоизменении) ее репрезентативных функций по сравнению с более парадным веком барокко, говорило о более камерном и интимном, лишенном строгого этикета частном быте. Развитие его приватных форм, внимание к удобству жизни отражали повышенный интерес Просвещения к человеку, «одухотворенность частного бытия» была знаком эпохи[641].
Не отменялось и служение обществу, оно продолжалось, в частности, посредством благотворительной деятельности. Де Линь в своем садовом сочинении развернул целую программу заботливого обращения с крестьянами – «это дань, которую богатство обязано платить бедности». При этом он не забыл сообщить, что семилетних детей уже вполне можно использовать для сбора опавших листьев и выщипывания остатков травы, которую недостаточно привели в порядок бараны. Принц был во всех отношениях человеком своей эпохи (с. 269–272), крестьяне тоже были таковыми, поэтому «по-патриархальному» его любили и не разграбили замок, не испортили сады, имея эту возможность во время нашествия французских войск.
Жан Пьер Норблен. Изабела Чарторыская в роли садовницы в опере «La Colonie». Акварель, гуашь. 1778
Моделированию и воспитанию счастливой добродетельной личности помогала не только эмоциональная атмосфера сада, идеи, заложенные в его программу. Этому способствовали и садовые занятия – садовый труд, необременительный и приятный, прогулки как происходивший во времени и пространстве урок чувств, благонравия и ума, а также праздники «добродетели и натуры» с тщательно разрабатывавшимся сценарием.
Неестественность «естественного человека»
Создатели садов были верными учениками Фонтенеля, который писал: «Пасторальная поэзия не имеет особого обаяния, если она столь же ординарна, как естественность; если говорить только о сельских предметах, слушать голоса овец и коз, заботиться об этих животных – это не то, что может нравиться само по себе; тем, что нравится, является идея спокойствия, свойственная жизни тех, которые заботятся об овцах и козах»[642]. Творцов естественного сада привлекала именно пасторальная идея. Согласно ей, элегический поэт искал природу, но «столь совершенную, какой она никогда не была, хотя он и оплакивал ее, как некогда существующее и ныне утраченное»[643]. Этим же занимался создатель естественного сада, который должен был стать улучшенной «естественной» природой. Сам же он хотел принять облик «естественного человека».
Таким он изображался в портретах à l’anglaise, вписываясь в садовый ландшафт, в отличие от барочного портрета, где изображение сада, часто принадлежавшего портретированному, служило лишь атрибутом владельца и элементом фона. Руссо, который считал естественного человека «одновременно и этическим идеалом и естественным положением вещей… явился создателем одного из самых искусственных образований в европейской культуре (гораздо более искусственного, чем все куклы Гофмана)… это гомункулическое создание есть само не только продукт исключительно развитой рефлексии, но и образец самой крайней рационализации результата рефлексии»[644], – писал М. Мамардашвили.
Ришар Мик. Деревушка Марии Антуанетты в Малом Трианоне. Фото
Естественность в то время не отождествлялась с возвращением в состояние «благородного дикаря», а понималась как «сообразность» природе, истинность чувств и мыслей, вытекающих из естественных законов, а также как приближение к «естественным» простым формам идеализированной сельской жизни.
Благодаря пейзажным живописным формам естественный сад сближал человека и природу, но он также опосредовал их контакт, – просвещенные философы и их поклонники еще не были готовы к встрече с первозданной дикой природой, реальной деревней. Век философов не принимал естественность в некультивированных формах. «Естественность» того времени предполагала извлечение в соответствии с идеалом из природы того, что натура творящая задумала, а натура творимая не сумела исполнить, как формулировал Гёте. Это было конструирование, всегда предполагавшее обработку первоначального материала, которой следовало подвергнуть саму природу, человека, его быт. В то время как для Локка естественное состояние – это господство свободы и равенства, подчиненных естественному, разумному закону, для Монтескьё оно представляло низшую ступень культуры, на которой человек руководствовался чувством страха, биологическими потребностями, необходимостью продолжать род и объединяться в группы себе подобных.
Если Возрождение под естественностью понимало «легальность» телесных витальных проявлений, то просвещенный человек должен был обладать культивированной утонченной естественностью, ставшей второй натурой. Э. Виже-Лебрен писала о принце де Лине, что его манеры так просты, что какой-нибудь глупец может принять этого утонченного аристократа за рядового человека. Добиться эффекта естественности считалось высшим искусством, к ней стремились и в театре. «Разве Вы забыли, что я вообще не декламирую? – единственным моим незначительным достоинством является простота», – говорила ценимая Вольтером Адриенна Лекуврер.
В садах «естественное» поведение, естественные манеры противопоставлялись регламентированному этикету, который позволял поддерживать иерархическую структуру тогдашнего общества. Прусский кронпринц в построенной им летней резиденции Парец (1797) хотел быть только милостивым человеком, «der Gnadige Herr von Paretz»[645]. «Я испытываю антипатию к притворству этикета, хотя знаю, что время от времени он необходим», – писал Станислав Август Понятовский, который в летней резиденции в Лазенках проводил время «скорее как простой смертный, а не коронованная особа»[646]. И.Б. Лампи портретировал короля в шлафроке, В.Л. Боровиковский писал Екатерину II в будничной одежде и с собачкой на прогулке; богатейший заводчик даже в парадном портрете мог быть показан в небрежном утреннем костюме и в колпаке, с лейкой и цветочными горшками, как П.А. Демидов в портрете Левицкого (то обстоятельство, что эти предметы служили знаком благотворительности, в данном случае несущественно[647]). Все виды неглиже были естественны (этим словом определялась утренняя легкая одежда, а также удобный костюм, мужской и женский, для путешествий и прогулок).
Изощренная естественность, культивируемая рококо, требовала изощренной внешней формы. Ее принимало тело благодаря заостренному вниз треугольнику корсета и кольцам юбки, что пришло из Испании. При этом еще помнили о «моральной» функции такой юбки – она считалась хранительницей добродетели и называлась вертюгаден[648]. Тело, хотя частично обнажалось, однако благодаря обилию украшений превращалось в некую витрину для размещения декоративных предметов. Женщины, хотя не надолго, освободились от всех видов оков в конце XVIII в. с появлением моды à l’antique, что совпало с началом англомании.
До этого свободно падающая одежда из легких тканей, которая выявляет очертания тела, долгое время казалась некрасивой и даже неприличной и не допускалась как театральный костюм в постановках пьес с античными сюжетами, а также в балетах (ил. с. 343). Она распространилась с сентиментализмом и получила название рубашка (фр. – la chemise)[649]. Тогда же мужской костюм начал сближаться с формой тела, что дало бóльшую свободу движений.
В соответствии с принципом естественности моделировался не только костюм, облик садов, но и весь садовый быт, имитировавший жизнь «естественного человека». Ф. Глинка описал, как это выглядело в Ланьцуте И. Любомирской в 1805 г.:
«Позади… великолепных садов… очутишься в прелестной сельской обители. Куры, гуси, голуби и птицы всякого рода ходят и летают по двору; за загородкой, на свежем зеленом лугу пасутся тучные голландские коровы. Войдешь в маленький деревянный домик, в нем все простор и мило: шкаф с книгами, это сельская библиотека; в ней есть наставление, как ходить за коровами, как делать сыр и масло, и, между прочим, отличаются здесь Вергилиевы Георгики. Из сего места не видно ни палат, ни садов, никакого великолепия; оно окружено тенистыми рощами: тишина и спокойствие обитают в нем. Вот это мыза княгини. Здесь часто уединяется она… и здесь становится приветливою сельскою хозяйкою… живя в пышном величии, (она) чувствует его пустоту и умеет познавать сладость благотворения».
Дмитрий Левицкий. Портрет П.А.Демидова. 1773
Хотя естественный сад воплощал топос Аркадии, однако не наивный пастух был его обитателем. Шиллер хотел, чтобы пастушеская невинность сохранилась «в носителях культуры, в условиях самого развитого мышления, самого рафинированного искусства, высшей светской утонченности», «изобразить человека в состоянии невинности» – это значит представить его «в состоянии гармонии и мира с самим собой и с внешней средой»[650]. Такая гармония существовала в естественном саду. Там человек вносил в природу необходимое моральное начало, а также «украшал», «улучшал» ее, по терминологии той эпохи, или, как говорил Андрей Болотов, «наряжал деревьями». Выдвижение на первый план идеи природы способствовало автономизации эстетического восприятия, открывало возможность независимости эстетического суждения, позволяло искусству освобождаться от прямого морализаторства. Согласно Дидро, уже вид с холма внушает «презрение ко всему, что возносит человека, не делая его лучше», и он смирял «гордость головокружительным сравнением занимаемой точки с необъятным простором», который расстилается перед глазами; сельский вид для него «был чем-то одушевленным и говорящим»[651], как «говорящей» в руках мастера XVIII в. становилась садовая архитектура.
Идеальный владелец сада
В литературе XVIII в. утвердился образ благонравного владельца сада, а расточительные любители модных нововведений подвергались критике. Возобладал положительный стереотип. Плантоман воспринимался как создатель художественных, моральных и материальных ценностей, обладатель уголка земли, где предполагается всеобщее благополучие и достаток. Каждый человек рождается садовником, в этом его изначальное предназначение, говорилось в садоводческом трактате того времени[652]. Занятия садоводством совершенствуют душу. «Мне кажется невозможным, чтобы дурной человек мог [бы] иметь [сад]… отцы семейств, – призывал де Линь, – возбудите плантоманию в ваших детях. Они станут лучше»[653].
В.А. Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке. 1827
Созданию и улучшению сада посвящалось много времени, чем занималась интеллектуальная и политическая элита, представители правящих домов, высшей аристократии. Устройство садов становилось делом все более индивидуальным, хотя его основные элементы имели достаточно универсальный характер. Естественный человек просвещенной эпохи – это «человек эстетический»[654]. Просвещенный владелец сада обычно являлся одним из авторов его концепции, начиная с лорда Берлингтона и его Чизвика. XVIII век был временем дилетантов[655], которые не только в Англии оказывали значительное влияние на развитие садового искусства. Однако уже Л. Браун, а затем и Х. Рептон, представитель его школы, у которых суть разбивки или преобразования сада состояла в создании выразительного ландшафта, все брали в свои профессиональные руки, предоставляя хозяину возможность лишь выбирать варианты. Рептон изобрел для этого способ «надевать» на изображение старого сада новую одежду, как это делается с бумажными куклами, показывая в своих акварелях будущий вид усадьбы. Увлечение садами часто превращалось в одержимость, Folie называли сад герцога Шартрского в Париже (folie фр. – безумие; англ. – folly[656]; с. 340), а также Казимежа Понятовского в Варшаве, при этом имелась в виду чрезмерность садовых украшений и соответственно – расточительность. К личности садовода предъявлялись высокие требования. «Искусство расположения садов по Китайскому манеру, – переводил русский автор У. Чемберса, – чрезвычайно трудно, и посредственного понятия людьми не постижимо; потому, что хотя правила тому простыя и весьма явственные, однако ж произведение оных в действо требует острого ума, тонкого разсуждения и великаго искусства; также сильнаго воображения и совершенного знания человеческаго желания и склонности. И как сему искусству никакого определенного правила не имеется, то подвержено оно столь многим переменам, сколько находится различных распоряжений в созданиях мира»[657].
Надеждино. Китайский павильон. Гравюра В. Иванова по рис. В.П. Причетникова
Если для разбивки французского сада достаточно было архитектора, то творец естественного сада, по мнению Ж. Делиля, должен был соединять в себе философа, художника, поэта. Однако и этого было мало. Кроме соответствующих материальных и интеллектуальных возможностей, для создания такого сада, как писал де Линь, – «нужны широкое пространство и большая власть, сосредоточенные в руках художника или богатого, настоящего господина; нужно, чтобы ему надоели все развлечения, чтобы он имел потребность, удалившись в деревню, постоянно варьировать и все оживлять; он почувствует, какие детали необходимы, и предложит новую композицию»[658].
Сад просветителей был выражением мечты о гармоничном мире, где царят отношения любви и дружбы, где человек обретает внутреннее спокойствие, общается только с родственными ему прекрасными душами, познает самого себя. Согласно Руссо, вход в «леса и долы» закрыт «всем проходимцам без изъятия», глупцам, льстецам, врунам, для «щеголей безвкусных», ханжей, «дворян из самых захолустных, что предков чтят и, как они, ничтожны сами». Сюда не нужно звать ни крезов, ни хвастунов, ни «лихих рубак, всегда готовых бить, стрелять, свое занятье восхвалять»[659]. Здесь место учтивым, прямодушным людям, таким, которые пекутся о чужой судьбе, способны к шуткам, кто «друг наслаждений», «друг широты [души] – не безрассудства».
Естественный сад был и Раем, и Чистилищем. Здесь происходили удивительные метаморфозы. Поэт Станислав Трембецкий так описывал один из фрагментов парка Зофьювка: остров, названный Анти-Кирка (Цирцея), как место, где «каждая зверушка… становится лучше и приобретает человеческий облик», т. е. там снимались чары с тех, кого эта волшебница превратила в «низких тварей»[660]. Подобную функцию Анти-Цирцеи должен был выполнить сад просветителей по отношению к его обитателю – метаморфозам здесь подвергалась не только природа, но и человек.
Сады издавна были объектом глубоко личного отношения владельцев. «Тот, кто захочет заложить сад… должен смотреть на него, как на друга: узнать его в мельчайших деталях, привязаться к нему, скрывать его недостатки, показывать достоинства, никогда его не покидать, всегда ему помогать», – писала в своем садовом сочинении, И. Чарторыская для которой ее сады в Повонзках и Пулавах стали жизненным делом[661]. Приложив огромные усилия, чтобы привести естественный ландшафт в соответствие с представлениями о прекрасной природе, создатель сада, согласно Делилю, с удовлетворением наблюдал, как «весь пейзаж окрестный / Возвышенный искусств гармонией чудесной / Неузнаваемый приобретает вид / И восхищает взгляд, и душу веселит».
Ориентиром садового искусства и его естественной утопии выступила Аркадия, превращенная Вергилием и всей мифопоэтической традицией в прекрасный ландшафт, от этой идилличной природы были неотделимы обитатели Аркадии. В садах XVIII в. ими были не только просвещенные владельцы, которые вели там пейзанский образ жизни, но и разного рода живность. Овцы и коровы наполняли сад движением и звуками своих колокольчиков, «ухаживали» за газонами, а также декоративно разнообразили их зеленое пространство, ярко выделяясь на его фоне (с. 191, 235). Появлялись в этих садах и крестьяне, наполняя сад движением и песнями, как это происходило в Белёй принца де Линя, куда они приходили, окончив свои работы.
Обитатель естественного сада хотел стать человеком не только естественным, благонравным, но и счастливым. Для достижения этого требовались иллюзии и игра, а также доля утопизма. Все это было заложено в концепцию естественного сада Просвещения.
Естественность, утопизм, театральность
«Когда мысль делает особые усилия, чтобы придать зримые очертания импульсу утопического, – писал А.В. Михайлов, – рождаются произведения, не содержащие описание идеального государственного устройства… Картина будущего остается туманной, зато утопические черты приобретает сама борьба за утопию, за ее осуществление»[662]. Утопия Просвещения была утопией бегства и реконструкции, если воспользоваться классификацией Л. Мамфорда[663]. Та эпоха их еще не разделила. С одной стороны, человек находил в садах убежище от неблагополучия жизни, с другой – он постоянно стремился ее преобразовывать. При этом «рассуждения о лучшей возможной форме мышления быстро приводили из сферы спекуляции к действию»[664].
Идея приоритета естественной природы, родившись в умах поэтов и философов, часто ими же реализовывалась в их собственных садах, где, как и в утопиях, они хотели создать мир, альтернативный существующему, искусственно воспроизвести облик естественной природы. Природная среда в утопиях того времени – сцена благополучных робинзонад, анклавами счастливой жизни представали далекие страны, уединенные острова. О них напоминали сады своими ландшафтами, экзотическими постройками. Садовая обстановка казалась, а в ряде случаев и была наиболее подходящей для реализации справедливых отношений, основанных на идее естественного равенства. Вяземский увидел в Пулавах, что там «есть роскошь, почтенная в положении крестьян: они очень счастливы и по-своему образованы»[665].
В своем садовом сочинении Делиль писал об утопизме поэзии, что она «способна с помощью воображения подниматься… над прискорбным зрелищем испорченного века… создавать иные миры, выбирать для них жителей… Она может уводить… в убежище уединения, наиболее надежное при тирании»[666]. Такими «лучшими мирами» хотели сделать сады и парки.
В литературе высказывалось сомнение в правомерности видеть в садах Просвещения утопические тенденции[667]. Их программа действительно не укладывается в понятие утопии как философско-рационалистического конструкта, а тем более утопии как литературного жанра. Однако проявления утопизма в культуре имели многообразный характер, само понятие утопия получило многозначность, «в основе утопии [лежит] некоторый общий вариант видения мира. Утопическое начало шире понятия утопии, которая является его производной»[668]. Вместе с тем утопизм естественного парка не был связан лишь с осмыслением его как подобия Рая. Кроме того, в основе этого образа, ранее осознаваемого как сакральный, лежала не столько фольклорно-мифологическая традиция пасторали[669], сколько библейский текст. Пастораль же в садовом контексте привлекала внимание прежде всего благодаря ее заслуживающему подражания естественному ландшафту и близости ее персонажей образу «естественного человека», которому Шиллер, согласно уже цитированной его мысли, рекомендовал сохранять «пастушескую невинность».
Утопизм был фундаментальным свойством культуры Просвещения. Его можно обнаружить и в пределах пасторали. «Изящная, естественная и деликатная», по словам А.К. Чарторыского[670], как воплощение неиспорченной природы и нравов она была «в высшей степени игровой системой» (Й. Хейзинга). Аркадийский миф, из которого она вышла, можно было бы назвать мифом-утопией, если бы он не омрачался мотивом смерти, возникшем у его истоков (боги наградили Филемона и Бавкиду за гостеприимство одновременной смертью) и повторявшемся как рефрен в культуре Нового времени (Et in Arcadia ego). Смерть вошла в сад как запрограммированная природой, а потому была естественна, и просвещенный человек к ней относился спокойно. «Каждая культура имеет свой особый род смерти, вытекающий с глубокой неизбежностью из всего ее существования»[671], что было свойственно и Просвещению (с. 200–202).
Утопизм естественного сада был связан и с собственно социальной программой, что по отношению к крестьянам пытались реализовать посредством благотворительной деятельности, а также рациональной организации хозяйства. Утопия и прагматика не выступали в оппозиции[672]. Эстетизацию и утопичность в пространство сада приносила также его связь с театром. Как ни парадоксально, театрализация сада и садовой жизни способствовала утверждению идеала естественности (c. 171). В XVIII в. театры, если это позволяли практические возможности, были частой принадлежностью сельских резиденций и усадеб. В России такие театры выступали как явление многосоставное, соединяясь с любительским, крепостным, и народным театром.
Создавая особое поле социальных контактов, усадебный театр служил также важнейшей формой существования театра в провинции[673].
Поводы самого разного плана и масштаба объясняли «влечение помещика к театру»[674]. Весь тогдашний садовый быт был театром и, чтобы в нем играть, не обязательно было строить специальные здания. Как писал о садах Ж. Делиль, «блистательный театр, где каждый посетитель / В шуму веселий сам и зрелище, и зритель» (пер. А.Ф. Воейкова). Соединение театра и усадьбы в широком смысле возникало вследствие особой роли театрализации как синтезирующей формы культуры, о чем еще пойдет речь (IV.3).
В названном влечении к театру можно увидеть и характерный для всей тогдашней Европы интерес к нему как виду искусства. Усадебный театр давал возможность приобщиться к европейской жизни и моде, а его создателю – быть или только чувствовать себя меценатом, человеком éclairé par les arts, просвещенным искусствами. Такой тип личности был известен уже в XVII в., когда подобные занятия рассматривались как знак virtue (добродетели)[675]. Теперь этот тип человека появился и на восточноевропейских землях в облике владельца усадьбы[676]. На сцене театра он хотел созерцать тот красивый мир, который как конечный результат рисовался в утопической мысли просветителей, а также в программе естественного сада. Театр позволял «красиво жить», повышал престиж владельца в глазах соседей и вместе с тем служил поводом для контактов. Он был приятным времяпрепровождением, включая удовольствия, определяемые сугубо личными склонностями, которые крепостной театр делал легко доступными.
Кроме всего прочего, театр позволял разнообразить жизнь, разгонять деревенскую скуку. Красицкий писал иронично об атмосфере английского сада, что там все происходит «как бы от скуки, как бы от игры» – такое впечатление хотели производить его кокетливые польские обитательницы[677]. Русский дворянин, только недавно получивший возможность не служить в городе, а жить в поместье, полнокровно радовался этому, в особенности если пребывание там было добровольным. Однако и А.Б. Куракин, воспитанник Лейденского университета, дипломат, масон, высланный Екатериной II из Петербурга в имение в Саратовскую губернию, скрашивал жизнь садовыми и театральными развлечениями (если помещик сам не устраивал их, то мог бывать в театре у соседей).
Танец. Гобелен по рисунку Жан Батиста Лепренса из серии «Русские игры». 1769
В своем обширном английском парке Куракин дал названия всем его элементам, по преимуществу гедонистические и масонские, включая название Надеждино, как он переименовал усадьбу (ил. с. 42, 242). Там были просеки и дорожки: твердости, ожидания благоденствия, преодолеваемых трудностей, истинного разумения, спокойствия душевного, славных дел, уединения, постоянного друга, приятного наслаждения, отрады, милой тени, удовольствия, неожиданного утешения, частого повторения, воспоминания прошедших утех, веселой мысли, скорого достижения, жаркого любовника, верных любовниц. Значились также просеки – цесаревичев (слово просек раньше употреблялось в мужском роде), Нелидовой, Антуанетин (на этом просеке стоял обелиск и бюст казненной королевы, Марьи Антоновны, как ее называли деревенские)[678], что очерчивало круг контактов и личных симпатий Куракина[679].
Эти названия были нанесены на план парка и размещены в его пространстве на указателях. Перекрестки были отмечены храмами, также с программными названиями (в том числе славы, терпения, дружбы, истины, вместилища чувств вечных). Прямолинейные просеки-проспекты, сочетаясь с извилистыми дорожками-переулками, создавали образ идеального города, где каждый мог найти свой адрес. Возможно, в этом проявилась ностальгия по городским улицам, которую Куракин мог начать испытывать за четырнадцать лет вынужденного пребывания в деревне (1782–1796).
Владелец хотел, «дабы все прогуливающиеся могли тотчас проникнуться соответствующими идеями и настроениями». Поэтому к этим указателям Т. Троепольскому были заказаны стихи, дважды изданные вместе с планом и видами. В надписях Куракин, по собственным словам, представил свою «обнаженную душу», которую после «Исповеди» Руссо часто раскрывали.
Томас Гейнсборо. Беседа в парке. 1760
Список названий на плане завершала тропинка «услаждения самого себя», она вела к познанию чувств грусти и душевного покоя, наступающего вместе с радостью «неомраченного счастья, свободного от забот, тревог, укоров совести, сожалений», которыми полон большой свет. Так Куракин описал свои чувства в посвященном надеждинским садам письме к Великому князю Павлу. С ним, как и с Марией Федоровной, его связывали тесные отношения. Куракин был похоронен в Павловске, где вдовствующая императрица поставила ему памятник[680].
Игра и иллюзия
Человек XVIII века был не только человеком естественным и эстетическим, но и человеком играющим. Понятие игра, появившееся еще в античности, многозначно. Наиболее широкий смысл ему придал Й. Хейзинга, истолковав ее как свободное творческое начало, как особый продукт деятельности духа, необходимый в его культурной функции и находящийся вне сферы прямого удовлетворения потребностей, не отождествимый ни с моралью, ни с эстетикой.
Для Хейзинги игра – определенное «качество деятельности», отличное от «обыденной» жизни, «жизни как таковой», игра служит ее «преображению»[681]. Игровое начало, разлитое по всему пространству культуры, свидетельствует о сложности взаимосвязи явления и сущности, о рефлективном отношении человека к потоку жизни, о возможности организовать ее, упорядочить в соответствии с определенными представлениями, идеалами. Игра – это тот мировой слой, в котором происходят «встреча, столкновение, наконец, переворачивание и взаимопревращение противоположных начал», совершаются «самые напряженные экзистенциальные процессы жизни… осмысляются и борются между собой ценности разного порядка»[682].
«Идею Игры мы считаем вечной и потому всегда… жившей в мире и о себе заявлявшей, ее осуществление… имеет свою историю», – писал Г. Гессе («Игра в бисер». 1931–1942). Открытое выражение игровое и собственно театральное начало получило в эпоху Просвещения, которая, по словам Ламетри, видела «все объекты, все, что происходит в Универсуме, как прекрасную оперную декорацию»[683]. Критический разум не во всем отделял воображаемое от действительного, та эпоха не отказалась от иллюзионистических обманок и культивировала утопию. Театральность стала глубинным свойством той эпохи, а рококо, появившееся тогда, – стилем par excellence людическим (IV.3). То, что в барокко представало как напряженная борьба противостоящих сил, в рококо превращалось в изящное соперничество. В культуре барокко игра приобрела космический масштаб, ее местом стал Theatrum mundi. Земные события там представали как экзистенциальные, связанные с вечностью. Идею бренности бытия выражали строки Шекспира: «Мир – театр; / В нем женщины, мужчины, все – актеры; / У каждого есть вход и выход свой…» (пер. П. Вейнберга). Теперь все было иначе.
Шиллер, опираясь на Канта, развил свою теорию эстетической игры. Игра – это необходимое свойство человека, однако он «играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет»[684]. Побуждает же к игре красота. В игре, по мысли автора, раскрывается сущность искусства, стоящего между жизнью и идеалом. Эстетическая игра виделась как средство достижения гармонии не только в сфере искусства, но и в искусстве жить (c. 17). Самые серьезные мысли та эпоха любила подавать игриво и легко. Развлекательная форма служила и усвоению необходимых уроков, в том числе морали. Человек в XVIII в. ориентировался на публику. Он искал успех, признание, популярность. Даже интимные сцены жизни, изображавшиеся в картинах, были рассчитаны на зрителя, а потому фривольны.
Монсо. Замок-руина с мостом и каскадом. Гравюра по рисунку Кармонтеля
Смыслом естественного сада было если не утвердить, то продемонстрировать непротиворечивое единение практических и духовных потребностей, природного и социального, эстетического и прагматического начал, реализуя таким образом основные постулаты Просвещения. В «садовой игре» ее участники искали свое естество и необходимую для его реализации «естественность». Отсюда вытекала принципиальная театрализация их поведения. Условность садового существования определялась также тем, что творимый там мир не был отражением реальной гармонии, а лишь попыткой смоделировать его в качестве такового, что не нарушало, согласно тогдашним представлениям, границ правды. «Что же такое театральная правдивость? Это соответствие действий, речи, лица, голоса, движений идеальному образу, созданному воображением поэта»[685], – писал Дидро. Этот идеальный образ «естественного человека» присутствовал в саду философов. Его роль должен был сыграть обитатель этого сада.
В представлениях того века чем-то особенно важным была иллюзия как видимость, отделенная от реальности. Она открывала путь разнообразию, которое считалось необходимым достоинством произведений. Способность к иллюзиям считалась свойством лишь просвещенного человека. Для него иллюзия «натурального» была важнее истинной натуральности, подобно тому как «кажущаяся» правда, правдоподобие были важнее и занимательнее самой правды. Правдивость, согласно Дидро, – это соответствие идеальному образу, созданному поэтом. Отсюда особая роль иллюзии в искусстве и зрительском восприятии того времени. Она выступала посредником, который связывал действительность и искусство, реальность и идеал. Иллюзии – это «необходимые, спасительные ошибки, они нужны каждому, чтобы жить… и чтобы умножить удовольствие», – писала мадам Шатле в «Размышлениях о счастье»[686]. Станислав Август, ценил трагедии Шекспира именно за порождаемые ими иллюзии и самообман[687].
Ф. Глинка, побывав в имении Городно (Horodno), принадлежавшем Анне Тышкевич, известной любительнице садов, писал:
«Захочешь насладиться приятным утром – взглянешь на стену – и видишь в картине все прелести его. Как синь и прозрачен этот воздух! Как легки эти дымчатые облака! Как хороши первые лучи солнца!.. все в улыбке! В дополнение видишь невинность. В виде прелестной пастушки, с свежим, утренним румянцем на щеках и с пестрым стадом. Тут же вечер: как хорош! Не волшебник ли какой-нибудь собрал сизые тени вечерних сумерек и бросил их на холст? Они так живо изображены!»
Как видно, Глинке не нужно было смотреть на сад, разбитый вокруг дома, ни на окружающий ландшафт. Общение с природой заменяли висевшие на стене пейзажи.
Амплуа
Когда великого Гаррика спросили: «Вы никогда не бываете самим собой?» – он ответил: «Я всячески остерегаюсь этого». Тем самым актер сказал о принципах своей театральной игры, а также о любви людей XVIII в. к ролевому поведению, вместе с тем подчеркнув дистанцию, которая всегда сохраняется между театром и жизнью, и наче он перестает быть театром. Человек XVIII века любил менять маски, чему мог научиться в изменчивой театральной атмосфере рококо, и он начал «оборачиваться во все виды, какие навстречу попадутся», как говорилось в тогдашней русской комедии[688]. Популярным стал образ вольнодумца, эпикурейца, следующего своему выбору, а не традиции. Появился деятельный философ, покинувший свой кабинет, чтобы участвовать в путешествиях, философствующий и чувствительный любитель природы, эксцентричный авантюрист, не лишенный интеллектуальных склонностей. Вместе с тем l’homme d’esprit не обязательно был добродетельным человеком. Характерным был тип франта, игрока, картежника (неудачная игра как трагедия станет литературным мотивом в эпоху романтизма, однако показательно, что сам мотив игры у Пушкина оказался связан с событиями и персонажами предшествующей эпохи).
В XVIII в. склонность к игре находила выражение, в частности, в культивировании различных странностей. Чудаки были не менее типичны для того времени, чем рациональные философы, которые и сами отличались чудачествами, при этом естественными. Именно тогда появилась мода на оригинальность в поведении и костюме (так наз. incroyable и merveilleuse; ил. с. 251).
Длительное господство высоких жанров определило четкую дистанцию между героем художественного произведения и его читателем. Он никогда не отождествлял себя с царственными персонажами трагедии. В XVIII в. с нарушением границ жанров, их снижением, утверждением в искусстве рядового героя, для читателя, как и для автора, стало возможным поставить себя на его место – этому способствовали создатели сентиментальных романов, чей лик постоянно просматривается за мыслями и поступками персонажей. В процессе чтения человек, как бы перевоплощаясь, в качестве своих принимал радости и несчастья персонажей, утопически проецировал на себя happy end’ы, которые были столь распространены в сочинениях той проникнутой оптимизмом и жаждой справедливости эпохи.
Героини чувствительных романов служили образцом для подражания, вытесняя в данной роли святых. Имена Памелы и Филемона начали давать детям. Павильоны и лужайки «заселялись» литературными и мифологическими персонажами. В их мир погружались, удобно расположившись с книгой в руках в тени деревьев, чтобы «размышлять над несчастьями Памелы или Элоизы». Ф. Князьнин в поэме «Воздушный шар», посвященной Пулавам, населил их «розовый сад» сильфами, которые описаны Поупом в поэме «Похищение локона»[689]. XVIII век любил не только «театр в театре», но и «литературу в литературе».
Сближение героя и читателя не означало фамильярности их отношений. Они оставались в сфере «изящного». При этом читатель свободно перемещался из бытовой сферы в сферу эстетическую и обратно. В этих условиях искусство не только входило в повседневность, но реальная жизнь одновременно становилась как бы «жизнью в искусстве», между ними стиралась четкая граница (c. 347). Тем более ослаблялось ее ощущение в саду, возникшем на грани искусства и действительности, развертывающемся одновременно в реальном и в художественном пространстве. Сад располагался также на пограничье реальности и утопии, классическим веком которой называют Просвещение[690].
В XVIII в. расширился «типологический набор» личностных моделей, т. е. амплуа, соответственно и типов поведения. Однако каждый хотел предстать прежде всего индивидуумом. Просвещенная личность легко поддавалась гармоничному раздвоению на частного и общественного человека.
Социальное положение определяло рамки поведения. Та степень вольнодумства, которую мог себе позволить аристократ, была недопустима для человека невысокого статуса, что отразилось, в частности, в отношениях Дж. Казановы с венецианской инквизицией. Преодолевать сословный барьер в светских контактах ему помогало масонство как внесословный институт: «Молодой человек из благородной семьи, – писал он, – который желает путешествовать и повидать… большой свет и не хочет… оказаться исключенным из круга себе равных, лишенным всех их удовольствий, должен быть посвящен в то, что называется франкмасонством»[691].
Казанова, как и де Линь (с. 268), в полной мере были людьми своей эпохи, более того, ее знаковыми фигурами, получив общеевропейскую известность. Они поддерживали дружеские отношения, хотя стояли на разных концах социальной лестницы. Важнее для них оказалось то, что оба были интеллектуалами и либертинами. Казанова – литератор, эрудит, доктор юриспруденции, полиглот, скрипач, медик, алхимик, масон, дуэлянт, узник инквизиции, путешественник, галантный кавалер, эталонный для эпохи рококо герой-любовник, знаток книг, хранитель старинной библиотеки и мемуарист-историк (эта его роль в последнее время оценивается все выше). По свидетельству де Линя, даже «в похождениях весьма сомнительных выказывал он себя человеком порядочным, утонченным и отважным»[692].
Человек на садовой сцене
Театрализованное действо ежедневно развертывалось на всем зеленом пространстве сада, в садовых постройках, служивших одновременно сценой и декорацией. Там были свои условности, своя динамика и драматургия, свои персонажи, которым в духе эпохи отводилась не только сюжетная, дидактическая, но и конкретно практическая роль. На пример, отшельник и, олицетворявшие идею самоуглубления, могли выполнять функции сторожа.
Богдан Суходольский. Прогулка. 1754
Романтик Юлиуш Словацкий позднее иронизировал над подобными инсценировками, описав режиссерские указания владелицы сада:
Пусть на лужок придет пастух со стадом; Старик Антон пусть в пруд закинет сети Под ивою плакучей. А рядом Пускай займутся маленькие дети Плетением корзинок… как у Тасса. Жнецов поющих разместите сзади; И чтоб на скалах Анкин козлик пасся. Ах, да! Пустите воду в водопаде.Так и хозяева, и их крестьяне, и животные становились участниками садового спектакля. Прекрасные представления соединялись с «сельскими играми и забавами, катаниями по воде, которые, совершаясь при луне и музыке, имели много разнообразия и очарования»[693] (ил. с. 253). Театрализованные сцены столь непосредственно вплетались в естественный ход событий, что возникала иллюзия их полного единства. В Пулавах гости, «не знакомые с местными обычаями», приняли инсценированное Чарторыской шествие арабских коней и верблюдов за настоящий торговый караван[694].
В садах устраивались и иные инсценировки, как «Родственное празднество, на брачное воспоминание князя Александра Алексеевича и княгини Елены Никитишны Вяземских, представленное невзначай семейством Алексея Ивановича в селе Александровском, в саду, 18 июля 1791». Стихи к представлению, которое было соседским юбилейным сюрпризом, писал Державин. Его авторские ремарки взяли на себя комплексные режиссерские функции, определив все действие:
«Зрелище представляет в саду беседку и в ней сидящих хозяина с хозяйкою, украшенных летами, почестями и добродетелями, окруженных их семейством. К ним входят, в убранстве Флоры и Помоны, две младыя девицы с корзинами, одна неся цветы, а другая плоды»: „И мы в сии места, Почтенная чета! Среди семьи твоей / Пришли со-разделить / Приятный праздникъ сей“, – пели они, чередуясь далее с хором, призывавшим: „Внемлите там поющихъ хоры: / Они поютъ вашъ бракъ, любовь“, а Флора предлагала: „Почтимъ сей день своим невиннымъ мы плясаньем“. «По окончании хора, Флора и Помона берутъ друга за руки и начинают Польский танец – прочие ж молодые люди почтеннаго сего семейства… попарно следуют за ними», после чего юбилярам все «делают пристойные знаки почтения и тем оканчивается cиe родственное празднество», как разъясняла ход действия другая ремарка. Несколько более торжественно проходил подобный праздник в Седльцах Огиньских, о чем свидетельствует сохранившийся в архиве текст.
В игру вовлекалась сама садовая природа. Фр. Езерский писал, что здесь благодаря оранжереям и теплицам февраль имитирует тепло августа, поэтому «садовое искусство предстает как театр природы, в котором, подобно актерам, один месяц играет роль другого»[695]. Представить в саду ее картины было недостаточно. Их нужно было дополнить костюмированными фигурами. Переодетые пастушки, садовницы, молочницы и соответствующие их занятиям постройки олицетворяли соединение приятного и полезного. Сами молочные фермы с их изящным устройством, дорогой фарфоровой посудой воспринимались как игрушки. Игрушкой благодаря камерности масштаба, имитации экзотических построек, различным развлекательным сооружениям, затейливому узору дорожек и посадок мог восприниматься сад в целом – таковы французские рокайльные Монсо и Багатель, польский Мокотов, принадлежавшие жанру англо-китайских садов, в которых игровое начало выразилось наиболее полно.
Сад был искусством и природой, его атмосфера, как и театра, была двойственна. В XVIII в. ее наполняла модная меланхолия – также двойственное чувство. Садовые и садоподобные ландшафты служили средой fêtes galantеs и в живописных полотнах, и в жизни. Они были миром поэтической влюбленности, изящного кокетства, легкой грусти, как и театр Мариво, музыка клавесинистов, полотна Ватто и всей плеяды художников рококо, которое благодаря Ж.П. Норблену достигло Польши (с. 325).
Появилось оно и в России (c. 354). С садовой темой непосредственно связаны четыре рокайльные панно. Их автором был Б.В. Суходольский – художник с малоизвестной биографией, работавший с А. Перезинотти (c. 69). Панно представляют разное время суток – это Прогулка, Астрономия, Живопись и Музыка. Они не являются аллегориями, как можно было бы предположить, а представляют людей, действительно предающихся соответствующим занятиям, как это происходило в ту эпоху в реальной жизни: в Астрономии все вооружены оптическими приборами, в Живописи показана художница, пишущая в саду портрет молодой женщины, за чем наблюдают зрители (женщины-художницы действительно активно включались тогда в культурную жизнь, а мастерские были местом светских визитов заказчиков). В Прогулке изображены не просто праздно гуляющие: один, разложив перед собой раскрытые книги, расположился около памятника, вероятно изучая его историю; другой с путеводителем в руках сверяет с ним открывающийся вид; родительская пара в центре, движущаяся в сад от входных ворот, разглядывает план, чтобы знать, куда направиться вместе с дочкой.
Все эти сцены происходят в фантазийном садообразном живописном ландшафте – там есть арки, колоннады в виде руин, высокая стена, зарастающая зеленью, надгробье, «дикие» фрагменты с засохшими деревьями, лежащие на земле скалистые обломки. В композиции Живопись на втором плане изображен окаймленный скульптурами партер рядом с полускрытой в тумане постройкой, которую осматривает какая-то пара. Все архитектурные и садовые элементы, барочные по характеру, – прекрасный след минувшей эпохи, регулярное пространство которой природа и история преображают в живописное. Такие виды как раз в то время начал имитировать естественный парк, в частности воспроизводя руины, скрывающиеся под покровом растительности.
Художник, оживив полотна фигурами, представил круг занятий просвещенного человека в саду, в том числе познавательную прогулку-экскурсию. Полотна Суходольского, при всем их несовершенстве, весьма примечательны в своем роде, свидетельствуя о том, что он был в курсе актуальных садовых тенденций, еще мало известных в России (в их освоении могли помочь гравюры). Владей художник садом, он мог бы придать также ему заслуживающий внимания облик. Однако в XVIII в. для всего этого нужно было обладать не только способностями. «Естественный человек» в садах той эпохи был человеком состоятельным.
Так в садах Просвещения соединялись жизнь, природа и культура. Не отождествляясь ни в эстетической теории, ни в художественной практике, искусство и действительность образовывали специфический игровой синтез, придавший культуре Просвещения неповторимый образ. Создателем этого пасторального мира был «человек естественный» и человек в него играющий, ушедшие вместе со своим садом и своей эпохой. Честертон, вспоминая о ней, задавался вопросом, «не оскудел ли мир, когда перестал верить в счастливых пастушек?» Они вносили в садовую игру просветителей светлый миф. Однако свое в садах брала и природа. Каждый человек, независимо от всех концепций, привносимых в сад различными эпохами и их интерпретаторами, благодаря воздуху, растениям, водным пространствам там отдыхал и становился человеком действительно естественным. Удобно расположиться на траве можно было и около геометричных каналов Фонтенбло, будучи облаченным в изысканные одежды (ил. с. 216). Правда, такую естественную сцену в саду à la française запечатлел художник конца XVIII в.
Богдан Суходольский. Прогулка. 1754. Фрагмент
Глава 3 Принц эпохи просвещения: Шарль Жозеф де Линь
Besoin de voyager. – Садовые сочинения и впечатления. – Крым. – В контексте эпохи
Замок Белёй
Шарля Жозефа де Линя (1735–1814) современники называли «принцем Европы». Это звучало не только метафорически. О себе он писал: «У меня шесть или семь отечеств: империя [Австрийская], Фландрия, Польша, Россия и в некотором смысле Венгрия, так как там обязаны давать дворянство всем, кто воюет с турками»[696]. Этот принц был также наследным испанским грандом. Уроженец тогдашних южных Нидерландов (в настоящее время Бельгия) он был подданным Австрийской империи, которой тогда принадлежали эти земли. В Польше де Линь получил редко предоставляемое иностранцам шляхетство («меня сделали поляком проездом», – писал он) и некоторые видели в нем даже возможного кандидата на королевский престол (что называл недоразумением). В России он имел звание генерал-аншефа, Екатерина II пожаловала ему земли в Крыму (одно из писем к ней со свойственной ему иронией он подписал: «Русский и татарский подданный Вашего Императорского величества»[697]). Несколько лет де Линь провел при французском дворе. Он был носителем французской культуры. «Может статься, принц де Линь есть единственный чужестранец, сделавшийся между французами образцом… [а не] их подражателем… Храбрость его имеет тот пылкий и блестящий характер, который обычно приписывают храбрости французской», – писала Жермена де Сталь в предисловии к изданным ею сочинениям де Линя[698].
А.В. Суворов, в турецкой кампании которого участвовал принц, так писал к нему не без лести и преувеличенной скромности:
«Никогда не прервется мое к тебе уважение, почтение и дружество; явлюся подражателем твоих доблестей ироических… Слава обоих наших Юпитеров, Северного и Западного… и собственная наша с тобою слава, как некий гром наполнит нас мудростию и мужеством. Клеврет знаменитый, имеющий чистое сердце, чистый ум!»
Принц достойно продолжал рыцарские традиции своего рода, одного из древнейших в Европе, пройдя путь от низших офицерских чинов до фельдмаршала Австрийской империи, оставив также ценные сочинения по военному делу и военные мемуары.
Как посредник между монархами крупнейших европейских держав, он был, по его собственному выражению, «дипломатическим жокеем» (особенно заметной оказалась его роль в отношениях Екатерины II и Иосифа II). Принц вращался в кругах просвещенной элиты, посещал наиболее известные парижские интеллектуальные салоны, общался с Вольтером и Руссо[699], оставив их литературные портреты, точные и живые, подобно другим его описаниям исторических лиц. Он рассматривается как наиболее крупная фигура бельгийской литературы XVIII – начала XIX в.
Человек внутренней свободы, непосредственный, открытый и чувствительный, он был ироничным, в том числе по отношению к самому себе. Его афоризмы и шутки, иногда фривольные, знал весь просвещенный мир, он привлекал к себе не только высокой образованностью, но и своим шармом. Без де Линя эпоха лишилась бы одной из ее ярких и неповторимых фигур, а без его сочинений сведения о событиях, происходивших в разных сферах жизни – военной, политической, светской, культурной, – оказались бы менее полными или утраченными. Глубоко индивидуальный во всех своих проявлениях, он был рафинированным воплощением уходящего l’ancien régime и вместе с тем личностью эпохи Просвещения.
Де Линь причастен творению культурных, политических и бытовых реалий, определявших облик Европы во второй половине XVIII в. Благодаря его прямым контактам, а также обширной корреспонденции он влиял также на представления о России, которые складывались в то время. Современники и позднейшие авторы не обходили вниманием личность де Линя. Жермена де Сталь писала, что во всем, связанном с ним, есть «de l’esprit et l’originalité». Его имя как храброго воина, сражавшегося под Измаилом, встречается на страницах «Дон Жуана» Байрона, который, пользуясь мемуарами принца, воссоздал событийную канву измаильской эпопеи. Крымские тексты де Линя читал Пушкин при работе над «Бахчисарайским фонтаном». О нем как мастере эпистолярного жанра напоминают строки из «Войны и мира» Толстого. В качестве воздухоплавателя, «славного завоевателя воздуха» его упоминал Жюль Верн. О де Лине писал Сент-Бёв. «Я, читающая о Prince de Ligne в музее и пишущая о нем на чердаке, – какая тема для самого Prince de Ligne!» – эти слова оставила в своих записных книжках М. Цветаева.
Мулен Жоли. Открытка. Конец 19 в.
Besoin de voyager
Де Линю была присуща потребность путешествовать. Поводом отправиться в путь обычно служили военные походы, дипломатические вояжи, поездки, предпринимавшиеся с какими-либо конкретными целями, но выходившие за их рамки, пример чему первое пребывание принца в России (1780), благодаря которому он надолго оказался связан с этой страной. «Я везде люблю мое положение иностранца… француз в Австрии, австрийцец во Франции, тот и другой в России – это единственное средство всем нравиться и ни от кого не зависеть»[700]. Путешествия как культурный феномен в целом стали знаком той эпохи. В XVIII в. расширились их цели, изменился характер. Отошли на дальний план паломничества, главными стали познавательные и развлекательные поездки. Тон им задали англичане своим Grand tour (о нем напоминает позднейшее понятие туризм).
В «экскурсионных» поездках де Линь рано разочаровался, насколько можно судить по небольшому наброску «О путешествиях». В нем он сатирически представил различные типы тогдашних туристов и неутешительные результаты их вояжей. Много позднее, в 1808 г., де Линь, проведя по его подсчетам три-четыре года в дороге, с позиций опытного вояжера в стихах наставлял читателя в «искусстве путешествий»[701].
Как истинный плантоман, выделявшийся в этом отношении даже на фоне того времени, владелец и преобразователь известного в тогдашней Европе Белёй, де Линь пользовался каждым случаем посетить сады. Для него главным были собственные впечатления, что соответствовало духу сенсуализма. На них основывались оставленные им конкретные сведения и общие рассуждения, щедро пересыпанные описанием его садовых эмоций. В ту эпоху их не скрывали, без стеснения рассказывая о головокружениях от прекрасных садовых видов и мужских слезах. Де Линь призывал проливать их по поводу сада Мулен Жоли(Очаровательная мельница), погрузившись в сочинение о нем его создателя: «Читайте, смотрите и плачьте, не от печали, а от приятной чувствительности… и благословляйте Г[oсподина] Ватле»[702]. К этому же позднее призывала Жорж Санд («Письма путешественника»).
Садовые сочинения и впечатления
Необычность маршрутов (во время турецкой кампании де Линь, по его словам, три года жил «в Татарии, Молдавии, Новой и старой Сербии, Штирии, Моравии и почти в Силезии»[703]) позволила принцу значительно расширить географию садовых описаний, по сравнению с тем, что обычно попадало в поле зрения авторов садовых трактатов и путешественников в целом. Он описал сады, постройки, а в ряде случаев и природные ландшафты Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии. Если Уильям Чемберс ввел в европейскую садовую литературу Китай, то де Линь – Крым с его восточными садами.
Шантийи. Деревушка. 1774
Принц посвятил садам три сочинения: «Взгляд на Белёй и на большую часть садов Европы» (1781)[704], «Моя Обитель, или Сатира на пороки современных садов» (1801), «Прощание с Белёй» (1807)[705]. Свои впечатления и взгляды наиболее развернуто он изложил в первом из них, которое неоднократно дополнял. В результате в позднейших изданиях оказались соединены описания садов разных лет.
«Взгляд на Белёй» написан в свойственном принцу «genre parlé» (разговорном жанре), как его определила мадам де Сталь, отметившая также специфику синтаксиса. Сам де Линь называл свой эскизный, импровизационный способ изложения мыслей «genre naturel et irrégulier» (VIII. 92), а сочинение озаглавил «Взгляд, брошенный… на сады». По словам принца, оно представляет собой описание его садов, сельских и охотничьих домов, воспоминания с комментарием о садах разных наций, «иногда это точность, иногда роман, иногда пастораль», часто господствует «воображение, я позволяю сюжету захватить меня… садовод себя забывает. Есть быть может и философия [в эпоху Просвещения под этим понятием имели в виду все размышления человека и о человеке], разумные рассуждения, но часто и вещи, которые противоречат здравому смыслу» (VIII, 13–14).
Максималистские признания делал Руссо: «Слог… будет у меня такой, какой сам выйдет… я буду говорить обо всем, не стесняясь ничем» («Исповедь»). В другом месте философ писал: «Я набрасываю мои бессвязные мысли на лоскутки бумаги; кое-как скрепляю все это и таким образом составляю книгу; я люблю рассуждать, исследовать, выдумывать; но я не люблю приводить в порядок».
В сочинении «Взгляд на Белёй» де Линь свободно рассказывал о своих «принципах, сомнениях и рефлексиях» и хотел внушить любовь к садам всем людям мира – та эпоха любила масштабные проекты (VIII, 92).
Ланселот Капабилити Браун. Шеффилд парк. Около 1775
Содержащее большую практическую информацию сочинение не является лишь садовым трактатом. Далеко оно и от жанра описательной поэмы не только потому, что написано прозой, это также не реляция путешественника – сочинение причастно всем этим жанрам, свободно сочетая их свойства и функции. Вместе с тем оно позволяет назвать принца первым художественным критиком, писавшим о садах и участвовавшим в становлении критики как жанра.
Сам он признавался, что хочет давать «примеры и советы» (IX, 16). Ценя утонченный вкус принца, к нему действительно прислушивались и Мария Антуанетта, когда устраивала сады Малого Трианона, и граф д’Артуа (будущий Карл Х) при разбивке сада Багатель, и герцог Шартрский (позднее Филипп Эгалите), создавая Монсо. В Чехии (тогдашней Богемии) принц небезучастно наблюдал за переделкой сада графа Хотека (c. 173). Советы де Линя повлияли на устройство сада в усадьбе Верки под Вильно, которую он назвал «прекрасное дитя природы» (теперь Веркяй в границах Вильнюса; c. 000)[706]. Описание Белёй де Линь закончил авторецензией. В конце жизни, не без иронии суммируя свой садовый опыт в поэме «Моя Обитель», он приложил к ней страничку в прозе «Критика по поводу моей критики».
Де Линь обладал свободой авторского самовыражения. Склонный к этому по натуре, он не зависел ни от публики, ни от покровителей, поэтому мог писать о Шантийи принца Луи Жозефа де Конде, что его Деревушка (созданная в 1772–1773 гг. и послужившая образцом для всей Европы наряду с Деревушкой французской королевы в Малом Трианоне) «недостаточно живописна и занимательна» (IX, 55). Если первое определение (pittoresque) говорило об основной тенденции, долгое время господствовавшей в развитии садов XVIII в.[707], то второе (piquant в терминологии де Линя) было связано с понятием variété и отражало игровой характер культуры XVIII в. Для его экстравертной натуры (как и культуры Просвещения в целом) была важна ориентация на публику. Он считал необходимым увлекать посетителя сменой видов, игрой вод, различной группировкой деревьев, повторяя за Вольтером, что все жанры хороши, кроме скучного. В целом же относительно Шантийи он полагал, что если учесть его пожелания, то это «самое прекрасное место во Франции станет самым прекрасным местом в мире» (IX, 56).
Вёрлиц. Вид от Нимфеума на Готическую церковь, Английскую скамью и Замок. Гравюра Христиана Августа Гюнтера. Около 1794
Пока что «по справедливости прекраснейшим на свете» принц считал Вёрлиц, о чем писал Екатерине II, владелице Царского Села, не боясь потерять ее дружбу[708]. Критикуя состояние Петергофа, в котором принц его застал, он предложил конкретные улучшения:
Это «самая имперская и, следовательно, наименее веселая из летних резиденций Двора. Здесь можно видеть малую голландскую манеру, с которой начал Петр I, в дальнейшем расширив все под влиянием путешествий, совершенных им с тех пор. В результате в первом жанре он построил… Монплезир, в его плохо прорисованных и плохо высаженных боскетах есть обманки, движимые водой – часы, клавикорды, куранты, органы, музыканты, утки, охотничьи собаки… Если бы вместо кирпича, который придает обыденный вид, окантовать все каналы гранитом или еще лучше дерном, покрыть мрамором пьедесталы двух водных колонн, имитирующих две мраморные колонны в Риме, если также поступить с бассейном Пирамиды… если [также] сделать извилистые желоба на месте дурного каскада из дерева, а апельсиновые деревья в кадках расположить наподобие амфитеатра; если убрать все изгороди, а дорожки проложить среди газона; если сделать какую-либо постройку нерегулярной формы, чтобы она была приятна и полезна… если все это соединить с новым естественным садом, который сейчас делают по другую сторону дворца [тогда Английский, позднее Александровский], то к восторгам, которые вызывает старый Петергоф, добавится еще увлекательность. В новом саду есть шале, сделанное в виде стога сена, его дверь и окна скрывают вязанки соломы… Это всегда обманывает, но обман легко прощается, когда попадают в салон, отделанный в лучшем парижском вкусе. Море, омывающее садовые берега старого Петергофа, которое можно открывать все вновь, придает всему невыразимую прелесть» (IX, 27–28).
Из других российских садов де Линь упоминал Гатчину. Ее он застал во времена Григория Орлова и считал, что это «имитация различных английских садов, однако заключающая в себе много красот» (IX, 31). В двух верстах от Царского Села он побывал в усадьбе Потемкина с готическим домом и английским садом. Там его особое внимание привлек каскад внутри русской бани (такую он позднее устроил в Белёй)[709]. Во время поездки «к границам Европы» де Линь видел дом этого князя в Молдавии (Czerki), который показался ему привлекательным. Большее впечатление там на него произвели местные дома, которые он подробно описал, включив в круг рекомендуемых им типов зданий, в том числе в качестве дворцовых (VIII, 100). Простотой конструкции, практичностью и декоративностью де Линя особенно заинтересовали постройки из дерева. Ему понравилось также, что они одноэтажны и благодаря этому более изящны (VIII, 102) – в своей «Утопии» одноэтажными он сделал все замки (с. 269).
Де Линь посетил также два сада Нарышкиных под Петергофом (c. 000). «Заслуга этих садов тем большая, – писал он, – что вокруг нет ничего, кроме елей и берез, которые чрезвычайно удачно сочетаются». IX, 32). Более благоприятные условия для разведения садов он нашел в Москве, Туле, а также Курске и Харькове, где больше солнца и деревьев. Композицию садов де Линь постоянно ставил в связь с природным ландшафтом, требуя раскрывать его наиболее интересные виды и выявлять универсальную красоту естественной природы. Нужно подправить ее, если она не столь живописна и разнообразна, вместо того, чтобы «создавать ее посредством искусства» (IX, 12).
Относительно Голландии в сочинении говорилось:
«Это страна деревьев, фруктов, цветов, а также газонов. Она самая красивая, деятельная, богатая растительностью. Но [здесь] только одна река, мало интересная из-за однообразия [плоских] берегов… это страна, изрезанная индустрией, постройками, которые скрывают виды… Но я могу доказать, что даже в… пустынных землях гений может открыть неизвестные возможности» (IX, 107).
У голландцев де Линю нравилось, как они, «не имея поэтических и философских идей», используют каждый луч солнца, применяя стекло, зеркала, а в садах стараются доставить удовольствие не только от вида цветов, но и подбирая их так, чтобы создать «букет ароматов». Однако он осуждал излишние траты, которые приводят к однообразию садов – там множество ваз, теснящихся одна около другой, а в гротах с излишним изобилием собраны все богатства морей и Индии (IX, 93–94).
Весьма критично де Линь отнесся к садам, которые увидел в Англии (1767). Он не любил (и, вероятно, хорошо не знал) садов основоположника живописного стиля Уильяма Кента, судя по всему, он не был в Стоу. Отмечая склонность англичан к «templemanie» (храмомании), их любовь к руинам, де Линь призывал всех, создавая их, не превращать в руину свое состояние. «Я столько же люблю Волполев Замок Отрантский, сколько Темзинский», – неодобрительно писал он о литературной и архитектурной «готике» Х. Уолпола, инициатора ее возрождения в европейском искусстве (102). Не был принц доволен и тем, что в садах англичан нет воды, кроме той, которая «падает с неба, и напрасно они делают китайские мосты над пустыми ямами», – писал он. Эти недостатки, по его мнению, можно было бы преодолеть, если бы англичане «с такой страстью не удалялись от Темзы», а следовали бы примеру герцога Мальборо, который в Бленем «позволил реке войти в его сад» (IX, 18).
Это произошло благодаря Ланселоту Брауну. Его же Сайон-хаус, еще неоконченный, уже казался принцу «достойным похвалы» (105)[710]. «Что может быть прекраснее Кингс-Вестона!» (это был еще один из садов Брауна). Принц также восклицал: «Что может быть величественнее Виндзора! Какой лес! Какое великолепие!» (104). Бленем и Кью доставили ему удовольствие своими прекрасными деревьями и кустарниками, хорошо размещенными в пространстве. В целом он полагал, что «ошибки англичан – это благодеяния у других: и я сомневаюсь, – писал он, – что кто-то хорошо работает [в садах], не побывав в Англии». Там нужно учиться уходу за ними, «иначе лучше покинуть поля и ехать умножать нечистоты в городе, где душа оскверняется и теряет чистоту» (IX, 22–23).
Лишь общая влажность, по мнению де Линя, не позволяет Англии с ее прекрасными газонами стать страной вергилиевых эклог, и только под солнцем Италии зеленые просторы наполняются звуками пастушеских флейт. «Но что стало со страной, описываемой как естественный сад»?… Исчезли зеленые ковры… Я не вижу ничего, кроме дорог, которые в трудах проложены среди французских партеров, истребленной зелени, измученных [стрижкой] деревьев [вероятно, он имел в виду Казерту; с. 165]… [господствует] безразличие к Богу вкуса… он переселился на Север» (VIII, 24–25).
Его он нашел в Царском Селе, в садах законодательницы Великой империи, которая сама, по его словам, засевает газоны. «Ее так называемые прихоти – это эффекты воды или света, всегда хорошо организованные и разнообразные» (IX, 25), – одобрительно писал де Линь, перечислив также царскосельские постройки:
«…мост из сибирского мрамора, архитектура во вкусе Палладио, бани, Турецкий павильон, Адмиралтейство, вид маленького города, который еще строится [речь о Софии], железные ворота, развалины, обелиски на победы Румянцева и Орлова, высокий памятник победе Чесменской среди озера… приятные окрестности, множество кустов и цветов иностранных, хорошо вычищенный дерн, не уступающий красотою английскому, китайские беседки и мосты, храм о 32 мраморных столбах, колоннада, большая Геркулесова лестница, все сие дает саду право на первенство во Вселенной» (108). Менее красноречив о оценить увиденное этот многолетний приятель Екатерины II не мог.
Дезер де Рец с домом в виде сломанной колонны. Рисунок. 1785. Фрагмент
Царское Село де Линь сравнивал с Вёрлицем, отмечая в письме оттуда императрице, что он похож на Царское Село и «почти в одном с ним вкусе» (1794, сентябрь)[711]. В садах принца Франца Ангаль-Дессау де Линь видел воплощение близких ему идей – их владелец, мечтавший превратить в сад все свои земли, во многом действительно достиг этого. Слияние сада с окружающим ландшафтом, в особенности посредством раскрытия видовых перспектив, использования воды, природных световых эффектов, и вместе с тем сооружение павильонов, придававших занимательность, были двумя сторонами садовых концептов де Линя. Первое вело в сторону романтизма, второе свидетельствовало о его принадлежности своей эпохе. Воплощая ее эстетические предпочтения, он стремился к безыскусности в наполненных артефактами искусственно-естественных садах Белёй. «Я никогда не скучаю в садах Люневилля и Коммерси», – писал де Линь о садах Станислава Лещиньского, в которых успел побывать до их упадка (с. 178). Восхищаясь сочинением Жирардена о Эрменонвиле[712] и называя этот парк, наряду с Мулен Жоли, первым романтичным садом во Франции, принц был частично разочарован, посетив его, и крайне утомился его осмотром:
«Было жарко. Я обошел все. Это необъятная территория, но… энтузиазм меня поддерживал. Умение пользоваться различными уровнями воды при помощи каскадов приятного и благородного вида; Башня Габриэль, хотя немного неудачная, маленький сад, острова меня вознаградили за маленькие постройки – дом Философа, грот, барельефы, гробницу Ж.-Ж. Руссо, эрмитаж, бильярд, и тривиальные или педантичные, или плохого вкуса, или слишком многочисленные, или плохо размещенные надписи; это прекрасное место требует чего-то иного».
Пустынь показалась лишь «унылой и слишком незначительной вересковой пустошью» (IX, 48). Но ему безоговорочно понравилась «пустынь» Франсуа де Монвиля – Дезер де Ретц, где «все живописно, начиная с ворот сада в виде скалы» и кончая сломанной колонной основного здания.
Де Линь не хотел «буйства духа», засилья в маленьких садах метафор, мифологии и морали. Вместе с тем он писал:
«Я не хочу иметь близ дома то, что найду в полях, выйдя из моей деревни… Я хочу, чтобы сады, которые я не желаю называть английскими, поскольку там нет ни ужасов, ни гор, ни пропастей, были бы украшены и меблированы как салон. Но я не люблю, когда нагромождают постройку на постройку. Мои постройки [fabriques] удалены одна от другой» (VIII, 44).
Сады Белёй имели много занимательны х фрагментов. Вместе с тем в них были созданы перспективы, сквозь которые открывались виды в окружающее природное пространство. Синтез природы и культуры всегда был предметом внимания принца. Его он находил во время своих путешествий там, где этому благоприятствовал сам ландшафт – в Австрии, Швейцарии, Чехии, Крыму.
Крым
Маршрут крымского путешествия Екатерины II, в котором принц участвовал по ее приглашению, сопровождая Иосифа II, был протяженным. Однако он его еще удлинил, чтобы увидеть землю от Кучук-Ламбата до Аюдага, подаренную ему императрицей, и самостоятельно направился в Партенизу (современный Партенит), «с опасностью для жизни» совершив верхом ночной переезд через Чатырдаг. Свои впечатления он изложил в письмах к маркизе де Куани, а также во «Взгляде на сады». Это первое вдохновенное описание Крыма способствовало формированию образа Крыма в русской поэзии, как и в европейском сознании в целом[713], закладывало основы того, что в дальнейшем составит «текст Крыма» (ил. с. 270, 273–275):
«На серебристом берегу Черного моря, на краю самого широкого ручья, куда сливаются все стремительные потоки Чатырдага, в тени двух самых огромных орешин, какие только существуют на свете, и старых, как мир; у подножия скалы, откуда еще видно колонну, печальный остаток храма Дианы, столь знаменитого жертвоприношением Ифигении; слева от скалы, откуда Тоас сбрасывал чужеземцев; наконец, в самом прекрасном и интересном на свете месте я пишу все это… Море, утомленное движением, которое оно себе задавало весь день, так спокойно, что оно, подобно большому зеркалу, в котором я вижу себя до глубины моего сердца… мои слезы не сдерживаются». (Это уже восприятие зеркала и мира чувствительной душой сентименталиста, в отличие от отражений, которые видел в зеркале человек рококо, усматривая в них игру удвоений, мир, теряющий четкие очертания; ср. с. 206–207, 327, 342).
«Я видел сад, протянувшийся на 80 лье от Евпатории до Феодосии. Я видел очаровательный амфитеатр на берегах Понта Эвксинского, усеянный жилищами татар, плоские крыши которых служат салонами для курения… Я видел их кладбища и надгробия, увенчанные тюрбаном, иногда позолоченные, под большими деревьями, около ручьев, вызывающие мысль о Елисейских полях. Я видел благородные руины Балаклавы, Судака и Алушты… Чатырдаг, который служил ограждением этому амфитеатру, который если не фруктовый сад, то лужайка для стад, где благоухающие ковры цветов чаруют взгляд своей раскраской, а обоняние своим ароматом… Я видел замок Старого Крыма, с высоты которого одновременно открыл Черное море, Гнилое море, Азовское море и благородную гору, прославленную страданиями Прометея… я обнаружил также ту мифологическую землю, которая мне дана императрицей… знаменитую храмом Ифигении. Я почти на границах счастливой античной Идалии, месте, где кончается Европа и начинается Азия» (VIII, 176).
Крым, а также Греция соединяли в тогдашних представлениях Европу и Азию. Де Линь не связывал их сближение с развитием цивилизации (ее распространял в Одессе дюк Ришелье, который первый раз попал в Россию благодаря тому, что вовремя получил от де Линя нужную ему информацию, обедая у него в Вене). Относительно подаренных ему земель де Линь имел совсем другие планы, мечтая придать своему дому «вид чертогов, на которые издали станут смотреть мореплаватели», построить «восемь виноградных павильонов с колоннадами и балюстрадой… Тотчас начертываю план всему тому, чтобы немедленно было исполнено без войны» (73), – так мирно собирался он претворять в жизнь свои сказочные проекты.
Образ Крыма у де Линя – это не панорамность видов Альп, рисуемая его современниками, и не враждебное море (ср. с. 118–126). «Вижу щастливые берега древней Идалии и Натолии… цветущие деревья разливают вокруг меня сладкие ароматы… морские волны переливаются у ног моих светлыми чешуями» (62), – писал он. Де Линь оставил и образы обитателей крымской земли, рассказав о преданности сопровождавшего его татарина и объяснив леность, царящую там, бессмысленностью перегружать себя работой, если ее плоды будут отняты. Принц трогательно простился с татарами, которые, как за священнодействием, наблюдали, когда он сидел над своими письмами, и, покидая их, пожелал им, чтобы они всегда сами собой управляли (77).
Под впечатлением пребывания в Партенизе принц писал: «Чувствую себя обновленным… невидимой силой… Удалившись от пышности, великолепия, шумных торжеств, утомительных забав и двух самодержавных особ Севера и Запада, коих я оставил на другом краю высоких гор… вижу, что мое счастье могут составить только спокойствие и независимость» (63). Привычный к светской жизни, де Линь, однако, с трудом выдерживал ажиотаж екатерининского путешествия. Ночные иллюминации, освещавшие все горы, его ослепляли в прямом смысле, он видел Крым в ином свете. Не отделяя эту «страну очарования», ее ландшафты от восточных садов, он писал, что они не представляют собою «холодные цитаты, имитации или чудовищные копии», часто мешавшие ему в модных европейских садах. «В этом самом благоприятном климате находишь все необходимое: ручьи, растительность, где можно укрыться от жары, вот страна-сад, которая отвечает моей максиме: „Искусство не состоит в том, чтобы его делать“» (VIII, 178).
В садах крымского хана, среди зелени де Линь видел лес вытянутых белых колонн, бассейны белого мрамора, павильоны из разноцветного стекла, золоченые киоски и тонкие струи фонтанов. Здесь богатство не противоречило гармонии, нарушение которой принц критиковал в садах и постройках, в особенности нуворишей, поставив в Белёй статую Плутоса, слепого бога богатства, «золоченую и плохого вкуса, как надлежит Финансисту» (VIII, 32).
Эрменонвиль. Вид на дворец
Крым для него был сказкой из «Тысячи и одной ночи». Если во время бесчисленных торжеств, приемов и балов, которыми сопровождалось путешествие, он участвовал в мастерски отрежиссированном Потемкиным спектакле, имевшем целью показать высоким заграничным гостям европейскую цивилизованность России, то, оказавшись наедине с собой, в Партенизе, он обдумывал свою жизнь, исповедуясь в письмах к маркизе Куани. Причем он, конечно, не забывал, что они могут быть прочитаны посторонним глазом – корреспонденты XVIII в. всегда это предполагали (с. 290–291). Не случайно форма писем придавалась как романам, так и рассказам о путешествиях, даже если они сочинялись дома, уже по возвращении, как несколько лет спустя это сделал Карамзин. Путешествие без писем не имело публичного эффекта. Крымское путешествие де Линя, вероятно наиболее впечатляющее, вызвало у него, по собственному признанию, множество различных рефлексий. В частности, оно позволило ему убедиться, что «сады обрисовывают характер Нации!» – как восклицал он, продолжая: «… стриженые сады когда-то говорили о благородстве, грации и учтивости французов. У англичан в садах выступали пикантность, неожиданность, иногда странность. Турками руководила леность и сладострастие… [они] согласовываются с четырьмя временами дня, их архитектор – Солнце; забота о том, чтобы спрятаться от его лучей или, наоборот, воспользоваться ими, привела к появлению открытых и закрытых салонов, определила характер их спален» (VIII, 168–169).
Де Линь суммировал также недостатки, свойственные садам различных народов, желая видеть: «…больше здравого смысла в Англии, меньше упорядоченности во Франции, меньше архитектуры в Италии… больше остроумия в Голландии и гор во Фландрии, больше солнца в России, больше деревьев в Венгрии, меньше басен в Пруссии, больше рек в Чехии, больше богатства в [садах] Швейцарии, больше вкуса везде – вот что я желаю садоводам во всех этих странах, и особенно жертвоприношений Природе; сама Природа должна быть алтарем и даром» (IX, 107).
В контексте эпохи
Как человек своей эпохи де Линь был социален в широком смысле, придаваемом этому понятию в XVIII в. В распространении садоводства он видел путь решения общественных проблем и хотел, чтобы оно стало доступно людям разного достатка. Все они могли прочесть в его сочинении полезные рекомендации, и он надеялся найти мастера, который мог бы изготовить предназначенные для них объемные модели садов. «Мудрому правительству надлежало бы одобрять садоводство и садоводов», – полагал он. Свои сады принц сделал доступными для всех. «Пусть все будет обитаемым. Пусть встречается много людей, не важно, какого рода… Я так люблю общество» (39). Поклонник Руссо, де Линь, однако, не мог не любить также уединение, зарезервировав для себя в Белёй пять небольших садов в регулярной и нерегулярной части. Принц хотел создать некий «сад огражденный», cloitre, подобный не монастырскому саду, а тому, который он видел в Бахчисарае (VIII, 60).
Де Линь также хотел, чтобы сады были наполнены всякого рода живностью, чтобы повсюду гнездились утки и прохаживались гуси, голуби устраивались на крышах, а водоемы были наполнены тысячами карпов. «Мне кажется, – писал он, – что увеличивать богатство Природы, то же самое, что увеличивать число моих детей» (38). Ему нравилось, чтобы все было наполнено звуками и «слышались трубы деревенских музыкантов, возвещающих о возвращении с полей бычков и телок, раздавался звук их колокольчиков, которые звучат по-деревенски, как и голоса их сопровождающих. Пусть они остановятся на берегу реки и пьют из нее, а если реки нет, то нужно ее сделать» (39). Театральный способ, которым де Линь реализовал все это в Белёй, свидетельствует, что он и в этом отношении был представителем своей эпохи.
Принц воплощал и другие черты своего времени. Военный по основному роду деятельности, по сути он был пацифистом; аристократ, он мечтал о всеобщем счастье, всегда находя поводы для не афишируемой благотворительности; носитель цивилизации, утонченной культуры, он исповедовал культ природы. Де Линь мог быть сентиментальным и наивным, но даже в старости сохранял ироническую остраненность. Его плантомания не была лишь следствием моды. «Природа меня утешает. Я хочу раствориться в Природе. Она говорит моим голосом», – писал он (38). Эпоху он опережал в своем отношении к положению евреев и женщин[714] (c. 368).
Эрменонвиль. Гравюра. XVIII в.
О де Лине как человеке Просвещения свидетельствует также его сочинение «Утопия, или Царствование великого Сельрах-сингиля», в котором социальный утопизм соединился с садовым. Этот монарх «любил архитектуру и сады; почти все его государство походило на вертоград, ибо везде были проведены усаженные в четыре ряда… деревьями каналы… [они] протекали среди лугов». Для укрытия от солнечного жара там были построены «сельские храмы», отличавшиеся «приятным разнообразием», а группы деревьев защищали от непогоды шалаши пастухов, «весьма приятно расписанные». Местность представляла собою «то долины, то красивые утесы на берегу реки, то лесочки». Одноэтажные замки, не имевшие строгой формы (но с колоннадой хотя бы при входе), были окружены приятными садами. Там не было развалин, ни настоящих, ни искусственных, ни мостов, «исключая необходимые», ни лестниц (де Линь постоянно возражал против излишеств в применении последних). Для путешественников были построены прекрасные гостиницы и кофейни. Бедняки в этой прекрасной стране получали хорошее пособие[715].
Емельян Корнеев. Вид ханского дворца в Бахчисарае. Рисунок. 1804
Бедность де Линь мечтал ликвидировать также в Белёй («Я верну бедности то, что ей принадлежит» – VIII, 80–81) и хотел построить там госпиталь для старых солдат и немощных работников, а также для «детей любви» (судя по всему, он заботился, в частности, о воспитании плодов его деревенских романов). В целом принц считал, что сады располагают к благотворительности и что прогулка там должна быть «путем физическим и нравственным» (30).
Подобные взгляды Х. Уол пол саркастически излагал в эссе «О современном садоводстве», ссылаясь на «очень серьезное, недавно написанное рассуждение», в котором автор предлагает соединить «садовое искусство с любовью к человечеству, а каждый шаг прогулки превратить в акт великодушия и нравственности», осуждая также постройки благотворительного назначения в садах[716]. Весьма вероятно, что он имел в виду именно опубликованный годом ранее «Взгляд на Белёй». Автора «Замка Отранто», несомненно, могло задеть высказанное там отношение к его литературной и архитектурной деятельности (с. 263). Уолпола, прославителя Кента, не могли устроить и слова де Линя: «Мне больше, чем кому-либо, позволено сказать: я не выбираю между Кентом и Ленотром… хотя мое сердце за нерегулярность» (VIII, 60)[717].
В отличие от Гиршфельда, Болотова, Кармонтеля (с. 167–168), мечтавших о садах «в национальном вкусе», де Линь полагал, что «вкус есть только хороший и плохой». Однако «есть определенный тип конвенций», разъяснял он, согласно которым «простота, природа и неупорядоченность принадлежит англичанам, а прямые линии, перспективы (percés) и большие открытые пространства – французам».
Чтобы сделать выбор, «достаточно сказать – это хорошо» (VIII, 14), что позволяло ему принимать и регулярный, и естественный сад.
Принц был в духе эпохи толерантен во всех вопросах – от конфессиональных до садовых. В противовес тогдашней моде переделывать регулярные сады в живописные, он сохранил в старом виде сады своего отца, чтя родовые и садовые традиции. В садах à la française он видел достоинство, благородство, величие, как в эпической поэме (VIII, 15), однако Версаль называл «печальным и скучным» (IX, 70). Верный эвдемонизму своей эпохи, де Линь не хотел печальных садов, в том числе в духе популярного Юнга.
В Белёй можно было видеть «переходы от естественных садов (naturels) к искусственным (artificiels), декоративным (ornés), аллегорическим, живописным, чередование павильонов татарских[718], турецких, греческих, египетских, китайских, готических, сельских (champêtres). «Я бы не мог и не хотел преуменьшить достоинств французских садов, – писал он… и обойтись без того, чтобы, наряду с истинными служителями Богу вкуса, не сделать один такой для себя» (VIII. 54, 55).
Однако определение его садовых взглядов как релятивистских или эклектичных[719] требует комментария. На рубеже XVIII–XIX вв., когда регулярность переживала свое «первое возрождение» («вторым» выше были названы явления рубежа следующего столетия), эти свойства приобрели особый смысл. Свобода в обращении с господствовавшими садовыми конвенциями в наибольшей мере приближала де Линя к романтикам, к тому историзму-эклектизму, который разовьется в XIX в. В крымских письмах он говорил о прямом контакте с дикой природой, с морской волной, разбрызгивающей у его ног серебристую чешую, что также предвосхищало романтизм.
Ноевальдегг под Веной
Разделяя общее представление о живописности как наиболее выразительном свойстве сада, де Линь хотел pittoresque naturel и был против кардинальных переделок природного ландшафта, наполнения его искусственными скалами, гротами, массами новых деревьев. Под естественными де Линь понимал не просто сады à l’anglaise, а те, что образуют синтез с природой, различая «сад Природы» (le jardin de la Nature) и «естественный сад Искусства» (le jardin naturel de l’Art), так он озаглавил части своего сочинения.
При этом его отношение к природе оставалось во многом в пределах концепций Просвещения, она не заключала для него божественной тайны, хотя перед ней можно встать на колени, как перед алтарем или прекрасной женщиной. Бога в такой природе не было, как не было представления и о «родной» природе, развитого в эпоху романтизма. Это была универсальная красота. Де Линь в высшей степени ощущал ее в естественной природе и в этом отношении во взаимоотношениях с ней не нуждался в опосредующей роли сада.
То, что де Линь ждал от садов, он нашел в Ноевальдегг (Neu waldegg) фельдмаршала Франца Мориса Ласси. Там были старый регулярный барочный дворец и сад, а также английский сад, располагавшиеся в альпийском ландшафте, откуда открывались широкие виды на Вену и округу (VIII, 133). Обозревать окрестности можно было и с невысокой горы Каленберг под Веной, где в картезианском монастыре де Линь устроил сад, который называл своим «маленьким Белёй». Оттуда он визуально совершал далекие путешествия – под собой он видел Дунай, слева зеленел многокилометровый лес, впереди можно было различить множество деревень, вдали увидеть земли Венгрии и Моравии, замок Прессбург (современная Братислава), к югу горизонт замыкался горами Штирии (VIII, 134).
Свой последний философский приют «удовольствия, спокойствия и счастья», где хотел избежать всех преувеличений старой и новой садовой моды[720], де Линь устроил в старинной крепости на горе Леопольдберг, также около Вены, где природа «еще раз разбросала свои сокровища»: «Здесь я один. Это моя обитель (Refuge). У меня есть готический зал, египетская комната, турецкий салон… где я собрал… то прекрасное, что я видел в той частично Турции, частично Татарии… Вот все, что у меня осталось на свете» (VIII, 136).
Неизвестный художник. Вид на Вену от Ноевальдегг. Холст, масло. Конец XVIII в.
Блестящую жизнь завершали тяжелые потери. Однако принц был не только эпикурейцем, но и стоиком. Он мужественно переносил все невзгоды и, прежде всего, гибель во время сражения старшего сына Шарля, бывшего его гордостью (1792)[721]. В 1794 г. на владения де Линя французами был наложен секвестр, и он навсегда покинул свои сады. Даже в этот момент он не утратил иронии и остроумия, написав, что «свобода – сокровище неоцененное. Свобода Нидерландов разоряет меня день ото дня более; свобода Франции стоит мне третью часть моих доходов» (о том, сколько он истратил на свои сады, также разорявшие его, он не писал, лишь оправдываясь, что позволяет себе эти расходы, так как не проигрывает деньги в карты). Жермена де Сталь удивлялась тому, как принц спокойно перенес потерю состояния. Он не обратился к помощи австрийского императора, а начал издавать свои сочинения, став одним из первых аристократов, живших профессиональным трудом, о чем иронически заметил: «Я продаю те немногие таланты, которые у меня остались». Продать ему пришлось и свои коллекции живописи и рисунков. А. Бартш, лучший знаток своего времени в этой области, писал, составив каталог рисунков, что эта «коллекция, без возражений, самая прекрасная, самая богатая и самым лучшим образом составленная из всех, когда-либо сделанных приватной особой». Достаточно сказать, что она содержала 26 рисунков Рембрандта. То, как де Линь расположил все по школам и хронологии, не было распространено в ту эпоху.
Бахчисарай. Ворота дворца. Нач. XX в.
Жан Балтазар де Траверс. Путевой дворец Екатерины II в Бахчисарае. 1788
Посмертно биография де Линя была отмечена еще одной потерей: он мечтал, что сады Белёй передадут потомкам то ощущение «счастья и сладости», которое он там испытывал, однако от них осталось немного, а то, что сохранилось, только частично доступно для посещения. Ничего не осталось связанного с де Линем на Каленберг и Леопольдберг. Тем не менее оттуда по-прежнему можно созерцать виды, восхищавшие его, хотя уже сильно изменившиеся. Время, когда он создавал свои сады, исторически не благоприятствовало ни их посещению, ни описанию другими авторами, ни созданию гравюр, которые бы запечатлели их облик (лишь у Ле Ружа можно найти 10 листов, посвященных его охотничьему владению Бодур[722]). О садах де Линя можно судить по подробному описанию, которому посвящена первая часть «Взгляда на Белёй», где также рассказано о задуманных изменениях и нововведениях.
Федор Алексеев. Внутренний двор ханского дворца со стеной гарема и Соколиной башней. 1797–1800
«Я иногда писал о том, что вспоминал, иногда о том, что думаю в данный момент, иногда о том, что видел, говорил или думал в тот или иной момент. Это удобнее для вас [читателей], и для меня: эту книгу можно открыть или закрыть, когда угодно, и брать в руки, когда хочется», – предлагал де Линь читателю, которого постоянно втягивал в свое повествование.
Было бы упрощением сказать, что его композиция подобна извилистым дорожкам естественного сада, как это свойственно некоторым произведениям английской литературы XVIII в. Сочинение де Линя – это некий художественный гипертекст. Он конструируется посредством свободной смены образов, сюжетов, отхода от них и возвращения к ним путем множества ссылок на то, что сказано ранее, или отсылок к тому, что еще предстоит прочесть. Постоянные внутренние связи возникают между его садовым опусом и всем корпусом его сочинений, в особенности корреспонденцией, мемуаристикой. В результате «Взгляд на Белёй» образует особое семантическое и композиционное пространство, фрагментарное и одновременно целостное. Объединяющими в нем являются садовые идеи де Линя, его эмоции, его видение мира, в конце концов, его личность – экстраординарная и вместе с тем такая, какая могла сформироваться только в культуре XVIII века – Века садов, путешествий и театральности, разума и чувства, толерантности и мечты о свободе, дух которого этот принц сумел воплотить и в содержании своих сочинений, и в самой их форме.
Фейерверк в Крыму с вензелем Екатерины II. 1787
Антон фон Марон. Франтишек и Казимеж Жевуские на фоне римских памятников. Около 1772.
Коллекция Ланцкороньских, Королевский замок в Варшаве.
Раздел IV Лики эпохи: просвещение
Глава 1 Просвещение как открытый тип культуры: casus polonicum
Между Просвещением и сарматизмом. – «Публичное пользование разумом». – Популярные виды и жанры искусства. – «Разумная беседа» и живое слово
Жан Пьер Норблен Польский шляхтич. Акварель
Эпоха Просвещения, наряду с такими ее фундаментальными чертами, как рационализм, сенсуализм, универсализм, исторический оптимизм, идеи естественной свободы, равенства, толерантность, в том числе религиозная терпимость, о чем прежде всего вспоминают, имея ее в виду, обладала признаками, которые реже привлекают внимание в историко-культурном плане. Как и те, они входили в ее существо, во многом определив ценностные ориентиры, тип моделируемой личности и реальный облик просвещенного человека, поэтику художественного творчества, его многостилевой характер, а также структуру, функции, институциональные основы культурной жизни.
Одной из таких принципиальных особенностей культуры Просвещения была экстравертность — обращенность вовне, настроенность на общение, контактность, коммуникативность, которые позволяет говорить о Просвещении как открытом типе культуры. Преобразились не только сами идеи, но и способы, которыми они проникали в общество, масштабы их распространения. Открытому типу культуры соответствовало изменившееся пространство ее бытия (c. 28–38), что было неразрывно связано с интенсивным развитием сети культурной коммуникации. Создание необходимых для нее институтов и структур позволило актуальным идеям дойти до своего адресата. Именно степень их реального воздействия на общество отличает Просвещение от предшествующих эпох[723]. Возникло общественное мнение как фактор общественного развития, появилась художественная критика (один из ее феноменов – «Салоны» Дидро), мода стала регулятором вкусов. Претерпел метаморфозы сам человек – субъект и адресат культурной деятельности.
В представлениях мыслителей XVIII в. разум, как и окружающий мир, утратили замкнутость. Беспредельность первого утверждалась возведением в главный принцип свободомыслия и рациональных методов познания, безграничность второго – путем научных исследований, а также практического освоения все новых пространств. Различного рода путешествия стали признаком Века философов, которые и сами покидали кабинеты, чтобы отправиться открывать новые земли и народы. Экстравертный характер Просвещения сказался на восприятии «чужих» культур – их начали видеть как «иные». Маршруты связали отдельные части Европы, многие из них вели в Польшу или через нее в Россию. Описания этих стран, оставленные многочисленными иностранными путешественниками, противоречивые в оценках, обстоятельно и многосторонне рассказывали о них европейскому читателю[724]. Polonica, Rossica стали важной составляющей творчества иностранных художников. Все это влекло изменение картины мира.
Идеи Просвещения, распространяясь в восточной части Европы, придавали культурам населявших ее народов общие черты, что влияло на характер культурных отношений, в том числе художественных[725]. Барокко стало первым стилем, перешедшим конфессиональные границы, особенно прочные на востоке Европы. Общность польской культуры с латинским ареалом установилась уже со Средневековья, она знала и романику, и готику, и Ренессанс. Со второй половины XVIII в. Просвещение как тип культуры все шире воздействовало на интеллектуальную жизнь Польши, как и всей Европы[726].
Между Просвещением и сарматизмом
Еще в XVII в. в Польше сложился сарматизм (называемый по имени воинственных кочевых степных племен). Как идейному течению, стилю жизни и типу менталитета ему был свойственен замкнутый тип отношения к внешнему миру. Рожденный шляхетским сословием и предназначенный для него, сарматизм культивировал представления об исключительности польского исторического и культурного пути. Однако это не стало единственным фактором, определявшим развитие польской культуры, и не привело к ее действительной изоляции. Барокко в Польше было яркой, насыщенной полифоничной эпохой. Обладая чертами глубокого своеобразия, она сохраняла, а в некоторых случаях расширяла контакты с западноевропейскими культурными процессами[727], связывала с ними культуру восточных земель Речи Посполитой, а через них и русскую культуру. В многонациональном пространстве Речи Посполитой, как видно на примере изменений самого сарматизма в украинской среде[728], также совершался культурный диалог. Не без участия сарматизма произошла ориентализация элементов польской культуры, внешним знаком которой стал польский национальный костюм[729].
Представления польской шляхты об исключительности ее положения как сарматского народа, культ шляхетской демократии привели к утверждению мнения о польской форме правления как наилучшей. В условиях кризиса польской государственности, развившегося на протяжении XVIII в., когда проведение реформ стало условием модернизации страны, просветители и «сарматы» оказались на разных позициях. Тем не менее реформы, встречавшие также внешнее сопротивление со стороны соседей, все же привели к возникновению различного рода административных учреждений, расширению аппарата управления, созданию системы дипломатической службы, развитию между народных контактов. В результате слияния двух противоположных идеологических потоков возник «просвещенный сарматизм». Его носителями выступили многие реформаторы, хотя предпочли бы быть только «просвещенными». Двойственность польской жизни проявлялась и во взглядах, и в быту. Французский посланник Л.Ф. де Сегюр локализовал ее географически. В 1784 г. он писал о Польше: «Искусства, остроумие, манеры, литература, прелесть общения соревнуются здесь с тем, что встретишь в Вене, Лондоне, Париже; но в провинции нравы поистине сарматские». Воспринимавшиеся европейцами в XVII в. как экзотика, теперь они стали в их глазах отрицательным свойством. Оценка Сегюра не была адекватной, «провинция» в Речи Посполитой не определялась географически, она была разной – там находились и дворы закоренелых сарматов, и Бялосток Я.К. Браницкого, Пулавы Чарторыских, Ланьцут И. Любомирской. В этих резиденциях также соединялись сарматские и европейские черты, в одних случаях по внутренней склонности, как в «подлясском Версале» Великого гетмана коронного Браницкого[730], в других – из политических соображений, как под конец века у Чарторыских в Пулавах. Кроме того, на фоне все возраставшей внешней угрозы идеализация прошлого служила почвой для обостренного развития патриотической идеи. Сарматизм постепенно приобретал ореол национальной традиции. Претерпев эту метаморфозу, он вошел в сознание романтиков.
«Публичное пользование разумом»
Гомер и Гораций в Польше. Гравюра С. Лангера по оригиналу Михаила Стаховича. 1816
Шляхтичем в Речи Посполитой являлся примерно каждый ее десятый житель. Связанный с медленно эволюционировавшим сельскохозяйственным производством, он был приучен к спокойному течению жизни, не склонен к переменам и в лучшем случае мечтал сохранить существующее положение вещей, но чаще хотел вернуть более благополучное прошлое. Отсюда пассеизм в его мышлении. Снижение материального уровня не вело к радикализации взглядов. Теряя под ногами почву (часто вместе с наследственной землей), шляхтич цеплялся за старые прерогативы, в том числе касающиеся избирательного права, которое, хотя бы на время сеймиков, позволяло ему ощутить себя вершителем чьих-то судеб и выразить себя как личность посредством liberum veto, произнеся «nie pozwalam!».
Честолюбивые замыслы шляхетская масса не одобряла, ограничиваясь узко понимаемыми сиюминутными интересами. Один из популярных в то время календарей советовал: «Работай умеренно, поменьше головой». Просветители критиковали то, что называли сарматской ленью, и высмеивали позицию тех, кто полагал, что «с меня хватит того, что я шляхтич» (Monitor. 1777. N 53). Комической фигурой стал темный провинциал, parafianin, которому противопоставлялись просвещенные варшавяне, участвующие в общественной деятельности. Отрицательным типом был domator, домосед. В отличие от таких людей, образованные поляки все чаще отправлялись в поездки по Европе, которые уже в XVI–XVII вв. они совершали с просветительными, как и иными, целями. В Италии Антон фон Марон запечатлел братьев Франтишка и Казимежа Жевуских на фоне римского ландшафта с его историческими памятниками, которые собирается зарисовывать один из них (Около 1772. Коллекция Ланцкороньских. Королевский замок в Варшаве; ил. с. 276).
Социализация индивида, включение более широкого круга лиц в общественную жизнь – процесс, в целом активно развивавшийся в Европе в эпоху Просвещения, свидетельство чего в Польше – списки лиц, подписавших в 1794 г. «Акт о присоединении к восстанию». В их числе многие представители интеллигенции. Согласно Вольтеру, «отшельник не является ни хорошим, ни плохим человеком – он для нас никто». В эпоху Просвещения происходила и социологизация общественной мысли, что позволило поставить проблемы, которые в существенных случаях стали исходными для социологии XIX в. как науки. В особенности это касается сочинений Руссо и Монтескьё[731].
Казимеж Войняковский. Принятие Конституции 3 мая 1791 года. 1806
Отвергнув вслед за Локком теорию врожденных идей, просветители были одержимы желанием сформировать свободную личность. Поэтому человек как адресат культуры превратился в объект постоянного целенаправленного воздействия. Кант полагал смыслом своей эпохи «публичное пользование разумом, то есть такое, которое осуществляется […] перед всей читающей публикой» – именно так он сформулировал ответ на вопрос «Что такое Просвещение?»[732]. В Польше просветители адресовали новые идеи прежде всего шляхте. Станислав Сташиц, которого волновало, что горожане и крестьяне, лишенные политических прав, равнодушны к судьбе страны и не считают себя поляками, предназначил свои «Предостережения Польше» «рыцарскому сословию» с целью воспитывать законодателей, способных дать всем эти права.
Все это приобщало к открытой жизни все большее число людей, извлекая их из сельской тиши, заставляя проводить значительную часть своего существования «на публике», если воспользоваться выражением мемуариста Е. Китовича, чутко реагировавшего на окружающую действительность. Польские просветители актуализировали призыв Горация «Sapere аude». Сочинение Канта, где он повторен, еще не было написано (c. 371), послужив эпиграфом к одному из первых номеров журнала «Монитор», основанного по инициативе Станислава Августа для пропаганды просветительских идей (1765–1785). В соответствии с этим призывом журнал старался воспитывать граждан.
В польских условиях замедленный ход экономических изменений не давал достаточной возможности для модернизации национальной жизни и менталитета. Необходимым и более значимым катализатором процессов были обстоятельства, связанные с борьбой за суверенитет польского государства и против его разделов (1772, 1793, 1795). Этапными событиями стали Барская конфедерация (1768–1772), Четырехлетний Великий сейм, принявший первую польскую Конституцию (1791), и, в особенности, национально-освободительное восстание под предводительством Тадеуша Костюшко (1794).
В ходе и под воздействием этих событий консервативное и просветительское начало вступали в сложнейшие взаимодействия, порождая многообразные метаморфозы сознания. Взаимопроникая и отталкиваясь, обретая и что-то теряя от своих первоначальных свойств, возникавшие представления и идеи сплавлялись в умах отдельных поляков и в общественном сознании в целом, образуя особый социально-психологический и морально-этический комплекс, проецировавшийся в далекое будущее. С этим был связан нюанс – шляхетство, первоначально восходившее к этногенетическому сарматскому мифу[733], с XVI в. дававшееся королем и сеймом иностранцам, решением Сейма 1775 г. получило свою цену – 50 000 злотых (в 1789 г. снижена до 18 000)[734].
Мнения об этнической («сарматской») кастовости шляхты, как и другие генетические мифы, подверглись пересмотру, расширились представления о сфере приложения ее активности, в которую были включены реабилитированные торговля и ремесло – для элиты традиционно «неблагородные» занятия. Застывшее на месте сарматское время пошло вперед, раскрываясь в будущее благодаря стремлению к обновлению жизни, появлению веры в прогресс, а также развитию утопических идей. Было нарушено свойственное большинству шляхты стремление ограничиться интересами семьи, рода, ближайшего соседства, возникает озабоченность общей ситуацией страны. Осознание ее кризисного положения вытесняло мегаломанию, а понимание необходимости учиться у других народов помогало преодолевать ксенофобию, боязнь зарубежных влияний, открывая поле для диалога польской традиции с европейской культурой.
Благодаря «публичному пользованию разумом» в Европе начали меняться отношения культуры и общества. Происходило становление структуры европейской культурной жизни Нового времени, расширялся круг лиц, приобщавшихся к культуре в результате развития книжного и художественного рынка, появления первых музеев, все новых театров, возрастания роли внеперсональных источников финансирования творчества, что нарушало традиционную систему меценатства, взаимоотношений мастер-заказчик. В XVIII в. в Англии были узаконены авторские права художников (копирайт), что в России произошло в 1820-е гг. по инициативе А. Орловского. Необходимость в этом свидетельствовала о возраставшем интересе к искусству.
В Польше читательская и театральная аудитория складывается во второй половине XVIII в. Тогда же зарождаются формы жизни Нового времени[735], создаются библиотеки, публичный театр[736], новые учебные заведения (старые реформируются, как краковская и виленская Академии), выходит журнал «Монитор» (ил. с. 290), с 1773 г. действовала Комиссия национальной эдукации – первое в Европе «министерство образования», ставившее целью «создать нацию путем публичного просвещения».
Просветителям было важно не только широко, но и оперативно общаться со своим адресатом. Хотя французская «La Gazette», первая европейская газета, появилась еще в 1631 г., однако именно в эпоху Просвещения пресса, которую историк А.Л. Шлёцер назвал «божественной машиной культуры», стала общественной необходимостью. Во второй половине XVIII в. в Речи Посполитой выходило более пятидесяти периодических изданий, сформировались их различные жанры. В 1792 г. была основана первая ежедневна я газета (до этого состоятельные люди содержали в Варшаве своих личных корреспондентов).
Для обмирщенной культуры Нового времени, ориентированной не на вечность, а на сегодняшний день в посюстороннем мире, явилась надобность именно в новостях. Газеты были интересны не только тем, что их сообщали. Они, по замечанию Честертона, обо всем сообщали как о новости, а новизна была необходима, так как «производит в душе живейшее движение». Хотя многие календари – самые популярные издания ХVIII в. – продолжали вести счет годам от сотворения мира, более важным было уже не онтологическое время, а момент текущий.
Доменико Мерлини. Проект здания Академии наук в Варшаве
Критерием оценки все чаще оказывалась причастность моде как постоянно обновляющейся ценности, которая «заставляет видеть актуальное в форме абсолютной новизны»[737]. Мода стала механизмом, который обеспечивал возможность, независимо от индивидуальных духовно-интеллектуальных потенций, стать человеком своего времени.
«У нас [поляков], все используется и все изменяется по велению моды. Польский народ так склонен увлекаться модой, что послушен ей больше, чем закону», – писал Ф. Езерский, поместив в сатирическо-политическом словаре «Некоторые выражения, расположенные в алфавитном порядке», статьи «Мода» и «Новость». В моде как крайнем выражении модернизации жизни он видел противницу «устойчивости обычаев», которая «составляет черту национального характера»[738]. Его хотели сохранить, что предвещало романтизм. От погони за модой, часто осуждаемой с разных позиций, хотели защитить искусство. В.И. Баженов утверждал: «Как логика, физика и математика не подвержены моде, так и архитектура, ибо она подвержена основательным правилам, а не моде»[739]. Однако мода брала свое и в этой области.
Для просветителей служение публике – это гражданский долг. Автор – лицо общественное, как писал Л.С. Мерсье. Следование античному постулату – «просвещать, развлекая» – помогало донести до адресата морально-воспитательную программу. Желание участвовать научным, публицистическим, художественным творчеством в актуальных событиях руководило просветителями. Для них «идея искусства для искусства, если вообще они смогли бы ее понять, была бы чем-то несообразным и неморальным»[740].
Хотя в Польше основными покровителями искусства были знатные заказчики, особенно король, а с 1760-х гг. в поддержке культуры участвовало государство, без успеха у публики не могли существовать ни книжно-издательское дело, ни периодика, ни театр[741]. Она была дифференцирована, однако обладала моральной силой и финансовыми возможностями. Фр. Кс. Дмоховский констатировал: «Зритель нелегко кричит браво – / Заплатив за вход, он купил себе это право»[742]. Посетителя театра в Польше стали называть новым словом spectator (от фр. – spectateur), что особо отмечалось в «Мониторе» (1765. N 88).
Появление публичных театров изменило их отношения с публикой. То, что было невозможно в придворном театре с его церемониалом, стало обычным в публичном, включая выкрики, свист и т. п. Публика, это «чудовище Галерки и Партера. Толпа. Чернь. Клака», по словам А. Поупа, завоевывает огромные права («Августу. Подражание Горацию…» Пер. В. Топорова). В связи с этим Дидро призывал актеров: «Думайте о зрителе не больше, чем если бы он вообще не существовал… играйте так, точно занавес не поднимался»[743].
В свою очередь, зрители не всегда думали об актерах, превращая театральный зал в сцену светской жизни. Иностранный путешественник писал о варшавском театре: «Женщины приезжают сюда, право, только для того, чтобы продемонстрировать искусство, свое и своих модисток, исправлять и преобразовывать натуру. Они выбирают пункты, которые своим отдалением или приближением, углублением или выдвижением, светом или тенью позволяют показать себя, взволновать, пробудить интерес или любопытство, ослепить… восхитить»[744]. Сделать это было тем легче, что во время действия зрительный зал оставался освещенным.
Культура Просвещения предполагала активный диалог мастера и адресата, значение которого постоянно возрастало. Человек «одновременно и музыкант, и инструмент», – акцентировал Д. Дидро. Очевидно, что просветителям была нужна «образованная публика». По мнению А.К. Чарторыского, она оказывает «благотворное влияние на авторов». Однако им пришлось иметь дело не только с «образованной публикой», и она отнюдь не всегда оказывала благотворное влияние. Тем не менее, как полагал Гуго Коллонтай, один из столпов польского Просвещения, мнения граждан, «хотя не всегда справедливые и полезные», должны уважаться (актеров, позволивших себе выпады против шумящей публики, наказывали).
Строя свою эстетику и поэтику применительно к широкой публике, просветители хвалили художников за «мудрую сдержанность» в выборе сюжетов, ограничиваясь популярными, ибо широкая публика – это не «какой-нибудь книгочей»; нужно позволить ей «идти своим путем» и не портить ей удовольствия, затрудняя понимание. Поэт не должен «залетать за горизонт большей части своих читателей», – писал Лессинг[745]. Желание «иметь дело с широкой публикой» выражали и художники, а потому полагали, что «сюжет [картины] должен быть общеизвестным рассказом»[746].
Ориентация на публику во многом определяла подход к проблеме оригинальности творчества[747]. По словам Лессинга, «оригинальность и новизна сюжета не только не составляют главной задачи художника… но известный уже сюжет усиливает впечатление от произведения»[748]. Это и было важно просветителям. Даже само определение поэзии просветители давали, исходя из восприятия читателя: «Поэтическое искусство может быть определено как собрание правил подражания природе способом, который нравится тем, для которых создается это подражание», – писал Дидро в «Энциклопедии» в статье «Поэтика». Теоретики считали, что успех у публики – источник совершенствования творчества, он дает автору необходимую уверенность (Ж.Б. Дюбо).
Транспорт с раскопок Геркуланума. Гравюра Жана-Клода Ришара. 1781–1785
Хотя мастера XVIII в. многое заимствовали у предшествующей эпохи, однако об разно-эмоциональные средства, выработанные ею, казались им уже мало эффективными. Так, если барочное искусство не скрывало своих приемов – при помощи повышенной экспрессии, контрастов, динамики ритма, цвета, композиции оно открыто вовлекало зрителя в сферу своего воздействия, то теперь считалось иначе: «…чем более явны усилия… тронуть нас, тем менее мы тронуты… чем менее художник применяет средств, чтобы произвести впечатление, тем более он достоин его вызвать и тем охотнее поддается зритель впечатлению, которое стремились на него произвести»[749].
«Правдивость» и «изысканное выражение» – главные способы «приковать внимание» зрителя. В крайнем случае, «старайтесь быть занятным, если не можете быть правдивым», – советовал Ж.Б. Грёз одному из молодых художников[750]. Действительно, авторы XVIII в. стремились поддерживать интерес публики не только «верностью мысли» своих сочинений. Этому должны были служить и сознательно ими употребляемые «живость красок, богатство образов, прелесть разнообразия, искусство контрастов, неизменное изящество», – полагал тот же Грёз. «Нужно воодушевлять слушателя, нужно его вдохновлять», для этого в произведениях должно присутствовать «прекрасное разнообразие»[751].
В литературе, изобразительном искусстве распространяется «живописность». Естественные сады и их теоретики в этом отношении сыграли не последнюю роль. Желание «завоевать зрителя, радуя его глаз», сделало саму живопись более «живописной» – усилилось внимание к декоративному и видовому началу, повысилась роль цвета по сравнению с рисунком, утончилась колористическая нюансировка. Искусство училось откликаться на все более расширявшийся круг настроений, эмоций.
Одной из особенностей просветительской литературы была ее способность все четко выразить. Этому учила риторика. Если в XVII в. Балтазар Грассиан полагал необходимым задавать читателю «загадки», чтобы обострить его интерес, отточить ум, то теперь той же цели служила ясность изложения, что считается первым достоинством произведения. Отсюда забота о чистоте и совершенствовании родного языка, об уточнении понятий, о выработке научной терминологии.
Наиболее доступный способ изложения требовался от авторов, пишущих для прессы (Monitor. 1776. N 74). Польский литературный язык того времени снизил свой тон, освобождался от макаронизмов, распространенных благодаря широкому бытованию в Польше латыни, обогащался элементами разговорной речи, что облегчало контакт с более массовым читателем. Проза и поэзия заняли свое место в его воспитании: первая служила «более легкому разумению», вторая – «запоминанию» (Monitor. 1767. N 41).
Просветители любили заключать свои рассуждения моралью. Игнаций Красицкий, высказав очередную сентенцию, писал: «Мораль слетела с пера; очевидно, можно было бы обойтись без нее в данном описании; но поскольку так случилось… пусть так и останется»[752]. Отсюда повышенный интерес к дидактическому жанру басни. Не случайно Дмоховский, «польский Буало», в отличие от своего предшественника, посвятил ей особый фрагмент в сочинении «Искусство стихосложения».
Жан Пьер Норблен. Фронтиспис к «Мышеиде» Игнация Красицкого
Авторам представлялось важным сделать поучительные выводы – в их произведениях всегда был наказан порок и торжествовала добродетель, а счастливой развязкой иногда заканчивали даже переводы шекспировских трагедий. Кроме того, у польской публики вообще было «чувствительное сердце», как говорилось в одном из театральных сообщений, и, чтобы не слишком ее волновать, из переводных пьес порой изымались «страшные сцены». В теории перевода в целом постоянно проводилась мысль о необходимости приспосабливать текст к местным условиям.
Воздействию на читателя служили визуальные средства, наглядность представления текста. Станислав Конарский, один из реформаторов польской системы образования, заботился о шрифтовом решении книги: «Я распорядился, – писал он, – набрать книгу различными гарнитурами: одной – правила, чтобы их учить… наизусть, другой – объяснения, чтобы их старательно преподносили молодежи, третьей – примеры»[753]. Просветители многое делали и для распространения наглядных учебных пособий – их вводила в своих школах Комиссия национальной эдукации.
Популярные виды и жанры искусства
Ориентация на широкого адресата отразилась в иерархии искусств. На первом месте – театр как наиболее доступный для восприятия и связанная с ним драматургия. Обслуживать публику, обеспечивать ее контакт с автором, призван и новый тогда вид деятельности – театральная, литературная и художественная критика. Важную роль играли гравированные иллюстрированные издания, особенно архитектурные увражи, а также литература, посвященная путешествиям, удовлетворявшая интерес к разным странам и народам. XVIII век явился временем расцвета художественной иллюстрации. Ее непосредственно связывали с конкретными строчками текста, изображая описанную в них ситуацию (под иллюстрацией обычно ставили номер страницы, к которой она относится, и даже помещали соответствующую цитату). Издатели заботились и об удобстве чтения – книги выпускались в небольшом формате; характерна такая деталь – в конце каждой страницы печаталось слово, с которого начиналась следующая страница, что облегчало брошюровку книги и помогало сократить паузу при чтении вслух. Оно было широко распространено в быту того времени: «Дома, усевшись с соседями у камина, почитываем себе комедии и веселимся», – рассказывал один из героев пьесы Франтишка Богомольца «Комедиограф».
Распространилась репродукционная гравюра, популяризирующая произведения художников. В это время в Польше, как и в других странах, создаются ее многочисленные коллекции (Станислав Август, Станислав Костка Потоцкий), а их владельцы развлекают гостей показом собранных листов, о чем упоминается в мемуарах, описаниях Польши иностранцами. Самостоятельное значение получает рисунок, подобно гравюре предполагающий более близкое и непосредственное общение с ним зрителя.
Показательно частое обращение в литературе к диалогическим жанрам послания, письма, а также к приему прямого диалога, например, в «Сатирах» Красицкого, чем поляки владели еще в эпоху барокко благодаря риторике. Письма в моде и как литературный жанр, и как бытовая форма общения. Если у романтиков письмо станет исповедью души, личным документом, то для просветителя – это средство поучения, передачи информации, рассчитанное отнюдь не на интимное функционирование и восприятие. В эпистолярном жанре пишутся романы, статьи в журналах (так построено большинство из них в «Мониторе»), календарях, один из авторов которых так обращался к адресату: «Я написал тебе, ясновельможный пане, чтобы, прочитав [это письмо…], ты его не прятал, а незамедлительно (чего очень желаю), изволил бы обсудить с моими соотечественниками»[754]. Письма писали прозой, стихами, иногда соединяя то и другое, как Красицкий в серии писем 1788 г., адресованных родным и друзьям (частично публиковались еще при жизни поэта). Эпистолярную форму Руссо придал своему сочинению «Соображения об образе правления в Польше» (1770–1772), в котором постоянно использовал прием прямого обращения, однако не к конкретному лицу, как бывает в частных письмах, а к нации: «Удачи вам, храбрые поляки… вы любите свободу и вы достойны ее; вы защищаете ее от могущественного и коварного врага»[755]. Этой формой сочинения Руссо хотел вдохнуть в поляков жажду утвердить свою идентичность – она не может быть отторгнута, так как ее свидетельство – душа.
Первый номер «Монитора». 1772
Если научиться писать письма по образцу Руссо было трудно – он создал послание, в котором предвосхитил и разделы Польши, и пути развития польского национального самосознания, – то в других случаях могли помочь письмовники. Как составлять письма, инструктировал и «Монитор» (1766 N 74). Конарский включил примеры различного типа писем в «Школьный устав» (1755), положенный в основу просветительской реформы школ пиарского ордена. Франтишек Богомолец, среди сочинений которого был томик «Поэтических развлечений», полагал, что научить писать письма может, прежде всего, «сама натура». Возможно поэтому, в качестве авторов писем он отдавал предпочтение женщинам, обладавшим, по его словам, чувствительным сердцем (Monitor. 1768. N 94). В XVIII в. появляется новый предмет мебели – секретер, предназначенный для писания и хранения корреспонденции.
Ян Потоцкий. Зануда, рассуждающий о Геродоте. Рисунок
Широкое распространение сохраняют предисловия как форма обращения к читателю. Они предшествуют не только книгам, но и нотным изданиям. В романе «Приключения Миколая Досвядчиньского» Красицкий даже дал сатирическую классификацию приемов, к которым прибегают писатели в таких предисловиях, стремясь завоевать благосклонность публики. В это время преобладали обращения к безымянному читателю – покупателю книг, а не к музам или знатному покровителю, как ранее. Красицкий саркастично заметил, что мода на такого рода предисловия распространилась в связи с превращением писательского дела в ремесло и служит «литературной торговле». Однако предисловия являлись не только рекламой, они имели и дидактические цели, разъясняя замысел автора.
В пьесах того времени часто использовался прием обращения актеров со сцены к зрителю. На контакт с ним ориентирована и композиция живописных портретов – представленные на них люди, несмотря на свое высокое положение, охотно позировали, жестами привлекая внимание зрителя к различным атрибутам – усиленная жестикуляция была характерна и для актерской игры. Важны были позы не только рук, но и ног (ил. с. 276, 320, 399). Взоры портретируемых того времени обращены на зрителя. Показательно, что в эскизе коронационного портрета Станислава Августа М. Баччарелли первоначально увел взгляд короля в сторону, но в окончательном варианте обратил его к зрителю – такое решение художнику показалось более убедительным[756].
Жан Пьер Норблен. Станислав Август в кадетском корпусе. Середина 1770-х гг.
Стремлению воздействовать на зрителя отвечал полистилизм той эпохи. Он открывал возможность удовлетворить многообразные вкусы, впервые столь широко культивировавшиеся именно Просвещением. Как отмечал Д.С. Лихачев, каждый стиль, создавая некие повторяющиеся, общие для всех произведений искусства элементы, облегчает восприятие, делает форму произведений «незатруднительной»[757]. Это замечание в особенности справедливо по отношению к нормативным стилям, в которых «правила игры» открыто и четко запрограммированы посредством риторики, как в барокко, классицизме, что способствует контакту автора и адресата. Красицкий хотел обучить этим правилам всех: «Их знание необходимо не только сочинителям комедий, но и зрителям, читателям… чтобы они лучше могли судить о достоинствах и недостатках театральных пьес» (Monitor. 1766. N 63). Богуславский в 1790 г. так рекламировал перевод комедии Гольдони: «Исправленная в соответствии с правилами… она стала еще более занимательна также благодаря тому, что мы стремились выбросить все излишние буффонады»[758]. Занимательность в то время связывалась не только с веселыми шутками сommedia dell’arte, которые часто казались вульгарно-простонародными, но в большой мере и с узнаванием привычных персонажей, появлявшихся в нужное время и в нужном месте в соответствии с правилами классицизма. Польский зритель много общался в публичном театре с классицистической драматургией, а также усваивал ее основы в орденских школах. В результате в Польше классицизм оказался наиболее эффективен в реализации дидактической программы той эпохи.
«Разумная беседа» и живое слово
Авторы произведений разного жанра как бы все время ведут с читателем разговор, поучая его в непринужденной беседе. От лица рассказчика строится повествование в романах (Красицкий). Мысли излагаются в форме легкого, ненавязчивого разговора, которому присуща подвижность, изменчивость. Это свойственно и ученым трактатам (c. 366).
«Разумная беседа» приобретает для просветителей особую прелесть и значимость. «Беседа оживляет столкновение идей, выставляет их в новом свете, развивает драгоценный дар взаимопонимания и служит одним из самых больших наслаждений в жизни; этому занятию я охотнее всего предаюсь»[759], – писал Мерсье. По его же мнению, беседа – идеальная форма для проповеди.
В живописи распространились так называемые разговорные сцены (с. 337). Наиболее желанной фигурой в салонах того времени становится не рассказчик-солист (gawędziarz, по польской терминологии), как это было раньше, а тонкий собеседник, causeur; для удобства собеседников был изобретен специальный диванчик – козетка (фр. causette от causer – разговаривать, болтать). «В обществе нужно искать случая знакомства и возможности беседы с каждым», – учил своих воспитанников Конарский, пропагандируя тип общительного приветливого человека, а не задиристого сармата[760]. Именно в XVIII в. распространились визитные карточки, облегчавшие знакомства и контакты.
Роль произносимого слова в целом была велика в эпоху Просвещения. По сравнению с печатным оно казалось более выразительным (можно вспомнить о «разговорном стиле» сочинений де Линя; c. 260). Ф. Богомолец писал, что «никто из рассудительных людей, читая [пьесу], не требует от нее той внешней привлекательности, которой говорящая особа притягивает к себе слушателей»[761].
Для Польши с ее шляхетской демократией ораторское искусство уже в предшествующие столетия стало одной из форм национального самовыражения. Еще М.К. Сарбевский, блестящий поэт и проповедник, в первой половине XVII в. писал, что «поляк по натуре – оратор». В XVIII в. адресованное публике слово звучало не только в речах на сеймах, которые были «национальным занятием» поляков, но и в публичных дискуссиях на морально-философские темы, которые проводились в костелах и были часто приурочены к сеймикам, трибуналам.
Форму диспута эпоха Просвещения позаимствовала у риторики, которую Р. Барт назвал «социальной институцией». Хотя в своих комедиях просветители высмеивали ее правила, как в пьесе «Монитор» Богомольца, она еще верно им служила. Риторика выработала сумму принципов, позволяющих убеждать, воздействовать на аудиторию, направлять массовое мышление. Со времен Цицерона риторика – это, кроме всего прочего, и этическая позиция. Для Квинтилиана, на авторитет которого часто ссылались в XVIII в., хороший оратор – это хороший человек, а риторика – польза и добродетель. Такое мнение было близко полякам – они считали, что ясно говорить все равно, что правильно мыслить.
Произнесение текста было одним из необходимых элементов классицистической поэзии. Мандельштам в «Разговоре о Данте» назвал читателя музыкантом-исполнителем. Продолжая эту мысль, Р. Пшибыльский писал, что «задачей читателя является звуковое воссоздание партитуры стиха». И далее: «Для классиков чтение вслух было условием реализации стиха»[762]. Хотя, по мнению этого польского литературоведа (и не только его), поэты XVIII в. утратили ощущение мелоса слова, тем не менее традиция чтения стихов вслух широко жила в салонах XVIII в., практикуясь на «четверговых обедах» Станислава Августа, куда король приглашал лишь владеющих польским языком. Эта традиция свидетельствовала не только о потребности и культуре духовного общения, свойственных той эпохе, но и о восприимчивости к звучащему слову. Она проявилась также в речитативном начале, развитом в музыке того времени. Для Дмоховского плохой стих тот, который «режет ухо» – он портит мысль и все сочинение. Однако в целом считалось, что «принципы, максимы или заповеди в стихах и более поражают читателя, и легче запоминаются»[763].
Главное, чего старались избегать из опасения потерять аудиторию, – это скука. Для Вольтера уже безразлична иерархия жанров, все они хороши, кроме скучного. Ему вторил Красицкий: «В наш совершенно испорченный и развращенный век… непростительно лишь то, что нудно». Воздействию на зрителя способствовал и публицистический полемический дух сочинений просветителей. Помощью служила сатира, которая, по их мнению, могла «вылечить такие головы, которым бы не помогли серьезные политические проповеди – они бы только вызвали у них тоску, а может быть и усыпили»[764]. В эпоху Просвещения в польском искусстве появилась карикатура (с. 315). Идеальными просветителям представлялись те читатели и зрители, которые в отрицательных персонажах узнают не чужие, а «собственные недостатки и, обнаружив их, стараются исправиться» (Monitor. 1770. N 65).
Таким образом, обращенность культуры Просвещения вовне, ее открытый, экстравертный характер не только способствовали возникновению новых идей, но и обеспечили возможность их активного воздействия на личностное и общественное сознание, во многом определили содержание и направление этого воздействия, помогали преодолеть замкнутость мышления в социально-политическом, пространственно-временном и национальном аспектах. Все это было связано также с изменением бытия культуры, ее коммуникативных форм, что меняло и облик эпохи в целом.
Францишек Езерский, сравнивая Просвещение с Ренессансом, писал: «Тот век имел больше людей действительно ученых, зато наш имеет меньше глупых. Удивленный разум, наблюдая множество перемен, происходящих в делах религии, в политике, обычаях, правлении, занятый обдумыванием все новых предметов, приобрел расторопность в суждениях, смелость в высказывании мнений, не заботясь о том, приняты ли они»[765]. Эти слова говорят об открытости эпохи Просвещения к метаморфозам и об одном из главных завоеваний того времени: оно научило поляков активно и смело мыслить, укрепило их гражданское сознание, подготовив к предстоявшей им долгой борьбе за независимость страны. Благодаря этому Просвещение выполнило свои обязанности перед польской историей.
Глава 2 История и искусство в культуре польского просвещения
История и культура. – В поисках духа истории. Историческая живопись. Дидактика и документ. Политическая и национальная идея
Зыгмунт Фогель. Замок в Тенчине
«Геродот, как и Ливий, и Орозий, и даже как историки Ренессанса, писал историю для того, чтобы сохранить примеры и модели и передать их нам для подражания. Но уже прошло столетие [и]… история больше не является источником типичных моделей», – констатировал Элиаде[766]. Просвещение относилось к первому, восходящему к античности периоду, оно еще строило историю на примерах и моделях и хотело донести до современников не только ее факты (для их собирания прилагались огромные усилия), но и уроки. Парадоксальный афоризм «история учит, что она ничему не учит» родился не в то время. В отличие от современной истории, которая преобразует «документ в памятник», тогда происходило «превращение памятника в документ, „обращение в память“ памяток прошлого, „оглашение“ этих следов, которые сами по себе часто бывают немы или же говорят вовсе не то, что мы привыкли от них слышать»[767].
История и культура
История как процесс, протекающий во времени и пространстве, и история как мысль об этом процессе по-разному соотносятся с культурой. В первом случае культура – часть общеисторического процесса, одна из сфер человеческого бытия, во втором – история оказывается внутри культуры, становится объектом ее рефлексии. Исторические события, преломляясь в индивидуальном и общественном сознании, превращаются в текст культуры, начинают существовать в пространстве культуры и по ее законам. «Вне культуры, не окруженная аурой понимания-проникновения, история оставалась бы неосознанной, неосуществленной, ибо стерлась бы из памяти общества, осталась бы только в акциональном ряду, но не в пространстве культуры»[768].
Если одна из важнейших задач исторической науки – восстановить факты, очистить их от наслаивающихся толкований («историки не являются ни судьями, ни моралистами», полагал П. Рикёр[769]), то культуру в целом интересует прежде всего сама смена интерпретаций как признак различных эпох. Культура – это память истории, однако в выборе объекта внимания каждая эпоха обнаруживает соответствующие критерии, которые зависят от ее иерархии ценностей. Не претендуя на непогрешимость выбора, культура может менять оценки, актуализировать или вновь предавать забвению те или иные события. Если история как целое несет в своем потоке все явления культуры, то последняя извлекает из совершающегося в истории и из своей памяти лишь те факты, которые представляются ей достойными этого, и казус Герострата, разрушившего святилище Артемиды, чтобы сохраниться в истории, был попыткой «обмануть» культуру, нарушить действие ее ценностной системы. Активность культуры по отношению к истории выражается и в том, что она формирует человека как творца истории.
Историческое сознание, которое имеет интеллектуально-рациональный характер, проявляясь также в эмоционально-психологических реакциях, не локализовано в какой-либо замкнутой сфере культуры. Оно пронизывает все ее пространство, воздействует на менталитет человека и общества, национальные стереотипы, мораль, поведенческие образцы, стиль жизни, ее материально-вещественный облик, воплощается в образах искусства. При этом историческая рефлексия выражается в различной форме – мифологической, научной, художественной, бытовом сознании. В культурном пространстве исторические события, герои и идеи постоянно пребывают между мифом и реальностью. Претензии эпох и людей быть максимально объективными выразителями «исторической правды» часто оборачиваются лишь сменой ее мифологического костюма. Даже для науки, стремящейся к точности, эта «правда» остается пытающейся ускользнуть целью. Культура хранит древние мифы и рождает новые, создает образы, символы и знаки, которые концентрируют представления об истории, получают различные смысловые признаки в сменяющейся общественной и культурной ситуации. Поэтому, в частности, скульптурные монументы как вещное выражение исторической памяти, напоминание о прошедшей истории (монумент от лат. monere – напоминать) могут быть установлены и разрушены. Однако они не исчезают полностью и могут быть вновь «открыты» в прямом и метафорическом смысле. Историческое событие в культуре не имеет «срока давности», оно способно вновь и вновь обретать актуальность, а исторические герои – вечность. Их образ со временем может проясняться и затушевываться, сакрализоваться и демифологизироваться. В художественных текстах исторические образы живут в мифопоэтическом времени-пространстве.
Храм Сивиллы в Пулавах. Гравюра Яна Захариуша Фрея по акварели Зыгмунта Фогеля. 1806
В отличие исторического времени, которое постоянно движется вперед, в искусстве события свободно перемещаются по его шкале. Ему дано симультанно совмещать разновременные явления, как это свойственно средневековым произведениям, но характерно и для поэтики ХХ в. Искусство способно возвращать ушедшее, забегать в будущее, погружать событие в вечное время Космоса. В произведениях искусства время свертывается в своей протяженности и растягивается, а его движение ускоряется или застывает. Поэт волен в нескольких строках уложить исторические процессы, длившиеся столетия:
Пока ягнята и волы На тучных пастбищах водились И дружелюбные садились На плечи сонных скал орлы, Германец выкормил орла, И лев британцу покорился, И галльский гребень появился Из петушиного хохла. О. Мандельштам. «Зверинец»В поисках духа истории
Каждая из эпох, создавая свою картину мира, оглядывалась в прошлое, мифологическое или историческое. Это происходило, даже если отрицалась преемственность традиций, что делало Просвещение по отношению к барокко, а романтизм – к Просвещению. Разоблачая древние мифы как суеверие, оно само творило новые мифы, выражая через них свою концепцию истории[770]. Она была оптимистической. Человек способен «сделать из себя все, чем он может и должен стать», – писал Гердер[771]. Тем самым утверждалось представление об истории как восходящем процессе, о чем говорило и самоназвание эпохи (c. 371). Слово прогресс благодаря Вольтеру стало одним из ключевых.
Отношения старого и нового, постоянно, осознанно и неосознанно присутствующие в культуре, в эпоху Просвещения приобрели особый характер (c. 322). Сменились сами понятия старого и нового. Если для Ренессанса moderni – это носители «темного Средневековья», а аntiqui – наследники возрождаемых античных идеалов, то уже с рубежа XVII–XVIII вв. понятие современность обретает иную аксиологическую окраску. Именно новые теперь рассматриваются как выразители творческих возможностей своей эпохи. Так называемый спор старых и новых, который в то время развернулся во Франции[772], означал не просто стремление утвердить приоритет французской культуры эпохи Людовика XIV. Он был знаком мироощущения, которое сложилось в годы «кризиса европейского мышления» (определение Поля Азара), и было проявлением зарождавшегося историзма Нового времени (IV.2). Начав постигать специфику отдельных культурных эпох, мыслители Просвещения не могли остановиться на идее «возрождения», на отношении к античности как к высшему образцу. Вместе с тем желание определить чье-то превосходство отражало повышенную роль понятия прогресс в интерпретации культурного процесса. Отсюда выяснение вопроса, что выше – античная трагедия или произведения Корнеля и Расина.
В Польше дискуссии о роли античности, происходившие во второй половине XVIII в., культивирование ее мифов и традиций в генеалогических легендах и в искусстве составляли важную часть сарматского сознания, отражали компромиссное соединение старых и новых ценностей, умеренность в отношении к образцам, которые переставали служить обязательной нормой[773].
Ориентировав ход истории в будущее, просветители также искали идеал в прошлом, в состоянии естественности, изначально присущем природе. Здесь имела место «историческая инверсия»[774] – движение вперед виделось не столько как становление, сколько как восстановление нарушенной гармонии между человеком, природой и социумом. Поиски счастливого будущего переносились в прошлое, актуализировался миф Золотого века, прекрасной Аркадии, при этом в Польше аркадийский миф окрашивался сарматским пассеизмом.
Два разнонаправленных вектора создали поле напряжения, в котором формировалось историческое сознание эпохи, нарушалась статика универсалистских представлений о мире. Они вытекали из признания всеобщности естественного состояния, что позволяло рационально вводить единые моральные критерии, посредством них оценивать настоящее. История представала перед просветителями как «огромный театр… в котором умершие выходят на знаменитую сцену» и как «покорные актеры» ждут справедливого приговора[775]. Среди судей исторического процесса оказалось искусство. К этому оно пришло по мере формирования самого понятия история.
Эпоха Просвещения не только накопила и критически осмыслила огромную массу фактов, но и открыла дух истории и народов, хотя его еще связывали с представлением о субстанциональной универсальности человеческой натуры (Вольтер), с духом законов (Монтескьё). Вольтер, сформулировав понятие дух народов («Опыт о нравах и духе народов»), включил в его изучение не только политическую историю, но и историю религии, науки, философии, искусства, а понятие неизменной человеческой натуры соединил с понятием обычай (la coutume). Его царство «простирается на нравы и все языки», т. е. на сферу культуры, именно она «приносит разнообразие на сцену мира»[776]. Вслед за Вольтером, популярный К.А. Ватле повторял в «Искусстве живописи», что художники должны уметь показать «различные народы в их разном возрасте, законы, игры, искусства, знаменитых людей»[777]. «Различные народы» присутствовали в искусстве XVIII в. лишь как экзотический сюжет, как Rossica, Polonica, однако произведения, создаваемые иностранными мастерами, расширяли представления о далеких народах.
Гердер, предвосхищая романтическое понимание истории, писал: «Какая глубина в характере одной только нации… как редко удается раскрыть ее в слове так, чтобы каждый мог ее понять и почувствовать»[778]. Найти это слово оказалось возможным, отказавшись от телеологического взгляда на историю, от поисков ее неизменных оснований и начав понимать ее как «единство процесса»[779]. Это означало изменение способа исторического мышления в целом, завершение пути в Новое время, отмеченного несколькими этапами. В Средневековье мир и икона воплощали «ныне сущее вечное» (Кирилл Туровский). Гуманисты Ренессанса полагали, что все божественное осуществляется через деятельность человека, а «история людей созидается человеческой волей»[780]; в ту эпоху человек стал субъектом истории, в его формировании особая роль принадлежала искусству[781].
Марчелло Баччарелли. Коронационный портрет Станислава Августа. Мраморный кабинет Королевского замка в Варшаве. 1768–1771
Однако, как показал Э. Кассирер, только эпистемология Просвещения выделила человека из природы и начала подходить к нему с новыми мерками, он начал рассматриваться в связи со своей специфической для него социальной сферой, которая, в отличие от «вечной» природы, подвержена изменениям. Человека охватила жажда знания о самом себе. Историзм стал неизбежным, когда человек расстался с вечностью как главной категорией, переместившись в историческое земное время. Природа тоже начала обретать свою историю, в результате «немногие тысячелетия, с которыми под влиянием Библии и летописных преданий привыкли считаться образованные люди… поблекли… перед десятками и сотнями тысяч лет… Бюффоновой естественной истории»[782]. Философия все больше становилась эпистемологией, с позиций которой А.Г. Баумгартен определил эстетическое как акт чувственного познания, а эстетику конституировал в качестве составляющей философии[783]. Искусство и наука сблизились. «Программой Просвещения было расколдовывание мира. Оно стремилось разрушить мифы и свергнуть воображение посредством знания»[784]. То и другое ему в большой степени удалось с пользой для науки и потерями для искусства (с. 233–234). Однако оно тоже внесло вклад в концептуализацию истории.
Королевский замок. Рыцарский зал. 1781–1786 гг.
В XVIII в. ускорился исторический процесс, интенсифицировался темп жизни и ее преобразования. Человек Просвещения острее ощущал само течение времени. Его сакральное измерение, важное для барокко, уступило место параметрам времени профанного. Если Средневековье, по словам Мандельштама, свежие новости черпало в Священном писании, в соответствии с ним эсхатологически предвидя будущее, то теперь главным становился момент текущий, а ориентиром – новости, которые приносят газеты. Появившееся слово эпоха Франтишек Езерский разъяснял соотечественникам как «промежуток времени между двумя событиями»[785].
Тот век ускорил также художественные процессы. Если раньше время стилей измерялось веками, то теперь они, не успевая сменяться, совмещались в пределах одной культурной эпохи. Возникшее рококо сохранялось на фоне еще долго доживающего барокко, которое в своем конце сомкнулось с предромантизмом и классицизмом. Важной составляющей выступали различные архаизирующие псевдостили – прежде всего псевдоготика, а также так называемое египетское и дорическое «возрождения», связанные также с неоклассицизмом, но можно говорить и о неком «неолитическом возрождении». Реабилитация готики, как и возникновение различных неостилей, свидетельствовали о развитии исторического подхода к художественному наследию.
Поскольку в культуре Просвещения все большее значение получала категория времени, то, вероятно, неслучайно на первом плане оказались временные искусства – музыка и театр. Приблизиться к ним стремилась живопись. Хотя Лессинг не признавал за ней данной способности, однако полагал, что художник может избрать для изображения такой момент действия, из которого легче всего понять прошедшее и последующее[786]. Этому учили в Академиях[787]. Темпоральные характеристики постоянно присутствовали в живописи независимо от их тематики – не только в композиции, но и в ритме линий, движении цвета, объема[788]. На трактовку категории времени повлияло пришедшее из натурфилософии представление о развитии как органическом разрастании. В качестве органического процесса, включающего циклы расцвета и упадка, И. Винкельман увидел историю искусства.
Историческая живопись. Дидактика и документ
В эпоху барокко реinture d’histoire соединяла мифологию, священную и земную историю в аллегоризованное целое, герои и боги составляли единый мир. Лафонтен дал исторической живописи статус «высокого жанра», который она долго сохраняла в академической иерархии. В XVIII в., вплоть до времени Ж.Л. Давида, историческая картина играла в европейском искусстве, однако, меньшую роль, чем в предыдущую эпоху. Рококо не способствовало обращению к ней. Так, «в Англии середины XVIII в. [историческая живопись] отчасти подобна миражу… все это искусство… оказывается настолько однообразным и пассеистичным, настолько заимствованным, что анализировать его едва возможно»[789]. Французская живопись начала века еще прославляла Людовика XIV, а после его смерти осталась в пределах религиозной и мифологической тематики. Особое значение историческая живопись приобрела в Польше в связи с политической ситуацией страны, разделами польско-литовской Речи Посполитой и национально-освободительным движением.
Однако Дидро расширил границы исторической картины, полагая, что «следует называть жанровыми живописцами подражателей природы грубой и мертвой, а живописцами историческими – подражателей природы чувствующей и живой», первые пишут «только цветы, фрукты, животных, леса, горы», вторые – «сцены домашней и общественной жизни»[790]. Картина Тягости войны Ватто (1712–1715. ГЭ) стала, вероятно, первой, в которой батальная тема была связана не с изображением сражений, а представлена как бытовая и погружена в пейзаж. Хогарт пробовал «подняться до исторической живописи, но с малою удачей»[791]. В 1770 г. Бенджамин Вест создал полотно Смерть генерала Вольфа (Национальная галерея Канады), в котором стремился, по его словам, к «эпической репрезентации», придав композиции сходство с иконографией Снятия с Креста. Существовавшая потребность в историческом жанре, а также отсутствие впечатляющих произведений позволили этому англо-американскому художнику-автодидакту получить звание придворного мастера Георга III.
В эпоху Просвещения божественные и человеческие деяния разграничились. Картина мира раздробилась на небо и землю, между ними ослабли связи, внимание перешло по преимуществу на земные проблемы. В конце XVIII в. их пытались разрешить без помощи Бога. Игра приобретала драматический и даже макабричный характер[792]. Как писал в «Энциклопедии» Вольтер, «история событий делится на священную и гражданскую. Священная история – это ряд божественных и чудесных действий… Я совсем не коснусь этого почтенного предмета»[793]. Следуя Вольтеру, живопись занялась гражданской историей, пример чему – полотна Марчелло Баччарелли на темы польской истории для Рыцарского зала Королевского замка в Варшаве (ил. с. 302). Однако в творчестве эпохи Просвещения сохранялась и библейская тематика, не ушли из него сакральные идеи, связанные, в частности, с представлениями о божественном происхождении власти[794]. Не исчезла мифология, которая позволяла аллегорически персонифицировать просветительские идеи, делая их наглядными, служила она и прославлению высоких заказчиков.
Просвещение как морализаторская эпоха одной из важнейших функций истории считала дидактику. Лорд Болингброк, близкий по взглядам Вольтеру, полагал, что исторические сочинения способны перенести читателя «в минувшие времена… сделать его актером на сцене событий… Таким способом история становится учителем человеческой жизни… и одновременно философией»[795]. Счастье человека, его моральное возвышение и обогащение разума через исторический опыт, а также просвещение – цели истории, согласно Гердеру. Музы, по Ватле, призваны помочь художникам показать «труды, добродетели, ошибки смертных… нравы и обычаи, законы, развлечения, искусства, знаменитых людей»[796]. В 1773 г. варшавский «Монитор» писал, что история призвана «служить устройству теперешней жизни». И.Ф. Урвановым историческая живопись понималась как явление, которое «увеселяет… удовлетворяет любопытству, но еще исправляет нас, предлагая нам живо добрые и худые примеры»[797]. Станислав Август хотел, чтобы «зритель с первого взгляда был охвачен идеями справедливости… великодушия, согласия»[798]. (Эти слова были написаны по поводу заказанных королем во Франции полотен на темы из античной истории.) Сходные мысли витали по всей Европе.
Художник должен был также научиться «делать справедливое древним людям сравнение с нынешними и прилагать к собственным нашим обстоятельствам их нравственность»[799]. В «Истории» Красицкого римляне с их завоевательной политикой олицетворяли феодализм, карфагенцы – предприимчивое мещанство, купец с Родоса – деизм. Так прошлое осознавалось через современные понятия (ил. с. 317).
Роль достоверного исторического документа с эпохи Возрождения выполняла батальная графика. В академической художественной системе такая же роль отводилась батальной живописи (отсюда протоколизм этого жанра по предназначению). Она должна была представлять «частные сражения, не означая исторического времени». В отличие от этого собственно исторической картиной считались «те баталистические представления, в коих означается время и которые служат к прославлению военных дел какого-либо великого государя или знаменитого народа»[800]. Мастер картин «большого исторического рода» должен был «более трудиться головою, нежели руками», обладать «филозофическим знанием истории». Это открывало возможность для «сочинительства» картины, которое считалось важнейшим в профессии художника. Автор таких картин выступал как «создатель природы идеальной и поэтической»[801], как «всякого исторического бытия вторичный творец».
Марко Карлони по рисунку Франтишка Смуглевича. Развалины Золотого дома Нерона. 1776. Фрагмент. Раскрашенная гравюра
Эпоха Просвещения не знала понятия анахронизм[802]. Представление об универсальности законов, правящих миром, как и о вневременном характере добродетели, позволяли легко совмещать прошлое и современность, старое и новое. «Что древние Готы имели самого прекрасного /…Все это собрала знающая рука / Вдохнув новую душу в старую работу», – воспевал Ф. Карпиньский новый Готический домик в садах Бялостока[803]. Настоящее, чтобы придать ему значительность, переносилось в прошлое. Мифологизированный портрет семьи Понятовских Баччарелли представил как Апофеоз Октавиана Августа[804]. Давнее событие ассоциативно приближалось к современности. Напоминанием о проведенной реформе Краковского университета служила картина того же мастера Установление привилегий Краковской академии для Рыцарского зала, где в качестве муз фигурировали прекрасные дамы из окружения Станислава Августа в тогдашних одеждах, а старинная церемония была уподоблена театрализованной сцене придворной жизни XVIII в. Путешественник назвал это полотно «аллегорическим изображением новейших событий».
Тем не менее Просвещение чтило документ. Часто литературным произведениям для большей достоверности и пробуждения интереса читателей придавалась форма писем, дневника, где-то неожиданно обнаруженных автором. Согласно Вольтеру, история призвана передать «больше деталей, больше обоснованных фактов, точных дат». Теоретики призывали художников изображать прошлое в исторических реалиях, изучать древние монеты, медали и гравюры, старинные одежды, исторические предметы, а в случае их отсутствия обращаться к описаниям старых авторов[805].
Искусство постоянно расширяло историческую эрудицию, свою и зрителей. Собирательство, публикация, критика библейских и исторических источников, начатые XVII в., вышли за круг антикваров и стали предметом интереса профессиональных историков (Адам Нарушевич собрал 38 270 копий документов к польской истории[806]). Археологические занятия, превратившиеся в моду, позволяли за счет древних произведений пополнять коллекции (в Польше были наиболее известны собрания Станислава Августа, Радзивиллов, Чарторыских). Развитие собирательства стимулировалось, в частности, потребностями исторической живописи (им со временем займется также Ян Матейко). При этом в художественные коллекции включали не только оригиналы, но и копии, полноценно, по тогдашним представлениям, их замещавшие.
В XVIII в. особое место заняли археологические увлечения, питаемые теми грандиозными открытиями, которыми ознаменовалось то время (Геркуланум, Помпеи, этруски). Ст. К. Потоцкий в 1770-е гг. предпринял исследование остатков виллы Лаурентина Плиния Младшего. В отличие от предложенных ранее ее реконструкций, в том числе в духе пейзажного парка[807], Потоцкий стремился к исторической достоверности, изучая остатки построек Рима и его окрестностей. Они и послужили основой для создания 28 акварелей с проектами реконструкции, выполненными в основном В. Бренной, а также Фр. Смуглевичем и Дж. Маноцци. Сохранился также подготовительный текст Потоцкого для предполагавшегося им издания, посвященного Лаурентине. Его публикация, несомненно, стала бы чрезвычайно заметным событием в этой области. Однако этого Потоцкому сделать не удалось. Долгое время оставалась неизвестной и его рукопись. Обнаруженная в Главном архиве древних актов в Варшаве еще в начале 1990-х гг.[808], она вновь оказалась «открыта» лишь в 2007 г.[809].
В целом археология была одним из частых занятий поляков как часть интереса к древности[810]. Адам Чарторыский в письме к матери из Италии сообщал:
«Что бы ты сказала, ma chere Maman… узнав, что ни один римский синьор еще не додумался включить в свой сад какую-нибудь руину… Вместо этого остатки древнего величия – единственное достоинство современного Рима… запущенные и совершенно заброшенные очень быстро исчезают». Занимаясь в Риме раскопками, найденное Чарторыский предназначал для Пулав: «Я уже имею для тебя кусок урны Сципиона, кусок гранитного обелиска, который принадлежал храму Фортуны, построенному Суллой… Но это только начало… долгой литании, в которой может быть повторена вся римская история». Античные фрагменты, наряду с отечественными древностями, были вмонтированы в стены Готического домика в Пулавах (ил. с. 308). Подобно в Санктуарии Верховного жреца а Аркадии (c. 208).
Велось изучение польских древностей. «Живописное путешествие» по историческим местам Польши по инициативе Станислава Августа совершил в конце XVIII в. Зыгмунт Фогель. Его рисунки, запечатлевшие виды старинных замков, крепостей, городов получили распространение в гравюрах, став одним из источников укрепления польского национального самосознания в эпоху разделов (ил. с. 206).
Эпоха Просвещения умела сочетать, казалось бы, несовместимое: она сохраняла традицию писать ученые трактаты стихами, синкретически сочетала образность и информативность, что проистекало из ее методологической установки – познавать мир не только разумом, но и чувством, которое признавалось первичным. Пиранези, романтизированно изображая развалины Рима, сопровождал некоторые гравюры подробными экспликациями, расставляя цифры на каждом из объектов, чтобы точно обозначить место, к которому относится комментарий. В результате образовывались два семантически различные слоя – один воплощал образ древнего города, второй был чисто информационным, что не воспринимается глазом как противоречие, так как цифры и буквы, штрихи и пятна светотени мастерски соединены в едином графическом поле.
Ж.Б. Дюбо полагал, что «трагический Поэт идет против собственного Искусства, когда он слишком откровенно грешит против Истории, Хронологии и Географии»[811]. Чтобы избежать обвинений в этом, Беллотто снабдил свою картину Въезд Ежи Оссолиньского в Рим 27 октября 1663 года надписью о документах, на которые он опирался (1779. Национальный музей во Вроцлаве)[812]. Характерно для эпохи и название картины с указанием точной даты. Однако художники редко стремились к дословному воспроизведению событий. Следуя предписаниям классицизма, искусство всегда четко отделялось от действительности, не ставило задачу «реалистически» представить жизнь, ни минувшую, ни современную. Согласно Дюбо, требование быть точным «не может распространяться на незначительные и, следовательно, малоизвестные факты»[813]. Художник добивался необходимого для тогдашнего зрителя правдоподобия, свободно обращаясь с реалиями, балансируя, по словам Дидро, между мелочностью и преувеличением (при одном изъяне, по его мнению, доминировало ремесло, в другом случае сохранялось «больше от души»).
Тем не менее философ мечтал: «Ах, если бы можно было изображать жертвоприношения, битвы, триумф, народную сцену с той же правдивостью во всех деталях, как изображают домашние сцены Грёз и Шарден»[814]. При этом программа исторических композиций могла уточняться даже за счет сознательного отхода от фактов. Так обстояло дело с картиной Беллотто Элекция Станислава Августа (1776. Национальный музей в Познани). В ее втором варианте (1778. Национальный музей в Варшаве) появились сцены и лица, отсутствовавшие на Вольском поле, где происходило избрание польских королей. Это не мешало современникам признавать, что полотно написано «точно в согласии с исторической правдой»[815]. Достоверность виделась в том, что художник к удовлетворению короля показал его избрание как легитимное действо, поддержанное представителями всех сословий Речи Посполитой.
Исторические живописцы были в коллизии с коллегами-жанристами, которые не принимали условную «правдивость» их творений. Они «питают друг к другу презрение, впрочем, не выказываемое перед людьми, но о нем нетрудно догадаться», – писал Дидро[816]. Это свидетельствовало о том, что позиции академической исторической живописи, казалось бы, уже поколеблены (в пользу такого вывода, в частности, говорил повышенный интерес коллекционеров, в том числе русских, польских, к малым голландцам). Однако наполеоновское время воскресит пафос исторической живописи, еще весь XIX век она будет стремиться сохранить свои ведущие позиции, что удавалось в особенности в тех странах, где шла борьба за национальную культуру и независимость, – в Польше, Венгрии, Чехии.
Жан Пьер Норблен. Готический домик в Пулавах. Акварель.1800-е гг.
Политическая и национальная идея
Интерпретация истории в польском искусстве Просвещения в большой мере определялась характером королевского и магнатского меценатства. Несомненным новшеством стала государственная культурная политика, в том числе в области искусства[817]. Она сформировалась в годы правления Станислава Августа Понятовского, отсутствуя в период пребывания на польском троне двух саксонских курфюрстов, культурные начинания которых были ориентированы преимущественно на Дрезден. В оценке королевской деятельности исследователями, с одной стороны, подчеркивалась прагматичность программы оформления Замка, с другой – акцентировались его эстетические склонности[818]. Понятовский преследовал ту и другую цель, при этом эстетическая была не менее политизирована – строительство, коллекционирование, покровительство художникам все это издавна повышало престиж правителя. Вместе с тем король, являлся, несомненно, личностью художественно одаренной и страстно любил искусство. Местом реализации его политической программы стал варшавский «Замок короля и Речи Посполитой», как он официально назывался[819]. Речью Посполитой (т. е. республикой – rex publicum) двух народов – польского и литовского – была рождена государственная идея, которая служила тогда объединяющим началом в формировании польского и литовского самосознания, хотя всегда существовали местные особенности патриотизма. Вместе с тем в международной фразеологии понятие польский служило тогда определению явлений, касающихся и Польши, и Литвы. С землями той и другой было связано творчество ряда ведущих художников, как Франтишек Смуглевич, Юзеф Пешка.
Бернардо Беллотто. Элекция Станислава Августа. 1778 г.
Неизвестный художник XVII в. Заочное венчание Марины Мнишек с Лжедмитрием через его представителя Власьева в Кракове.
Понятовский был озабочен проблемой вписать себя, в частности посредством живописи, в число достойных правителей, что определялось необходимостью упрочить свой авторитет и утвердить идею преемственности власти – в Польше короли избирались, а Станислав Август хотел оставить своего преемника[820]. В результате Замок оказался украшен циклом портретов польских и литовских королей, написанных Баччарелли (1768–1771). Он разместился в Мраморном кабинете, относящемся к парадным интерьерам XVII в., но, в отличие от других, не подвергшемся кардинальной перестройке при Станиславе Августе. Его сохранение было следствием не только красоты многоцветного мраморного декора, но и желания подчеркнуть связь нового монарха с предшественниками. Кабинет «олицетворял» (в прямом и метафорическом смысле) монархическую концепцию польской истории, в целом мало популярную в шляхетской среде. Она обосновывалась в фундаментальном труде Нарушевича «История польского народа» (доведена до 1386 г.)[821] – первом польском историческом сочинении Нового времени.
Валентий Котерский. Заочное венчание Марины Мнишек. 1787
Центральное место в кабинете занял коронационный портрет Станислава Августа в рост, который композиционно и по масштабу отличался от высоко расположенных по периметру изображений предшественников (портрета Станислава Лещиньского, союзника Карла XII, среди них не было) (ил. с. 301). В годы созданного Наполеоном Княжества Варшавского (1807–1815) эти исторические портреты получили новую функцию – напоминать о многовековой традиции независимого польского государства. В 1806 г. их копировал бывший королевский живописец Я.Б. Плерш[822], а в начале 1890-х гг. цикл рисованных портретов королей и князей Польши создал Ян Матейко (Poczet królów polskich). Так, вопреки польской шляхетско-республиканской традиции монархический цикл стал выражением национальной идеи[823].
Следуя Вольтеру, утверждавшему, что нужно заниматься отечественной историей, а на другие нации только бросить «общий взгляд», Антони Альбертранди, библиотекарь Станислава Августа, адресовался к художникам и их ученикам, работавшим в королевской Малярне[824]: «Читай[те] отечественную историю, хроники, законы… Зачем заниматься чужими делами, если под сарматским небом есть много своих» (1790)[825]. Эти советы по времени совпали с работой Франтишка Смуглевича над циклом рисунков и литографий к «Истории» Нарушевича (1790-е гг.)[826].
Однако уже ранее программный характер и резонанс получило скульптурно-живописное оформление Рыцарского зала Королевского замка (1782–1786). Он предшествовал Тронному залу и должен был в соответствующем духе представить королевскую концепцию истории[827]. Король разделял пацифистские идеи Просвещения, а кроме того, не имел боеспособной армии, поэтому его представлениям отвечало отношение Вольтера к культу военных героев, которые, по словам философа, «производят слишком много шума в мире», для них «внешнее счастье – ужасы сражений»[828]. Шесть монументальных полотен Рыцарского зала представляли мирные события польской истории, включая заключение успешного мирного договора с турками (Хотин. 1621), приношение прусской дани, основание Краковского университета. Исключение было сделано для Яна III Собеского – победителя турок, изображенного как триумфатор в конном портрете. Зал украшали также живописные и скульптурные портреты «знаменитых поляков», в том числе ученых и писателей. Уже тогда они занимали почетное место рядом с королями.
В Лазенках – сцене летней придворной жизни и месте прогулок варшавян – в 1788 г. в честь Собеского состоялся грандиозный праздник, увековеченный в поэзии и прозе. Там был установлен и конный памятник этого короля-сармата по образцу его барочной конной статуи из Вилянова, украшенный элементами мусульманских надгробий – столбиками с тюрбаном (Фр. Пинк. 1788.). Образ Собеского использовался в пропагандистских целях, как во внутренних, так и международных делах, в особенности, когда король хотел убедить Екатерину II в целесообразности совместной борьбы с турками, чтобы получить согласие на увеличение армии. Об этом шла речь в 1787 г. во время встречи короля с императрицей на корабле среди Днепра около Канева. В том же году Юзеф Пешка в написанном им портрете посадил на коня самого Станислава Августа, изобразив его в мундире генерал-лейтенанта, осматривающим войска (1787. Национальный музей в Познани). Возможно, картина была предназначена для Екатерины II, чтобы продемонстрировать ей воинские достоинства короля.
С каневской встречей было связано появление в 1787 г. необычных польских картин, свидетельствующих еще об одном аспекте отношения к исторической теме. Картины возникли в связи с политическим интересом Екатерины II к польской истории[829].
Императрица «кажется, очень коротко знакома с нашей историею: она беседовала о многих интересных эпохах ея с епископом», – записала Урсула Мнишек, наблюдавшая разговоры Екатерины II с Нарушевичем[830]. Узнав во время крымского путешествия, что в Вишневецком замке Мнишков есть старинные картины с изображением Марины Мнишек и Дмитрия Самозванца[831], императрица пожелала получить с них копии. Им надлежало быть «того же размера, что и оригиналы, и с теми же надписями»[832]. Для исполнения заказа Станислав Август прислал в Вишневец Валентия Котерского (Котарского), состоявшего в королевской живописной мастерской при Замке (так называемая Малярня) и ранее выполнившего копии с рисунков Киева, сделанных в середине ХVII в Авраамом фон Вестерфельдом по заказу Януша Радзивилла[833].
Урсула Мнишек и ее муж Михал Вандалин, известный своими художественными интересами, проектами Академии художеств и «Museum Polonicum»[834], полагали парсунного типа старинную живопись недостойной глаз императрицы, а потому хотели ее «улучшить», по словам Урсулы, и она ежедневно присматривала за работой художника. Вместе с тем заказ испугал Мнишеков – они боялись оживлять воспоминания о роли их семьи в интервенции начала XVII в.
Полотна Котерского стали травестацией оригиналов и лишь частично сохранили изображенное на них. Неизвестно, как Екатерина восприняла картины, но в Эрмитаж они попали[835]. А.Н. Оленин, знавший эти копии, советовал Брюллову посмотреть Въезд Марины Мнишек в Москву в связи с работой над картиной Осада Пскова[836]. Ровинский считал копии интересными для изучения польских костюмов начала ХVII в. «Все же, что касается русских околичностей, в них произвольно и фантастично», – отмечал он[837].
Мнишекам было важно затушевать антироссийскую деятельность своих предков. Поэтому сцена Обручения из краковского дома Мнишеков, специально перестроенного к этому событию, оказалась перенесена в готический костел (имелся в виду вероятно Кафедральный собор на Вавеле). Церемония приобрела не семейный, а государственный характер. Клан Мнишков, который в оригинале торжественно предстоял перед зрителями застывшими рядами, разделенным на две части – мужскую и женскую – в копии много потерял от своей репрезентативности. В ней значительно сократилось число изображенных, которые утратили индивидуальную характерность, свойственную им в оригинале. Фигуры первого плана оказались объединены в оживленные группы, что придало им жанровый характер (ил. с. 311).
Сцена Коронования Марины Мнишек в оригинале была фантастически совмещена со сценой Въезда в Москву и происходила в небольшом ренессансном павильоне, изображенном в окружении процессии, направляющейся в столицу. Теперь сцена стала самостоятельной и разыгрывалась в аркатурном ренессансном дворе замка на Вавеле – обычно польские короли короновались там в кафедральном соборе. Въезд Марины Мнишек в Москву Котерский представил на отдельном полотне, в которое внес характерный для XVIII в. элемент – поросшую кустами и деревьями романтическую руину, а на переднем плане поместил полужанровые коленопреклоненные фигуры. Композиции утратили статику и торжественность оригиналов, не говоря о декоративной яркости локальных цветов, особенно красного.
В конце XVIII в. объектом изображения в польском искусстве стали конкретные актуальные события и эпизоды, что пришло в европейское искусство в последней трети века[838]. В полотне Присяга Костюшко на Краковском рынке (1797. Национальный музей в Познани, депозит в НМВ) Франтишек Смуглевич представил одно из важнейших событий польской истории и его непосредственных участников. В их числе изображен сам художник – его автопортрет, согласно ренессансной традиции, помещен в левом углу картины и обращен к зрителю. Постройки, на ходившиеся на Рыночной площади, – ратуша с польским гербом, Сукеннице и возносящиеся над ними разновысокие башни Мариацкого собора – оказались на картине рядом с вымышленным монументом, который аллегорически представлял Польшу в виде сидящей задрапированной женской фигуры со скованными цепью руками.
Смуглевич выбрал момент, имеющий морально-этический характер, изобразив присягу на верность польскому делу и призывая поляков хранить ее в условиях, когда они утратили независимость отечества. Художник уже знал итоги восстания и на высоком постаменте начертал слова из «Энеиды»: «Пусть когда-нибудь из нашего праха восстанет мститель». Произведение, проникнутое патриотической идеей, должно было увековечить акт присяги, явиться просветительским моральным уроком, а также выразить мессианистскую идею жертвы, что в дальнейшем разовьется в национальную идеологическую доктрину. Оно также пророчествовало о воскрешении Польши из пепла, а образ Костюшко, представленного с саблей в руках, становился прообразом будущего мстителя. Так ранее статичный «театр» Смуглевича (упомянутые рисунки на сюжеты из «Истории польского народа» Нарушевича имели фризообразный характер) соединил прославление прошлого и пророчество о грядущем, а картина, на первый взгляд документально-конкретная, обрела мистическо-символический смысл. Художники того времени часто скрывали его под реалистичной оболочкой. В результате полотно Смуглевича, не выделяясь живописным качеством, стало одним из наиболее значимых произведений в польском искусстве.
Без аллегорий и назидания исторические события предстали в полных динамики репортерских натурных зарисовках сцен восстания под руководством Костюшко, сделанных Норбленом. В них он отошел от протокольного документализма графики предшествующих столетий и показал уличные сцены, как бы увиденными глазами повстанцев. Так композиция рисунка стала выражением определенной политической позиции. Однако это не было результатом только художественного замысла – Норблен сам принадлежал к числу повстанцев. Для характеристики исторического сознания художника и эпохи эти работы интересны также тем, что здесь, хотя и суммарно, запечатлен восставший народ.
Серьезность отношения к истории не мешала просветителям воспринимать ее эмоционально. Она порождала их гнев или желание подражать, ее персонажи служили объектом сатиры, как в рисунке Норблена Осада Хотина, где рыцари в латах подсаживают тяжеловесного Собеского на оборонный вал (1794. Национальный музей в Варшаве). Езерский делил историю на «естественную» и «противоестественную», «историю странностей», которую «творит человек своей собственной волей» в противовес здравому смыслу. «Противоестественность» ее польских перипетий предстала в сатирических листах на разделы Польши, вместе с тем все чаще появлялись карикатуры исторических лиц, начало чему положила еще эпоха Реформации. Иконография Суворова во время его военных действий в Польше пополнилась сатирическими изображениями[839]. Нашло место в искусстве и свойственное Просвещению осмеяние исторических легенд (иллюстрации Норблена к «Мышеиде» Красицкого; ил. с. 288) – углубляя историю, оно вместе с тем ее укорачивало, отбрасывая мифологическое прошлое.
Отказываясь от исторических мифов, та эпоха сохраняла родовой миф. В годы Просвещения не утратили значения циклы родовых портретов и исторических полотен, традиционно украшавшие магнатские резиденции[840]. Портретные галереи по традиции были и в монастырях, где наряду с вымышленными портретами святых, канонизированных в давние времена, были представлены также современные деятели польского костела, которых писал, например, Шимон Чехович в Полоцке[841]. В Краковском университете давно существовала галерея ректорских портретов.
Франтишек Смуглевич. Присяга Тадеуша Костюшко на Краковском рынке. 1797
При всей критике сарматской традиции старопольское начало в культуре не исчезало. «Просвещенный сарматизм» явился следствием не только политического компромисса между сторонниками реформ и охранителями традиционной шляхетской вольности, но и стремления защитить национальную идентичность от внешней культурной экспансии. Однако теперь в продолжавших создаваться родовых портретах выступил тип просвещенного магната. Реформаторско-просветительская деятельность послужила поводом для создания полотна Павел Ксаверий Бжостовский отпускает на волю крестьян, заказанного им Смуглевичу (1795). Этот акт был отменен после третьего раздела Речи Посполитой, а картину Ф.Кс. Фабр воспроизвел в качестве рельефа на постаменте сломанной колонны в портрете Бжостовский, скорбящий на фоне разрушенного Павлова – места проведенной им реформы. Так историческая тема получила психологическую подоплеку, а образ портретированного был включен в движение исторических событий. Сами же они, благодаря изображению «картины в картине», оказались переданы в движении. В результате в полотне соединились историческое пространство и время, она обрела четвертое измерение. Портрет в интерпретации Фабра не утрачивал первоначальной «семейно-родовой» функции, однако выходил за рамки традиционных сарматских портретов, магнатско-шляхетской идеологии. Это было присуще и другим портретам[842].
Франсуа Ксавье Фабр. Павел Ксаверий Бжостовский, скорбящий на фоне разрушенного Павлова. 1797–1798
В новом ключе воспринимались польские древности, старинные родовые реликвии, которые были собраны И. Чарторыской в Пулавах в Святилище Сивиллы (Петр Айгнер. 1798–1801), ставшем первым польским музеем, музеем польской истории (ил. с. 298). Памятники западноевропейской культуры демонстрировались в пулавском Готическом домике (П. Айгнер. 1800–1809)[843]. Так расширялся круг истории, у просветителей она постепенно превращалась во всемирную. Станислав Сташиц назвал свою историософскую поэму «Человеческий род» (издана в 1819–1820), и действительно она рассказывала не об истории народов и государств, а человечества в целом, при этом раннее естественное состояние человека он не идеализировал. Польское Просвещение, наряду с этой поэмой, завершало и сочинение Станислава Костки Потоцкого «Об искусстве у древних, или Винкельман Польский» (1815) – первая история искусства на польском языке, охватывающая древность.
История была призвана пробуждать рефлексию, развивать воображение. Достигалось это в особенности путем создания «исторической» среды. Если в преобразованных интерьерах Королевского замка посетитель попадал в мир истории посредством современной ему живописи и скульптуры, то в парках этому помогали искусственные руины, павильоны, имитировавшие сооружения разных эпох и народов (не только светские, но и культовые). Во время прогулки от античного храма к островерхой пагоде, от турецкого шатра к готической церкви, от грота, напоминавшего о первом жилище человека, к голландскому домику посетитель английских парков проходил сквозь все культурные эпохи. При этом удаленность во времени и пространстве не различались. Важно было в целом увлечь посетителя зрелищем далеких миров и обычаев. «Видеть весь человеческий род с самого начала его истории как бы проходящим перед нашим взором… Какое еще зрелище столь же величественно, разнообразно и интересно?» – писал Д. Юм[844].
Иллюстрация Даниэля Ходовецкого к немецкому переводу «Истории» Игнация Красицкого. Гравюра. 1747
Идеализация естественного состояния породила, как уже отмечалось, «неолитический ренессанс» – подражание первобытной древности. Она впервые стала предметом искусства. Отсюда постройки из естественных необработанных материалов – гроты, хижины, которым придавался нарочито незавершенный вид, оставленный как бы самой природой. В парках искусно воспроизводился «дикий» ландшафт, «порожденные природой нерегулярности» (с. 118). К изображению сцен из жизни первобытных людей польское искусство обратится позднее (иллюстрации к «Человеческому роду» Сташица. 1819–1820).
Юзеф Пешка. Существование Польского королевства. 1819
Приобщение к естественному было приобщением к вечности – эта категория в культуре XVIII в. отошла на второй план (не в последнюю очередь благодаря растущему вниманию к исторически преходящему и неповторимому), ей в значительной мере противостояла получавшая все большее значение, а порой и суетливость, категория разнообразия.
Одним из элементов польского шляхетского сознания XVIII в. был пассеизм, порожденный идеализацией золотого шляхетского прошлого. Противоречивший реформаторским стремлениям, он, однако, оказался созвучен ретроспективному естественному идеалу, поэтизировавшемуся в искусстве XVIII в. европейской живописи той эпохи «удалось воплотить образ уходящего, исчезающего в прошлое невозвратного времени»[845]. Подобное удавалось и создателям естественного парка, в котором культивировалась меланхолия как обращенное в счастливое прошлое двойственное чувство, ей был посвящен специальный уголок радзивилловской Аркадии.
Вечности посвящались храмы и алтари, появлялись символизирующие ее пирамиды, сферы, обелиски, сфинксы. «Величественный храм Вечности» из необработанного камня был воздвигнут в Варклянском парке (Инфлянты), его венчала змея, кусающая свой хвост. Так естественное начало, воплощавшееся в нарочитой примитивности постройки, соединялось с символом вечности. Ее символизировала и скульптура Хроноса как один из организующих элементов в концепции посвященного польской истории Рыцарского зала.
Вниманию к темам вечности, мирового круговорота, трансформации, взаимообратимости рождения и смерти благоприятствовали герметические представления, развивавшиеся в XVIII в., в частности благодаря франкмасонам. Символически отождествив свою историю с историей архитектуры и возведя к Средневековью свою генеалогию, они способствовали реабилитации готики, а тем самым ликвидации «перерыва» в истории архитектуры между античностью и Ренессансом (c. 375).
В культуре Просвещения непротиворечиво сочетались, казалось бы, противоположные начала: устремленность идеалов в будущее и пассеизм, актуализация и архаизация, рационально-критический подход с эмоционально-ассоциативным отношением к прошлому, зарождающийся интерес к его национальным проявлениям и универсализм, документализм с аллегоризмом, уважение к достоверности исторического факта с псевдоисторической имитацией, ученый археологизм со стилизацией, морализаторство и развлекательность, серьезность и ирония. Становление исторического сознания эпохи Просвещения было процессом многообразным и антиномичным, в полной мере отразившим ее беспокойный дух.
Понимание истории как развитии духа, человека и социума утвердится вместе с романтизмом. Она станет носительницей национальной идеи, а в Польше и средством осмысления национальной катастрофы. В XIX в. цель воплотить вечную идею останется за религиозной живописью, а трагизм исторических событий предстанет драмой их конкретных участников, найдя выражение в портретах, как у Хенрыка Родаковского, который, изображая Хенрыка Дембиньского, показал проникнутый исторической рефлексией образ побежденного, но не сломленного воителя за национальную независимость[846]. Ян Матейко создаст польскую живописную эпопею.
Глава 3 Театрализация как синтезирующая форма культуры XVIII века
Пути к синтезу. – Театральность, театрализация и эпоха. – Рококо. – Театр как таковой и театрализация. – Театр среди искусств. – Театр и сад. – Театр и быт
Жак Луи Давид. Смерть Сенеки. 1773
Пути к синтезу
Культура каждого времени обладает некоей целостностью. Один из путей ее возникновения – синтез различных искусств. В системе того или иного стиля и эпохи он может достичь лишь определенного уровня. Если готика и барокко способствовали сближению живописи, скульптуры и архитектуры, то в классицизме они визуально сохраняли бóльшую независимость, что не мешало их смысловому взаимодействию. Существует и другой путь синтеза, инициативу которого берет на себя какой-либо вид искусства, отдельная область культуры или сфера, опосредованно соотносящаяся с ней, – организующую способность к синтезу продемонстрировала религия с ее сакральным культовым пространством, на объединяющую роль всегда небезуспешно претендовала идеология.
Среди явлений, которые обнаруживали синтезирующие возможности еще в пределах древнего синкретизма, были те, которые связаны с игровой природой человека, благодаря чему возник театр. Выделившись из сакральных мистерий, он вобрал в себя формы, которые стали специфичными для различных искусств – архитектуры, живописи, музыки, искусства слова. Это позволило театру соединить пространственные и временные свойства. В дальнейшем связь с другими искусствами не была потеряна, их новации усваивались театром. Он, в свою очередь, сообщал художественную энергию не только другим видам искусства, но и самой жизни, заражая их «особой театральной условностью», благодаря чему образовалась «возможность самовыражения на языке театра»[847].
Таков был второй путь синтеза, ведущий к театрализации внетеатрального пространства, т. е. к перевоплощению объектов при помощи присущих театру средств. К ним относится прежде всего игра, которая всегда оставляет зазор между Я играющего и исполняемой ролью, что превращает человека в актера. Другое средство – использование декораций, костюмов, реквизита, освещения для придания происходящему зрелищности, визуальной привлекательности, рассчитанной на зрителя (еще одна роль человека в театрализованном пространстве). Игра и зрелищность, как и деление на актеров и зрителей, были в высокой степени присущи стилю жизни XVIII в. В результате возникала театральность, родственная поэтичности, музыкальности, живописности[848]. Через них являлся дух искусства, каждый раз в неповторимом облике. Однако не каждая театрализация завершается появлением этого духа.
Театральность, театрализация и эпоха
Согласно В.Н. Топорову, genius loci – это «дух, усвоивший себе место сие и обретший тем самым свои корни, свою опору, но ни в коем случае не олицетворение места»[849]. Подобным образом и театральность – не олицетворение театра, а укоренившийся в нем дух. В отличие от духа места, он подвижен, не знает морфологических границ, разделяющих искусства, одухотворяя их и распространяясь вне их пределов. Так мир пронизывается театром, возникает театральность архитектуры, живописи, объединяющей их сценографии, театральность празднества, ритуала, этикета, создаются театральные метафоры, используется театрализованная лексика, выстраиваются цепочки театральных образов, кодов, основанных на прямом или ассоциативном обращении к этим образам.
Н.Н. Евреинов считал театральность «абсолютно самодовлеющим началом» культуры, говорил о биологическом инстинкте театральности и рассматривал ее как предискусство. Этот философ и режиссер писал также об инстинкте преображения, позволяющий «легко, радостно, всенепременно» освобождаться от оков действительности»[850]. Инстинкт преображения проявлялся в раскрытой М. Бахтиным народной смеховой культуре, которая содержит развитый игровой элемент. Й. Хейзинга, исходя из античной традиции, описал игру в качестве одного из фундаментальных свойств культуры и даже ее онтологической основы, а человека назвал homo ludens[851] (c. 248). Во всех случаях важным оказался момент преображения, метаморфозы.
Театральность стала знаком эпохи Просвещения в соответствующей историко-психологической ситуации. В западноевропейских странах доживала последний век абсолютистская система, зародившаяся в Средневековье. Если понятие l’ancien régime как пейоративное появилось в Англии в 1794 г. (в научный обиход вошло в 1856 г. с книгой А. Токвилля «L’ancien régime et revolution»), то понятие новый стало одним из ключевых уже с начала XVIII в. как признак реформаторской эпохи. Тогда же утвердилось понятие «Новое время» (хотя современные историки начинают его с Ренессанса). Взаимоотношения старого и нового выяснились в ходе эстетических споров des Anciens и des Modernes (с. 299), а также сторонников старого регулярного и нового живописного стиля в садоводстве. Между старым и новым определялась судьба петровской России, между традиционным сарматизмом и Просвещением проходил водораздел в польской культуре; старое и новое столкнулись в Версале, когда у его дворцовых решеток появилась революционная толпа. (Все это не означало, что отсутствовала внутренняя преемственность процессов[852].)
В результате человек жил в новом и старом времени, ему была присуща двойственность мироощущения и самоощущения, которой отвечала театрализация окружающего мира (с. 172). В нем существовала дистанция между воображаемым и действительным, так как театр никогда не тождествен жизни, это всегда выход за пределы будничного, «житейского» состояния, готовность к перевоплощениям и актера, и зрителя. Господство в театре игрового принципа порождает театральную неоднозначность, «игровая модель в каждую отдельную единицу времени включает человека одновременно в два типа поведения – практическое и условное»[853]. В театре и театрализованном пространстве не только человек, но и любая вещь ведет двойную жизнь.
Театрализация способствовала эстетизации жизни. Красота в сочетании с commodité, удобством, чем впервые столь озаботилась та эпоха, должна была содействовать решению социальных и этических проблем, помочь вывести людей из хаоса грубости и испорченности. «Эстетическое стремление», по словам Шиллера, создаст «веселое царство игры и видимости», и человек освободится от всякого насилия, исчезнет антагонизм между духовным и материальным, чувственным и формальным, и тогда возникнет необходимая для счастья красота[854]. Так сложилась неотделимая от театральности просветительская концепция эстетической игры.
Полная духа беспокойства, эпоха Просвещения не довольствовалась тем, что есть, ее авторы в своих сочинениях «создавали» новые земли и государства, населяли их обитателями, моделировали их поведение и быт. Развитию утопического типа воображения помогал театр, а утопические произведения попали на его подмостки. В философских комедиях местом действия служили утопические острова, становясь элементом сценического пространства[855].
Просвещение не включают в число эпох, тексты которых углублены в мифопоэтическую традицию, насыщены символикой, различными кодами, поэтическими тропами и т. п. (к таким эпохам относят древность, Средневековье, барокко, романтизм, авангард).
Жан Антуан Ватто. Отплытие на остров Киферу. 1721
Человек той эпохи воображал себе мир менее сложным, чем ранее, а пути решения проблем – более ясными, предпочтение «оказывалось простым схемам идей»[856] (с. 233). Однако театральность создавала особую ауру, в которой рациональность, дидактика и нравоучительность частично утрачивали свой ригоризм, а ученость – сухость. Это позволяло с успехом следовать античному принципу – «просвещать, развлекая».
Театрализация способствовала усилению развлекательного начала в культуре, а также превращению эпохи Просвещения в галантный век, она придала публичность различным сферам, остававшимся ранее приватным делом. Теперь философ, прелат были не затворниками, а завсегдатаями салонов. Просвещение ориентировалось на зрителя, читателя, каждого гражданина, поэтому всем видам деятельности была необходима публичность, зрелищность (IV.1). Требование разнообразия (variété), как уже отмечалось, стало одним из главных эстетических постулатов.
Пышная, подавлявшая человека грандиозная театральность барокко была рассчитана на людскую массу, участвовавшую в церковной службе или религиозной процессии, а конкретный человек оказывался актером с короткой ролью в Театре мира (одна из наиболее разработанных тогда торжественных «постановок» – pompa funebris[857]). Изящная театральность XVIII в. способствовала культивированию эмоциональной сферы и форм общения (soсiabilité), адресовалась индивиду, ей соответствовал и камерные масштабы частной жизни. Этого не знали праздники Людовика XIV. Заложенный в человеке инстинкт преображения отвечал Просвещению как эпохе, стремившейся к преобразованиям. Театральность соединяла ее стилевую, жанровую, тематическую многоголосицу в единое целое. Рококо придало европейской культуре тот тип театральности, который стал знаком галантного Века философов. Она осталась одним из наиболее привлекательных свойств культуры XVIII в. Заключая в себе эстетическое начало, театрализация проявилась в облике особо моделируемой окружающей среды, в ментальности, поведении человека как частного и общественного лица, в личностных образцах.
Жермен Боффран, Шарль Жозеф Натуар. Отель Субиз. 1735–1740 гг.
Этому благоприятствовала настроенность эпохи на праздник, она изобрела новые, особые, празднества – галантные и сельские, fêtes galantes и fêtes champêtre [IV.4; c. 254, 334]. Не связанные с каким-либо событием, а в большинстве случаев и с конкретной действительностью, хотя изображаемые в картинах, а также инсценируемые в театре, они становились частью повседневной жизни избранных, чаще как состояние сознания. Создателем «театра» галантных развлечений в живописи был Ж.А. Ватто. Академия художеств дала ему особое звание – painter fêtes galantes, так как то, что он изображал в своих картинах, не укладывалось в принятую академическую классификацию жанров.
Fêtes galantes как паратеатральное явление – далекие преемники куртуазной театральности французской рыцарской культуры, непосредственно восходящие к пасторальным и прециозным мотивам культуры XVII в. Их театрализованный виртуальный мир был связан с мифологизированным топосом Цитеры – острова Венеры (с. 138). В результате театральность прониклась не только гедонизмом, но и эротическими мотивами, участвуя в творении еще одного признака своего времени. Однако она оказалась способной на большее, добавив к оптимизму Просвещения немного ностальгии, которая всегда присутствует в пассеистских концептах, каким был актуализированный миф Аркадии. С ней связана пастораль как «общекультурный идеал», который воплотился в различных видах искусства.
В карнавальной культуре театральное преображение было полным, хотя и временным, рассчитанным только на дни карнавала, и не имело дальнейших практических последствий. «В сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым игровым образом»[858], – писал Бахтин о днях карнавала. В эпоху Просвещения перевертывание ролей, подобное ренессансному празднику-карнавалу, не происходило, театрализация не ограничивалась особым временем, накладывая постоянный отпечаток на всю окружающую действительность, становясь стилем жизни и знаком эпохи в целом.
Прежде всего театральность манер и костюма людей XVIII в. заставляла человека следующего века снисходительно усмехаться, встречаясь с ними. Эти знаки галантного века «ныне» казались смешными. Романтизм нес новые формы театрализации, которых, в свою очередь, не признавали люди старшего поколения, считая экстравагантными. Романтикам принадлежала и новая идея синтеза искусств как их внутреннего общения (correspondаnce des arts). В этом они опирались на наследие барокко. Его принципы, маргинально сохранясь до конца XVIII в., во времени почти сомкнулись с романтизмом. Однако разрыв существовал. Романтики обращались не к эпигонам барокко, а к создателям его основополагающих форм, и были отделены от них эпохой Просвещения. Пройдя школу у просветителей, они оказались их талантливыми, но не очень благодарными учениками и через головы непосредственных предшественников обратились к традициям XVII в. Как писал Кассирер, «романтизм связан с… [Просвещением] и глубочайшим образом у него в долгу»[859].
Иван Вишняков. Портрет Сарры Фермор. Около 1750
Рококо
Оба охарактеризованных выше основных пути синтеза – как единения искусств и как доминации одного синтезирующего свойства (в данном случае театральности) – в высокой, а в чем-то и непревзойденной степени были присущи барокко. Соединившись, они позволили визуально представить космическую всеохватность барочной модели мира. На рубеже ХVII–XVIII вв. слияние пластических искусств достигло крайнего иллюзионизма вследствие виртуозной имитации одних искусств средствами других. Вовлеченные «в процесс плавки единой пространственно-пластической формы… [они] в значительной мере утратили свою независимость»[860], а часть «художественной энергии» отдали самой жизни (Л.А. Софронова).
В этой кризисной ситуации возник круг явлений, обобщенных позднее понятием рококо[861]. Оно оказалось самым игровым стилем в европейской культуре, было театрально по сути и противопоставило монументальности и серьезности барокко камерные и в некотором смысле «облегченные» формы рефлексии и способные выражения. Выйдя из барокко, рококо восприняло его способность к театрализации бытового и художественного пространства, придав ей изящество и открыто игровой, вплоть до кокетливости, характер. Рококо стало проводником театральных импульсов в культуре Просвещения, а тем самым и синтезирующих тенденций, также обладая еще унаследованной от барокко визуально-пластической цельностью архитектурных и изобразительных форм.
За рококо по разным причинам далеко не сразу утвердилось самостоятельное место в истории искусства. Вслед за Г. Вёльфлиным его рассматривали как позднее барокко. Лишь Г. Зедльмайр придал рококо независимый статус. Различно описывалось соотношение рококо с Просвещением – в качестве его стилевого выражения или стиля, противостоящего ему. Э. Эрматингер определил рококо как форму жизни (Lebensform), а Просвещение – как форму мышления (Denkform)[862], А.Д. Михайлов наиболее полно охарактеризовал рококо как стиль эпохи[863].
Именно Франция, где цивилизация в формах «старого порядка» достигла наиболее культивированных форм, а не Англия, куда все, начиная с Вольтера, ездили за примерами лучшей организации государственных институтов, стала местом рождения этого аутентичного стиля XVIII в. Во Франции он получил наиболее чистые формы. В контексте французских художественных процессов и французской ментальности рококо легче отделилось от барокко, которое в XVII в. сдерживалось здесь рационализмом и классицизмом. В искусстве земель, находившихся в орбите итальянских влияний, как баварские, даже собственно рокайльные постройки, подобные базилике в Оттобойрне, росписи, как в Azankirche в Мюнхене, оказывались по-барочному напряженными и переполненными. Барокко в разных проявлениях доживало очень долго, не одновременно завершившись в каждой из культур, что заняло бóльшую часть эпохи Просвещения.
В XVIII в. французский рационализм, претерпев большие изменения со времени Декарта, соединился с английским сенсуализмом. В этой атмосфере развилось рококо. В отличие от барокко с его антитетическими, часто трагичными концептами, отразившими метания человека, ищущего и не находящего абсолюта, новый стиль проникся гедонизмом и эпикурейством, участвуя в обновлении жизни после ханжества и общего застоя, которыми отмечены последние годы правления Людовика ХIV. Можно понять мотивы беспрецедентного в истории французского придворного этикета поступка Петра I, когда он против воли больной мадам Ментенон ворвался к ней в спальню, чтобы узреть источник этого «государственного» ханжества. Французская аристократия в период регентства столь же резко нарушала принятые нормы, хотя соблюдала светские приличия. Свобода морали трактовалась как свобода духа и от государственного, и от церковного давления.
Важнейшей функцией рококо стала эстетизация жизни. Этот стиль разлился по всему телу культуры и жизненному пространству, с чем связана его структурная неоформленность, затрудненность кодификации. Рококо была не столько свойственна неуловимость поэтики, как это иногда представляется, – вполне очевидны, в особенности, такие ее основания, как многообразие, чувственная красота, культивированная естественность, деликатность, грация, роль вкуса как выразителя эстетического суждения, культ явлений, обозначаемых понятием l’esprit в его многообразных значениях (c. 369). Одним из этих оснований был сам принцип неуловимого, je ne sais quoi[864].
Излюбленным предметом рококо служило зеркало, предназначенное для того, чтобы визуально создавать иллюзию двойственности мира (с. 172).
К тому времени это особенное стекло в «высокой культуре» потеряло свои многочисленные символические свойства, зато стало более доступно как предмет благодаря изобретению французами техники отливки, заменившей более дорогостоящую выдувную. В результате могла возникнуть Зеркальная галерея версальского Большого дворца, а в XVIII в. – весьма многочисленные зеркальные интерьеры рококо. Образцом для них служил отель Субиз, декорированный Ж. Боффраном и Ш.-Ж. Натуаром (1735–1740); где огромные зеркала и французские окна создавали пространство с капризно ускользающими очертаниями полное света, движения и отраженной зелени сада. Зеркальный бальный зал стал центральным помещением Царскосельского дворца (Ф.Б. Растрелли). В садах роль зеркала играли водоемы. Если барокко любило каскады, фонтаны и заключенные в стены каналы, то в естественных садах появились колышущиеся от ветра воды свободных, естественных очертаний. Отражавшаяся в них растительность создавала ощущение зыбкости мира (с. 206–207).
Окказиональность архитектуры и поэзии, творчества в целом, характерная для XVIII в.[865], свидетельствовала о стремлении использовать весь опыт цивилизации для придания красоты каждому моменту жизни и в целом миру, разрывы которого так ясно обнаружились в предшествующую эпоху. Окказиональность отражала также заинтересованность актуальностью, новизной.
Тем не менее XVIII век в целом не может быть представлен только как эпоха рококо, этот стиль не был и антитезой Просвещению, он служил одной из главных стилевых составляющих той эпохи (преобладание рококо в европейской культуре традиционно определяется 1715–1774 гг. – временем правления Людовика XV). Даже Дидро, будучи противником этого стиля, излагал свои мысли с изяществом и пикантностью: «Природа напоминает женщину, которая любит переодеваться, – ее различные наряды, скрывающие то одну, то другую часть тела, дают надежду настойчивым поклонникам когда-нибудь узнать ее всю»[866], – эти приемы стали характерны и для композиции естественного сада. Нужно, «чтобы одно место, колико можно, прикрывало другое»[867], – более скромно учил садоводов способам заинтриговать посетителя А.Т. Болотов (о садах рококо см. с. 177–181). Фривольность в памфлетах того времени могла доходить до крайности, что повышало их действенность[868]. Не столько фривольностью, сколько натурализмом отличались описания живописных произведений, сделанные Н.А. Львовым во время поездки в Италию. Вместе с тем сохранилось и его наивно трогательное стихотворение, адресованное жене[869]. Рокайльные следы несли игривые гравюры и рисунки времени Французской революции (гравюра «Ah, ça ira, ça ira»).
Если изысканные формы рококо смыкались с ментальностью l’ancien régime, то его либертинизм размывал традиционные устои общественного устройства. Предчувствие конца исторической мегаэпохи, восходившей к Средневековью, уже при рождении рококо окрасило его в пассеистские тона. Только при помощи театра Просвещение могло представить мир счастливым и легкомысленным.
«Повторение пройденного» в середине следующего века в виде так называемого второго рококо (его символом стал внедренный во Франции англичанином Ч.Ф. Вортом кринолин) не имело очарования своего прототипа. Однако эта реставрация стиля была более успешной, чем реставрация империи (правление императора Наполеона III. 1852–1870). Если в XVIII в. рококо служило знаком новизны, то неорококо напоминало о традиции, о связи времен, как в гатчинских интерьерах Александра II и многих европейских замках и дворцах, реставрируемых или перестраиваемых в то время. Это был историзирующий стиль. Русская культура обязана ему «Вариациями на тему рококо» Чайковского, а также аркадийскими аллюзиями в грустно элегическом романсе Полины и более светлом пасторальном дуэте из «Пиковой дамы». Такого рода вставные номера, этот «театр в театре», связывали настоящее и прошлое. Иначе отреагировал на неорококо Бодлер, обратившись к мотиву Цитеры (с. 000). В ностальгическом ключе вспоминали о «первом» рококо поэзия и живопись конца XIX – начала ХХ в.
Игровой характер рококо определил его тяготение к малым формам, придав им некую игрушечность. Как драгоценные безделушки воспринимались не только ювелирные изделия, фарфор (в особенности китайский), но и садовые постройки и даже сады нового типа в целом. Первые из них действительно были миниатюрными – их создатели еще не мыслили (а часто практически не располагали) большими пространствами. Таким был Чизвик лорда Берлингтона, Твикенхем А. Поупа. Сады получали названия Mon Bijou, Bagatelle, подчеркивавшие их миниатюрность и интимно-игровое отношение к ним. Об этом же говорили ласкательные названия, как Moulin Joli (ил. c. 258). Миниатюрность ценилась во всем, в том числе в женской красоте (маленькая ножка). Это способствовало распространению рисунка, малых литературных жанров. Хотя камерная музыка как разновидность сложилась уже в XVI–XVII вв., лишь теперь она обособилась от церковной, благодаря чему окончательно оформилась ее специфика. «Камерная музыка требует более оживления и свободы, чем церковный стиль», по словам И.И. Кванца, придворного флейтиста Фридриха II и музыкального теоретика.
Для мировосприятия рококо была характерна некоторая отстраненность, иронический взгляд на мир. Персонажи рококо не обладали простодушием и наивностью аркадийских пастухов и пастушек. Простая жизнь, подобно естественной природе, должна была быть облагороженной. Следование природе приняло изощренную форму, посредством которой стремились к простоте и непосредственности. По словам В.Я. Курбатова, до этого никому не приходило в голову воспроизводить естественную природу искусственно. Вместе с галлизацией и галломанией рококо распространилось по Европе. Под эгидой этого стиля еще в рамках регулярности зарождался естественный сад (c. 177–178). Он был игровой концепцией, в его основе лежал принцип имитации естественной природы и иллюзия, что цель достижима и даже уже достигнута. Создателем и обитателем этого сада был человек играющий (он же естественный).
Бытование рококо в России имело многие особенности, начиная с того обстоятельства, что его очень рано привезли сюда французы, как Н. Пино из окружения А. Леблона, который сам не был склонен следовать тяжелым формам барокко и в постройках, и в оформлении садов (с. 110, 180). Однако эта линия не получила продолжения до середины века[870]. Ее заняло царствование Елизаветы Петровны, отмеченное распространением рококо, хотя как стиль жизни оно противоречило сущности самодержавного правления. Об их неразрешимом конфликте говорят такие детали, как явка по принуждению на многочисленные придворные маскарады, части нарядов, отрезанные по распоряжению императрицы, чтобы придворные не облачились в них повторно (об этом неодобрительно сообщила в «Записках» Екатерина II). Лишь Ф.Б. Растрелли удалось органично соединить в своих произведениях царственную помпезность и рокайльную орнаментацию. Она украшала барочный по размаху огромный Большой дворец в Царском селе и пространные партеры его садов.
В это время популярность приобрел итальянец П.А. Ротари. Запечатленные им бесконечные женские головки, весьма статичные в выражении, были лишены флера театральности и неуловимости, а потому не вполне рокайльны. О скрытом внутреннем конфликте свидетельствовал легкий цветочный узор, который покрывал застывшие складки одежды, оттеняя грацию и хрупкость девочки в портрете Сарры Фермор работы И.Я. Вишнякова (1749) (ил. с. 326). Примиренность рококо с парсунной традицией можно обнаружить у И.П. Аргунова. Юные смольнянки Д.Г. Левицкого, уже одухотворенные, однако даже в театральных костюмах не всегда способны забыть привитые им сковывающие нормы; наконец, казалось бы, трудно совместимы по духу были естественный сад с его идейной программой и издержки крепостничества в усадьбе, хотя в практике вполне уживавшиеся в ней. Обитательницами этого сада, наиболее соответствующими ему, могли бы стать модели Ф.С. Рокотова с их неуловимыми полуулыбками. Однако на прогулке в саду была запечатлена только императрица, представшая в написанном в рост портрете В.Л. Боровиковского с величавой простотой просвещенной монархини (Екатерина II в Царскосельском парке. 1794. ГТГ).
Якоб Прандтауер, Йозеф Мунген наст. Аббатство Мельк. Алтарная часть собора. 1702–1736
К достопримечательностям бытия рококо в России, порожденным конкретной ситуацией будущего Петра III[871], можно отнести построенную им в Ораниенбауме крепость Петерштадт, по-игрушечному миниатюрную и с рокайльным дворцом (c. 181). Не очень воинственным, хотя на вздыбленном коне и на фоне воинских приготовлений, Петр Федорович был представлен Г.-Х. Гроотом (1753). Этот мастер создал целую галерею рокайльных портретов, среди которых и изображение Елизаветы Петровны в черном домино с маской в руках и портрет юной Екатерины Алексеевны в охотничьем костюме, их же конные портреты.
Рококо всегда имело неустойчивую моральную репутацию. Поэтому среди произведений барокко, а не рококо значится австрийская Штифткирхе аббатства Мельк (результат перестройки 1702–1736), где синтез искусств оказался столь подчинен декоративным задачам, что придал интерьеру вид роскошного театрального зала, а галереи второго этажа приобрели вид театральных лож. Однако монастырской постройке не пристало быть «в стиле рококо», хотя именно в этом стиле возникли многие выдающиеся церковные здания, как варшавский костел визитанток (Кароль Бай. 1728–1761), уже упомянутое баварское аббатство Оттобойрен с его знаменитой базиликой (1737–1766). К «дрезденскому барокко» относят Hofkirche, построенную Гаэтано Кьявери (1739–1755). По-барочному масштабная вследствие особых обстоятельств[872], она отличается дробными членениями архитектурной массы, украшена рокайльной балюстрадой с семьюдесятью восьмью фигурами святых, а в интерьере рокайльным органом во французской традиции.
Уильям Хогарт. Сцена из пьесы «Индейский император, или завоевание Мексики». 1767
В 1747 г. И.С. Бах принимал в Потсдаме почести от Фридриха II, это была последняя дань, принесенная эпохе барокко и ее великому мастеру. Композитор спустя некоторое время ответил королю «Музыкальным приношением» (Musikalischen Opfer), применив в этом многочастном вариационном сочинении самые изощренные и даже загадочные формулы композиторского мастерства. Среди них были шестиголосная фуга, а также так называемый ракоход – обратное зеркальное движение звукоряда как элемент музыкальной симметрии, благодаря которой музыка органично включалась в барочный синтез искусств. В основе сочинения лежала тема, предложенная королем во время встречи (о чем Бах в виде акростиха напоминал в посвящении Фридриху II). Король старался придать теме барочный характер, что было весьма куртуазно. Сам он в это время был увлечен рококо и принимал деятельное участие в создании летней резиденции Сан-Суси, благодаря чему появилось особое понятие фридрицианское рококо[873]. Рококо, как и барокко склонное к метаморфозам, было вариативным стилем и имело ответвления, получившие позднее пейоративные, как первоначально и сам стиль, названия – Zopfstil или Perückstil (от нем. – косичка, парик).
Жан Пьер Норблен. Нимфы и сатиры. Представление в Пулавах. Сепия 1803
Культура XVIII в. вопреки провозглашаемому ею универсализму не обладала ни характерным для барокко стремлением «к слиянию с целым»[874], ни тягой к слиянию в целое. Просвещение хотело освободиться от всех форм господства, в том числе стилевых, поэтому Век философов оказался отмечен стилевым плюрализмом и смог сформировать такой легкий и даже легкомысленный, по сравнению с тяжелым барокко, некодифицированный, хотя обладающий своей эстетикой стиль, как рококо, живущий по законам театра и согласно им представляющий жизнь.
К концу века неоклассицизм также продемонстрировал свой тип театрализации, о чем свидетельствовало раннее полотно Ж.Л. Давида Смерть Сенеки (1773. Пти Пале; ил. с. 320), а также более позднее, уже очищенное от барочных призвуков – «Смерть Сократа» (1787. Музей Метрополитен). Под классицистским влиянием изменился стиль жизненной и театральной игры. Давид стал художником и революции, и Наполеона как императора, который брал уроки у Тальма (дебютировал в 1787 г.). «Тальма, Тальма! Я еще не знал тебя, не знал, до какого совершенства довел ты мимику!.. ты вселил в нее римское чувство, ты заставил меня постигнуть величие Корнеля», – писал А.И. Тургенев о постановке «Цинны» в Theatre Français[875].
Театральность классицизма была следствием иного понимания синтеза искусств, чем в рококо. Теоретики классицизма рассматривали его прежде всего в духе горацианской формулы ut pictura poesis (или в формулировке, приписываемой Симониду – «Поэзия есть говорящая живопись, а живопись – молчащая поэзия»). Ж.Б. Дюбо в «Критическом размышлении о литературе и живописи» (1719) задавался вопросом относительно всех видов творчества – «что полезного для себя могут они позаимствовать из других областей Искусств»[876]. Е. Лессинг же выяснял их специфику («Лаокоон». 1766). Гёте, обеспокоенный ее ослаблением, писал в 1798 г.: «Искусства… друг другу родственны. Мы наблюдаем у них известное взаимное тяготение и даже тенденцию к растворению одного в другом; но в том-то и заключается долг, заслуга и достоинство истинного художника, что он должен уметь проводить границу между той областью искусства, в которой он работает, и всеми остальными, должен уметь воздвигать любое искусство… на собственной основе и по мере возможности изолировать каждую художественную область»[877].
Такое требование, оберегавшее специфику искусств на фоне унаследованных от барокко «обманок», не было характерно для рококо, противореча также общим тенденциям той открытой эпохи, склонной к снятию разнородных границ и барьеров. Духу Просвещения отвечал сам принцип игры с границами, как в естественном парке с его маскируемым ограждением. Эпохе, стремившейся к преобразованиям, в том числе самого человека, соответствовал заложенный в нем инстинкт преображения.
Театр как таковой и театрализация
В эпоху Просвещения большие изменения произошли в самом театре. Он складывался из нескольких «театров», различно сочетавшихся в разных странах, – это ярмарочный, профессиональный (отечественные и иностранные труппы), соmmedia dell’arte, кукольный, оперный, любительский театры (домашний и théatre de la société). XVIII век стал временем создания наряду с частными театрами (в том числе публичными) государственных национальных театров или борьбы за них (первый в Копенгагене в 1722 г., 1756 Петербург, 1765 Варшава, 1776 Вена)[878]. Разновидностью театрализованных зрелищ служили праздники, светские и церковные[879]. Это были не виртуальные fêtes gallants, они действительно происходили в городе и усадьбе, в отличие от тех, также четко отделяясь от повседневной жизни (с. 325). В России праздники как зрелище частично компенсировали позднее распространение собственно театра. В оформлении праздника соединялись разные искусства, он служил им рамой, но осуществлялся их синтез посредством театрализации. Как и праздник, она помогала адаптировать новые знаки национальной идентичности, появившиеся в петровское время со сменой стиля жизни, ее визуального оформления, чему пример ассамблеи.
Праздник не только веселье. Для праздника характерна «связь с высшими целями человеческого существования», «моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. Именно эти моменты – в конкретных формах определенных праздников – и создавали специфическую праздничность праздника»[880]. Массовый «театр зрелищ» выглядел по-особому, когда народ собирался на какую-либо экзекуцию, казнь. Театрализовалось все, начиная с оповещения: глашатаи ходили по улицам с барабаном и громогласно зачитывали указ о предстоящем «позорище», священники делали это в церквях перед службой. Знатным горожанам оказывали честь и оповещали «через полицию». Согласно И.И. Дмитриеву, в день казни Пугачева все пространство Болотной площади, «все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок»[881]. «Да как это, братец, уезжаешь ты от такого праздника, к которому люди пешком ходят?» – таким вопросом на московской заставе приятель остановил Болотова, направлявшегося к себе в усадьбу. После этого они двинулись к месту казни и, «протеснившись сквозь толпу господ, [смогли] пробраться к самому эшафоту», чтобы иметь «наивыгоднейшее и самое лучшее место для смотрения»[882]. В своей деревне Болотов добился «волшебного», по его словам, результата, устроив публичное театрализованное наказание воров[883]. Во Франции в годы якобинской диктатуры казни стали спектаклем-сериалом.
Прием в масонскую ложу. Гравюра
Если в связи с праздниками вся усадьба превращалась в массовый театр, то в другое время с большей или меньшей степенью регулярности функционировал домашний театр[884]. Он соединял традиционные формы народного театра и любительство, располагаясь на пограничье с городской культурой, как и усадебная культура в целом. Усадьба с ее садом была и раем, и частью крепостного мира, а усадебный театр – прежде всего крепостным театром. Это, однако, не помешало, чтобы «амуры и зефиры», до того, как бывали распроданы, «приносили посильные жертвы богиням искусства» (М.И. Пыляев) и создавали на усадебной сцене мир красоты. Вместе с тем в усадебном театре, где все его устройство порой вполне соответствовало просвещенной эпохе, возникали особого рода «преображения», прежде всего самого актера, который еще не был выделен из мира вещей. Поэтому в крепостном театре существовал слишком большой зазор между быть и казаться, выходивший за пределы театральной условности и трагичный для актера.
Театрализуя жизнь, другие искусства, сам театр в XVIII в. становился более «театрален», претерпевая «процессы как бы сгущения, концентрации собственного существа»[885]. Его приемом являлся «театр в театре», по сюжету часто предполагалась своего рода вторичная игра, когда персонаж (вынужденно или добровольно, из благородства или со злым умыслом) оказывался в чужой роли. Тем самым зрителю демонстрировалась возможность ролевого поведения, действительно распространившегося в тогдашней жизни[886]. Возникала и особая «игра в игре» – актеру рекомендовалось играть «будто бы» что-то происходило на самом деле, как отмечалось в авторских ремарках[887]. Подобное «будто бы» выступало общим свойством поведения и чувствования в ту эпоху, когда театрализовались даже обмороки. Согласно Пыляеву, «были обмороки Дидоны, капризы Медеи, спазмы Нины, вопёры Омфалы»[888].
Благодаря театру успешно реализовывалась дидактическая программа просветителей, формируя определенное отношение к миру. В самом театре, его структуре усматривали жизнестроительные принципы: «Спектакль подобен хорошо организованному обществу, где каждый жертвует своими правами для блага всех и целого», – писал Дидро[889]. Мир по-прежнему виделся как театр, однако сам театр изменился: в барочном Театре мира роли распределял Бог, появлявшийся на реальной сцене как Deus ex machina. В эпоху Просвещения авторами пьес выступали философы-просветители, активно используя сцену в актуальных полемиках. В отличие от мистериального театра барокко, который показывал трагическое противостояние земли и неба «не столько на сцене, сколько самой сценой» (она строилась как трехъярусная – земля, небо и преисподняя)[890], в XVIII в. там был представлен окружающий земной мир, именно здесь репрезентировались моральные проблемы эпохи, справедливо и счастливо разрешаясь. Дидро утверждал, что «в обществе не происходит ничего такого, что не могло бы произойти и на сцене»[891].
Театр среди искусств
Людям XVIII века была свойственна театральная склонность к переодеваниям, маскарадам, мистификациям (последние сделались также литературным приемом, а авторы часто приписывали свои сочинения вымышленным лицам[892]). Портрет, живописный или словесный, был не только исповедью, как у Руссо, но и маской[893]. Однако во всех случаях жизнь и искусство не совпадали – это был не сам человек, а его «сценическая» репрезентация. Портретированные выступали в мифологических одеждах, в костюмах исторических персонажей. В таких случаях было трудно отличить портретированную актрису от королевской модели. Так театрализация опосредованно утверждала просветительскую идею равенства.
«Взаимообмен» театра и живописи принимал различные формы. Добавление в групповые портреты различных аллегорических изображений, декоративного архитектурного антуража, мизансценное расположение фигур делало их трудно отличимыми от воспроизведения собственно театральных сцен. Так, полотно У. Хогарта «Индийский император, или Завоевание Мексики», представляющее сцену из пьесы Дж. Драйдена, которая была разыграна отпрысками английских аристократических семей, вместе с тем стало групповым портретом детей[894]. Не только в живописи, но и в исторической прозе, пасторальной поэзии текст порой непосредственно повторял театральный эпизод[895].
Франсуа Руссо. Маскарад в Боннском придворном театре. 1754
Хогарт пытался соединить историческую живопись и театр. Однако в XVII в. «высокий» пафос барочной театральности действительно помогал появлению академической исторической живописи, легкий дух театральности XVIII в. уже не позволял убедительно продолжать эту линию. Поэтому художнику «не удавалось возвышенное» и ему выпало «проводить на покой „живопись“ минувших времен»[896]. Тот же тип театрализации способствовал успехам Хогарта в области жанра. Если голландская жанровая живопись XVII в. исходила из жизни и, даже обращаясь к гротескным сюжетам, оставалась серьезной, то жанровые полотна и гравюры Хогарта воспроизводили театрализованные сцены, открыто ориентированные на развлечение зрителя – театральность уже успевала преобразить саму жизнь, прежде чем художник брался за кисть или резец, чтобы ее изобразить.
Так называемые святые беседы кватроченто (sacre conversatione) были безмолвны, в XVIII в. появились разговорные портреты, разговорные картины, в которых портретируемые изображались во время разговора, тем самым в живопись вносилась речь[897] (с. 293). У Хогарта бытовые сцены всегда полны не только движением, но и шумом разговоров, и даже криками, и пререканиями. В XVIII в. популярны стали так называемые живые картины, представлявшие в лицах живописные полотна. Они превратились в популярный жанр, их охотно ставили в домашнем театре, а иногда хозяева развлекали ими гостей во время прогулки по парку, где они могли неожиданно предстать за поворотом тропинки, как это бывало у Изабелы Чарторыской в Пулавах. Однако по гравюрам Хогарта был поставлен и целый спектакль в театре Дрюри Лейн (позднее Гаррик там играл «Короля Лира») – это пантомима по циклу гравюр «История шлюхи» (1733). Очень вероятно, что на сцену оказались перенесены не только персонажи, но и вид интерьеров, в которых они изображены. Другой цикл Хогарта И. Стравинский заставил зазвучать, написав оперу на сюжеты «Истории распутника» (1951).
Клермонт. Зеленый амфитеатр. Гравюра. XVIII в.
Именно театр, в первую очередь, определил особенности произведений этого английского художника (хотя можно говорить и об их литературности, перегруженности композиций сюжетными мотивами, а также иллюстративности). Неслучайны такие театральные особенности циклов Хогарта, как присущая им развивающаяся в лицах драматургия сюжета, разделение этого «графического спектакля» на «картины» – так художник называл отдельные листы, уподобляя их частям театрального действия.
Именно Хогарту принадлежит автопортретное полотно «Художник, пишущий музу Комедии» (1758. Национальная портретная галерея. Лондон). Несомненно, Талия как опекунка театра была главной вдохновительницей и его блестящих карикатур, и мало удавшихся академических композиций.
Тесные связи Хогарта с театром, вплоть до дружбы и совместного участия с Гарриком в любительском спектакле (1741), с одной стороны, а с другой – его зоркость, способность схватывать жизненные реалии, в частности жест, мимику (особенно в карикатуре), сделали гравюры и полотна этого мастера документом актерской игры и построения мизансцен в театре того времени, что относится и к декорациям. В первую очередь об этом говорят именно его графические циклы, а не полотно «Дэвид Гаррик в роли Ричарда III» искусственно театрализованное (1745. Художественная галерея Уокера. Ливерпуль).
С театром соединялась музыка – она должна была соответствовать инновациям, происходившим прежде всего на комической сцене[898]. К XVIII в. относится реформа балета, осуществленная Ж.Ж. Новерром, который превратил его в «театр действия», выявив синкретические возможности танца. В быту он стал элементом театрализации. Портретируемым часто придавались танцевальные позы, благодаря чему в парадных портретах даже государственных мужей возникала атмосфера театра и игры. Но танец служил и символом легких развлечений, как в цикле Хогарта «История распутника».
Зыгмунт Фогель. Лазенки. Амфитеатр. Около 1800 г.
Сам танец, еще не разделившись в полной мере на сценический и бытовой, в ту эпоху стал более танцевальным, как менует, аллеманда, недавно появившийся вальс. Стравинский считал, что вся музыка XVIII в. в известном смысле танцевальна. Это был признак эпохи в целом. Не случайно ее завершил «танцующий», по выражению Ш. де Линя, Венский конгресс. Вслед за этим принцем Гонкуры так назвали весь XVIII век. В то время большинство музыкальных произведений, если они не были заказаны каким-либо театром, писалось для быта. Концертной сцены в широком и узком значении не существовало, музыкант располагался среди кресел, свободно расставленных в залах дворцов, а капельмейстер-дирижер, он же композитор, стоял к публике лицом – не она приходила на концерт, а музыкант приходил к ней «в дом» или был одним из слуг (спиной к слушателям, как полагают, первым повернулся Вагнер). Пока в XIX в. не возникли филармонические залы, билеты продавали на концерты в таком-то доме, о чем сообщала пресса.
В архитектуре XVIII в. театрализация проявлялась в различных стилевых вариантах. Еще барочная зрелищность отличала роскошные лестничные марши резиденции архиепископа в Вюрцбурге (И.Б. Нейман и Дж. Б. Тьеполо. 1734–1753). Подчинив композицию декоративно-репрезентативным целями, Дж. Вуды, Старший и Младший, создали в Бате в качестве главного градостроительного элемента классицистическое подобие монументального театрального задника, который соединил в цельную серповидную композицию жилые помещения и скрыл их функциональное членение (Королевский кресчент. 1767–1775). Богатая декорация украсила постройки рококо. Если во французском отеле Субиз она оказалась спрятана, как в шкатулку, то фридрицианское рококо вынесло ее также наружу (картинная галерея, дворец, китайский чайный домик, грот Нептуна в Сан-Суси. Г.В. Кнобельсдорф. 1745–1747). Доставшаяся от предшествующей эпохи анфиладность (в России она появилась в XVIII в. вместе с ордером, регулярностью и симметрией) благодаря расположению парадных комнат на внешней по отношению к ним оси позволяла смотреть на происходившее в них со стороны, воспринять как сцену из жизни.
Зрелищность была присуща неопалладианским виллам, распространившимся в Англии вместе с естественным парком. Относительно редких городских построек этого типа Честерфилд писал, что владельцам нужно бы купить земельный участок напротив таких сооружений, чтобы оттуда смотреть на них, не обязательно живя там. Однако неопалладианские виллы привились преимущественно в загородных резиденциях, где, как и постройки каждого типа, старательно вписывались в садовый ландшафт. Вид на дом расчищался, чтобы открыть его для взгляда издали, сбоку ограничив высокими деревьями-кулисами. Перед домом высаживался обширный зеленый ковер газона, служившего сценой для семейной жизни, которая происходила на фоне дома. Подобные виды пропагандировали гравюры.
Театр и сад
Эти два наиболее активных в эпоху Просвещения вида искусства связывали многоуровневые отношения. Общей для них фигурой является человек играющий (III.2). Сад, который как Эдем выступает образом мира, может быть сближен с театром в образе Theatrum mundi. У них есть и морфологическая общность. Просвещение, склонное к систематизации, озаботилось не только классификацией растений и животных, но и видов искусства, разделив их с точки зрения причастности пространству и времени. Театр был отнесен к пространственно-временным искусствам, сад, как и архитектура, – к пространственным. Однако рассмотрение сада с точки зрения категории времени ставит под сомнение это однозначное определение, чему способствует также сравнение хронотопа сада с пространственно-временной характеристикой театра, позволяющее выделить в садовом искусстве признаки временнóго[899].
Во взаимоотношениях сада и театра возникало «игровое переживание пространства», с которым связаны «изобразительность манеры поведения, жеста, костюма и изобразительность внешней архитектурной среды»[900]. Homo ludens обитал среди садовых fabriques (с. 265). Театральными по сути были псевдоисторические и экзотически павильоны, в которых внешний готический или восточный наряд надевался на ордерную конструкции как театральный костюм. Экзотику любили не в последнюю очередь за ее театральность[901]. Иностранный путешественник, посетив Польшу, писал: «Все здесь упиваются странностями. Никто не хочет жить в обычном удобном доме; он должен выглядеть как изба, храм, руина или грот»[902].
Создателями двух очень разных парков – рокайльно-миниатюрного Монсо и сентименталистского, широко раскинувшегося Павловска – были художники-декораторы Луи де Кармонтель и Пьетро Гонзага. Первый призывал коллег: «Если из живописного парка можно сделать страну иллюзий, то зачем же отказываться от этого… перенесем в наши сады декорации оперной сцены; позволим здесь увидеть в реальности то, что наиболее умелые художники могут представить в декорациях – все времена, и все страны»[903]. Следуя этому представлению, отходящему от пейзажной традиции Эрменонвиля, Кармонтель разбил для герцога Шартрского англо-китайский парк Монсо (1769–1778), где поместил пагоду, пирамиду, руину, римский храм, швейцарскую ферму, голландскую мельницу… Иначе использовал театральные приемы Гонзага, стремившийся создавать не театр в природе, а театр природы.
Чтобы быть «театральным», художнику не обязательно было работать в театре, нужно было быть им одержимым, как Хогарт или Ватто, которые, подобно Кармонтелю и Гонзаго, представляли два полюса театральности XVIII в. и вместе с тем ее единое пространство. Чтобы почувствовать и передать ее дух, оказывалось достаточным просто принадлежать своей эпохе, как Ж.П. Норблен, писавший садовые виды и создававший их в Аркадии Радзивиллов.
Садовая архитектура, по словам Б.Р. Виппера, была «не столько обиталищем, сколько зрелищем»[904]. В русской архитектуре Просвещение началось с создания «занимательной», «возбуждающей» парковой среды, где происходил некий «архитектурный карнавал»[905]. Это было свойственно и садам других стран.
Если в эпоху Возрождения Палладио соединил пространство сцены с перспективным изображением городских улиц (театр Олимпико), то в эпоху барокко сцена часто принимала вид регулярного сада, а боскеты превращались в сцену, как во время знаменитых версальских празднеств Людовика XIV.
Садом мог стать бальный зал, что в 1791 г. произошло в Таврическом дворце на празднике, устроенном Г.А. Потемкиным в честь взятия Измаила (1790):
«Там перед гостями открывалась «длинная овальная зала, или лучше сказать площадь… Кажется, что исполинскими силами вмещена в ней вся природа… виден обширный сад и возвышенныя на малом пространстве здания. С перваго взгляда усомнишься, и помыслишь, что сие есть действие очарования, или по крайней мере живописи и оптики; но приступив ближе, увидишь живые лавры, мирты и другiя благорастворенных климатов древа, не токмо растущия, но иныя цветами, а другия плодами обременненыя… инде как бархат стелется дерн зеленый; там цветы пестреют, здесь излучистыя песчаныя дороги пролегают; возвышаются холмы, ниспускаются долины, протягиваются просеки, блистают стекляные водоемы… Искусство спорит с прелестями Природы. Плавает дух в удовольствии».
Описание праздника, принадлежащее Г.Р. Державину, позволяет заключить, что его театрализации служили художественные приемы, свойственные садам того времени – разнообразие, неожиданность, живописность. Вместе с тем сохранялись приемы барочного натурализма, соревнующегося в правдоподобии с натурой. В результате достигалась иллюзия, позволявшая путать реальность и ее имитацию.
Искусство XVIII в. любило иллюзию как игру (лат. inlusio – въигрывание), а также имитацию, рождавшую иллюзии. С их помощью в естественном саду воспроизводилась естественная природа, что тоже становилось объектом игры. Цель вполне отвечала своей эпохе, однако потемкинский способ ее реализации в зимнем саду был заимствован от прошедшего времени – так во многих случаях проявляло себя русское барокко.
«Казалось, что все богатство Азии и все искусство Европы совокуплено… к украшению храма торжеств Великой Екатерины», – писал далее Державин. Безмерная роскошь также была чертой барокко. К его традициям восходил и лабиринт, который окружал алтарь со статуей императрицы работы Федора Шубина. Так в конце XVIII в. барокко сочеталось с классицизмом в русском искусстве. Палладианским был дворец, построенный И.Е. Старовым, в интерьерах которого происходило барочное садовое действо.
По-барочному на празднике использовались зеркала, служившие для игры с пространством. Достигнутый эффект напоминал тот, который позднее будет эксплуатироваться в комнатах смеха, создавая неустойчивое пространство и деформированные предметы: «Невероятной величины зеркала! – восклицал Державин. – Все они инде предметы усугубляют, инде увеличивают, а инде удаляют и умаляют»[906].
Высшая степень иллюзорности порождала двойственность и даже тройственность ощущений. Гость не мог сориентироваться – это результат волшебства («очарования» в устаревшем смысле слова), живописи и оптики или же здесь «исполинскими силами» действительно вмещена вся природа. Эти впечатления охватывали гостя не единожды, так как декорации сменялись неоднократно. В них соединились живая и неживая природа:
«Рубины, изумруды, яхонты, топазы блещут. Разноогненные, съ живыми цветами и зеленью переплетенные венцы и цепи висят межу столпами; тенистые радуги бегают по пространству, зарево сквозь лес проглядывает; искусство везде подражает Природе. Но что, кроме сего, было чрезъестественнаго, описать трудно». Тем не менее Державин продолжал: «Высочайшия пальмы… до самых вершин увиты как бы звездами, и горят как пламенеющие столпы [согласно архивному документу, это были „шесть покрытых лубками дерев, имеющих листы из жести, зеленою красной выкрашенные“]. Ароматныя рощи обременены златопрозрачными померанцами, лимонами, апельсинами; зеленый, червленый и желтый виноград, виясь по тычинкам огнистыми кистями своими, и въ тьняхъ по черным грядам лилеи и тюльпаны, ананасы и другие плоды пламенностью своею неизреченную пестроту и чудесность удивленному взору представляют».
Все это предвосхищало фантасмагорию гофмановских драгоценных садов и встречу романтизма с барокко (с. 188). Только там описания будут плодом фантазии и все останется в пределах вымышленного мира, здесь театр и действительность сливались до такой степени, что вызывали даже чувство потерянности: «Где находишься? Что видишь? Не обманываешься ли? Сам себе не веришь!.. Природа, искусство, и самое, так сказать, волшебство неодушевленными и неподвижными предметами приводят здесь в изумление».
Праздник Потемкина действительно производил ошеломляющее впечатление и вошел в число легенд той эпохи. Даже Державину все показалось гиперболизированным. К визуальным впечатлениям добавлялись разнообразные запахи, звуки (природные и музыкальные), эффекты освещения. На описании последних построен весь стихотворный фрагмент, посвященный появлению в зале Екатерины II, сама ее «улыбка разливала на всю Природу блеск и свет».
Потемкин хотел поразить императрицу до глубины души – стертая метафора не передает силы замыслов этого человека, который в не меньшей степени, чем Петр I, был личностью барокко. Однако Петр никогда не казался театрален, для этого он был слишком прямолинеен и оставался собой, в отличие от Потемкина, менявшего роли. Де Линь в одном из своих точных портретов писал о нем: «Показывая вид ленивца, трудится беспрестанно. Не имеет стола, кроме своих колен, другого гребня, кроме своих ногтей, часто лежит, но не предается сну ни днем, ни ночью, философ глубокомысленный, искусный министр, тонкий политик и избалованный девятилетний ребенок, любит Бога, боится сатаны»[907]. Герой, имеющий такой прототип, мог бы украсить любую сцену.
В XVIII в. излюбленным античным топосом, открытым еще Ренессансом, стала Аркадия. В результате разработки аркадийских мотивов средствами садового искусства сад сливался с пространством мифа и с театрализованным пространством. Сама природа служила здесь и сценой, и объектом театрализации. Парки наполняли «обманные для глаз красоты» (Болотов), «множество перемен и новых зрелищ» (Львов). Аркадийские мотивы нашли место и в тексте потемкинского праздника. Здесь получили воплощение также просвещенческие идеи, как социальное равенство (частью праздника было угощение для народа). Державин описал целую гамму чувств, включая седых старцев, которые «Струили ток блестящих слез», не забыл и себя – «пиита». И праздник, и его описание продемонстрировали синтез идей, художественных форм, приемов воздействия на публику. Они позволяют судить не только об индивидуальности Потемкина, но и менталитете общества в один из наиболее ярких моментов екатерининского царствования.
Луи Рене Бокэ. Греческий костюм. Середина XVIII в.
Среди необходимых архитектурных элементов парка было помещение для театра. В свою очередь образ сада стал важным элементом театральных декораций. Если в русском любительском театре сад изображался очень скромными средствами, то в постановках итальянской оперной труппы можно было видеть «веселыя аллеи, цветники и преизрядные фонтаны»[908]. На протяжении того столетия на сцене театра, наряду с архитектурными урбанистическими фантазиями, следующими барочной традиции, все чаще воспроизводились картины природы, сначала в видах регулярного, а позднее пейзажного парка.
Как и в садовых постройках, в театральных декорациях использовались необработанные природные материалы, сооружались экзотические, а также псевдоготические павильоны, подобные садовым, появлялись те же деревенские хаты. В пьесе В. Богуславского «Мнимое чудо, или Краковяне и горцы» на сцене Национального театра (1791) был представлен известный по рисунку типичный садовый павильон в виде замшелого ствола старой вербы – в парках такие не сохранились. Романтичный парковый грот с готическими сводами, окруженный скалистыми камнями и цепляющимися за них деревьями, украшал представление «Волшебной флейты» Моцарта в оформлении А. Смуглевича (1802). На сцене театра постоянно появлялись сады с беседкой, удобной как место действия. Им мог быть конкретный сад, как во втором акте комедии Ф. Орачевского «Развлечения, или Жизнь без цели» (1777). Действие происходило в варшавском Саксонском саду и, согласно авторской ремарке, там были видны «в глубине сцены особы, прогуливающиеся по саду, а на первом плане киоск, у которого… пили лимонад».
Сценический вид принимала сама растительность. Посадки деревьев образовывали так называемые куртины (фр. courtine, полог, занавеска; польск. kurtyna, театральный занавес) – высокие посадки, иногда в виде ажурной стены, предназначенные, в частности, «для произведения каких-либо сцен». Были там и кулисы, которые образуют уходящую вглубь сокращающуюся перспективу, как в Сан-Парей под Байретом (в русских садовых сочинениях этим словом обозначались посадки, «скрывающие нечто неприглядное или, наоборот, загадочно-привлекательное»[909].
Сад был местом разного типа театральных и паратеатральных сооружений. Это могла быть закрытая постройка или открытый амфитеатр (или вертюгаден; с. 425)[910]. В регулярных садах амфитеатр размещался на фоне стриженой растительности и украшался балюстрадой, скульптурами, вазами. В английском Клермонте после его преобразования в естественный парк амфитеатр, устроенный Ч. Бриджеменом, органично соединился с окружающим ландшафтом и до сих пор служит местом созерцания садовых видов. От Амфитеатра королевы в Стоу осталось лишь описание, сделанное Т. Уотли:
«Справа от партера… находится превосходная садовая сцена, названная амфитеатром королевы… ближняя часть его расположена в пологой лощине; посадки по его сторонам… это преимущественно кустарник, выделяющийся на фоне леса и… открытые рощи, сквозь которые проглядывает вода; в конце лощины, на небольшом холмике стоит открытая ионическая ротонда… за ней сцену пересекает расположенный на склоне газон; на взгорке стоит пирамида; в углублении склона колонна королевы; и все три постройки, созданные единственно для украшения, особенно идут к садовой сцене».
Обычно амфитеатры предназначались для театральных представлений, как в Лазенках (Ш.Б. Цуг. 1790). Восходящая к античному прототипу (Геркуланум) его руина-колоннада в функции кулисы, прямоугольный бассейн, до сих пор способный служить для «морских» представлений, амфитеатр зрительного зала образуют единое пространство. Амфитеатры могли использоваться и для таких развлечений-соревнований, как Рыцарская карусель, чему пример Гатчина (Н.А. Львов. 1797). Более сложным сооружением был Амфитеатр в Павловске (В. Бренна, 1793). Там на правом берегу Славянки располагался миниатюрный греческий театр, откуда можно было смотреть представления, происходившие в Земляном амфитеатре с зелеными кулисами на другом берегу реки.
В Петербурге на Каменном острове в середине XVIII в. был построен Амфитеатр в виде арочной галереи, где, согласно старому описанию, «между прочими сочетаниями дерев в виде арок, ниш, колонн, стен и пр. находился Летний театр, кулисы которого состояли из настоящих деревьев и природы, а сцена и амфитеатр из земляной насыпи, между ними помещался оркестр в углублении».
Сад всегда был рассчитан на посетителя. Прогулка по нему предполагала особое восприятие пространства как динамического и как созерцательного. В одном случае при движении происходила смена декораций, подобно интриге в пьесе открывались все новые и новые сооружения, растительные композиции, виды, рассчитанные на смену впечатлений, ритмов, возникали «неожиданности». В другом случае посетителю открывались наиболее эффектные виды, которые, как в театре, он разглядывал, замечая отдельные детали. В таких местах Болотов предлагал устанавливать «сиделки». Сами садовые виды он называл «сценами». Посещение парка развертывалось по определенному, предусмотренному сценарию. Режиссером обычно выступал его просвещенный владелец.
Шефтсбери видел уже саму природу как театр. В «Гимне природе», как назвали этот восторженный и глубоко философичный фрагмент «Моралистов», Шефтсбери описывал Италию в таких словах: там «рощи и поля, приют от дел унылых мира… зеленые луга… вид прекрасный… торжественная красота земли… спектакль благороднейший»[911]. В этом высказывании подчеркнута монументальная статика природы, в естественном парке она пришла в движение, наполнилась различными настроениями. Де Линь полагал, что на прогулку нужно идти, чтобы сквозь призму тьмы увидеть «очаровательный спектакль» восходящей Авроры[912]. Такой спектакль можно видеть на плафоне Святилища Сивиллы в Аркадии (с. 207).
То, как Болотов описывал наиболее эффектную, на его взгляд, композицию парка, свидетельствует о том, что главным для него была занимательность, он хотел заинтриговать зрителя, увлечь его сменяющимися сценами парка, как это происходило в театре. Он использовал прием намека, который позволял ориентировать взгляд посетителя в соответствующем направлении, чтобы сквозь зелень посадок он заметил блеск водоема. Это интриговало и провоцировало гуляющего «идти… далее и искать разными тропинками и обходами сквозь густой лесок туда прохода»[913].
Театр и быт
Благодаря театрализации сада, а также наполнению его идиллическими, пасторальными настроениями, проникновению в его программу утопических мотивов границы бытового пространства утрачивали свою определенность, а жизнь его обитателей приобретала эстетизированный характер, поэтичность и налет театрализации. Адам Чарторыский, вспоминая детство, проведенное в Повонзках под Варшавой, писал: «Это была вечная эклога, истинная картина пасторальной поэзии»[914]. Повонзки служили и сценой fêtes champêtres, которые действительно происходили в их антично-сентименталистском архитектурном антураже, наполненном и руинами колоннад, и сельскими домиками, там помещалась также кухня, украшенная драгоценным в то время голландским кафелем, который был расписан на китайский манер кобальтом. Эстетизация коснулась всего, связанного с утилитарными функциями сада, а также «садовых трудов» его владельцев. С лопатой в руках их изображали фарфоровые статуэтки.
Уильям Хогарт. История распутника. Его leve. 1735
Посредством театрализации нарушалась граница между бытовым и художественным пространством. О том, как это происходило в садах, уже говорилось (с. 252–254). Бах это делал, написав «Кофейную кантату», а Гайдн, укоротив партии разных инструментов в финале «Прощальной симфонии» – в результате музыканты, не нарушая исполнения, могли постепенно уходить со сцены, для дополнительного эффекта гася свечу на своем нотном пульте. Таким способом показывали, что пора улучшить условия работы. Театрализовались бытовые сцены, как утренний туалет, совершавшийся в присутствии разных действующих лиц. Широкая публика допускалась на «сеансы» королевской трапезы[915].
Многочисленные фарфоровые украшения превращали обеденный стол в миниатюрную сцену, на которой размещались фарфоровые фигурки, также входившие в декорацию. Само застолье по торжественным случаям всегда имело характер выдержанного в том или ином вкусе праздничного действа, что было связано с выработкой новых форм светского этикета[916]. Уже не сакрализация власти и не просто социально маркированный ритуал определяли его характер, сколько «приличие», принятые нормы обихода, что касалось не только манер, но и костюма. Однако Н.А. Демидову, приехавшему в Париж, нужно было за одну ночь изготовить себе французское платье, чтобы быть представленным ко двору.
Макияж XVIII в. часто уподоблялся театральному гриму, сближавшемуся по функции с маской. Гёте писал в 1771 г.: «…как ненавистны мне наши художники, которые мастерят размалеванных кукол. Театральными позами, неестественной окраской лиц и пестротой одежд они прельстили взоры наших дам»[917]. Независимо от того, был ли это натуральный свекольный румянец русских барынь или ювелирные мушки на более тонко нюансированных щеках французских моделей – во всех случаях макияж претендовал быть естественным.
Казимеж Возняковский. Модник. Рисунок. Конец XVIII в.
В то время оказались сближены прогулочный и театральный костюм. Пастушки и садовницы, обитавшие в пейзажных парках, в театре облачались в каркасные платья-панье (от фр. panier – корзина), которые служили также придворным прогулочным костюмом. Сам покрой одежды мог напоминать о театре – распашные полы надеваемых на платье контушей, распространившихся в европейской женской моде, были подобны расходящемуся занавесу. Марина Цветаева назвала «комедийно-сельским» наряд Марии Антуанетты, в котором la reine-laitière (королева-молочница) приходила на ферму в деревушке Малого Трианона[918]. Ю.У. Немцевич, драматург и общественный деятель, адъютант Костюшко, после пребывания обоих в Петропавловской крепости, так заочно описывал Екатерину II в Царском Селе: «Она хочет, чтобы верили, что она простая… крестьянка; ведь распоряжения о конфискациях, изгнаниях и наказаниях кнутом она подписывает среди капусты и моркови в своей простой белой шляпе, салопе из китайки, с тросточкой и зонтиком»[919]. Упомянутая тросточка была одним из элементов балетного пасторального костюма. Из него в одежду пришла и мода на букеты искусственных цветов, в том числе из драгоценных камней[920]. Театрализованный характер имел способ ношения костюма, который вплоть до конца столетия во многих случаях ограничивал свободу движений.
Костюму уделялось особое внимание – он получил более разнообразные формы, более краткосрочной стала мода, на гардероб тратились целые состояния, правительства начали регулировать расходы на одежду. Переодевание служило не только развлечению, но и давало возможность вжиться в образ «естественного человека». Однако оно не всегда было добровольным и костюмы не всегда пейзанские. Швед К.Р. Бёрк, посетив Россию в 1735 г., писал, что «года два тому назад кавалеры и дамы получили приказ носить…
Садовник. Фарфор. Германия 1770-е гг.
Эпоха Просвещения была одержима идеей морального прогресса, преображения окружающего мира, ею владел неуемный критический дух, жажда новизны – все это определило ее предрасположенность к постоянным метаморфозам. По сути реформистская, прожектерская и пацифистская, она неожиданно для ее философов завершилась революцией и первой по масштабу мировой войной, каковой стали наполеоновские походы. Тем самым Просвещение, в этом случае как бы против воли, реализовало принцип театральности – быть нетождественным самому себе. Оно стало не только Веком философов, но и галантным веком, временем l’ancien régime и преддверьем революции. Все его ипостаси объединяло выраженное в той или иной форме театральное начало. По иронии истории, на месте разрушенной тогда Бастилии в наши дни возвели оперный театр – L’Opéra de la Bastille. Так благодаря духу метаморфозы спустя два века совершилось еще одно необычное превращение.
Глава 4 Феминизированный век философов
В просвещенческой парадигме. – Российские контрасты – Ученость и женственность. – Женщина как адресат и инспиратор. – Феминизированный эрос
Спящая Философия. Гравюра Жана Мишеля Моро. 1777
Вплоть до XIX в. женщин продолжали сжигать как ведьм. В таких случаях женщина не воспринималась в своем естестве, оно еще не было «открыто», т. е. полностью отделено от приписываемых ей сверхнатуральных свойств. Относительно животного мира это произошло в науке еще в середине XVII в. Именно тогда начали создавать действительно естественную историю природы, уже не включая в нее описания фантастических животных и говорящие о них мифы, легенды и сказки[921]. По отношению к человеку в плане теории познания это совершилось в эпоху Просвещения (c. 234, 301–302), сказавшись и в юридических установлениях. Во второй половине XVIII в. в большинстве стран Европы отменили наказания за колдовство и общение с нечистой силой, отрицая этим саму возможность такого рода действий. В них чаще обвиняли женщин, что связывалось с тяготевшей над ними ответственностью за первородный грех.
Как писал Карл Линней в «Философии ботаники», «нужно отбросить… все случайные признаки, не существующие в растении ни для глаза, ни для осязания». Отбрасыванием случайных признаков Просвещение последовательно занималось по отношению к природе, человеку, истории, вещи, правда, при этом они теряли мифопоэтическую основу, а также символику, обогащавшую их образ. Все становилось более понятным и легче объяснимым.
В просвещенческой парадигме
Просвещение впервые представило женщину и как объект, и как формирующийся субъект культурно-исторического процесса. Женское воздействие на дух, стиль и вкусы эпохи, поэтику творчества, особым и важным адресатом которого стала женщина, запечатлелось во многих явлениях того времени. Именно в этом смысле можно отнести к XVIII в. понятие феминизация. Различия, делившие тогда Европу по национально-историческим, политическим, культурным признакам, очевидны и в рассматриваемом аспекте. Однако в каждой культуре всегда сказывались заложенные природой особенности полов[922], закреплявшиеся в социальных правах. В полной мере повсюду сохранялся завет – «и он [муж твой] будет господствовать над тобой» (Быт 3:16), а статус мужа переносился на статус жены, что не означало уравнивания их положения.
Новые явления, определившие суть Просвещения, сделали более заметной роль женщины в культуре, в формировании духа эпохи. Сенсуализм положил в основу миропознания ощущение, восприятие, чувство – на них более тонко реагировала женская натура. К ее самовыражению предрасполагали также эвдемонизм, развитый в культуре Просвещения, пацифистские идеи, пропагандировавшиеся на фоне многочисленных «мужских» войн, которыми была богата та миролюбивая, по определению, эпоха. Особые краски женщина придавала игровому началу в культуре, ее театральности. Идеал естественности, присутствовавший в культуре и более ранних эпох, именно в XVIII веке, сначала лишь галантном, а во второй его половине и чувствительном, в большой мере феминизировался – естественной представлялась открытая эмоциям женская душа, близка идее «естественного человека» функция и образ женщины-матери.
Женщина не только хозяйка садов, но и их создательница. В связи с садами женщины приобщались к искусству, в области живописи они стали заметными фигурами, как Анжелика Кауфман, Элизабет А. Виже-Лебрен. Однако женщины не допускались в Академии художеств, как и в ученые общества. Масоны создавали для них отдельные ложи.
По-женски чувствительным воспринимается мужчина той эпохи. По крайней мере, так он выглядит в свете позднейших представлений о мужском и женском. В то время, проливая слезы восторга, мужчина не думал, что поступает «по-женски», и откровенно описывал свои эмоции. В Век философов весьма экзальтированными оказывались именно мужчины, которые испытывали головокружения и рыдали не от несчастий, а от избытка чувств. «То удовольствие, которое получают плача, столь удивительно, что я не могу воздержаться от размышлений о нем», – писал Фонтенель[923].
Характер и соотношение двух гендерных начал менялись, наглядно проявившись в метаморфозах моды от Ренессанса к Новому времени. Юбки, каблуки, корсет, декольте, банты, цветы лишь постепенно стали элементом собственно женской моды, а преобладание декоративного начала лишь в XIX в. утвердилось как признак именно женских туалетов. Мужская мода до конца 1770-х гг. оставалась под влиянием женской, когда под воздействием англичан вступила на путь независимости[924]. В женской моде происходил обратный процесс.
Все это способствовало изменению типа личности, который моделировала и воспитывала эпоха Просвещения. Она культивировала чувствительность души и утонченность чувств, проявляла повышенный интерес к частному человеку, кругу семьи, удобству жизни. Изменился и тип поведения[925]. На второй план ушел воинственный идеал, а с ним героический конный портрет. Вместо него возникают рокайльные женские всадницы (Г.Х. Гроот. Портрет Елизаветы Петровны с арапчонком; ил. с. 356), в том же стиле немецкий художник писал и мужскую модель (Портрет Петра Федоровича, парный к елизаветинскому. Оба 1743. ГТГ). Если амплуа «богатыря» было присуще еще барочным фигурам польского короля и саксонского курфюрста Августа II Сильного, Петра I, Г. Потемкина, то в других случаях печатью женственности (если этому категорически не препятствовали внешние данные) художники наделяли образы ученых, философов и прелатов. В кружевном облачении Пер Краффт Старший писал Игнация Красицкого, изящные руки этого епископа и поэта позволяют вспомнить Арамиса (1767. НМВ). Женственность становилась признаком, связанным не только с женщиной, но и свидетельствующим о предпочтениях эпохи. Однако в России его поздно стали осознавать. В.А. Жуковский писал: «Ей [женщине] нужно только приобрести то, что на немецком языке так прекрасно называется Weiblichkeit [женственность] и для чего нет еще выражения в языке нашем»[926].
В XVIII в. эстетический идеал и идеал женской красоты изменялись в одном направлении. Буйство архитектурных барочных форм и несдерживаемой природной телесности сменила рокайльная женственность как изысканное изящество, проявившееся и в архитектурном декоре, и в образах паломниц в Отплытии на остров Цитеру Ватто, танцовщиц Н. Ланкре. Чтобы привести действительность в соответствие с идеалом, возникла мысль видоизменить корсет. Теперь он уже не деформировал фигуру, лишая естественных очертаний, что ранее делал металлический «испанский корсет», а стягивал лишь талию, т. е. «улучшал» природу, что в ту эпоху требовалось от искусства. В связи с аркадийскими мотивами в искусстве вместо реальных пастушек возникла их светская имитация[927]. Однако наряду с культивируемым в жизни и искусстве изысканно-утонченным типом женщины появляются простонародные образы, которые у У. Хогарта в сатирических гравюрах получили гротескный характер (Переулок Джина. 1751). Тот же художник писал Продавщицу креветок, воплощающую полнокровность молодости, какой не знали персонажи рококо (1760-е гг. Национальная галерея Лондон). Олицетворением энергии и суровости революции стала Зеленщица Ж.Л. Давида, (1795. Лувр).
Пер Крафт. Портрет Игнация Красицкого. 1767
Все это было признаком смены парадигм в культуре европейских народов, что в одних случаях уже произошло, в других проявилось как тенденция. Включение женщин в этот процесс все столетие совершалось без каких-либо манифестов и деклараций, которые могли бы привлечь всеобщее внимание, – женская проблематика в эпоху Просвещения еще не превратилась в «женский вопрос». Однако наряду с новыми философскими концепциями, казалось бы, незначительные детали, нюансы, связанные с женщинами и самим их существованием, постепенно меняли визуальный облик и эмоциональный климат эпохи. Женщина, способствовавшая рождению новых явлений, сама менялась вместе с ними. ХVIII век сформировал свой вариант идеала вечной женственности. В последних строфах «Фауста» появляется Дева Мария, а мистический хор поет: «Das Ewig-Weibliche / Ziet uns hinan» («Вечная женственность, тянет нас к ней»; так в переводе Б. Пастернака, в оригинале – «тянет нас вверх»). «Любовь и милосердие очищают женщин, и это приближает их к деве Марии… Она здесь – воплощение женской чистоты, заступница всех грешных, дарительница жизни», – так комментировал А.А. Аникст эту знаменитую фразу[928]. Такая ресакрализация пришла на смену обмирщенному женскому идеалу эпохи Просвещения. Пушкин связал образ женщины с вечностью, увидев также сходство в восприятии мира женщиной и поэтом. Исходя из этого, антитезу мужского и женского Пушкин заменил противопоставлением «исторического и вечного»[929].
Российские контрасты
В России почти три четверти XVIII в. прошли под эгидой императриц – беспрецедентный случай в европейской истории, для русских ставший тогда обыденностью. Болотов писал: «Родившись и проводив все дни под кротким правлением женским, все мы к оному так привыкли, что правление мужеское [Петра III] было для нас очень дико и ново»[930].
Уильям Хогарт. Улица Джина. Рисунок к гравюре. 1751 г.
Внешность правительниц в зрелом возрасте, когда были созданы их ставшие наиболее известными портреты, мало подходила под новый рокайльный образец, отвечая идеалу барокко. В русском искусстве чувственность эпохи выразилась в акцентировании природного телесного начала, а также «в наделении „естественного“ качествами некой вещественности» – традиция, не чуждая барочной культуре[931]. Б.К. Растрелли, зная местные предпочтения, не боялся подчеркнуть мощь фигуры Анны Иоанновны, поместив рядом с ней изящную фигурку арапчонка (Анна Иоанновна с арапчонком. 1732–1741. ГРМ). В России императрица была «матушкой» (как царь – «батюшкой»). Екатерине II ставились алтари как «матери отечества». Ломоносов просил художника написать его «возлюбленную Мать» – Россию: «Изобрази ей возраст зрелой / И вид в довольствии веселой… И вознесенную главу / Отрады ясность по челу /…члены здравы, / … волосы кудрявы / Возвысь сосцы, млеком обильны, / И чтоб созревша красота / Являла мышцы, руки сильны, / И полны живости уста» («Разговор с Анакреоном». Ода XXVIII. 1756–1761).
Образ женщины в русской светской поэзией, возникшей в начале XVIII в., быстро приобрел многоплановый характер – близко по времени он появляется в анакреонтическом, пасторальном, сатирическом, буднично домашнем, семейном контексте. Циническая свирель Сумарокова, как ее назвал Пушкин, добавила свои оттенки. Однако женский образ долго оставался деперсонализованным. Параллельно он существовал в традиционной культуре, особенно в поэзии, связанной со свадебным обрядом[932]. В ней, в отличие от образов «высокой» поэзии, он уже в XVIII в. был глубоко лиричен, говорил о судьбе невесты, что определялось условностями сценария самого обряда (ей полагалось скорбеть), но отражало и реалии грустной девичьей доли.
Казанова, посетив Россию в царствование Екатерины II, описал ее как страну, где «отношения обоих полов совершенно навыворот: женщины тут стоят во главе правления, председательствуют в ученых учреждениях, ведают государственной администрацией, высшей политикой»[933]. В отличие от цитированного Болотова ему не казалось это естественным. В особенности поразила Казанову по-ренессансному многосторонняя Е.Р. Дашкова, которую отличала не только высокая образованность, но и организаторские таланты (в том числе, к заговорам). Дидро говорил о Дашковой как об удивительной особе, способной перевернуть его мнение о женщинах[934]. «Перевертывание представлений» – о России и в самой России – сопровождало весь XVIII в., что касалось также положения женщин.
Сумароков описал синицу, которая, прилетев «из-за полночного моря», рассказывала: «Все там превратно на свете… За морем того не болтают: / Девушке-де разума не надо, / Надобно ей личико да юбка, / Надобны румяна да белилы. /Учатся за морем и девки» («Другой хор ко превратному свету». Конец 1762 – начало 1763). Ирония поэта меняла местами превратное и истинное.
При императрицах сложился не только вполне легитимный институт фаворитов (Европа больше привыкла к фавориткам), но во время правления Елизаветы Петровны возник особый «интимный солидарный кабинет», состоявший из фрейлин, который продолжил традицию «царицыных комнат» при царских женах, где обсуждались вопросы и мод, и государственные дела[935]. Женское участие в них сказывалось не только непосредственно, в официальных документах императриц, но и косвенно. Так, благодаря возглавлявшей «кабинет» М. Шуваловой произошло возвышение ее мужа П.И. Шувалова (ради чего он женился на этой некрасивой, но пользовавшей огромным влиянием на Елизавету женщины), а также его брата И.И. Шувалова. Один руководил русской политикой, другой – русской культурой, основав Московский университет и Академию художеств в Петербурге. Стольника Петра Толстого, посетившего в 1797 г. Варшаву, очень удивило, что там «по городу и в маетности [поместья] ездят сенаторы и жены их, [и] дочери-девицы в коретах и в зазор себе того не ставят»[936]. В России лишь в XVIII в. была нарушена замкнутость женской жизни, вышедшей за стены дома; более открытый характер она приобретала и в семейном быту. Старое и новое совмещалось. В сочинении голландца К. де Бруина, описавшего события 1800-х гг., соседствуют сообщения о жестокой публичной казни женщины за прелюбодеяние и о поездке в именье Т.Н. Стрешнева, боярина и сенатора, где «супруга этого господина, красивая и приветливая женщина, делала… все возможное, чтобы доставить… [гостям] удовольствие», в частности развлекая их пением. Этим она занималась «вместе со… служанками чрезвычайно приятно и способом очаровательным», извинившись, что из-за неожиданного приезда гостей не смогла пригласить для них музыкантов из города[937]. Русская усадьба в XVIII в., как отмечалось, – это пограничье народного и «ученого» творчества, различия которых ясно обозначились с развитием светских форм культуры. Женщине в усадебной культуре принадлежала очень существенная роль.
Георг Христофор Гроот. Портрет Елизаветы Петровны с арапчонком. 1743 г.
Спустя три десятилетия швед К.Р. Бёрк так изложил свои впечатления о русских женщинах: «Надобно все же сказать, что более или менее знатные русские дамы теперь содержатся не столь строго, как в старые времена; однако в более простой среде, особенно провинциальной, все еще вроде бы обстоит по-прежнему. Что до писаний, будто русские жены считают, что мужья их любят, если время от времени бьют, то это нужно верно понимать. Никто не воспринимает побои за знак любви, но видящий, как муж бьет жену или детей… хвалит такого мужчину за его заботу об исправлении домочадцев, полагая, что там, где не поддерживается такая, по их мнению, необходимая домашняя дисциплина, мужчина должен завести любовницу и больше не любить свою жену»[938]. Так был верифицирован один из сюжетов, неоднократно появлявшихся в иностранных текстах о России.
Женщины как не состоящие на государственной службе и лишенные гражданских прав, лишь опосредованно были скованы государственной регламентацией, они легче становились и оставались «собою». Именно в женских образах очевиднее проступала внесословная ценность человека, свидетельствуя о начавшемся прорастании личностного начала сквозь слой старых устоев и обычаев. Однако они могли сохранять созидательную способность. Так, женщины со времен Великого княжества московского традиционно разделяли судьбу мужа (для XVII в. это хорошо видно в «Житии Аввакума»). Поэтому жены декабристов, отправившись в ссылку за мужьями, оказались верны не только им, но и традиции, соблюдение которой в XIX в. предстало уже как протест против современности.
В России особый смысл приобрели парные семейные портреты, как князя и княгини Лобановых-Ростовских работы И.П. Аргунова (1754. ГРМ). Они визуально уравнивали женщину с мужчиной. Необычен для русской традиции был Автопортрет А. Матвеева с женой (около 1729. ГРМ), что породило сомнения, действительно ли это автопортрет. В нем художник отдал жене почетное правое место. Портрет был важен для самоидентификации художника, впервые в русском искусстве писавшего и себя, и жену, а не выше его стоящего заказчика. Мужчина в России столь же нуждался в самооткрытии и самоутверждении, как и женщина, чему был посвящен весь XVIII в.[939].
Андрей Матвеев. Автопортрет с женой. 1729
Однако во всех случаях до равенства практического, не говоря о юридическом, было очень далеко. Только мужской пол первоначально был адресатом такого обучающего светским манерам сочинения, как «Юности честное зерцало» (1717), хотя как отец, так и мать фигурировали в нем в качестве лиц, требующих абсолютного уважения. В «Манифесте о даровании вольности российскому дворянству» (1762) слово женщина даже не упоминалось. В этом не было необходимости, так как она не имела самостоятельного статуса.
В процессе женской самоидентификации важнейшую роль сыграла художественная литература[940]. В России женщины читали ее часто в рукописном виде, переписав текст с книг, находившихся в мужниной библиотеке. Сочинения, становившиеся их собственным миром, они хотели иметь и в собственном владении, сам процесс переписывания способствовал его «присвоению». В результате рукопись входила в их личное бытовое пространство, а пространство художественного текста становилось их внутренним, личным пространством, в которое они попадали, отождествившись с описанными в нем героинями. «Как я любила Ричардсона», – вздыхала старшая Ларина. Романы этого писателя составляли часть ее жизни, через них она воображала саму себя. Эта одна из форм двойственности, свойственной театрализованной культуре XVIII в.
Ученость и женственность
В Век Просвещения, не имея юридических прав, женщины утверждали свое место в жизни прежде всего сугубо женскими средствами, в частности, постоянно демонстрируя, что они «слабый пол», поэтому возникла мода на театрализованные обмороки, спазмы (c. 335). Также в портретах женщина выступала «самой слабой и чувствительной частью человечества»[941]. Привлекательности, наряду с одеждой и косметикой, служило хорошее воспитание и образование. Модель человека eclairé par les art (просвещенного искусствами), уже долгое время функционировавшая в европейской культуре, позволила России сформироваться светскому кругу лиц, способных это ценить.
Луи Леон Буальи. Обморок. Фрагмент. 1791
В XVIII в. по всей Европе повысился образовательный уровень женщин, они выступали хозяйками салонов и создательницами филантропических обществ, пополняли ряды авторов – литераторов, художников и т. п. По словам И. Красицкого, музыка, рисунок и танцы, которым обучались женщины, придают им достоинства, служащие успеху[942]. В результате они «превзошли мужчин в манере поведения», как писал Бернарден де Сен-Пьер о польских шляхтянках[943]. Это превосходство могло проявляться не только в изысканности манер, но и в независимости образа жизни. По воспоминаниям философа И.Г. Фихте, побывавшего на польских землях в 1791 г., хозяйка дома (она была издательницей первого в Польше детского журнала) «всегда говорит в приказном тоне… редко бывает дома, а когда появляется, то перебросится несколькими словами с мужем, позволит ему поскорее поцеловать ей руку, и исчезает»[944]. Другой приезжий писал, что поляки, съезжавшиеся во время Четырехлетнего сейма в Варшаву, прибывали туда непременно с женами, в отличие от минувшего времени, когда делали это в одиночку, снимая себе скромное жилище. Тому, кто женат, продолжал автор, нужно много места – «туалеты дам и их обожатели требуют более обширной квартиры»[945]. Хотя просветители видели в семье основу воспитания, семейные узы в ту эпоху ослабевают. Светская женщина получает неписаное право на адюльтер. Возможен стал и развод. Вольность нравов стала признаком эпохи: «Один пленил ей сердце, ум – второй: Великий Карл, Карл Первый, Карл Второй…», – описывал женские склонности А. Поуп («Послание к Леди*…»).
Научные увлечения европейских дам также благоприятствовали их успехам, как и развитию популяризаторских склонностей культуры ХVШ в. Женщины посещали публичные лекции с демонстрацией опытов, корпели над «мрачной книгой, запутанными алгебраическими расчетами или дикими пространствами геометрии»[946]. Если в эпоху романтизма женщина станет музой поэтов, то пока она выступала музой и помощницей ученых, как это запечатлено в парадном по размеру, но дружеско-интимном по характеру Портрете А.Л. Лавуазье с женой, написанном Ж.Л. Давидом (1788. Метрополитен музей. Нью-Йорк). В нем ученый предстал «в тени супруги» – ее фигура в белом платье сразу привлекает основное внимание, а тень от головы падает на его лицо. Слева пюпитр, на котором, возможно, расположены рисунки Мари-Энн, иллюстрировавшей сочинения мужа. Принадлежность сцены «феминизированному» веку художник подчеркнул и в фигуре великого химика, сидящего за рабочим столом с химическими приборами, прорисовав его красиво вытянутую ногу в черном шелковом чулке – умение «показать ногу» в ту эпоху было свойственно не только женщинам (у них оно проявлялось в мастерском владении искусством подбирать платье, что обозначалось особым глаголом retrousser — этот прием лег в основу танцев во французских кабаре, как Мулен Руж).
Жак Луи Давид. Портрет Антуана Лорана Лавувзье с женой Марией Анной. 1788
Характерна та обстановка, в которой дамы овладевали наукой. В адресованном вымышленной маркизе «Рассуждении о множественности миров», где популярно изложена система Коперника, его автор, Б. Фонтенель (сочинение этого предшественника Просвещения вышло в свет еще в 1686 г., но многократно переиздавалось в следующем веке, став его настольной книгой), так описывал ситуацию: «… однажды вечером, после ужина, мы [с маркизой] пошли прогуляться по парку. Царила нежная прохлада… Вот уже почти час, как взошла луна… Все звезды сверкали чистым золотом… Зрелище это привело меня в мечтательное состояние»[947].
Женщина ученых занятий появилась и в русском искусстве. В Портрете смольнянки Е.И. Молчановой работы Левицкого (1776. ГРМ) она представлена сидящей около стола с научными приборами, с книгой в руке, от чтения которой оторвалась, чтобы взглянуть на кого-то, нарушившего ее одиночество. Кокетство позы, белое бальное блестящее платье, подчеркнутая ориентированность на зрителя объединяют данное изображение с другими театрализованными портретами воспитанниц Смольного института. Это парад женских талантов – музыкальных, танцевальных, театральных, а также, как в данном случае, научных.
Бернар Пикар. Фронтиспис к «Рассуждение о множественности миров» Фонтенеля. Гаага, 1728–1729
В сфере женских интересов оказывается политика В Речи Посполитой женщины никогда не занимали престол, но влияли на нее, а в годы Великого сейма на котором в 1791 г. была принята Конституция, присутствовали в качестве активных зрительниц – Норблен в графическом «репортаже» запечатлел их на галерее Посольского зала в варшавском Королевском замке. Бернарден де Сен-Пьер утверждал, что польским шляхтянкам «не чужды отечественные проблемы и часто они направляют их решение с большим, чем у мужчин, постоянством характера. Некоторые с этими серьезными достоинствами соединяют невыразимое обаяние, а в свободные минуты занимаются литературой, музыкой и изящными искусствами… Если бы не они, то страна, вероятно, вновь бы рухнула в пропасть варварства»[948].
Политика стала предметом салонных бесед с активным участием женщин. Красицкий иронизировал: «После кофе наступил долгий разговор, мы увлеклись политикой… разгорелась горячая дискуссия об интересах четырех частей света, об Аристократии, об Олигархии, о Демократии и я убежал, утомленный энергией увлекшихся Амазонок»[949]. Мерсье в своем утопическом романе писал, что к 2440 г. Франция «избавилась от философствующих женщин». Критический тон по отношению к ученым занятиям женщин задал А. Поуп, писавший об одной из них, что «столь же к лицу ее чтение Локка, / Как дивной Сафо – свара или склока» («Послание к леди* о женской натуре». Пер. В. Топорова. Начало 1730-х гг.). Красицкий полагал, что женщинам больше пристало рукоделие, оно готовит к обязанностям супруги и матери, воспитывает мягкость, спокойствие, отзывчивость, деликатность, терпеливость (именно рукоделие наряду с иностранным языком и танцами было основным предметом в Смольном институте благородных девиц). Сцены из Тассо, Гомера и Вергилия, которые были знакомы просвещенным дамам, для вышивок автор не рекомендовал, так как подобные сюжеты могут «взволновать умы и сердца». Красицкий был прекрасным поэтом, однако в данном случае выступал скорее как епископ, заботящийся о нравственности и душевном спокойствии паствы, и хотел, чтобы предметом рукоделия служили «деревья, цветы, фрукты, нимфы и купидоны». Общение с такими шаловливыми античными персонажами, как видно, не вызывало его опасений. Они были привычны для воспитанного на античных мифах просвещенного человека ХVIII в., а их персонажи и часто довольно смелые сюжеты воспроизводились не только в живописи, книжной иллюстрации и садовой скульптуре, но и на дамских шляпах. В русском искусстве в 1720-е гг. также появились собственные Венера и Амур (А. Матвеев. Около 1726. ГРМ).
Женщина как адресат и инспиратор
У литературы и театра Просвещения были педагогические амбиции. Если в классицизме XVII в. существовала большая дистанция между царственными героями высоких жанров и читателем, зрителем, то с распространением мещанской драмы, так называемой слезной комедии) для них открылась возможность перевоплощения, которой в особенности пользовалась женщина. Она воспринимала нравоучительные примеры, «воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов / Кларисой, Юлией, Дельфиной». В литературе того времени нравственные постулаты доносились через образы героинь, которые могли их как воплощать, так и нарушать. Имена литературных героев начали давать детям. «Чем меньше расстояние между мной и героем на театре, тем стремительней притяжение», – полагал Дидро[950].
Женщина служила также объектом сатиры, в том числе за излишнюю склонность к модным нововведениям (в благополучном варианте жизни), или за пьянство, как показано в гравюрах Хогарта, – Просвещение имело светлые и темные стороны (ил. с. 354). Именно женщины явились главными проводниками моды, которая, захватывая не только сферу тогдашней Haute couture, впервые в такой степени начала определять облик эпохи, способствуя ее постоянному и ускорившемуся по сравнению с предшествующими веками обновлению (с. 302, 303). Они же были главными кутюрье. Модистку Роз Бертэн, которая обслуживала Марию Антуанетту, называли «министром моды».
Весь прекрасный пол, по словам Поупа, бредил театром (в своей поэме он сделал центром интриги завитой локон). Женщины получили невиданную до того роль и в жизни, и на сцене, здесь и там они отняли у мужчин многие амплуа, а в опере расширились женские вокальные партии. Женственными стали манеры, сценически отточенные.
Многие сферы культуры в XVIII в. активно «работали» на женщин. Им предназначались не только разного жанра книги, но и периодические издания – в 1749 г. во Франции появился первый женский журнал. Архитекторы начинали больше заботиться о комфорте. Появились помещения для приема гостей, музицирования, рукоделия (в отличие от этого в Версале Людовика XIV специализированные апартаменты посвящались различным античным божествам, с которыми аллегорически связывались члены королевской семьи). Согласно современнику, Бернини не смог получить заказ на создание восточного фасада Лувра, так как «не сумел надлежащим образом войти во все мелочи комфорта и предусмотреть удобства, которые требуются для обслуживания обитателей дворца»[951]. Они отвечали желаниям женщин, хотя мужчины были не менее изнежены. Женское воздействие очевидно во всех прикладных сферах, приобретших небывалые масштабы, в частности более изящной стала мебель. Но и медицина служила женщинам – наибольшие успехи, наряду с хирургией, сделало акушерство.
Явления, свидетельствующие о феминизации, обнаружились в эстетике. Женское начало определило характер волнообразной линии, которую Хогарт провозгласил «линией красоты», змеевидная линия стала «линией привлекательности». Не случайно своему трактату художник предпослал эпиграф из Мильтона: «Так он кружил извилистым путем, / Играя в изворотах перед Евой, / Чтоб взор ее привлечь». Хогарт также писал: «Кто, кроме фанатика античности, скажет, что не видел у живых женщин таких лиц, шеи и рук, рядом с которыми даже греческая Венера кажется грубой копией?»[952]
Извилистая линия определила эстетику естественных парков и стиля рококо. С ним в искусство пришли неканонические персонажи не только облагороженных мифом пастухов и пастушек, но и танцовщиц, актрис. Благодаря изяществу, игривости, капризности рококо оказалось наиболее женственным стилем в европейской культуре. Симптоматично превращение вкуса в одну из доминирующих эстетических категорий. Вкус был не просто «просвещенным», основанным на нормативных ценностях, но становился все более свободным от рациональных норм, его источником была признана также чувствительность (c. 167), «вкус есть чувство или ощущение» (Ш. Баттё). Оно было дано от природы и не требовало зарезервированного для мужчин «высшего» образования. Традиция прециозной культуры, сформировавшейся в XVII в. во Франции в пространстве женского влияния, – еще один из важных истоков рококо, что сделало его в большой мере «французским» и «женским».
Объектом внимания стала любовь как игра (в сентиментализме она превратится скорее в предмет пассивного печального переживания). Руссо недовольно полагал, что «духовная сторона любви – это чувство искусственное, порожденное жизнью в обществе и превозносимое женщинами с великою ловкостью и старанием, чтобы укрепить свою власть и сделать господствующим тот пол, который должен был бы подчиняться»[953]. Борьба полов шла не всегда по жизненно важным поводам, превращаясь и в соперничество ради игры или тщеславия. Поскольку состоялось «открытие» женской души, то стало интересным играть этой душой, моделируя ее на свой лад, чем занимались и женщины, как маркиза де Мертей в романе Шарло де Лакло. Любовные отношения действительно превращались в опасные связи и писатель характеризовал их в военных терминах (принять бой, диспозиция, капитуляция). Частино сказывалось то, что он сам был военным.
С женской ментальностью была связана культивируемая тогда эстетическая категория разнообразия. Именно женщины во многих случаях были создательницами отмеченных этим свойством пейзажных парков. О регулярных садах мадам Ментенон сказала: «Мы все умрем от симметрии».
Излюбленными стали пастель как техника и пастельные тона в живописи. Такими природа наделила маркизу Помпадур с ее пепельными волосами, зеленовато-голубыми глазами и светлой карнацией, что видно в портрете работы Кантена де Латура (пастель. 1755. Лувр). Внешность, просвещенность, ум, художественная одаренность превратили Жанну Антуанетту Пуассон в топ-символ эпохи, а в ее портрете работы Ф. Буше (1756. Старая пинакотека. Мюнхен) оказались сконцентрированы представления о круге занятий, вкусах, внешних достоинствах женщины рококо.
При всех признаках парадности в портрете передана атмосфера камерности, присущая рококо как стилю, который был ориентирован на частного человека. Роскошное платье модели сочетается с простой прической – уже в первой половине XVIII в. не без участия рококо происходило движение к естественности. Портрет маркизы Помпадур можно сопоставить (соблюдая дистанцию) с совершенно домашним Портретом Мари-Жанне Бюзо, жены Буше (1733. Коллекция Фрик. Нью-Йорк), гораздо более ранним. И она сама, и вся скромная обстановка комнаты чрезвычайно далеки от значительности образа маркизы и окружающей ее роскоши. Нет здесь ни книжного шкафа, ни тисненых фолиантов, рукописных нот, рисунков и даже собачки. Тем не менее интерьерность портрета, свободная полулежащая поза портретируемой, множественность предметов, сопровождающих жизнь каждой из них (в том и другой случае небрежно разложенных), фарфоровость лиц, вытянутый мысок изящной ноги (в скромной или изысканной туфле), сходный крой платья, тумба на гнутых ножках, на которой лежит письмо, ее выдвинутый ящик для письменных принадлежностей, что свидетельствует о частом ими пользовании, – все это объединяет два портрета. Просвещение принадлежало к эпохам, когда вещи говорили о себе и мире со всей непосредственностью, им не приписывались особые смыслы, как это происходило с предметами, изображавшимся в натюрмортах барокко, наполненных скрытыми смыслами. Интерьер, изображенный в данных портретах, свидетельствует и о женских родовых, нарицательных чертах, и о принадлежности обеих моделей одной эпохе.
Франсуа Буше. Портрет Мари Жанне Бюзо, жены художника. 1733
Под влиянием сентиментализма интерьерный портрет сменился портретом на фоне естественного парка или уподобленного ему природного ландшафта. Благодаря этому в английском портрете (название типологическое, как и английский парк) человек оказался погружен в природу, а портретируемые становились более естественными. Персонажем такого портрета явилась чувствительная женщина, рядом с которой изображался столь же чувствительный мужчина. Это был уже не поклонник, а друг, спутник жизни. Поэтому в двойных портретах весьма часто фигурировали дети.
Феминизированный эрос
Если в Ренессансе любовь небесная и любовь земная гармонично сосуществовали, а в эпоху барокко amor divinus ниспровергала amor profanus[954], то в XVIII в. царила земная любовь. Она лишилась не только небесной антагонистки, но и таинства, а часто даже интимной тайны. Уже не столько само целомудрие, сколько его утрату символизировали многие аллегорические изображения, как, например, амуры, выпускающие из клетки птичек – характерный для эпохи символ. Не без влияния нового женского идеала барочная пассионарность сменяется чувствительностью просвещенного века, что, в свою очередь, влияет на этот идеал.
Женственным стал сам Эрос. Его представляют теперь не мощные тела йордансовских и рубенсовских Вакхов, Силенов, а изнеженные купидоны. Для их изображения подходили фарфоровая статуэтка, книжная виньетка, изящное анакреонтическое стихотворение. По-барочному масштабный праздник чувственности, хотя в высветленных рокайльных тонах, в XVIII в. можно было увидеть еще на монументальных плафонах итальянца Дж. Тьеполо. В других случаях чувственные сцены представали как камерные, в интерьерной меблировке.
Франсуа Буше. Портрет мадам Помпадур. 1756
В антиномичной культуре XVIII в. соседствовали фривольность и добродетель, авторы пикантных полотен создавали нравоучительные сценки, в одном произведении совмещались невинность и эротика, которая окрасила также активно реализуемый той эпохой уже упомянутый античный принцип «просвещать, развлекая». Характерной стала фривольная форма философских рассуждений. В отличие от цитированного Дидро (c. 328), Ломоносов в приведенной оде, описав Россию в виде обнаженной аллегорической фигуры, обращался к художнику: «Одень, одень ее в порфиру / Дай скипетр, возложи венец», что было, конечно, не только актом скромности, но и средством, чтобы Россия предстала как «Великая… Мать».
Если назидательность в ту эпоху получила эротический оттенок, то эротика становилась наставлением, превращалась в науку. Взаимоотношения природы и культуры в сфере любви развивались в пользу культуры, и если натура мстила людям того века, то, чтобы противостоять ей, они углублялись во все большие тонкости искусства. Искусство выдвигалось на первый план и в области кулинарии – барочное изобилие натуральных продуктов сменилось изощренностью искусно приготовленных блюд. Главное внимание было перенесено на приправы, соусы, удовлетворяющие изысканный вкус. При этом само меню подверглось феминизации – большое место в нем заняли десерты и более легкие вина, а также вошедшие в дамский обиход кофе, шоколад; необходимым слугой стал кондитер.
Полковник И.В. Архенгольц, автор сочинения о Семилетней вой не и многих бытописательских опусов, не без пристрастия описывал метаморфозы своих современников:
«Мужчина теперь более, чем когда-либо, похож на женщину. Он носит длинные завитые волосы, посыпанные пудрой и надушенные духами, и старается их сделать еще более длинными и густыми при помощи парика. Пряжки на башмаках и коленах заменены для удобства шелковыми бантами. Шпага надевается – тоже для удобства – как можно реже. На руки надеваются перчатки, зубы не только чистят, но и белят, лицо румянят. Мужчина ходит пешком и даже разъезжает в коляске как можно реже, ест легкую пищу, любит удобные кресла и покойное ложе. Не желая ни в чем отставать от женщины, он употребляет тонкое полотно и кружева, обвешивает себя часами, надевает на пальцы перстни, а карманы наполняет безделушками».
Жан Оноре Фрагонар. Поцелуй украдкой. 1788.
Мужчина с таким вкусом сам становился проводником женских влияний.
Рококо ценило недосказанность. Поэтому у художников галантного века чаще, чем обнаженную натуру, можно найти пикантные сцены с высоко взлетающими качелями, подсмотреть «украденный поцелуй» (как у Фрагонара), а также дам в утреннем неглиже. Открытое изображение наготы даст Гойя в предполагаемом портрете герцогини Каэтаны Альба (Маха обнаженная. 1802. Прадо). В русском искусстве произошел, казалось бы, недопустимый случай – Л. Каравакк изобразил юную Елизавету Петровну обнаженной (с. 225). Лотман, говоря об этом произведении, подчеркивал соединение в нем элементов двух знаковых систем – портретной головы с идеальным мифологизированным телом[955]. Поуп раскрывал тайну таких портретов знатных дам: «Да не разденешь – вот беда – такую! / Тогда берешь натурщицу простую, /А не миледи Квинсберри, – и вот / Прекрасная Елена предстает!» («Послание к леди*…»).
В XVIII в. театрализация охватила сферу чувств. Любовь афишировалась, подобно театральному представлению. В «театре любви» женские, как и мужские, роли были отточенными, женское поведение отличала тонкость нюансировки, умение играть как выражением лица, глаз, так и деталью туалета – косынкой, веером, передавая их расположением предназначенную поклоннику информацию, – в культуре ХVШ в. «говорящей» была не только архитектура. Уподобление, широко присутствующее в театрализованной культуре XVIII в., в частности введение в мужской костюм элементов женского, позднее и наоборот (особенно с распространением среди женщин английской моды верховой езды), также приобрело игровой характер, что в наиболее чистом виде проявилось в маскарадах. Согласно воспоминаниям Екатерины II, Елизавета Петровна по вторникам назначала балы, на которые мужчинам следовало являться в женском платье, а дамам – в мужском. «Вполне хороша была только императрица… мужчины вообще были злы, как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы… со своими громадными фижмами»[956]. По поводу другого рода уподобления Сумароков писал: «Если девушки метрессы, / Бросим мудрости умы; / Если девушки тигрессы, / Будем тигры так и мы» (1781). Между быть и казаться — именно в этом пространстве происходили метаморфозы человека и его образа в жизни и культуре той театрализованной эпохи.
В XVIII в. «опасные связи» превращаются в некое социально-политическое явление. Фаворитство со времени Людовика XIV – признанный государственный институт. Быть счастливым поклонником рассматривалось как форма престижа, а к мужчине (его одежде, поведению) предъявлялись повышенные требования. Предметом постороннего, в том числе публичного, внимания стали не только сцены рождения наследника престола, как во Франции, но и моменты сугубо частной жизни, вплоть до интимных сцен (что засвидетельствовано не только Казановой).
В эпоху Просвещения чувственным стал образ смерти. Неотъемлемый элемент надгробий ХУШ в. – прекрасные женские фигуры. Де Линь описывал смерть не в виде костлявой старухи с косой, а как прекрасную, «хорошо сохранившуюся» даму (с. 200). Сам момент смерти представлялся как некий эротический акт. Карамзин писал: «Ах! есть ли бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно Природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому щастию… с сей то услаждающей стороны должны мы прикасаться… устами нашими [к необходимости]… Погружаясь в чувство Твоей благости, лобызаю невидимую руку Твою [Провидение], меня ведущую!»[957].
Ж.Ж. Новерр, реформатор балетного театра Нового времени, не без предвзятости полагал, что по вине женщин в ХVIII в. произошел упадок искусств[958]. Тем не менее можно попытаться доказать и иное, что женское начало придало своеобразные и живые черты искусству Века философов. Характерно, что два наиболее ярких мужских образа эпохи – Фигаро (благодаря Бомарше и Моцарту) и Дон Жуан (в интерпретации Моцарта) – оказались тесно увязаны с женской темой.
Новые явления в ситуации женщины, выступившие в XVIII в., выразились прежде всего в ментальной сфере, но даже они носили ограниченный характер. Известно негативное отношение Руссо к равноправию женщин. Женщина не воспринималась как обладающая специфическими потребностями и нуждающаяся в самостоятельных правах, при заключении браков часто становясь объектом купли-продажи. Обязанностью ее было материнство (отсюда беспрерывное вынашивание детей) и послушание мужчине. Одним из немногих авторов, писавших не о пороках женщин, а о порочном отношении к ним, был принц де Линь[959].
Женский головной убор Esprit. 1790-е гг.
Эпоха Просвещения и Французская революция не внесли принципиальных изменений в правовое положение женщин[960]. Декларация прав человека и гражданина была дополнена декретом, исключающим их из числа «свободных и равных». Кодекс Наполеона (1804) надолго отдал женщину под опеку мужчины как существо несамостоятельное (Бомарше еще в 1774 г. в «Севильском цирюльнике» высмеял корыстного опекуна). Однако сами женщины уже озаботились своим статусом. В 1791 г. появился первый памфлет, открывающий историю феминизма, – «Декларация прав женщины и гражданки» Олимпии де Гуж, которая выступала также против методов террора, в том числе по отношению к королевской семье, что привело ее на гильотину. Исходя из руссоистского представления о естественных правах человека и более глубокой мотивировки, связанной с фундаментальными основами природы, де Гуж писала:
«Изучите мир животных, наблюдайте стихии, исследуйте растения и, наконец, все возможные органические формы существования и… попробуйте… описать… хоть один случай подчинения одного пола другому. Такое есть только в нашем обществе, потому что вся остальная природа устроена гармонично. Она образец вечного сотрудничества полов».
Если политики отвергли декларацию женских прав и она надолго оказалась забыта, то распространившаяся по всей Европе комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» утверждала женское достоинство и даже превосходство. Это же делала опера Моцарта, для которой комедия послужила либретто, хотя оттуда были исключены наиболее острые фрагменты текста. Национальным символом Франции с 1792 г. стала Марианна.
В конце XVIII в. в женском костюме появилась новая эффектная деталь – головное и шляпное украшение из перьев, которое получило название esprit. Во французском языке это слово употребляется во множестве значений – рассудок, остроумие, смысл, сознание, дух и выступает в различных смысловых оборотах, в том числе как l’esprit du siècle – дух эпохи. В Век философов женщины стали его носительницами не только в переносном, но и в прямом смысле.
Глава 5 Универсализм и эзотерика эпохи просвещения: масонский подтекст дворцово-парковых ансамблей Речи Посполитой
Просвещение и франкмасонство. – Вольные каменщики, архитектура и сады. – В кругу виленских масонов. – Верки Вавжинца Гуцевича глазами вольного каменщика. – Cirсul de Ligne. – Большой и Гостевой дворцы – Церклишки и языческие истоки
Сфинкс в саду. Гравюра
В 1784 г. на вопрос «живем ли мы теперь в просвещенный век?», поставленный журналом «Berlinisсhe Monatschrift», Иммануил Кант ответил: «Нет, но мы живем в Век Просвещения». Это понятие, восходящее к Яну Амосу Коменскому, привилось как самоназвание эпохи (Aufklärung, Siècle de Lumières, Enlightenment). В интерпретации Канта просвещение понималось как процесс, движение к зрелости. Для ее достижения философ призывал: «Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков… девиз Просвещения»[961]. Необходимость следовать ему осознавалась и ранее (c. 275). По словам Вольтера, авторы теперь писали не столько методические исследования, сколько книги, позволяющие с удить о том, что «автор думает сам и заставляет думать других»[962].
Просвещение и франкмасонство
Понятие просвещение происходило от ключевого для эпохи слова свет, под которым имелся в виду не только рационалистический свет разума, но и божественный мистический свет. Представление о том и другом сочеталось в масонском учении, конституировавшемся, широко распространившемся и пережившем свое лучшее время в XVIII – начале XIX в. Вольные каменщики, следуя строкам Библии «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог, что он хорош» (Быт I: 3,4), полагали, что свет озарял историю человечества с начальных времен. Этот божественный дар вместе со священным Словом, в котором «была жизнь и… свет для людей» (Откр I: 4), оказался утрачен, найти его стало главной целью масонов. Поэтому одним из центральных моментов масонской инициации при приеме в ложу являлось снятие черной повязки, означавшее, что кандидат после пребывания в комнате размышлений вступал на путь обретения света (ил. с. 335). Истинное просвещение вольные каменщики понимали как внутреннее совершенствование, моральное «просветление», которое считали необходимым для разумного и активного служения обществу.
Так или иначе трактуя понятие «свет», мыслящие люди эпохи Просвещения постоянно стремились его распространять, чтобы сделать всех счастливыми. Эта не ограниченная географическими, государственными или национальными рамками утопическая идея лежала в основе универсализма того века, сконструировавшего особую идеальную модель человека – гражданина мира, космополита в высоком, древнегреческом смысле этого слова (от греч. – kosmos, мир и politēs — гражданин). Согласно известному высказыванию Шефтсбери, «любить общество, стремиться к благу вселенной и способствовать интересам всего мира, насколько то в наших силах, – это верх добродетели».
Универсализм был свойствен и масонской программе, призывавшей к изоляции от политических и религиозных дискуссий и ко всеобщему братству. Конституция Джеймса Андерсона (1723), служившая уставом вольных каменщиков, говорила, что «никакая личная ненависть или препирательства не должны вноситься в дверь ложи, а еще того менее споры о религии или о народах… мы как каменщики исповедуем только всеобщую религию и принадлежим ко всяким народам, наречиям или языкам…»[963]. Символика масонов стала неким универсальным языком, доступным без перевода посвященным разных национальностей, а их позиция в конфессиональных вопросах – своего рода экуменизмом.
Другой, также всеобщей идеей эпохи Просвещения были поиски гармонии между природой и цивилизацией – их противоречивые отношения, включая названные позднее экологическими, та эпоха уже осознавала. Приоритет она отдала природе, полагая, как формулировал Ф. Шиллер, что «мы были природой, и наша культура путями разума и свободы должна нас возвратить к природе»[964]. Кант же в целом рассматривал историю человеческого рода как «выполнение тайного плана природы»[965]. В интерпретации взаимоотношений цивилизации и природы нашли выражение основополагающие категории просветительского мышления, как свобода, равенство, счастье. Естественное начало было признано мерой вещей. Этот взгляд разделяли масоны. Еще в 1819 г. на открытии виленской ложи «Сократ» поэт Антоний Горецкий скажет, что «мирные, благотворительные и добродетельные работы» масонов можно сравнить с «делами природы»[966]. Вместе с тем им было свойственно ее эзотерическое прочтение, понимание природы как живого целого и как носительницы «тайны». В этом плане через розенкрейцеров взгляды масонов восходили к гностической традиции эзотерического знания и мистического откровения, а также ренессансному неоплатонизму[967].
Шимон Богумил Цуг. Сады на Ксенженцем со зданием масонской ложи. Варшава. 1779
Масонство не только хранило память о прошлом. Благодаря отсутствию жестких социальных барьеров в структуре лож, их деятельность способствовала дальнейшему ослаблению этих барьеров, становилась путем распространения эгалитаристских идей в различных кругах общества. Это служило делу его просвещения – основному для той эпохи. Среди явлений, которые сделали возможной Французскую революцию, была не только экономическая, политическая и международная ситуация, но и новый уровень распространения информации[968]. Степень причастности масонства к событиям революции до сих пор остается не только одной из проблемных тем исторической науки, но «горячей» идеологической точкой[969].
Вольные каменщики, архитектура и сады
Представления и идеи масонов множеством нитей соединялись с архитектурой, начиная с того, что их сообщество, как и каменно-строительная работа, обозначалось тем же словом masonry, а христианский Бог почитался ими в качестве Великого Архитектора Вселенной. Само творчество, понимание творческого гения как богодухновенного были близки масонам. В их ложах «к работам чисто масонским присоединялись и иные, способные воспитать хороший вкус и талант. Все науки, все искусства, все, что прекрасно и почтенно, – говорилось в уставе ложи «Северный щит», – имеет право обсуждаться в ложе и быть предметом изучения»[970]. Хотя это часто оставалось лишь пожеланием, тем не менее принадлежность к масонству ведущих мастеров-профессионалов и любителей XVIII в. очевидна, как несомненно сочетание в их деятельности нравственных и художественных исканий. При активном участии вольных каменщиков формировались такие художественные явления, как палладианство, английский естественный парк, историзирующие течения в архитектуре.
Конституция Андерсона заключала в себе краткую историю архитектуры от сотворения мира, трактуемую в качестве предыстории масонства[971]. Подобная преемственность, согласно автору, позволяла восстановить «цепь Бытия». Оперирование фактами из истории архитектуры и архитектурными понятиями в целом стало характерной чертой сочинений масонов, а почерпнутые из архитектуры элементы (наряду с особой жестикуляцией) – наиболее оригинальной частью их эклектичной символики.
Хотя в масонской картине мира преобладала восходящая к Библии символика чисел и природно-космических элементов, однако важны оказались и архитектурные формы – пирамиды, обелиски, центрические сооружения; нравственные категории выражались через символизацию предметов, связанных, прежде всего, со строительством. Это были инструменты – циркуль, отвес, наугольник, остроконечный молоток, а также приемы обработки материала, как, например, руст. В лексиконе франкмасонов фигурировали технические выражения камнетесного дела, а в ритуале они сохранили одежды строителей-каменщиков – фартуки, перчатки, шляпы.
Масоны назвали свою деятельность работой, как и строители, получая звания ученик, подмастерье (также челядник, товарищ), мастер, но они различали оперативное и спекулятивное масонство, последнее занималось «свободной» работой (отсюда freemasonry – англ., franc-maçonnerie – фр., Freimaurerei – нем.). В масонские ложи на новых правах вошли и архитекторы как представители ars liberorum muratorum. Если для социальной позиции таких выдающихся архитекторов, как Кристофер Рен – один из основателей английского масонства, магистр Великой Английской ложи, это не имело решающего значения, то менее именитым «работа» в ложе в качестве «брата-масона» открывала путь к контактам с социальной элитой, с потенциальными, а часто и действительными заказчиками, повышала профессиональный престиж.
Архитектура для вольных каменщиков – моральное понятие, означающее прежде всего строительство души. Главным символом выступал храм как внутренний (и лишь затем постройка как воплощение идеи в определенную форму – отсюда символизация всех ее элементов). Туда открыт вход только посвященным и просвещенным. Строительным материалом для этого храма должен был стать обработанный кубический камень в качестве знака совершенного человека, который является архитектором собственной жизни. Такой камень означал и высшую степень мастерства. С легендой о возведении храма Соломона связаны масонская генеалогия, масонский ритуал и символика инициации[972]. Строительство храма было прообразом всех масонских работ. Храмом была также ложа, храмом называлось и главное место в ложе, находившееся, как правило, в ее восточной части[973]. Там располагались основные ритуальные предметы и трон Великого мастера. Масонский храм был одним из проявлений феномена храмового сознания, которое в свою очередь, связано с феноменом памяти, «абсолютной памятью», «памятью о памяти»[974].
От архитектуры масоны восприняли культ пропорций, гармонии – их образец видели в витрувианской ордерной системе. В Конституции Андерсона отмечалось, что «Божий Мессия, Великий Архитектор Церкви» родился в тот же Век Августа, что и «великий Витрувий». Описанные этим теоретиком три разноорденные колонны символизировали для масонов Мудрость, Силу и Красоту. Классицизм не только идеально воплощал эту символику, но и позволял выразить поклонение числу и геометрии, которое нашло одухотворенное выражение в формах особенно близкого масонам неопалладианства[975]. В XVIII в. вилла Ротонда постоянно служила эталонным образцом для заказчиков и архитекторов, близких масонским кругам, начиная с лорда Берлингтона и его Чизвик Хаус. В постройках Андреа Палладио видели гармонию Универсума, а его «Четыре книги об архитектуре» на заседаниях лож даже читались вслух[976]. Не случайно некоторые из масонских лож получили название «Гармония».
Палладио, для которого античность была «живым организмом», а ее архитектура «не утратившей жизни оболочкой этого мира»[977], масоны особо ценили за то, что итальянский мастер глубоко проник в мир и тайны древности. Гёте, один из вольных каменщиков, писал: «Есть нечто божественное в его архитектурных созданиях… как у великого поэта, из вымысла и правды творящего третье бытие»[978]. Архитекторы в наследии Палладио видели путь постичь древнеримские образцы и следовать им. При этом возводимые постройки весьма далеко отходили от собственно палладианских форм[979]. Масонам творчество этого архитектора помогало также искать свои истоки, чем они занимались, хотя и несколько путано, но постоянно. Поэтому они оказались связаны и с псевдоготикой, в целом способствуя реабилитации средневекового наследия.
В Конституции Андерсона к нему было высказано неоднозначное отношение, которое во втором ее издании (1738) получило более благосклонную редакцию. В масонских сочинениях готика называлась «древней», «архаичной» и «таинственной»[980]. Первоначально не отличаемая от романского стиля, она была дорога масонам ее средневековой генеалогией – историю своего общества вольные каменщики возводили к временам сооружения первых готических соборов, к гильдиям строивших их мастеров. Кроме того, готика воспринималась как воплощение в камне естественных, в особенности древесных, форм. Лес тонких колонн готического храма, пучками тянущихся вверх, рождал мистическое ощущение связи земного и небесного пространства, природы и искусства.
Альфред Жаметт. Вид Верок. Литография по акварели 1845 г.
В дворцово-парковых ансамблях XVIII в. непротиворечиво сочетались классицистические и псевдоготические архитектурные формы, распространителями которых стали многие приверженцы масонства. Гармонизованный Космос классицизма мог противопоставляться неупорядоченному Хаосу «дикой» природы, как в Вёрлице принца Франца Ангальт-Дессау[981]. Там архитектор Ф.В. Эрдмансдорф превратил подножие Пантеона, следующего античному прототипу, в выложенный необработанными камнями грот, тем самым придав сооружению масонскую символику, а искусственный «Везувий» разместил так, чтобы не нарушать классицистически-неоготический архитектурный контекст парка.
В Корсуни литовского подскарбия Станислава Понятовского, построившего там псевдоготический дворец (1787–1789), классицистический моноптер с открытой колоннадой занимал экспонируемое место в холмистом ландшафте с огромными валунами – «диким камнем», над которым работали масоны в поисках морального совершенствования. Такое сочетание воспринималось как знак дуальности мира, двух начал Высшей сущности, определявших структуру масонского Универсума. С этой резиденцией связаны имена архитекторов и художников Яна Линдсея и И.Г. Мюнца. Последний ранее участвовал в перестройке Строберри Хилла Уолпола, положившей начало псевдоготике (вторая половина 1750-х гг.), и был создателем Октогона для Олд Виндзор и готической ротонды (так наз. Египетского салона) в Дублине – значимых для масонства архитектурных форм.
Идеалом просвещенческой философии был естественный человек, масоны считали этот идеал утраченным в результате грехопадения и полагали, что он восстановим путем масонских моральных работ. Его олицетворял воспринятый от иудейско-кабалистической традиции Адам Кадмон (др. – евр. Первоначальный). Фигура Адама стояла в Деречине у входа во дворец Франтишка Сапеги, генерала литовской артиллерии. Парной к ней служила фигура Евы, также фланкирующая вход. Вместе они могли толковаться в масонском смысле как люди, положившие начало дуалистическому разделению мира. Аналогично могла восприниматься и находившаяся в том же дворце мраморная группа «Адам и Ева», тем более что с ней соседствовали фигуры Меркурия, Весталки, а также три египетские фигуры[982]. Все эти образы входили в масонскую иконографию и фразеологию. Меркурий, отождествлявшийся с Гермесом, выступал в них как владеющий кадуцеем, который мог усыплять людей, вводить их в загробный мир и вместе с тем служить символом герметических искусств (прежде всего, алхимии). Этот бог-истолкователь (отсюда герменевтика) был связан и с культом числа как идеи-силы, а также пропорций, что масоны через Пифагора возводили к Древнему Египту, к Тоту-Гермесу или Гермесу Трисмегисту (гр. – Триждывеликому)[983].
Марцеллин Янушкевич. Дворец в Верках. Рисунок. Первая половина XIX в.
Распространению египетских мотивов способствовал алхимик и авантюрист граф Калиостро (Джузеппе Бальзамо). В 1780 г., находясь в Варшаве, он основал там Египетскую ложу и называл себя «Великим коптом» в качестве ее Великого мастера. Разоблачение его как мошенника было делом Августа Мошиньского, Великого мастера Востока Польши и Великого княжества Литовского, а также автора первого польского сочинения об английских парках. Пропагандируя в нем масонские сюжеты, он, в частности, писал, что «в египетском вкусе» хорошо отделывать комнаты для отдыха, расположенные в гротах[984]. Египетские мотивы часто использовались как для оформления масонских лож, так и дворцовых интерьеров. Их можно было встретить во дворцах – неопалладианском Любостроне в Великой Польше, построенном Станиславом Завадзким, который известен и другими масонскими постройками, в Ракишках на землях Великого княжества Литовского, где фрески с монументальными изображениями сфинксов и пирамид украшали дворец Тызенхаузов[985]. Без пирамиды или обелиска обходился редкий принадлежавший владельцу-масону парк. Эклектичный набор разного рода классицистических, рокайльных, ориентализирующих, псевдоготических, неоегипетских фигур украшал масонские документы того времени.
Масоны приписывали божественное происхождение не только архитектуре, но и садово-парковому искусству, возводя его по традиции к райскому Эдему. Масонским исканиям отвечала атмосфера английского парка в целом. Эзотерический подтекст имело характерное для него чувство меланхолии. Свободно растущие деревья утратили здесь четкую материальность стриженых боскетов, растворяясь в воздушной перспективе и как бы высвобождая духовное начало из телесной плоти. Масонам была созвучна и поэзия контраста, разнообразия, царившая в этом парке.
В XVIII в. садовое искусство, впервые занявшее столь влиятельное место в культуре, служило частым предметом самых напряженных дискуссий, в которых за разногласиями относительно планировки и оформления садов стояли идеологические, социальные и философско-эстетические проблемы. Свободная живописная композиция рассматривалась как выражение свободомыслия в противовес регулярным паркам, служившим символом тирании. Естественный парк должен был стать местом пребывания гармонически развитой личности, местом размышлений, морального воспитания (III.2). Масоны внесли в эти представления свои нюансы, в целом повлияв на программу естественных парков[986]. Их создатели не только принадлежали к социальной и интеллектуальной элите своего времени, но одновременно выступали и наиболее значительными деятелями масонских лож.
Как путь морального совершенствования описал прогулку по своему нравоучительному парку в Варклянах Михал Борх. В Зофьювке Великого мастера С.Щ. Потоцкого можно было совершить прогулку-инициацию, поразмышлять о смерти, плывя по подземной реке, и обрести свет, выплыв на воды озера. Погрузиться в атмосферу древней мистерии позволяло святилище Дианы в Аркадии под Ловичем (с. 207). Ее создательницей была Хелена Радзивилл, Великая надзирательница литовской женской адоптивной ложи Fidélité Parfaite[987].
Естественные сады служили местом памяти. Излюбленным мотивом масонов стали руины, мемориальные сооружения, надгробья, которые могли быть реальными и фиктивными. Гробница Руссо на Тополином острове в Эрменонвиле вольного каменщика Р. Жирардена воспроизводилась в различных европейских парках, в том числе связанной с масонской программой Аркадии. Масоны хотели думать о смерти стоически, «не только равнодушно, но даже с удовольствием», как писал об этом масон и музыкант М.Ю. Вельгорский. Естественные парки в целом служили проводниками масонских идей и в деле их распространения превосходили по значению произведения, созданные специально для масонских лож и ритуалов. Благодаря дворцово-парковым ансамблям масонская символика вошла в архитектурный репертуар и повседневную жизнь того времени, способствуя влиянию масонов на климат эпохи в целом.
В кругу виленских масонов
В Великом Княжестве Литовском, объединенном унией с Польшей (1569), с масонством оказались связаны ведущие архитекторы рубежа XVIII–XIX вв. – Мартин Кнакфус, а затем и его ученик Вавжинец Гуцевич, строитель Ратуши и Кафедрального собора в Вильно (современный Вильнюс), благодаря которым современники назвали этот город новыми Афинами.
Кнакфус стал одним из первых членов ложи «Добрый пастырь» (1788). Он был принят с тем большим удовлетворением, что он был нужен как архитектор для оформления помещения масонской ложи. Проработав там две ночи, он сразу получил степени ученика и подмастерья. Аналогично произошло с Гуцевичем, который через два месяца был посвящен также в мастера за «проявленное усердие». Еще во время учебы в Риме (1776–1777) он попал в масонскую среду, познакомившись со Ст. К. Потоцким, в дальнейшем Великим мастером Великого Востока Польши и Великого княжества Литовского, архитектором-любителем, а также с архитекторами Х.П. Айгнером и С. Завадзким, как и тот, масонами. К этом кругу принадлежал также живописец Ф. Смуглевич (с. 314–316).
Последняя треть XVIII в. в Европе была временем активной работы масонских лож, развития оккультизма и иллюминизма, что Гуцевич мог ощутить, вновь побывав за границей, в том числе во Франции (1778–1780). Еще в 1773 г. там вышло главное сочинение маркиза Сен-Мартена «О заблуждениях и истине», проповедующее идеи естественного равенства, деятельной любви. Влияние на моральные искания своего времени оказали и переведенные на французский язык мистические труды Э. Сведенборга. Астроном Ж.Ж.Ф. Лаланд в 1769 г. основал в Париже ложу, которая объединила представителей науки, литературы, искусства и политики.
Во время пребывания Гуцевича во Франции один из его учителей, Э.Л. Булле, не без влияния Дж. Б. Пиранези, уже начал создавать свои масштабные архитектурные фантазии, проникнутые, по словам Н. Певзнера, ощущением «таинственной мощи». Получили известность постройки другого учителя Гуцевича, К.Н. Леду, в их числе отель d’Hallwyl – строгое прямоугольное сооружение, целиком выполненное техникой руста. Не только две колонны тосканского ордера, фланкирующие его портал, но и суровость, простота, чистота линий этого здания, созданного, когда еще не полностью отзвучало рококо, отвечали не только масонской символике, но и тому моральному императиву, которому призывали следовать вольные каменщики. Таким образом, в столице Франции Гуцевич мог познакомиться с близкими им и людьми, и художественными идеями.
По возвращении в Вильно Гуцевич вошел в ложу «Совершенное единство» (членство в нескольких ложах было принято). Ложа объединила людей разных по социальному положению и кругу занятий, представляя небезынтересную для Гуцевича среду, которой не были чужды вопросы искусства и науки. Великим мастером ложи являлся Великий гетман литовский Михал Казимеж Огиньский, талантливый композитор, резиденция которого в Слониме стала культурным центром, где имелись оперная, балетная и драматическая труппы, инструментальная и вокальная капеллы[988].
Вавжинец Гуцевич. Гостевой дворец. Верки
Знакомство с Якубом Ясиньским, произошедшее в ложе, оказало влияние на дальнейшую судьбу Гуцевича. Этот генерал и поэт сначала привлек его к преподаванию в Школе корпуса литовской артиллерии, а затем к участию в восстании 1795 г. В этом случае архитектор не следовал одному из основных принципов масонства, по которому «каменщик есть мирный подданный гражданских властей, где бы он ни жил и ни работал; он не должен быть замешан в крамолы и заговоры против мира и благоденствия народа и никогда не должен переступать обязанностей относительно высших властей», как говорилось в Конституции масонов[989]. Однако «обязанности относительно высших властей» после разделов Речи Посполитой пришли в несоответствие с «благоденствием народа».
Гуцевич, человек высоких моральных качеств, серьезно воспринимал масонские постулаты. Он способствовал утверждению авторитета литовских масонских лож, в которые входили профессора Университета, люди творческих профессий, известные своими нравственными и интеллектуальными достоинствами, как Юзеф Олешкевич, Ян Рустем[990]. Масонство способствовало тому, что и в следующем столетии в виленской среде жили «софизмы XVIII века»[991], появлялись вольнодумцы, «еsprit fort»[992].
Хотя священнослужители не числились в названной ложе, однако в целом они активно примыкали к масонскому движению. В Литве это были не только многочисленные рядовые ксендзы, но и пользовавшийся высоким авторитетом прелат виленской капитулы, архидиакон Михал Длуский[993]. В XVIII в. подобный сан не препятствовал масонским увлечениям[994]. Имя И.Я. Масальского, заказчика Гуцевича, в списках масонских лож не встречается, однако он не чуждался их идей. Первоначально этот епископ возглавлял Комиссию национальной эдукации (c. 284), основанную на фондах упраздненного ордена иезуитов (масоны, следуя розенкрейцерской традиции, активно противостояли их деятельности). Масальский способствовал либерализации религиозной атмосферы в Литве, поддерживал культурные новшества[995]. Масоны входили в числе людей, которых этот епископ привлекал к работе и не противодействовал тому, что Гуцевич придал масонскую программу принадлежавшей Масальскому усадьбе, тогда называемой Верки (Веркяй).
Верки Вавжинца Гуцевича глазами вольного каменщика
Наличие масонской программы в садах в большинстве случаев не может быть точно документировано, а интерпретация затруднительна, так как масонская символика неоднозначна, в частности в связи с ритуальными процедурами лож различных систем. Вместе с тем многие фигуры, числа, понятия, лежащие в ее основе, входят в ветхозаветную и евангельскую символику, присущи разным религиозным системам, каббалистике, алхимии, розенкрейцерству. При внешнем сходстве установление масонской принадлежности символов во многом основывается на ассоциациях и общем контексте.
Сами масоны стремились скрыть свои знаки от глаз профанов: «Свет, сокровищницей которого является масонство, оно проливает постепенно, обращаясь к аллегории, полезной таинственности и к величию символики»[996]. В присяге, которую приносили кандидаты, они обещали «не выдавать никакой из тайных мистерий свободного каменщичества», не изображать эти тайны никаким способом: «ни писать, ни печатать, ни вырезывать, ни рисовать, ни красить [т. е. не писать кистью] или гравировать, ни подавать повода к тому, чтобы это случилось, ни на какой вещи… на которой бы она могла быть прочитана или понята»[997].
Тем не менее можно отметить моменты, благодаря которым облик Верок мог казаться близким братьям-масонам, часто бывавшим там в конце XVIII в. К этому предрасполагала уже сама овеянная мифами история места, связанного с языческим жрецом Кривю-Кривайтисом и Лиздейкой[998]. Языческое святилище, следы которого заметны и сегодня, располагалось высоко над рекой, на мысу холма. Именно в этой точке Гуцевич скрестил срединную ось центрального дворца с осями, вдоль которых с некоторым нарушением параллельности стояли два боковых корпуса[999]. Эта символическая и геометрическая точка представляла собой также прекрасный видовой пункт. Значимость этого места не позволяет считать, что там была установлена просто «беседка», как обычно называется находившийся там павильон. Подобные садовые сооружения ста ли лишь «беседками» к середине XIX в., у тратив символическую роль. В естественных парках предшествующего столетия им, хотя бы номинально, отводилась функция храма – Дружбы, Любви, Памяти, Добродетели и т. п.
Часто эти павильоны имели форму древнегреческих моноптеров, открытых округлых построек с колоннадой по окружности. Именно такой образец в качестве «Храма какой-либо из добродетелей» предлагался в популярном тогда издании И.Г. Громанна[1000]. Одним из его предшественников был Храм на острове в Малом Трианоне, правда, посвященный Амуру. Его, несомненно, мог видеть Гуцевич.
В Верках от подобного павильона сохранились лишь остатки фундамента. Постройка, которая изображена А. Жаметтом на вершине холма в его акварели «Вид Верок»[1001], имеет высокий парапет и короткие колонки, поддерживающие крышу, не напоминая о стройности такого рода сооружений гуцевичевской эпохи и античных образцах, к которым они восходят (ил. с. 375). Можно предположить, что это уже перестроенный в 1840-е гг. павильон и что первоначально он был украшен колоннадой излюбленного Гуцевичем ионического ордера, сквозь которую хорошо виделся окружающий пейзаж (в 1705 г. его с интересом обозревали Петр I и А.Б. Куракин[1002]).
Изображения подобных центрических храмов входили в знаки масонских лож, масонские печати, а также в декоративные рамки, украшавшие масонские документы. Именно такой храм Юзеф Пешка позднее изобразил как Храм Нации в аллегории Существование Королевства Польского (после 1819. Вроцлав. Оссолинеум) (ил. с. 318). Предположить, как назывался павильон в Верках, позволяет их забытое описание, оставленное Шарлем де Линем:
Там были «четыре или пять каскадов, три острова, павильоны, дворец, мельница, пристань, руина, два эффектных монастырских здания с красивыми фасадами, естественные откосы, храм Вулкана, храм Вакха… храм Согласия, оригинальный мост над слиянием трех ручьев, обелиск, шалаш рыбаков, хижина работников, нарядные мосты, разные дикие фрагменты, которые создают приятность пребывания там, где я давал советы и почти руководил созданием части всего этого».
Из названных храмов скорее это был храм Согласия. Он мог напоминать о его необходимости молодым супругам де Линь[1003]. Для самого Гуцевича за подобным названием могла скрываться идея всеобщего Согласия – с самим собой, с братьями-масонами и с миром. Однако масонскому духу не противоречил бы и храм, посвященный Вулкану как богу огня (тем более, что храм стоял на том месте, где был алтарь Перуна), или Вакху (он же Дионис – способный к перевоплощениям бог плодоносящих сил земли, а также главное действующее лицо мистерий). Оба бога входили в масонский пантеон.
Cirсul de Ligne
Следствием упомянутого де Линем его участия в создании парка стало появление так называемого Circule de Ligne[1004]. Как свидетельствует акварель М. Янушкевича (Художественный музей, Вильнюс; ил. с. 376), первоначально партер перед дворцом представлял собою именно круг, засаженный деревьями (а не позднейший эллипс). Масальский беспокоился, чтобы это было особо хорошо сделано. Подобные посадки могли напоминать о священных рощах, которые предлагал насаждать в естественных парках А. Мошиньский[1005].
Если судить по плану Верок 1877 г. (возможно, частично уже отошедшему от первоначального варианта), Cirсul de Ligne (Круг де Линя) вместе с основной дорогой, упругим изгибом исходящей от его окружности, образовывал фигуру, приближающуюся к графическому знаку зодиакального Козерога. Это фантастическое создание имеет двойственную природу: тело козы как горного животного и рыбий хвост, обращенный к хтоническим глубинам, указывают на фундаментальную оппозицию верх/низ, которая входит в понятие дуализма, лежащего в основе масонской картина мира.
Однако независимо от этих допусков, круг как таковой среди геометрических фигур обладает наиболее универсальной семантикой. Подобно змее, кусающей свой хвост, он символ вечности как не имеющий ни начала, ни конца. Круг также символ совершенства и того, что определяется греческим понятием плерома, означающим полноту бытия, воплощенную в Боге, «абсолютную завершенность», по словам К.Г. Юнга.
Слегка вытянутый эллипс как вариация круга был положен в основу внутренней планировки дворца в Верках. Вместе с тем круг послужил для Гуцевича модулем композиции центральной части парка, в которой, как и в отдельных строениях, применен принцип золотого сечения. Оно также имеет символический смысл, олицетворяя гармонию человека с Универсумом.
Большой и Гостевой дворцы
«Круг де Линя» вписывался в прямоугольное пространство, образуемое дворцом и его боковыми павильонами[1006]. Масонами почитались не только древние священные урочища, но и памятники архитектуры. К их числу принадлежал римский Пантеон, часто изображавшийся в иллюстрациях к масонским сочинениям и документам. Как садовый павильон в миниатюрном масштабе он был воспроизведен в подлондонском Чизвике лорда Берлингтона, открывающем историю английского естественного парка. Здание в форме Пантеона, предназначенное для собраний масонской ложи, появилось в Добжице в Великой Польше около Познани – программном масонском ансамбле, построенном Станиславом Завадзким[1007]. Центральная часть дворца в Верках с его шестиколонным портиком и куполом также позволяет увидеть ее прототип в Пантеоне. Хотя количество колонн меньше, чем в оригинале, но подобное варьирование характерно и для других зданий, подражавших римскому храму. Проект принадлежал Гуцевичу, так как, приняв работы от Кнакфуса, он полностью изменил центральную часть дворца.
Сильно вытянутый прямоугольник этого здания (85×9,85 м.) мог вызывать у масонов ассоциации с их традиционным знаком – именно такой прямоугольник как криптограмма обычно фигурирует в масонских документах вместо начертания слова ложа (реже выступает квадрат). Его четыре стороны означают четыре стороны света и всемирность масонства. Купол дворца был покрыт медью – модным тогда и очень дорогим материалом. Его золотой блеск напоминал о солнце как символе света, одном из древнейших космических символов. Для масонов золотой цвет означал также чистоту побуждений.
Фасад и фронтон дворца могли привлечь их внимание рельефами Томаса Риги с изображением сельскохозяйственных работ и пашущего Цинцинната. Эти темы отвечали масонскому культу земледелия, представлению о нем как добродетельном занятии (что относилось и к садоводству[1008]). Возможно, эти темы были подсказаны Масальским, который пропагандировал новые методы земледелия.
Это отвечало идеям физиократов, которые епископ разделял и даже написал посвященное им сочинение.
Местом масонских встреч в усадьбах часто служили подземные залы. В Верках они были в главном дворцовом здании, а также в западном флигеле. Зал, где собирались розенкрейцеры[1009], украшенный старинными фресками, сохранился во дворце, построенном Доменико Мерлини, архитектором Лазенок, для примаса Михала Понятовского в Яблонне.
Последовательную символическую программу имел Гостевой (или Малый) дворец, который открывался перед подъезжающими к Веркам (ил. с. 379). Сначала в поле зрения попадал его купол, а само здание, расположенное на холме и несколько сдвинутое в его глубину, постепенно вырастало перед гостем, даже незваным, привлекая его взгляд и как бы приглашая его самого – гостеприимство, благотворительность принадлежали к моральному кодексу масонов[1010].
Вход в этот дворец, построенный на плане квадрата, обозначен нишей, которую фланкируют две дорические колонны – подобные часто стояли у входа в масонские храмы. Они напоминали о колоннах Иахин и Боаз храма Соломона. Как восходящие к этому храму-образцу они являются знаком совершенных принципов строительства. Парные колонны имеют и более универсальное значение – они символ двойственности природы жизни (в частности, мужского и женского начал), но также добра и зла. В космическом смысле – это знак стабильности. Таков же символический смысл квадрата, на плане которого построен Гостевой дворец. Квадрат является не только устойчивым гармоничным знаком, но и символом Земли, структурированной по принципу четверичности (четыре стихии, времени года, четыре стороны света), который выражен и в плане основного круглого зала, имеющего четыре полукруглые ниши, которые и без аллегорических скульптур (неизвестно, предполагались ли они) выполняют свою семантическую роль.
Верки. Купол Гостевого дворца
Гостевой дворец заключает один из редко сохранившихся до наших дней масонских интерьеров XVIII в. Его золотой купол пропускает солнечный свет внутрь зала сквозь цилиндрический проем невысокого фонаря, от которого как бы лучами расходятся светлые полосы, разделяющие квадратные кессоны с символическими, замкнутыми в круг и многократно повторяющимися живописными изображениями (так из купола исходит свет, но уже лунный, в эскизе декорации К. Шинкеля к «Волшебной флейте» Моцарта; через открытый проем в куполе проходит свет в римском Пантеоне). Характерные, в частности для алхимических иллюстраций, разнообразные цветочные розетки, спиралевидные венки, а также изображения масок и отдельных предметов, трудно читаются из-за недостаточной сохранности. Помимо декоративных функций, они несут сложную герметическую, астральную, а также моральную символику. Подобные изображения цветов, соединенные с алхимическими символами, предлагались в качестве образцовых проектов для украшения садовых построек в популярной книге «Architektura civilis» Ю. Фурттербаха (Ulm, 1628), которая могла послужить одним из источников для фресковой росписи в Верках. Однако такие образцы были многочисленны, восходя к античности.
Цветы, наиболее многочисленные в росписи купола, в соответствии с алхимическими представлениями служили солярным символом[1011]. Солнце, которое для масонов означает истину, мужество, правосудие, действующую силу[1012], появляется в куполе Гостевого дворца в особенности в виде цветков подсолнечника и хризантемы. Последняя по традиции изображена состоящей из шестнадцати лепестков, расположенных двумя слоями, в ряде случаев – с сердцевиной в виде человеческого лика, что дополнительно указывает на то, что это именно солярный знак, а не знак красоты, каким хризантема выступает в восточной традиции. Среди розеток можно обнаружить и изображение луны, в различных фазах управляющей природой и людьми.
Верки. Домик смотрителя
Из цветов, изображения которых заслуживали бы специального исследования, идентифицируются также роза – знак вечность материи и любви, лилия, непосредственно связанная с храмом Соломона (согласно Библии, его столбы имели «венцы, сделанные наподобие лилий». 3 Цар VII: 22). В целом же цветы на небесном своде купола служат астральным знаком, обозначающим тождество звезды и человеческой души. В обрамление из цветочных лепестков вписаны и звезды как таковые. Это пятиконечная звезда, которая, как и всякая звезда, символизирует прежде всего свет, но в данном случае – также «восхождение к началу». Подобная пентаграмма входила в состав египетских иероглифов, означающих такие близкие для масонов понятия, как «воспитывать», «просвещать»[1013]. Вместе с тем, она выступает знаком пяти органов чувств человека, которые он должен совершенствовать[1014]. В центре отдельных розеток можно увидеть также шестиконечную звезду, служащую для масонов одним из универсальных знаков. Многозначна символика венка, также изображенного на своде, который, среди прочего, служит знаком посвящения[1015]. Полисемантический характер имеет украшающий его спиралевидный узор как схематический образ эволюции Вселенной. Среди листьев, из которых сплетены венки, узнаются дубовые, а возможно, и пальмовые, также распространенные в масонской символике.
В ансамбле Верок были и другие связанные с ней сооружения. О масонском обработанном камне как знаке совершенства, а также о кубическом пространстве «Святое святых» иерусалимского храма напоминала Вилла в форме куба, как бы вырастающая из рустованной кладки. Ее Гуцевич украсил пилястрами дорического ордера, который воспринял от своих французских учителей и который был новшеством для земель Речи Посполитой. Колонны дорического ордена, которые для масонов служат символом мудрости, можно было увидеть на фронтисписах масонских сочинений. Он применен и в других постройках в Верках – Малом дворце и Конном дворе, включающем также жилые помещения. Его масштабный ансамбль с дорическими колоннами и пилястрами колоссального ордена, входной аркой, сквозь которую вырисовывается увенчанная масонской иглой башня главного корпуса, также заслуживает отдельного внимания в программе дворцово-паркового комплекса.
Масонские постройки обычно не обходились без изображений сферы, которая есть на въездных воротах Верок. Это символ Вселенной, единения масонских братьев и универсальности их идей[1016]. О масонских влияниях в Верках говорит также упомянутый де Линем обелиск и миниатюрный Домик смотрителя, построенный на плане наугольника (символ равновесия, добродетели, связи Бога и человека). Подобный план получил дворец в Добжице (Завадзкий), где равносторонний угольник слился с формой лопаточки каменщика, которая указывала на масонскую степень мастера – ее носил владелец дворца, А. Гоженьский, кавалер Розового Креста. Дворец в Залесье Михала Клеофаса Огиньского по проекту Михала Шульца (после 1802 г.) также представлял в плане прямой угол, но с соотношением длины сторон 2:1[1017]. Главный фасад дворца с портиком до высоты фронтона имел форму куба, завершенного обелиском. Его венчала каменная ваза – это был еще один воспринятый от Древнего Египта масонский символ, означавший внутренний покой.
Церклишки и языческие истоки
Масонские влияния можно обнаружит и в других дворцово-парковых ансамблях, как Церклишки Хоминьских. Здесь ранее располагалось древнее святилище – гора Перкунаса, где, согласно традиции, некогда существовал жертвенник. Этот бог первенствовал среди балтийских божеств и наделялся универсальными функциями, в том числе плодородия, культ которого исповедовали масоны. Перкунас символизировал и важную для них связь с древней литовской традицией. Его атрибутом был дуб. Мотив дубового листа и желудя проходит через все оформление интерьеров дворца в Церклишках. Пол центрального зала дворца, набранный из дуба, в середине имел прямоугольник с интарсией, главным мотивом которой также служили листья дуба и желуди (они присутствуют и в лепнине флигеля дворца в Верках). Эти перешедшие в масонскую символику знаки Мужества и Силы, имели античную генеалогию (символ Зевса; священный дуб святилища на Делосе).
Полы служили особо значимым местом для введения масонской символики. В масонских ложах они обычно представляли мозаику светлых и темных квадратов – символ дуализма мира, означая также богатство творений Бога и переменчивый ход жизни[1018].
Кафельная печь, сверху украшенная рыцарскими эмблемами, которая была в Церклишках, могла напомнить масонам о средневековых истоках их общества, а жирандоль в виде лилии – о храме Соломона. Во дворце висел портрет литовского референдария и виленского каноника П.Кс. Бжостовского[1019]. Ф.Кс. Фабр изобразил его на фоне Павлова у сломанной колонны (ил. c. 316). Это был постоянный мотив масонских сооружений. Во Франции в Дезер де Рец главная постройка имела вид сломанной колонны (ил. с. 264), в Польше так выглядел павильон в парке Александрия в Седльцах Огиньских. Сломанные колонны увенчивали грот в Яблонне.
В Церклишках сохранилось здание из необработанных камней разной формы, квадратное в плане, с двухколонным портиком. Примечательным сооружением, также имитирующим древнюю кладку, был Ледник на плане круга с ужом на башенке. И в других поместьях можно найти мотивы, близкие масонам. Все они вписались в цепочку масонских в своей программе дворцово-парковых ансамблей, которые создавались во второй половине XVIII – начале XIX в. по всей Европе, включая Россию[1020].
Исследуя культуру XVIII в. нельзя оставить без внимания то, что было связано с вольными каменщиками, их идеями и конкретными реализациями. В середине XVIII в. ложи объединяли около 50 000 европейцев и американцев, в том числе около 1500 женщин[1021]. Этим движением была охвачена интеллектуальная и социальная элита, что во многом тогда совпадало. Однако выявление масонского наследия – не однозначная процедура. Не каждые две колонны – символ масонской ложи, а разного рода концепты, формулируемые в масонских сочинениях, содержали признаки, характерные для Просвещения в целом. Их попытки постичь тайны Вселенной, «вчувствоваться» в них, были не только герметическими, но и герменевтическими опытами.
Масонскую мысль занимали метафизические проблемы, она интересовалась мистическим и иррациональным, герметическим и герменевтическим, она возвращалась в необъятность Вселенной. Частью ее вольным каменщикам виделись разбиваемые ими сады, а прямоугольник ложи воплощал для них идею мировой гармонии. Все это придавало универсализму Просвещения особое измерение.
Масонская деятельность имела и земные параметры, способствуя, в частности, изменению восприятия «чужих» и далеких во времени культур, что было знаком эпохи. Однако совершавшиеся при этом метаморфозы, разрушение старых мифов и стереотипов и возникновение новых – отдельный предмет исследования.
Принятые сокращения
Ligne de Ch. Melanges – Ligne de Ch. Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires. 34 vols. Dresden, 1795–1811
Polska stanisławowska – Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców / Opr. i wstęp S. Zawadski. In: 2 T. W., 1957
Линь Ш. де i8og – Линь Ш. де. Письма, мысли и избранные творения, изданные баронессою де Стаэль Гольстейн и Г-м Пропиаком. М.: В типографии С. Селивановского. В: 4 т. М., 1809.
Русская усадьба – Русская усадьба. Сборник Общества изучения русской усадьбы.
Свирида 1978 – Свирида И.И. Польская художественная жизнь конца XVIII – первой трети XIX века. М., 1978.
Свирида 1994 – Свирида И.И. Сады Века философов в Польше. М., 1994.
Свирида 1999 – Свирида И.И.
Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX века. М., 1999.
Свирида 2006 – Свирида И.И. Версаль в русской культуре: между реальностью и мифом // Россия и Франция XVIII–XIX вв. Вып. 7. М., 2006.
ЦС с указанием номера тома – Царскосельская научная конференция. Материалы.
Джованни Баттиста Пиранези. Перекресток Виа Аппиа и Виа Ардеатина. Фронтиспис ко второму тому серии «Римские древности». 1753. Фрагмент
Примечания
1
Шелер М. Положение человека в Космосе [1928] // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 57.
(обратно)2
Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М. 1983. С.227.
(обратно)3
Лотман Ю.М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи, исследования, заметки. СПб., 2000. С. 251.
(обратно)4
См.: Руднев В.П. Морфология реальности: Исследование по «философии текста». М., 1996.
(обратно)5
Барт Р. Избр. работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 388.
(обратно)6
Пригожин И, Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986; Guattari F. Chaosmose. P., 1992; Можейко М.А. Хаосмос // Новейший философский словарь. Минск, 2002.
(обратно)7
Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М., 2002.
(обратно)8
Deleuze G. Guattari F. Rhizome. P., 1976; Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Имя розы. СПб, 2004. С. 629.
(обратно)9
Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 65–66.
(обратно)10
Башляр Г. Поэтика пространства. М., 2004.
(обратно)11
Топоров В.Н. Эней – человек судьбы. М., 2000.
(обратно)12
Гачев Г.Д. Национальные образы мира. М., 1988; Он же. Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос. М., 1998 и серия книг, посвященных конкретным культурам.
(обратно)13
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 25, 49–50.
(обратно)14
Соколов М.Н. Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж виртуального пространства. М., 2002. С. 11.
(обратно)15
Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
(обратно)16
Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Семиотика и искусствометрия. М., 1972.
(обратно)17
Шпенглер О. Закат Европы: Образ и действительность / Пер. Н.Ф. Гарелина. Новосибирск, 1993. Т. 1. С. 243, 429.
(обратно)18
Ортега-и-Гассет Х. О точке зрения в искусстве [1924] // Эстетика. Философия культуры. М., 1991. Цит. по: . Б/п;
(обратно)19
Шпенглер О. Указ. соч. С. 324; point de vue (фр.) – точка зрения.
(обратно)20
Panofsky E. Die Perspektive als symbolische Form // Vorträge der Bibliothek Warburg. 1924–1925. Berlin; Leipzig, 1927.
(обратно)21
Делёз Ж. Складка, Лейбниц и барокко / Общая ред. и послесл. В.И. По-дороги. Пер. с фр. Б.М. Скуратова. М., 1998; см. здесь же о многозначности французского понятия складка: Подорога В.А. Ж. Делёз и линия Внешнего.
(обратно)22
Габричевский А.Г. Героический пейзаж и искусство Киммерии // Он же. Морфология искусства. М., 2002. С. 302–309.
(обратно)23
Подорога В.А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: Сёрен Киркегор, Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер, Марсель Пруст, Франц Кафка. М., 1995. С. 17.
(обратно)24
Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007.
(обратно)25
Бродель Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М., 2002–2004. Ч. 1–2 (фр. изд. 1949–1976); Он же. Что такое Франция? М., 1994. Кн. 1. Пространство и история.
(обратно)26
Шенк Ф.Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней. Обзор литературы // НЛО. 2001. № 52; на славянском материале см., напр.: Groh D. Russland im Blick Europas. 300 Jahre historische Perspe ktiven. Frankfurt, 1988; Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпох и Просвещения. М., 2003 (англ. изд. 1994 г.); Bassin M. Imperial Visions. Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge, 1999; Neumann I.B. The Uses of the Other. «The East» in European Identity Formation. Minneapolis, 1999; Зеленева И.В. Геополитика и геостратегия России. XVIII – первая половина XIX в. СПб., 2005.
(обратно)27
Цивьян Т.В. Движение и путь в Балканской модели мира; см также: Злыднева Н.В. Художественная традиция в пространстве балканской культуры. М.,1991; Todorova M. Imagining the Balkans. New York, 1997.
(обратно)28
Топоров В.Н. Эней – человек судьбы. М., 2000.
(обратно)29
Евразийское пространство: Звук и слово. М., 2000; Культура и пространство. Славянский мир. М., 2005; Софронова Л.А. Культура сквозь призму поэтики. М., 2006, гл. «Пространство»; Она же. Три мира Григория Сковороды. М., 2002.
(обратно)30
Концепт движения в языке и культуре. М., 1996; Свирида 1999; Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М., 2003.
(обратно)31
Виртуальное пространство культуры. Материалы научной конференции. С.-Петербургское философское общество. СПб., 2000.
(обратно)32
См.: Claval P. La Géographie culturelle. P., 1995; Стрелецкий В.Н. Парадигмы геопространства и методология культурной географии // Гуманитарная география. М., 2004. Вып. 1; Замятин Д.Н. Пространство и культура. Моделирование географических образов. М., 2007.
(обратно)33
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 401–403.
(обратно)34
Л.-С. Мерсье писал, что «для усовершенствования того или другого таланта нужно подышать воздухом Парижа» («Картины Парижа». 1781–1788). Современные музыканты говорят, что достаточно пять лет походить по коридорам консерватории, чтобы стать музыкантом.
(обратно)35
Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2001. С. 81.
(обратно)36
См. также: Goody J. Entre oralité et l'écriture. P., 1993.
(обратно)37
Платон. Государство. М., 1994. С. 194.
(обратно)38
О переходе к формам художественной жизни Нового времени см.: Свирида 1978.
(обратно)39
Гадамер Г.Г. Указ. соч. С. 192.
(обратно)40
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 282–283.
(обратно)41
Вернадский В.И. Заметки философского характера разных лет. М., 1988. Т. 15. С. 292.
(обратно)42
Bachelard G. La poétique de lespace. Pаris, 1957. P. 169.
(обратно)43
Делёз Ж. Указ. соч. С. 51.
(обратно)44
Злыднева Н.В. Пространство парадоксов: близкое-далекое у А. Платонова и А. Тышлера // Культура и пространство.
(обратно)45
Последнее коснулось и пространства бытия культуры. В зрительном зале само его пространство, видовые точки порождают инверсию: социальные низы занимают верхнюю галерею (рус. – галерка с пренебрежительным оттенком, а также раек с уменьшительно-ласкательным – вероятно, социальный генезис этих лексем был разный). Показательны также различия названий этой части зала в разных языках, содержащие этническую и социальную характеристику зрителей, а также говорящие о характере поведения – амер. nigger heaven (негритянский рай); англ. Ethiopian paradise (эфиопский рай, ср. фр. paradis, польск. paradyz, рус. раек без этнических признаков, так как публика была однородной в этом отношении), peanut gallery (галерея для «незначительных, малоценных людей»), но также family circle (семейный круг). Во французском – это poulailler (курятник), аналогично в ит. – gallinero (курятник, также сутолока, гам); нем. Heuboden (сеновал), juch (ура! – возглас радости, припев веселых народных песен), но также Olimp как обозначение высоты, ит. piccionaia (голубятня), польск. jaskó łka (ласточка).
(обратно)46
Пастернак Л. Собр. соч. М., 1991. Т. 1. С. 670.
(обратно)47
Борхес Х.Л. Ex libris. СПб., 1992. С. 155.
(обратно)48
Вагинов К. Козлиная песня: Романы. М., 1991. С. 505.
(обратно)49
Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Избр. статьи. Таллинн, 1992. Т. 3; Он же. Семантика бытового поведения // История и типология русской культуры. СПб., 2002.
(обратно)50
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 100.
(обратно)51
Brown P. The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity // Idem. Society and the Holy in Late Antiquity. Berkeley; Los Angeles; L., 1989.
(обратно)52
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 22. В. Дильтей писал о конкретном времени протекания жизни. По аналогии можно говорить о конкретном пространстве, в котором протекает жизнь, чтобы избежать многозначности понятия реальное пространство.
(обратно)53
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. Цит. по: .
(обратно)54
Ортега-и-Гассет Х. О точке зрения в искусстве.
(обратно)55
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958; Гадамер Г.Г. Указ. соч. С. 66.
(обратно)56
Возникновение понятия традиция в современном значении этого слова прослеживается лексически. Латинское существительное trāditio, вошедшее в европейские языки, означало передача, в то время как глагол trādо, кроме основного значения передавать, вручать что-либо, употреблялся также в значении преподавать, сообщать. В дальнейшем прямые транзитные коннотации лексемы trāditio стерлись, на первый план выступило историзованное понятие преемственности. Отсюда в русском языке возникло выражение передача традиций, которая по лексической форме тавтологична (передача передачи). Так произошла языковая семантическая метаморфоза: лексема, обозначавшая прежде всего практическое действие, превратилась в понятие, обозначающее не просто передачу информации, а ее саму.
(обратно)57
Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. М., 1989. С. 46.
(обратно)58
Злыднева Н.В. «Пустое место» у Дж. Де Кирико и Д. Хармса // Италия и славянский мир. М., 1990. С. 97–101.
(обратно)59
Делёз Ж. Указ. соч. С. 50.
(обратно)60
Шелер М. Указ. соч. С. 57. Курс. Шелера.
(обратно)61
Топоров В.Н. О понятии места, его внутренних связях, его контексте (значение, смысл, этимология) // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996). М., 2004. С. 27; см. также: Tuan Yi-Fu. Space and Place. The perspective of Experience. Minneapolis, 1977; Idem. Topophilia: A study of environmental perception, attitudes, a. values. New York, 1990.
(обратно)62
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1997. С. 362.
(обратно)63
Ортега-и-Гассет Х. Что такое метафора. Цит. по: . О роли пространственных метафор в концептуализации языковых форм см.: Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004. Гл. 20.
(обратно)64
Толстая СМ. Категория признака в символическом языке культуры // Признаковое пространство культуры. М., 2002. С. д.
(обратно)65
Виноградова Л.Н. Ментальный образ ландшафта в народной культуре // Ландшафты культуры. Славянский мир. С. 45.
(обратно)66
Чаадаев П. Я. Соч. и письма. М., 1914. Т. 2. С. 173.
(обратно)67
Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) // Ноосфера и художественное творчество. М., 1991.
(обратно)68
Соколов М.Н. Мистерия соседства: К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999.
(обратно)69
Horrabin J.F. An Atlas of European history from the 2nd to the 20th century. L., 1935; Hay D. Europe: The Emergence of an Idea. Edinburgh, 1968; Gollwitzer H. Europabild und Europagedanke. München, 1964; Voyenne B. Histoire de l’idée européene. P., 1964; Boer P. den, Bugge P., Waever О. The history of idea of Europe. L., New York, 1995; Вульф Л. Указ соч.; Автопортрет славянина. М., 1999; Миф Европы в культуре Польши и России. М., 2004.
(обратно)70
Ср.: Reau L. Histoire de l’expansion de l’art français moderne. Le monde slave et l’Orient. P., 1924.
(обратно)71
Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 242.
(обратно)72
Свирида 1994. С. 124–150.
(обратно)73
Тананаева Л.И. Сарматский портрет: Из истории польского портрета эпохи барокко. М., 1979; Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002; Beauvois D. Trôjkąt ukraińskí. Lublin, 2006.
(обратно)74
Гачев Г.Д. Указ. соч.; Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI–XVIII веков. СПб., 1999.
(обратно)75
Свирида И.И. Искусство и утопия: год 2440 // Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002. С. 70–72.
(обратно)76
Шпенглер О. Закат Европы: Образ и действительность. Новосибирск, 1993. Т. 1. С. 499
(обратно)77
Lovejoy A.D., Boas G.A. Documentary History of Primitivism and Related Ideas on Classical Antiquity. Baltimore, 1936. P. 7. Цит. по: Баткин Л.М. Зарождение новоевропейского понимания культуры в жанре ренессансной пасторали («Аркадия» Якобо Саннадзаро) // Проблемы итальянской истории. М., 1983. С. 253.
(обратно)78
Шпенглер О. Указ. соч. С. 498.
(обратно)79
Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время («Фюзис» и «натура»). М., 1988.
(обратно)80
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 59.
(обратно)81
Цит. по: Эстетика Ренессанса. М., 1981. Т. 2. С. 320; Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004. С. 56–57; см. также: Природа в культуре Возрождения. М., 1992.
(обратно)82
Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986. С. 331–350.
(обратно)83
Паскаль Б. Мысли. СПб., 1888. С. 32.
(обратно)84
Дюрер А. Дневники, письма, трактаты / Пер. и коммент. Ц.Г. Несселштрау. Л.; М., 1957. Т. 2. С. 193.
(обратно)85
Николай Кузанский. Соч. М., 1979. Т. 1. С. 253.
(обратно)86
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 25.
(обратно)87
Лейбниц Г.В. Избр. философские произведения. М., 1980. С. 355.
(обратно)88
Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. С. 348; Гайденко П.П. Эволюция понятия науки XVII–XVIII вв. М., 1987. С. 1.
(обратно)89
Цит. по: Ахутин А.В. Указ. соч. С. 66.
(обратно)90
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
(обратно)91
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 113.
(обратно)92
Хесле В. Философия и экология. М., 1990.
(обратно)93
Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2000. С. 127.
(обратно)94
Дидро Д. Избр. соч. М., 1978. Т. 1. С. 201.
(обратно)95
Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976. С. 391.
(обратно)96
Boyceau de La Barauderie J. Traité du jardinage selon les raisons de la nature et de l’art. Цит. по: Wimmer C.A. Geschichte der Gartentheorie. Darmstadt, 1989. S. 108.
(обратно)97
Кассирер Э. Указ. соч. С. 222.
(обратно)98
Характерно, что один из первых фотографов, англичанин Фокс Тальбот, назвал альбом своих пейзажных фотографий «The Pencil of Nature» (Карандаш природы).
(обратно)99
Ehrard L. L’idee de nature en France dans la première moitié du XVIII-e siècle. P., 1963. P. 61.
(обратно)100
Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988. С. 192.
(обратно)101
Дидро Д. Соч. М., 1988–1991. Т. 1. С. 375.
(обратно)102
См.: Натура и культура. Славянский мир. М., 1997.
(обратно)103
Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć. W., 1975. S. 325–328.
(обратно)104
Мельников Г.П. Принцип аранжировки натуры в пластических искусствах // Натура и культура. Славянский мир. С. 94.
(обратно)105
Цивьян Т.В. Сад: природа в культуре или культура в природе? // Натура и культура: Тезисы конференции. М., 1993. С. 13–14. При этом сад необязательно был огороженным, как, например, сад корикийского старца в «Георгиках» Вергилия – один из первообразов топоса сада (см.: Цивьян Т.В. Verg. Georg. IV. 116–148: к мифологеме сада // Текст: семантика и структура. М., 1983). Ограда могла быть скрыта, что не отменяет «выделенности» сада из необработанного природного пространства.
(обратно)106
Соколов М.Н. Ренессансно-барочные архетипы усадебного зодчества // Русская усадьба. М., 2003. Вып. g (25).
(обратно)107
В 1872 г. был создан первый такого типа Yellowstone National Park (США).
(обратно)108
Цит. по: Ахутин А.В. Указ. соч. С. 5.
(обратно)109
Спиноза Б. Избр. произв. М., 1957. Т. 1. С. 455.
(обратно)110
Гачев Г.Д. Культура очами природы // Натура и культура. С. 26.
(обратно)111
Хесле В. Указ. соч. С. 54.
(обратно)112
Цит. по: .
(обратно)113
Франк С. Природа и культура. М., 1910. Цит. по: Эон. М., 1994. С. 45, 47,50.
(обратно)114
Вернадский В.И. Размышления натуралиста. М., 1977. Кн. 2: Научная мысль как планетное явление. С. 22.
(обратно)115
Николай Кузанский. Указ. соч. С. 189.
(обратно)116
Иванов Вяч. Всев. Наука о человеке: Введение в современную антропологию. М., 2004. С. 71–98.
(обратно)117
Gieysztor-Miłobędzka Е. Natura, nauka, sztuka – nowy paradygmat // Sztuka a Natura. Katowice, 1991.
(обратно)118
Gombrich E.H. Image and Code: Scope and Limits of Conventionalism in pictorial representation // Image and Code / Ed. W. Steiner. Ann Arbor 1981; Гомбрих Э.Г. Амбивалентность классической традиции: психология культуры Аби Варбурга // НЛО. 1999. № 79. См. также: Gieysztor-Miłobędzka Е. Op. cit. S. 17.
(обратно)119
Топоров В.Н. Пространство и текст // Из работ московского семиотического круга. М., 1997. С. 474–481.
(обратно)120
Дженкс Ч. Новая парадигма в архитектуре -2.narod.ru/ae/ad39.html.
(обратно)121
Всемирная энциклопедия. Философия. М.; Минск, 2001. С. 1141, И75.
(обратно)122
Одоевский В.Ф. 4338-й год: Петербургские письма // Русская фантастическая проза эпохи романтизма. Л., 1991.
(обратно)123
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 313.
(обратно)124
Хокинг С. Рождение и гибель Вселенной // Краткая история времени. М., 2003. .
(обратно)125
Иоанн экзарх Болгарский. Шестоднев. Цит. по: . Б/п.
(обратно)126
Цит. по: Хождения во Флоренцию. Флоренция и флорентийцы в русской культуре. Из века XIX в век XXI / Под ред. Е. Гениевой, П. Баренбойма. М., 2003. С. 526.
(обратно)127
Гессе Г. Избранное. М., 1991. С. 39.
(обратно)128
Holl E.N. The Hidden Dimension [1966]. Цит. по: Antropologia kultury // Zagadnienia i wybór tekstów / Wstęp i red. A. Mencwel. W., 2000. S. 66
(обратно)129
Подорога В.А. Метафизика ландшафта: Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX–XX вв. М., 1993. С. 3–4.
(обратно)130
Цит. по: Подорога В.А. Указ. соч. С. 236.
(обратно)131
Мандельштам О.Э. Разговор о Данте // Собр. соч. М., 1994. Т. 3. С. 259.
(обратно)132
Цит. по: Черная Л.А. Взгляд на человеческую природу в древнерусской литературе // Древнерусская литература. Изображение природы и человека. М., 1998. С. 132.
(обратно)133
Bentkowska A. Antropomorphic Landscapes in 16th and 17th century Western Art // Biuletyn historii sztuki. 1997. R. LIX. № 1–2. S. 69–81; Тананаева Л.А. Рудольфинцы: Пражский художественный центр на рубеже XVI–XVII вв. М., 1996.
(обратно)134
Мандельштам О.Э. Собр. соч. М., Т. III. С. 237.
(обратно)135
Шпенглер О. Закат Европы: Образ и действительность. Новосибирск, 1993. Т. 1. Гл. 5.
(обратно)136
Трубников А.А. Моя Италия. Наброски переживаний. СПб., 1908. Цит. по: Хождения во Флоренцию. Далее флорентийские тексты цитируются по этой антологии.
(обратно)137
Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994. С. 405, 406.
(обратно)138
Понятие культурный ландшафт (cultural landscape, paysage culturel) традиционно используется в географии как базовое и закреплено в качестве оценочного для обозначения одного из объектов культурного наследия, подлежащих охране ЮНЕСКО (1992); в различных направлениях «новой» географии понятие культурный ландшафт (как и собственно ландшафт) приобрело многозначность. См., в частности: Родоман Б.Б. Культурный ландшафт // Культурная география. Альманах. М., 2007. Вып. 1. С. 306–307.
(обратно)139
См.: Луппов С.П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII в. М.; Л, 1957; Янгфельдт Б. Шведские пути в Санкт-Петербург. СПб., 2003. С. 45–53. Там же легенды об основании Петербурга и литература вопроса; см. также: Кепсу С. Петербург до Петербурга: История устья Невы до основания города Петра. СПб., 2000; От шведского поселения к российской столице. Каталог выставки. СПб., 2003.
(обратно)140
В связи с этим см.: Жервэ А. Мера Святого Гроба Господня. Традиция перенесения святыни на Руси в XII–XVII вв. // София (Новгород). 2001. № 1; Громова Е.Б. Модуль сакрального пространства // Культура и пространство. Славянский мир. М., 2004.
(обратно)141
Софронова Л.А. Небесный ландшафт в старинном театре (рукопись).
(обратно)142
См., например: Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. М., 2002. С. 192–204; Злыднева Н.В. Балканская Атлантида. Ландшафтные метафоры в романе Д. Угрешич «Форсирование романа-реки» // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007.
(обратно)143
Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) // Ноосфера и художественное творчество. М., 1990.
(обратно)144
Kern H. Labyrinth. München, 1982.
(обратно)145
Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1990; Гачев Г.Д. Ландшафт и религия // Ландшафты культуры. Славянский мир.
(обратно)146
Мельников Г. П. Историко-ландшафтная оптика чешского барочного патриотизма // Там же.
(обратно)147
Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М., 2003. С. 244–317.
(обратно)148
Петрухин В.Я. Иеротопия русской земли и начальное летописание // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., 2006. С. 480.
(обратно)149
Курган – насыпное сооружение, поэтому русский перевод «посреди широкой степи выройте могилу» не вполне адекватен; ср. рус. могильник; однако в польск. mogiła – это и углубление в земле, и насыпь.
(обратно)150
Siemieński L. Ogrody w historii i w poezji // Siemieński L. Dzieła. W., 1881. T. III. S. 112–113.
(обратно)151
Цит. по: Mączak A. Odkrywanie Europy. Gdańsk, 1998. S. 78.
(обратно)152
Соколов М.Н. Время и место: Искусство Возрождения как перворубеж виртуального пространства. М., 2002. С. 193–219.
(обратно)153
Бродский И.А. В горах // Холмы. СПб., 1991. С. 327, 330.
(обратно)154
Casey Ed. Representing Place: landscape painting and maps. Minneapolis; L., 2002. Антверпенской гильдией Святого Луки раскрашенные гравированные географические карты были признаны в качестве самостоятельного вида искусства.
(обратно)155
Соколов М.Н. Время и место. С. 199. Он же. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999, passim.
(обратно)156
Мозес ван Уйтенбрук, работавший в Риме голландский гравер XVII в., изображал виды Кампаньи, дополняя их сочиненными руинами гигантских башен и обелисков. См.: Сергеев К.В. В поисках идеального ландшафта: голландская пейзажная гравюра XVII века // Антиквар. 2006. № 4.
(обратно)157
Топоров В.Н. Пуп земли // Мифы народов мира. М., 1988. Т. 2. С. 350.
(обратно)158
В качестве такового в 1775 г. Ш.А. Соберайский, геодезист польского короля Станислава Августа Понятовского, определил Суховолю в польском Полесье, что увековечено не очень выразительным современным памятником, который служит туристической достопримечательностью.
(обратно)159
Первоначально в этой роли выступало слово ландшафт. Смысловая двойственность, сложившаяся в русском языке в результате употребления двух лексем – ландшафт (с XVIII в, от нем. Landschaft) и пейзаж (от фр. paysage, что распространилось в XIX в.), породила проблему их различения. В романо-германских литературах не возникает вопроса о «пейзажных» и «допейзажных» формах в искусстве, речь идет лишь о разных исторически развивавшихся типах изображения природы. В материнских языках Landschaft и paysage (как и англ. landscape) первоначально означали местность, вид местности, а в дальнейшем приобрели второе значение – изображение ее в картине; в немецком при этом добавилось уточнение – Landschaftsmalerei. У Даля ландшафт – это «сельский вид или рисунок с него; пейзаж, видопись, вид, изображение местности», аналогично определяется пейзаж. Понятие ландшафт в смысле пейзаж в живописи в русском языке давно устарело. В польском языке также устаревшее landszaft означает пейзажный кич, массовую рыночную пейзажную продукцию, а для обозначения живописного изображения употребляется полонизированное слово krajobraz, однако его автор именуется pejzażysta. «В испанском и французском языках XVI–XVII веков „пейзаж“ (исп. – pais, paisaje) означает прежде всего не картину, а протяженность… самой местности, „которая видится с какой-либо точки и открывается взгляду целиком“, а уже потом, как второе значение – изображение ее на картине. Слово пейзаж (pais) употребляется также в значении „страна, местность, территория, область“ вообще – то есть нечто, по определению протяженное» (Озерков Д.Ю. Неестественная природа. Испанский пейзаж XVII века // Метафизические исследования. СПб., 2000. Вып. XIII: Искусство. Цит. по: , б/п). См. также: Der Grosse Duden. Etimologie. Mannheim, 1963. S. 385. Голландское слово landschap, первоначально англизированное как landskip (позднее landscape), означало не сам ландшафт, а его описание или изображение (Hunt J.D. The picturesque Garden in Europe. L., 2004. P. 14).
(обратно)160
Хождения во Флоренцию. С 21.
(обратно)161
См.: Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Соседи России. Польша, Литва. Эстония. М., 2003. С. 144–148.
(обратно)162
См.: Виноградова Л.Н, Усачева В.В. Береза // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. M., 1995.
(обратно)163
Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002. С. 303.
(обратно)164
Шефтсбери. Эстетические опыты. М.,1975. С. 203; см. также: Ландшафты культуры. Славянский мир.
(обратно)165
Павел Иовий Иоанну Руфу, архиепископу Консентийскому / Пер. М. Михайловского // Библиотека иностранных писателей о России. СПб., 1836. Т. 1. С. 22.
(обратно)166
Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе / Изд. подгот. Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников. М., 1992. С. 188.
(обратно)167
Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика. М., 1983. Т. 1. С. 259.
(обратно)168
О первых руинах в английских садах см.: Fleming L., Gore A. The English garden. L., 1979. P. 125.
(обратно)169
См.: Аrbor Mundi. Мировое древо. М., 2000. Вып. 7; Тема руин в культуре и искусстве // Царицынский научн. вестн. М., 2003. Вып. 6; Нащокина М.В. Русские сады. С. 144–150.
(обратно)170
Цит. по: Герчук Ю.Я. Руины в баженовском проекте Екатерингофского дворца // Тема руин. С. 147.
(обратно)171
Краснобаева М.Д. Руины в рисунках воспитанников Сухопутного шляхетского кадетского корпуса середины XVIII в. из собрания ГМУ «Архангельское» // Там же. С. 79–88.
(обратно)172
Протопоп Аввакум. Книга бесед // Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Под ред. Н.К. Гудзия. М., 1960. С. 86.
(обратно)173
Из писем А.Я. Булгакова к отцу его // Русский архив. 1899. № 1. С. 169.
(обратно)174
Шефтсбери. Указ. соч. С.203.
(обратно)175
Муратов П.П. Указ. соч. С.201.
(обратно)176
Дюбо Ж.Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., …76. С. 391.
(обратно)177
Чекалевский П.П. Рассуждение о свободных художествах М., 1997. С. 14 (репринт первого изд. 1792 г.).
(обратно)178
См.: Филатова Н.М. Идея географического детерминизма в Польше. Просвещение и романтизм // Ландшафты культуры. Славянский мир.
(обратно)179
Ritter K. Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte der Menschen. Вerlin, 1822–1859. Bd. 1–19; Риттер К. Введение ко всеобщему сравнительному землевладению (i8i8) / Предисл. Д. Замятина // Гуманитарная география. М., 1966. Вып. 3. С. 272.
(обратно)180
Кюстин Астольф де. Россия в 1839 году. М., 1996. Т. 2. С. 136; см. также: Гачев Г.Д. Национальный априоризм в представлениях путешественника о чужеземье: француз де Кюстин и болгарин Радичков едут в Россию // Культура и пространство. Славянский мир; Свирида И.И. Российский ландшафт в иностранных текстах: от Герберштейна до Кюстина // Россия: воображение пространства / пространство воображения. М., 2009.
(обратно)181
Витвер И.А. Французская школа географии человека // Избр. соч. М.,1998.
(обратно)182
Геттнер А. География: Ее история, сущность и методы / Ред. и вступ. ст. Н.Н. Баранского. Л.; М., 1930. С. 113.
(обратно)183
См.: Duncan J.S. The Superorganic in American Cultural Geography // Annals of the Association of American Geographers. ig8o. Vol. 70; Claval P. La géographie culturelle et l’espace // Perspectives. 2006. Sept. 16. P. 119–144; Idem. La Géographie culturelle. P., 1995; Замятин Д. Феноменология географических образов // НЛО. 2000. № 46; Стрелецкий В.Н. Парадигмы геопространства и методология культурной географии // Гуманитарная география. М., 2004. Вып. 1.
(обратно)184
См.: Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2002; Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство и язык географических образов. М., 2003; Он же. Метагеография. М., 2004; Митин И.И. Комплексные географические характеристики: Множественные реальности мест и семиозис пространственных мифов. Смоленск, 2004; сборники статей «География искусства» / Отв. ред. Ю.А. Веденин. М., 1996–2005. Вып. 1–4; Гуманитарная география. М., 2004–2007. Вып. 1–4.
(обратно)185
См.: Гумилев Л.Н. Гуманитарные и естественно-научные аспекты исторической географии // Ноосфера и художественное творчество. М., 1991.
(обратно)186
Топоров В.Н. О «поэтическом» комплексе моря и его психофизических основах // История культуры и поэтика. М., 1994; Он же. «Геоэтнические» панорамы в аспекте связей истории и культуры (к происхождению и функциям) // Культура и история. Славянский мир. М., 1997; Он же. Эней – человек судьбы. М., 2000; Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003.
(обратно)187
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 96–97.
(обратно)188
Kuncewicz M. Dobry i pobożny ziemanin. W., 1640. Цит. по: Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002. С. 119.
(обратно)189
См.: Borsch-Supan Е. Garten-, Landschafts– und Paradiesmotive in Innen-raum. Eine ikonografi sche Untersuchung. Berlin, 1967. S. 15–18.
(обратно)190
Филон Александрийский. О сотворении мира согласно Моисею / Пер. и коммент. А.В. Вдовиченко // Филон Александрийский. Толкования Ветхого Завета. М., 2000. С. 153. Из текста следует, что Филон отделял Древо познания от Древа жизни.
(обратно)191
Gascar P. Les secrets de Maître Bernard. P., 1980; Lecoq A.-M. The Garden of Wisdom of Bernard Palissy // The History of Garden Design / Ed. M. Mosser, G. Teyssot. L., 1991; Чекалов К. Кабинет в саду в интерпретации Ф. Бероальда де Вервиля.
(обратно)192
Мельников Г.П. Историко-ландшафтная оптика чешского барочного патриотизма // Ландшафты культуры. Славянский мир. М., 2007. С. 105–112.
(обратно)193
Der Große Duden: Etymologie. Mannheim, 1963. S. 198,490.
(обратно)194
McCIung W.A. The architecture of Paradise. The survivals of Eden and Jerusalem. L., 1983. P. 2, 7.
(обратно)195
Мильтон Дж. Потерянный Рай / Пер. Арк. Штейнберга. М.,1982. С.108.
(обратно)196
Curtius E,R. La littérature européenne et le Moyen Âge Latin. Paris, 1956; Dinzellbacher P. Vizion und Kunst im Mittelalter. Darmstadt, 2000.
(обратно)197
Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев; М., 1997. С. 188.
(обратно)198
Алексеев А И. Представления о рае в период Средневековья // Образ рая: от мифа к утопии. СПб., 2003. С. 198; Давидова М.Г. Иконы «Страшного суда» XVI–XVII вв. -slovo.ru/art/35909.php.
(обратно)199
Назиратель / Изд. подг. В.С. Голышенко, Р.В. Бахтурина, И.С. Филиппова. М., 1973. С. 44–1.
(обратно)200
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 218–219.
(обратно)201
Lamarche-Vadel G. Jardins secrets de la Renaissance. Des astres, des simples et des prodiges. P., 1997.
(обратно)202
Мильтон Дж. Указ соч. Кн. IV. С. 132; см. также с. 000
(обратно)203
Hammerschmidt V., Wilke J. Die Entdeckung der Landschaft. Englische Gärten des 18. Jahrhunderts. Stuttgart, 1990. S. 142.
(обратно)204
Латинизированное название места первого картезианского (иначе картузианского) монастыря в Шартрёз (Великая Шартреза. Франция).
(обратно)205
Héré Е. Recueil de plans, elevation et coup… de châteaux, jardins et dependences… que le roy de Pologne occupe en Lorraine… P., 1750.
(обратно)206
Флоренский П.А. Указ. соч. Т. 2. С. 280.
(обратно)207
Хилл К. Английская Библия и революция XVII века. М., 1998. С. 151, 170.
(обратно)208
Pevsner N. Historia architektury europejskiej. W., 1–80. T. 2. S. 197; см. также: Buttlar A. vоn. Der englische Landsitz. 1715–1760. Symbol eines liberalen Weltentwurfs. Mittenwald, 1982.
(обратно)209
Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко. М., 1991. С. 167.
(обратно)210
Pückler-Muskau G. Andeutungen über Landschaftsgartnerei. Stuttgart, 1834. S.355.
(обратно)211
Delumeau J. Le Paradis. P., 2001.
(обратно)212
Цивьян ТВ. К семиотической интерпретации мотива лестницы-«лесенки» в античной вазописи (вокруг Адониса и Диониса) // Исследования по структуре текста. М., 1987.
(обратно)213
Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1. С. 129.
(обратно)214
Юнг К.Г. Душа и миф С. 217.
(обратно)215
Топоров В.Н. Древо мировое // Мифы народов мира. Т. 1. С. 398.
(обратно)216
Gothein M.L. Geschichte der Gartenkunst. Jena, 1926. Bd. 1. S. 43.
(обратно)217
Reiner R. Die Welt als Garten. Graz, 1979.
(обратно)218
Топоров В.Н. Древо мировое. С. 404.
(обратно)219
Grimm R.R. Paradisus Celestis. Paradisus Terrestris. Zur Auslegung-sgeschichte des Paradieses im Abendland bis um 1200. München, 1977.
(обратно)220
Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный. Предисловие ко благочестивому читателю (1678) // Избр. соч. М.; Л., 1953. С.206.
(обратно)221
Лихачев 1991. C. 43–44; Сазонова Л.И. Указ. соч. Глава V.
(обратно)222
Switzer S. Ichnographia Rustica. L., 1718. Цит. по: Wimmer C.A. Ges chichte der Gartentheorie. Darmstadt, 1989. S. 415; Hunt J.D. The Figure in the Landcape: Poetry, Painting, and Gardening during the Eighteenth Century. Baltimore, 1976. P. 9.
(обратно)223
Hèain L. LHomme et les plantes cultivées. P., 1946. P. 90.
(обратно)224
«Рай и сад изначально были неразрывно связаны между собой, и сад был не вторичным метафорическим значением рая, а, скорее, конкретным образным воплощением рая как более абстрактного понятия» (Бондарко Н.А. Сад, рай, текст: аллегория сада в немецкой религиозной литературе позднего Средневековья // Образ рая: от мифа к утопии. СПб., 2003. Вып. 31. С. 12).
(обратно)225
Picinelli F. Mundus Symbolicus, in Emblematum Universitate Formatus, Explicatus, et tam Sacris… Köln, 1687. Bd. 1. (Reprint: Hildesheim 1979. Vorwort von D. Donat).
(обратно)226
См.: Szafrańska M. La nostalgie retrouvée // Les Cahier de Varsovie. 1985. № 12. P. 138.
(обратно)227
Majewska-Maszkowska B. Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736–1816). Wrocław etc., 1976.
(обратно)228
Цит. по: Lamarche-Vadel G. Op. cit. P. 45.
(обратно)229
Цит. по: Chastel A. Marsile Ficin et l’art. Genève, 1975. P. 10.
(обратно)230
Сазонова Л.И. Указ. соч. С. 167–169; Симеон Полоцкий. Указ. соч. С. 205–206.
(обратно)231
Принц де Линь 1809. Т. 4, ч. 8. С. из; см. также: Свирида 1994. С. 101–123.
(обратно)232
Ford G. H. Felicitous space // The History of Garden Design. P. 42.
(обратно)233
Niedermeier M. Erotik in der Gartenkunst. Leipzig, 1995.
(обратно)234
См.: Clark К Landscape into Art. L., 1991. P. 3.
(обратно)235
Admirables secrets d’Albert le Grand contenant un traité sur les vertus des herbes, pierres précieuses[…]. P., 1850.
(обратно)236
Топоров В.Н. Мандала // Мифы народов мира. Т. 2. С. 101.
(обратно)237
Юнг К.Г. Человек и его символы. М., 1998. С. 239.
(обратно)238
Мильтон Дж. Указ. соч. С.109.
(обратно)239
Wimmer С.А. Op. cit. S. 419.
(обратно)240
Niedermeier M. Op. cit. S. 118,114.
(обратно)241
Цит. по: Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. М., 2002. С. 337.
(обратно)242
Свирида 2006.
(обратно)243
Бенуа А. Версаль. Пг., 1922. С. 15.
(обратно)244
Послание Василия Калики о рае. Цит. по: -slovo.ru/.
(обратно)245
Кет H. Labyrinthe. München, 1999. S. 28,328–329,359–360.
(обратно)246
Krasicki I. Listy o ogrodach // Dzieła prozą. W., 1803. S. 360.
(обратно)247
Тучков И. От приюта охотников – к загородной резиденции. Регулярный парк виллы Ланте в Баньянйя // Искусствознание. 2001. № 1. С. 213.
(обратно)248
Цит. по: Wimmer С.А. Op. cit. S. 10.
(обратно)249
Эразм Роттердамский. Разговоры запросто / Пер. С. Маркиша. М., 1969. С. 77–78.
(обратно)250
Мильтон Дж. Указ. соч. С. 111.
(обратно)251
Топоров В.Н. Эней – человек судьбы. М., 1993. С. 44.
(обратно)252
Римлянам луковицы лилии служили пищей, благодаря чему этот цветок распространился по Европе во времена их завоевательных походов.
(обратно)253
Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. Л., 1976. С. 97.
(обратно)254
Novalis. Werke und Briefen. München, 1962. S. 277.
(обратно)255
Gothein M.L. Op. cit. S. 6.
(обратно)256
Хайдеггер М. Искусство и пространство // Время и бытие. М., 1993. С. 314.
(обратно)257
Элиаде М. Указ. соч. С. 104.
(обратно)258
Гадамер Г.Г. Миф и разум // Он же. Актуальность прекрасного. М., 1991 С.99.
(обратно)259
Зачало Великого царства Московского. Цит. по: Салмина М.А. Повести о начале Москвы. М., 1964. С. 193.
(обратно)260
Виноградова Л.Н. Граница как особая пространственная категория в народной культуре // Культура и пространство. Славянский мир. М., 2004.
(обратно)261
Эко У. Эволюция средневековой эстетики. Введение. Цит. по: lib.aldebaran.ru/author. Б/п.
(обратно)262
Цит. по: Елеонская А.С. «Древесные образы» в произведениях древнерусской литературы // Древнерусская литература: Изображение природы и человека. М., 1995. С. 5–6.
(обратно)263
См.: Клаутова О.Ю. Западноевропейское искусство глазами русских путешественников XV–XVII вв. // Труды Отд. древнерусской литературы. 1996. Т. 49; Она же. Восприятие отечественной архитектуры в Древней Руси по данным литературы XI–XIII вв. // Там же.
(обратно)264
Аверинцев С.С. Другой Рим. Избр. статьи. СПб., 2005. С. 331.
(обратно)265
См.: Топоров В.Н. Гора // Мифологический словарь. М., 1991. Т. 1. С. 311–315.
(обратно)266
Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. М., 2002. С. 107.
(обратно)267
Эволюция изображений лещадок в древнерусском искусстве прослежена в кн.: Щепкин В.Н. Русская палеография. М., 1967. С. 97. Благодарю В.С. Голышенко, обратившую мое внимание на эту книгу и издания по русской лексикографии, а также консультации по этим вопросам.
(обратно)268
Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII в. М., 1978. Цит. по: Древнерусская литература. Антология. http://old-rus.narod.ru
(обратно)269
Топоров В.Н. «Геоэтнические» панорамы в аспекте связей истории и культуры (к происхождению и функциям) // Культура и история. Славянский мир. М., 1997. С. 21.
(обратно)270
Протопоп Аввакум. Книга бесед. Цит. по: Ужанков А.Н. Эволюция пейзажа в русской литературе XI – первой трети XVIII в. // Древнерусская литература: Изображение природы и человека. С. 6д; см. также: Демин А.С. К вопросу о пейзаже в «Слове о полку Игореве» // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.
(обратно)271
Кирилл Туровский. Слово в новую неделю по Пасце. Цит. по: Русская цивилизация. . Б/п.
(обратно)272
См. также: Образ рая: от мифа к утопии. СПб., 2003.
(обратно)273
См. с. 000 и примеч.; см. также: Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., 2006.
(обратно)274
Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Он же. Семиосфера. СПб., 2000. С. 240.
(обратно)275
Применялись объективизированные меры, как верста, и постоянно колеблющиеся: количество дней пути, расстояние полета стрелы. См.: Малето Е.И Антология хождений русских путешественников XII–XV века. М., 2005. С. 106–112.
(обратно)276
Топоров В.Н. «Гео-этнические» панорамы… С. 27, 50.
(обратно)277
См.: Ужанков А.Н. Указ. соч., passim.
(обратно)278
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Под ред. Н.К. Гудзия. М., 1960. С. 89–90.
(обратно)279
Бондаренко И.А. Усадьба и город в Древней Руси // Архитектура русской усадьбы. М., 1998. С. 25.
(обратно)280
Забелин И.Е. Московские сады в XVII столетии // Забелин И. Опыт изучения русских древностей и истории. М., 1873. Ч. 2. С. 266–321. Образ древнерусского сада как эстетического пространства представлен в кн.: Лихачев Д.С. Поэзия садов. Л., 1982.
(обратно)281
См.: Бусева-Давыдова И.Л. Царские усадьбы XVII в. и их место в истории русской архитектуры // Архитектура русской усадьбы.
(обратно)282
Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме III о Московии / Пер. с лат. А.И. Станкевича // Утверждение династии. М., 1997. С. 306.
(обратно)283
Хождение Агапия в Рай. Цит. по: – sicbibl/. Б/п.
(обратно)284
Свирида И.И. Сады в иностранных текстах о России XVIII века: древнерусская традиция и Версаль // Плантомания. Русский вариант. XII ЦС. СПб., 2006. С. 352–354.
(обратно)285
Фоккеродт И.Г. Россия при Петре Великом // Неистовый реформатор. М., 2000. С. 81.
(обратно)286
См.: Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 325, там же ссылка на источник.
(обратно)287
Кантемир А. Сатира I на хулящих учение. К уму своему // Русская поэзия XVIII века. М., 1972. С. 65, 70. Далее, если особо не оговорено, стихотворения цитируются по этому изданию.
(обратно)288
Дубяго Т.Б. Русские регулярные сады и парки. Л., 1963. С. 44.
(обратно)289
Среди обширной литературы см.: Турчин В.С., Шередега В.И. В окрестностях Москвы. Из истории русской усадебной культуры XVII–XIX вв. М., 1979; Русская усадьба. М., 1994–2007. Вып. 1-14 (1-30); Мир русской усадьбы. М., 1995; Щукин В.Г. Миф дворянского гнезда: Геокультурологическое исследование по русской классической литературе. Kraków, 1997; Архитектура русской усадьбы. М., 1998; Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. 2003; Сельская усадьба в русской поэзии XVIII – начала XIX в. / Изд. подг. Е.П. Зыковой. М., 2005; Нащокина М.В. Русские сады XVIII – перв. пол. XIX в. М., 2007.
(обратно)290
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. XI–XIV вв. М., 2003. Т. II. С. боб; Т. III. С. 241–242.
(обратно)291
Crescenzi Pietro de. Ruralia Commodora. Рус. пер. XVI в. впервые опубл. в: Назиратель / Изд. подг. В.С. Голышенко, Р.В. Бахтурина, И.С. Филиппова. М., 1973; см. также: Агрикультура в памятниках западного средневековья. М.; Л., 1936.
(обратно)292
См.: Голышенко В.С. Введение // Назиратель. С. 7–8. Далее цит. с. 169.
(обратно)293
См: Gloger Z. Encyklopedia staropolska. Reprint. W., 1972. T. IV. S. 440.
(обратно)294
Раппопорт П.А. Русское шатровое зодчество конца XVI в. // Материалы и исследования по археологии Москвы. М.; Л., 1949.
(обратно)295
См.: Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко. М., 1991. С. 187–222.
(обратно)296
Забелин И. Указ. соч. С. 10–11.
(обратно)297
«Епистола к…». Цит. по: Сельская усадьба в русской поэзии. С. 53. Там же указание на Гребнево (с. 55). По этой же антологии далее цитируются стихотворения Болотова, Муравьева и Шаликовой (с. 204, 255, 258–259).
(обратно)298
Кондаков Н.П. Русская икона. Прага, 1933. Т. 4, ч. 2. С. 297.
(обратно)299
Хождение на флорентийский собор // ПЛДР. XIV – середина XV века. М., 1981.
(обратно)300
Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки / Отв. ред. Д.С. Лихачев. М.; Л., 1954. С. 119. Возможно, что Василий III сходным образом принимал послов (см.: Герберштейн С. Записки о московитских делах / Пер. И. Анонимова // Россия XVI в. в воспоминаниях иностранцев. Смоленск, 2003. С. 235).
(обратно)301
Путешествия русских послов. С. 295, 315. Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева) / Публ. И.С. Шарковой. Л., 1972; Свирида 2006.
(обратно)302
См.: Лихачев 1991; Горбатенко С.Б. Петергофский Монплезир – плод немецких ассоциаций Петра I // Россия-Германия: Пространство общения. X ЦС. СПб., 2004; Капустина И.В. Усадьба Кусково в контексте европейских парадных резиденций // Русская усадьба. Вып. 9. С. 168; Аронова А. Сады Петра Великого: Личная страсть и государственная целесообразность // Искусствознание. 2001. № 1. С. 265; Свирида 2006; Нащокина М.В. Итальянские аллюзии в русских садах XVII – начала XIX века // Плантомания. Русский вариант. XII ЦС. СПб., 2006.
(обратно)303
Бусева-Давыдова И.А. Царские усадьбы XVII в. С. 25. 41–42.
(обратно)304
Белокуров С.А. О библиотеке московских Государей в XVI столетии. М., 1898. С. 35.
(обратно)305
См.: Куракин Б.И. Дневник и путевые заметки кн[язя…] // Архив князя Ф.А. Куракина / Под ред. М.И. Семевского. СПб., 1890. Кн. 1. С. 107 (о посещении Верок); Юрнал 1706 […]1709 годов. № 12–15. СПб., 1854. 1709 г. 29 сентября (о посещении Вилянова); Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). (Пруссия, Франция, Швеция). М., 1902. ч. 4. С. 87 (о посещении Яворова). Об этих резиденциях Собеского см.: Свирида 1994. С. 40–41; см. также: Она же. Федор Глинка в садах Изабелы Любомирской // Studia polonorossica. M., 2003.
(обратно)306
«Штуковатые», т. е. искусные; от польск. sztuka – искусство.
(обратно)307
См.: Елеонская А.С. Указ. соч.
(обратно)308
Цит. по: Чиколини Л.С. Кампанелла о Московском государстве // Россия и Италия. М., 1993. С. 75.
(обратно)309
О роли гор, в частности Альп, в европейской культуре см.: Woźniakowski J. Góry niewzruszone: o różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej. Kraków, 1995.
(обратно)310
Ранее, в 1684 г., Томас Барнет писал, что Бог создал Альпы как контраст своему саду – Италии. См.: Hammerschmidt V., Wilke J. Die Entdeckung der Landschaft. Englische Gärten des 18. Jahrhunderts. Stuttgart, 1990. S. 129.
(обратно)311
Демидов Н. А. Журнал путешествия… по иностранным государствам с… 1771 года. М., 1786. С. 73.
(обратно)312
В том же костюме и сходной позе Державин изображен в наброске А.Е. Егорова (ГРМ). В нем нет пейзажного фона, а за спиной поэта представлена Фама, подлетевшая с трубой славы к доске, которая укреплена на постаменте и на которой эта богиня Молвы делает надпись. Сибиряков вряд ли зная этот рисунок, а скорее следуя иконографии парадных полотен, приказал дополнить его изображением амура с трубой и выходящей из ее раструба надписью: «Дай Бог побольше таких [поэтов]». В 1870 г. польский ссыльный художник С. Вронский, убрав амура, дописал на месте снежной равнины вид Иркутска (об истории портрета см.: Радченко Ю. Иркутский портрет итальянца Тончи. ). Сохранилась авторская реплика державинского портрета в его первоначальном виде (ГТГ, с 2003 г. в Музей Державина в Петербурге). В зимнем горном ландшафте Тончи изобразил и Н.Н. Демидова (ГРМ).
(обратно)313
Буслаев Ф.И. Иллюстрация стихотворений Державина / Мои досуги. М., 1886. Ч. 2.
(обратно)314
Рябинина Е.П. Пространство «Хождения» игумена Даниила (XIII век) // География искусства. М., 2005. С. 76–81.
(обратно)315
Лихачев Д С. Великое наследие // Избр. работы. Л., 1987. Т. 2. Цит. по: / Б/п.
(обратно)316
Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы // Избр. труды. СПб., 2003.
(обратно)317
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова. М., 1986. С. 88–89.
(обратно)318
Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 13, 26. Далее цит. с. 133–134, 5, 9, и.
(обратно)319
Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 198.
(обратно)320
Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII–XIX века. М., 1853. С. 97–111.
(обратно)321
Швидковский Д.О. Просветительская концепция среды в русских дворцово-парковых ансамблях второй половины XVIII в. // Век Просвещения: Россия и Франция. М., 1988. С. 186.
(обратно)322
«Трудно себе представить что-либо более русское, чем пастушок Венецианова, но этому не противоречит, что мотив спящего под деревцем мальчика напоминает пасторали в венецианской живописи Возрождения» (Алпатов М.В. О „натуре простой" и „натуре изящной". Крестьянские образы в раннем творчестве Венецианова // Этюды по истории русского искусства. Т. 2. ).
(обратно)323
Цит. по: Карамзин Н.М. Письмо в «Зритель» о русской литературе // Письма русского путешественника. С. 456.
(обратно)324
Делёз Ж. Складка, Лейбниц и барокко / Общая ред. и послесл. В.А. По– дороги. Пер. с фр. и примеч. Б.М. Скуратова. М., 1997, примеч. к с. 53.
(обратно)325
Топоров В.Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 128.
(обратно)326
Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен: Россия семнадцатого столетия. М., 2009. С. 177.
(обратно)327
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 97.
(обратно)328
Цит. по: Рождественская М.В. Рай «мнимый» и Рай «реальный»: древнерусская литературная традиция // Образ рая: от мифа к утопии. СПб., 2003. С. 32.
(обратно)329
Топоров В.Н. Текст города-девы и города-блудницы. С. 121.
(обратно)330
Давидова М.Г. Иконы «Страшного суда» XVI–XVII вв. – slovo.ru/art/35909.php
(обратно)331
В дальнейшем в восточном христианстве два Иерусалима оказались разведены, в то время как у Августина «в диффузном смешении» слились оба града. См.: Пелипенко А.А. Городской миф о городе // Город и искусство. Субъекты социокультурного диалога. М., 1996. С. 41.
(обратно)332
См.: Иоаннисян О.М. Храмы-ротонды в Древней Руси // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 101–116; Бусева-Давыдова И.Л. Указ. соч. С. 190.
(обратно)333
Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию // Россия XVIII в. глазами иностранцев / Пер. А.М. Ловягина. Л., 1989. С. 324. Это повторяли и другие авторы.
(обратно)334
Цивьян Т.В. К семиотической интерпретации мотива лестницы-«лесенки» в античной вазописи (вокруг Адониса и Диониса) // Исследования по структуре текста. М., 1987.
(обратно)335
Соколов М.Н. Ренессансно-барочные архетипы усадебного зодчества // Русская усадьба. М., 2003. Вып. 9 (25).
(обратно)336
Петрарка Ф. Эстетические фрагменты / Пер., вступ. ст. и примеч. В.В. Бибихина. М., 1982. С. 141–144.
(обратно)337
Брагина Л.М. Город в итальянской гуманистической мысли XV в. // Средние века. М., 1991. Вып. 54; Данилова И.Е. Итальянский город XV века: реальность, миф, образ. М., 2000.
(обратно)338
Dati G. L'istoria di Firenze dal 1380 al 1405. Цит. по: Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. М., 1991. С. 38.
(обратно)339
Gothein M.L. Geschichte der Gartenkunst. Jena, 1926. Bd. I. S. 430.
(обратно)340
Цит. по: Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986. С. 222.
(обратно)341
Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1935. Т. 1, кн. 4. С. 123.
(обратно)342
Эразм Роттердамский. Разговоры запросто / Пер. С. Маркиша. М., 1969. С. 75.
(обратно)343
Альберти Л.-Б. Об архитектуре // Эстетика Ренессанса: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 328.
(обратно)344
Герберштейн С. Записки о московитских делах… / Пер. И. Анонимова // Россия XVI в. в воспоминаниях иностранцев. Смоленск, 2003. С. 216.
(обратно)345
Chastel A. Marsile Ficino et l'art. Genève, 1975. P. 10.
(обратно)346
Цит. по: Dobrowolski T. Wit Stwosz. Оłtarz Mariacki. Epoka i środowisko. Kraków, 1980. S. 54.
(обратно)347
В так называемых итальянских шпалерах стволы деревьев в нижней части были открытыми, а кроне придавалась прямоугольная форма. Это создавало тень для прогулок, позволяло лучше обозревать пространство и отвечало теории перспективы (perspicere – лат. «смотреть сквозь что-либо»). Такие деревья показаны в гравюре неизвестного мастера, традиционно воспроизводящейся под названием «Русская усадьба середины XVIII в.». Изображение носит конвенциональный для тогдашней Европы характер.
(обратно)348
Альберти Л.Б. Указ. соч. Т. 2. С. 26.
(обратно)349
Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. С. 29. Средневековье не любило видов, связывающих ближнее и дальнее пространство. См.: Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV–XVII веков. Реальность и символика. М., 1994. С. 47–49; Он же. Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж виртуального пространства. М., 2002. С. 196–198.
(обратно)350
Chateaubriand F.R. Oeuvres romanesques et voyages. P., 1969. Vol. 2. P. 1489.
(обратно)351
Colonna F. Hipnerotomachia Poliphili. Venedig, 1499; см. также: Gombrich E.H. Hypnerotomachiana // Symbolic Images. L., 1972; Kretzulesko-Quaranta E. Les jardins du songe: «Poliphile» et la mystique de la Renaissance. P., 1986; Соколов Б.М. «Чистосердечный читатель, рассказ о снах Полифила выслушай…» Архитектура, эрудиция и неоплатонизм в романе Франческо Колонны // Искусствознание. 2005. № 2. Далее текст Колонны цитируется по публикуемому здесь переводу.
(обратно)352
Соколов Б.М. Руина как граница культурных миров // Тема руин в культуре и искусстве // Царицынский научн. вестн. М., 2003. Вып. 6.
(обратно)353
Doering M. Das Nymphaeum in Genazzano. Eine interdisziplinäre Bauanalyse. Berlin, 2001; см. также: Gothein M.L. Op. cit. B. 1. S. 234; Zimmermann R. Künstliche Ruinen. Wiesbaden, 1989.
(обратно)354
Герчук В.Я. Воображаемая архитектура в живописи и графике. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980.
(обратно)355
Giedion S. Space, Time and Architecture. Harvard, 1962. P. 43.
(обратно)356
Filarete's Treatise on architecture.. / Transl., introd. and notes by J.R. Spencer. New Haven; L., 1962 (факсим. илл. изд.); см. также: Филарете (Антонио Аверлино). Трактат об архитектуре / Пер. и примеч. В. Глазычева. М., 1999.
(обратно)357
Switzer S. Ichnographia Rustica; or, the nobleman, gentleman, and gardener's recreation. L., 1718.
(обратно)358
На гравюре надпись: «An Arbor in a fortified Island». Arbour (в современном написании) – это и зеленая беседка, и сводчатая аллея. Langley Batty. New Principles of Gardening, or, the laying out and planting parterres, groves, wildernesses, labyrinths, avenues, parks.. L., 1728.
(обратно)359
Коренцвит В.А. Крепость Петерштадт в Ораниенбауме // Памятники истории и культуры Петербурга. 1994. Вып. 3; Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Ораниенбаумский историко-ландшафтный комплекс. СПб., 2001; «Здесь он построил себе крепостцу.». Каталог выставки. Гос. музей-заповедник Ораниенбаум. СПб., 2006. Здесь опубликован макет Петерштадта, выполненный на основании плана П.-А. де Сент Илера (1775). В Ораниенбауме распологался также Екатеринбург – первая крепость Петра III (1746).
(обратно)360
Спащанский А.Н. Крепость Ингербург; сайт Гатчина – вчера, сегодня.
(обратно)361
См.: Баткин Л.М. Ренессанс и утопия // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976.
(обратно)362
Панченко Д.В. Утопический город на исходе Ренессанса (Дони и Кампанелла) // Городская культура. Средневековье и начало Нового времени. М., 1986. С. 75.
(обратно)363
Филарете. Указ. соч. С. 282.
(обратно)364
Принц де Линь 1809. Т. 4, ч. 8. С. 106.
(обратно)365
Мор Т. Утопия / Пер. с лат. и коммент. А. Малеина и Ф. Петровского. М., 1971. Здесь и далее цит. по: ; б/п.
(обратно)366
Штекли А.Э. Сады Утопии // Мировая культура: традиции и современность М., 1991. С. 252. Характерно, что в гравюре Ганса и Амброзиуса Гольбейнов к базельскому изданию сочинения (1518), а также в последующих реконструкциях Утопии сады отсутствовали.
(обратно)367
Бэкон Ф. О садах // Эссе о гражданской и моральной жизни. § 46. Далее цит. по: .
(обратно)368
Бэкон Ф. Новая Атлантида// Соч. М., 1978. Т. 2. С. 508, 510.
(обратно)369
Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев; М., 2002. С. 44.
(обратно)370
Йейтс Ф. А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.
(обратно)371
Lang S. The Ideal Sity // The Architectural review. 1952. August. P. 99; Штекли А.Э. Указ. соч; Стригалев А.А. «Город Солнца» Кампанеллы как идеал миропорядка // Художественные модели мироздания. М., 1997. Кн. 1. С. 146.
(обратно)372
Соловьев Вл. Кампанелла // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.
(обратно)373
Гарэн Э. Указ. соч. С. 337.
(обратно)374
О ней, в частности, говорило сочинение с показательным в этом отношении названием: [Koebel, Jacob (?)] Geomantia: Ein kunst des Warsagens… durch welche., das alles leychtlich durch rechnunge der Planeten. aussgereschnet mag werden. Mainz, 1532 (Геомантия: Искусство предсказаний. благодаря которому. все может быть легко изучено по вычислению планет).
(обратно)375
Lamarche-Vadel G. Jardins secrets de la Renaissance. Des astres, des simples et des prodiges. P., 1997.
(обратно)376
Rapin R. Les Jardins. P., 1773. P. 43.
(обратно)377
Голенищев-Кутузов И.Н. Кампанелла // История всемирной литературы. М., 1987. Т. 4. С. 48–51.
(обратно)378
Соловьев Вл. Указ. соч.
(обратно)379
Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997.
(обратно)380
Коменский Я.А. Избр. педагогические соч. М., 1982. Т. 2. С. 236.
(обратно)381
Свирида И.И. Искусство и утопия: год 2440 // Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002.
(обратно)382
Одоевский В.Ф. 4338-й год. Петербургские письма. М., 1987. С. 78, 83.
(обратно)383
Kern H. Labyrinth. Erscheinungsformen und Deutungen. 5000 Jahre Gegenwart eines Urbilds. München, 1982. S. 266–267. Abb. 336.
(обратно)384
Мельников Г.П. Пространство в культуре чешского барокко // Культура и пространство. Славянский мир. М., 2004.
(обратно)385
Ibid. S. 359 и Abb. 465–524; 525–551; Vries Hans Vredeman de. Hortorum viridariorumque elegantes et multiplies formae… Antverpiae. Phillippus Gallaeus. 1583; см.: Szafrańska M. Ogród renesansowy. Antologia tekstów. W., 1998. N 181; Idem. Ogrody humanistów; Labirynt // Ogród, symbol, marzenie. Zamek Królewski w Warszawie. Katalog. W., 1998. S. 135–143.
(обратно)386
Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. М., 2002. С. 209–211, 317.
(обратно)387
Вагинов К. Козлиная песня. Романы. М., 1991. С. 67.
(обратно)388
[Carmontel]. Jardin de Monceau près de Paris. P., 1779.
(обратно)389
Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII–XIX вв. М., 1987. С. 8о.
(обратно)390
Manière de montrer des jardins de Versailles par Louis XIV. Рус. пер.: Как следует посещать сады Версаля // Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. М., 2003. С. 439–449. Из названия оригинала (дословно: «Способ показывать сады Версаля») следует, что сочинение предназначалось скорее не тем, кто будет смотреть парк, а тем, кто будет его показывать гостям.
(обратно)391
Ср.: Kern H. Op. cit. Tabl. 519, 549. На второй иллюстрации план лабиринта с обозначением маршрута, позволявшего увидеть все тридцать девять фонтанов по басням Эзопа в изложении Лафонтена (Perrot Ch. Labyrinth de Versailles. P., 1679).
(обратно)392
Szafrańska M. Comment le Roi visitait ses jardins: Luis XIV au sujet de Versailles // BHS. 1997. R. LIX. N 1/2. S. 123.
(обратно)393
Гидион З. Пространство, время, архитектура. Цит. по:
(обратно)394
Шпенглер О. Закат Европы: Образ и действительность. Новосибирск, 1993. Т. I.
(обратно)395
Цит. по: Fletcher P. Gardens and grim ravines. The language of landscape in Victorian poetry. Princenton, 1983. P. 3.
(обратно)396
Зыкова Е.П. Пастораль в английской литературе XVIII века. М., 1999. С. 79.
(обратно)397
Мерсье Л.С. Год 2440. Сон, которого, возможно, и не было / Изд. подг. А.Л. Андерс и П.Р. Заборов. Л., 1977. С. 11.
(обратно)398
См.: Thalmann M. Romantiker entdecken der Stadt. München, 1965.
(обратно)399
Мерсье Л.С. Картины Парижа. Цит. по: Париж в литературных произведениях XII–XX вв. М., 1989. С. 119.
(обратно)400
Gothein M.L. Op. cit. B. I. S. 210.
(обратно)401
Русское градостроительное искусство / Под ред. Н.Ф. Гуляницкого. М., 1998. Т. III: Петербург и другие новые российские города XVIII – первой половины XIX веков. М., 1995; Архитектура русской усадьбы.
(обратно)402
Свирида И.И. Чужое имя в искусстве и три «Версаля» // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006.
(обратно)403
Цит. по: Polska stanisławowska. Т. 2, здесь и далее цитируются с. 541, 542, 245.
(обратно)404
Относительно более раннего периода предполагается, что общественные сады могли быть при приходских храмах. См.: Черный В.Д. Типология и эволюция русского средневекового сада // Русская усадьба. 2002. № 8 (24). С. 33.
(обратно)405
Цит. по: Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. С. 162–191.
(обратно)406
Берк К.Р. Путевые заметки о России // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997. С. 165–166.
(обратно)407
Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XIX в. М., 1953. С. 12.
(обратно)408
Stählin J. Rußland // Hirschfeld C.C.H. Theorie der Gartenkunst. Leipzig, 1785. Bd. 5. S. 291.
(обратно)409
Hirschfeld C.C.H. Op. cit. Bd. I. S. 70.
(обратно)410
Ibid. Bd. 5. S. 68.
(обратно)411
Так называлось приложение к кн.: Bouché C.P. Der Zimmer– und Fenstergarten. Berlin, 1822. S. 320.
(обратно)412
Howard Е. Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform. Написана в 1880-е гг., опубл. в 1898 г., переработ. в: Garden cities of tomorrow. L., 1902; рус. изд.: Говард Э. Города будущего. СПб., 1911; см. также: Иконников А.В. Современная архитектура Англии. Л., 1958; Кириченко Е.И. Усадебное начало в градостроительстве России 1830-1910-х годов // Искусствознание. 2001. № 1.
(обратно)413
Говард Э. Города будущего. С. 13.
(обратно)414
Цит. по: Wolschke-Bulmahn J., Gröning G. Der kommende Garten // 1887–1987. Hundert Jahre Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege. Berlin, 1987.
(обратно)415
Вязова Е. Утопия прозрачности // Пинакотека. № 10/п. (1999. № 3/4).
(обратно)416
Софронова Л.А. Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 599, 615, 623–625.
(обратно)417
И. Бродский в «History of the twentieth century» посвятил Райту, в частности, такие строки:
Цит. по: . Там же: «Вольный перевод для домашнего чтения» Е. Финкеля, включающий такие строки: «…городскую забудьте давку: невысокий заборчик, кирпич и стекло, плюс зеленый паркет под травку.»
(обратно)418
См.: Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. М., 1990. С. 266.
(обратно)419
Le Corbusier. Toward a New Architectur. 1976. P. 20–21.
(обратно)420
О связи с той эпохой авангардных течений см.: Смирнов И.П. Барокко и опыт поэтической культуры начала ХХ в. // Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979.
(обратно)421
См.: Свирида 2006. С. 35–40; Нащокина М.В. Русские сады. Вторая половина XIX – начало ХХ века. М., 2007.
(обратно)422
См.: Гарен Э. Указ. соч. С. 222–224. Далее тексты Леонардо цитируются по этой книге (с. 216, 222).
(обратно)423
Кириченко Е.И. Указ. соч. С. 299–308.
(обратно)424
Первый проект города-сада, оставшийся нереализованным, предусматривал создание на острове Голодай «Нового Петербурга» (1899).
(обратно)425
См.: Chan-Magomedov S.O. Gartenstädte und Probleme des Arbeiterwohnungsbaus // Avantgarde I. Stuttgart, 1991; Иконников А.В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. М., 2001. Т. 1. Раздел «Революционный романтизм „бумажной архитектуры" и архитектурные утопии авангарда».
(обратно)426
Булл М. Рабочий город-сад (Закладка i-го в Республике рабочего поселка) // Газ Рабочий. 30 мая 1922 г. -sad.htm. Объясняя, что такое в данном случае город-сад, Булгаков писал: «На 102 десятинах земли на средства, собранные путем взносов рабочих… будут построены домики по образцу английских. Будет собственная электрическая станция, школа, больница, прачечные». Это и в дальнейшем оставалось роскошью. Сам Булгаков в это время голодал и в Дневнике в феврале того же года записал: «Есть на(дежда.) в газете „Ра(бочий)"» – речь шла о перспективе получить работу в той самой газете, где опубликована эта заметка (см.: Из Дневника Булгакова 1922 г. Публ. Г.С. Файмана. /). Еще в 1910 г. был заложен поселок Кратово.
(обратно)427
Обычно опускались строки: «Сидят в грязи рабочие, / сидят, лучину жгут. / Сливеют губы с холода, / но губы шепчут в лад»
(обратно)428
Исследователи предпочитают говорить о внестилевом характере пейзажного парка (Е.И. Кириченко), его открытой в стилевом отношении архитектурной системе (Д.О. Швидковский). А. Буттлар понятие романтизм отнес лишь к немецким садам, отмеченным духом историзма (Лёвенбург Г.Х. Юссова, 1793–1798, Бабельсберг К.Ф. Шинкеля и П.Ю. Ленне, 1834–1849), описав французский материал начала XIX в. как выражение утопических идей, английский – с точки зрения соотношения picturesque и gardenesque (Buttlar A. von. Der Landschaftsgarten: Gartenkunst des Klassizismus und der Romantik. Köln, 1989). В.С. Турчин распространил на архитектуру русской усадьбы термин З. Гидиона романтический классицизм (Турчин В.С., Шередега В.И. В окрестностях Москвы. Из истории русской усадебной культуры XVII–XIX вв. М., 1979; С. 328). М.В. Нащокина в разделе «Парки классицизма и романтизма» посредством рассмотрения сквозных мотивов избежала необходимость акцентировать границы эпох (Нащокина М.В. Русские сады XVIII – первая половина XIX века. М., 2007). Наиболее расширительно понятием «сады Романтизма» пользовался Д.С. Лихачев, объединив им всю историю естественного парка, исключая период рококо (Лихачев 1991. С. 198–311). Д. Вибензон и Дж. Д. Хант обозначили сады XVIII в. понятием picturesque (Wiebenson D. The picturesque Garden in France. Princeton, 1979; Hunt J.D. The Picturesque garden. L., 2004). Термин picturesque garden (от лат. pictûra – живопись, картинное изображение, picturesque – живописный, питореск в старом русском употреблении) в дословном переводе – живописный сад. О его семантике см. также с. 170 (ср. русск. пейзажный).
(обратно)429
См., например, тексты в антологиях: The Genius of the Place. The English Landscape Garden 1620–1820 / Ed. J.D. Hunt, P. Willis. L., 1975; The English Garden: Literary sources and documents / Ed. М. Charlesworth. Mountfield, 1993. Vol. I–III.
(обратно)430
Walpole H. The Modern Taste in the Gardening. L., 1771; Morel J.-M. Theorie des jardins. P., 1776.
(обратно)431
Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания. М., 1994. С. 93–105; Хачатуров С.В. «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII в. М., 1999. С. 18–30.
(обратно)432
Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1979. С. 59.
(обратно)433
Верещагина А.Г. Русская художественная критика середины – второй половины XVIII века. Очерки. М., 1991; Она же. Русская художественная критика конца XVIII – начала XIX века. Очерки. М., 1991; Polanowska J. «Lettre d'un etranger sur le Salon de 1787» Stanisława Kostki Potockiego – tekst z pogranicza sztuki i polityki // Ikonoteka. T. XIV. W., 2000.
(обратно)434
Болотов А.Т Некоторые замечания о садах в России // Экономический магазин. 1786. Ч. XXVI. С. 6о; см. также: Нащокина М.В. Русское в русском садово-парковом искусстве //Архитектурное наследство. 2007. № 48. С. 435–437.
(обратно)435
[Carmontel L.C. de]. Jardin de Monceau… P., 1759. P. 2.
(обратно)436
Цит. по: Памятники эстетической мысли. М., 1964. Т. 2. С. 575.
(обратно)437
Свирида И.И. Сады в иностранных описаниях России XVIII в.: древнерусская традиция и Версаль // ЦС XII; Она же. Чужое имя в искусстве и «три Версаля» // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006.
(обратно)438
Определение натуральный, в отличие от слова натура, которое в XVI в. было заимствовано из латинского языка, пришло в русский язык в XVIII в., вероятно, из польского языка (см.: Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка. М., 1963).
(обратно)439
Свирида 1994. С. 13–14; Hunt J.D. The Picturesque garden. P. 9–10.
(обратно)440
The Spectator. 1712. N 414; Switzer S. Ichonographia Rustica.. L., 1715. Vol. 1. P. 83; см. также: Ogden V.S., Ogden M.S. English Taste in Landscape in the Seventeenth Century. Chicago, 1955.
(обратно)441
Papillion-Piller A. Der Englische Garten in München als „Volksgarten": die Ziele seiner Initiatoren und die Reaktionen der Bevölkerung bis 1830. München, 2000.
(обратно)442
The Genius ofthe Place. P. 138–260; The English Garden: Literary sources and documents. Vol. II; Докучаева О.В. Опыт западно-европейской теории пейзажного паркостроения и отечественная садоводческая литература последней трети XVIII в. // Россия-Европа: Из истории русско-европейских художественных связей XVIII – начала ХХ в. М., 1995; Соколов Б.М. Английская теория пейзажного парка в XVIII столетии и ее русская интерпретация // Искусствознание. 2004. № 1.
(обратно)443
Поуп А. Пасторали / Пер. В.Потаповой // Поэмы. М., 1988. С. 35.
(обратно)444
Switzer S. Ichnographia Rustica. L., 1715. Vol. 1. P. XV; см. также: Дубяго Т.Б. Русские регулярные сады и парки. Л., 1963. С. 134.
(обратно)445
[Dezallier d'Argenville A.J.] La Theorie et la Pratique du Jardinage. P., 1709. P. 9. В 1712 г. трактат был издан в Лондоне (John James. Theory and Practice of Gardening). Джеймс уделил в переводе специальное место такой ограде, отдав ей предпочтение перед железными решетками. Позднее о «ha-ha» писал Свитцер (Switzer S. Op. cit. P. XV). Оба приведенные выше названия скрытой ограды фигурируют в сочинении Уолпола, приписавшего его изобретение Чарлзу Бриджемену, который в реальности лишь успешно применял такие ограждения.
(обратно)446
Wiebenson D. Op. cit.; Hunt J.D. Op. cit.
(обратно)447
Веселова А.Ю. Язык и стиль садовых трактатов конца XVIII – начала XIX века // Царицынский научн. вестн. М., 2005. Вып. 7/8.
(обратно)448
Burkes E.A. Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful… L., 1757; Price U. An Essays on the Picturesque, As Compared with the Sublime and the Beautiful.. L., 1794; Chambers W. A Dissertation on Oriental Gardening. L., 1772.
(обратно)449
Концепция естественного парка. Между утопией и прагматикой // Свирида 1994. С. 52–75.
(обратно)450
См.: Библер В.С. Парадоксы просвещенного вкуса // Художественная культура XVIII в. М., 1974. С. 27.
(обратно)451
Михайлов А.В. Эстетический мир Шефтсбери // Эстетические опыты. М., 1975. С. 33.
(обратно)452
Ligne Ch. J. Mélanges. Vol. IX. P. 126–128.
(обратно)453
Coxe W. de. Voyage en Pologne, Russie, Suede, Danemark. Genève, 1786. Vol. 3. P. 262. В Царицыно Баженов намеревался сохранить фрагмент старого регулярного сада.
(обратно)454
Свирида И.И. Время сада // Категория времени в славянской культуре. М., 2009.
(обратно)455
Болотов А.Т. Некоторые практические замечания о садах в России // Экономический магазин. 1786. Ч. XVI. С. 56–57.
(обратно)456
Осипов Н.П. Новый и совершенной руской [sic!] садовник. СПб., 1793. Ч. 2. С. 203.
(обратно)457
Stanislas Auguste Poniatowski. Memoires. St.-Petersbourg, 1914. P. 120. Как курьез можно упомянуть полемику, которая была следствием соперничества художников, а аргументом послужил рисунок, в котором Хогарт пародировал живописную работу У. Кента (см. Герман М.Ю. Хоггарт и его время. Л., 1977, с. 61).
(обратно)458
Предполагается, что под инициалами D.J. в «Энциклопедии» писал А.Ж. Дезалье д'Аржанвиль.
(обратно)459
См.: Labloude P.-A. The Garden of Versailles. L., 1995. P. 59, 119.
(обратно)460
Цит. по:.
(обратно)461
Об английских предшественниках естественности см.: Hunt J.D. The Figure in the Landscape: Poetry, Painting, and Gardening during the Eighteenth Century. L., 1976. P. 9–35.
(обратно)462
Rapin R. Les Jardins. P., 1773. P. 40.
(обратно)463
Образ В.С. Турчина. См.: Турчин В.С. Проблемы русского искусства второй половины XVIII – начала XIX века в контексте изучения западноевропейского неоклассицизма // Русский классицизм второй пол. XVIII – начала XIX века. М., 1994; Кириченко Е.И. Семантика, стиль и планировка усадеб второй половины XVIII в. в России // Архитектура русской усадьбы. М., 1998.
(обратно)464
См.: Wiebenson D. Op. cit.; Свирида 1994. С. 48; Hunt J.D. The Picturesque Garden. P. 108–109; Skwarczyńska M. Ogrody króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737–1766. W, 2005 (выше использованы, в частности, сведения, приведенные в этой первой книге о садах Лещиньского).
(обратно)465
Héré E. Recueil des plans, élévations et coupes… des châteaux, jardins et dépendences que le Roi de Pologne occupe en Lorraine. P., 1750.
(обратно)466
Chambers W. A Dissertation on Oriental Gardening. 1772; Pevsner N. The Englishness of English art. L., 1956. P.144; Hunt J.D. The Picturesque garden. P. 144; Jacobson D. Chinoiserie. Hardcover, 1993.
(обратно)467
Цит. по: Горбатенко С.Б. Английские сады на петергофской дороге // Философский век. Альманах. Ч. 2. СПб., 2002. Вып. 20. Россия и Британия в эпоху Просвещения.
(обратно)468
См.: Лихачев 1991. Раздел «Сады Рококо»; Sir William Chambers und der englische-chinesische Garten in Europa / Ed. by Th. Weiss. Wörlitz, 1996; Hunt D.J. The Picturesque Gardens. P. 26–59.
(обратно)469
Le Rouge G.-L. Détails des nouveaux jardins à la mode 1776–1788. Cah. 20; Начало положил выпуск Jardins anglo-chinois ou details de nouveaux jardins à la mode. P.: Edité par Bibliotheque nationale de France. 1775.
(обратно)470
Отдельные национальные школы в развитии пейзажного сада представлены в: Hunt D.J. The Picturesque Gardens.
(обратно)471
Грабарь И. Архитекторы-иностранцы при Петре Великом // Старые годы. 1911. Июль-сентябрь. С. 140.
(обратно)472
Из записок короля Станислава Августа Понятовского // Русская старина. 1915. Год XLVI. С. 282–285; Дубяго Т.Б. Указ соч. С. 170–182; Раскин А.Г. Город Ломоносов: Дворцово-парковые ансамбли XVIII века. Л., 1979; Мыльников А.С. Петр III: повествование в документах и версиях. М., 2002; Швидковский Д.О. Краткое рококо Петра III. http:// ; О дальнейшей судьбе Петерштадта см.: Кюстин А. де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной. М., 1996. Т. 1. С. 276; Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Ораниенбаумский историко-ландшафтный комплекс. СПб., 2001. «Здесь он построил себе крепостцу. Каталог выставки (к 250-летию основания крепости Петерштадт). СПб., 2006. С. 52 (на основании этого Каталога воспроизводится Макет Эрмитажа, с. 52); также см. с. 000.
(обратно)473
Watelet C.-A. Essay sur les Jardins. P., 1774.
(обратно)474
Подобные пейзажные парки немецкие исследователи называют «классическими» для нерегулярного стиля и «ландшафтными». См.: Hallbaum F. Der Landschaftsgarten. Sein Entstehen und seine Einführung in Deutschland unter F.L. Sckell 1750–1823. München, 1927; Hoffmann A. Der Landschaftsgarten // Hennebo D., Hoffmann A. Geschichte der deutschen Gartenkunst. Bd. 3; Buttlar A. von. Der Landschaftsgarten: Gartenkunst des Klassizismus und der Romantik. Köln, 1989. S. 201–202.
(обратно)475
Immerwahr R. Romantisch. Frankfurt a./M., 1972. S. 47–71.
(обратно)476
Thalmann M. Romantiker entdecken die Stadt. München, 1965. S. 61–62.
(обратно)477
Эти мысли он популяризировал в Энциклопедии, переиздававшейся много раз в различном составе (An encyclopaedia of gardening). Русская культура обязана этому автору подробным документальным иллюстрированным описанием российских садов в одном из ее выпусков, а также публикациями о них в издававшемся им журнале «Gardening Magazin». В них он основывался как на опубликованных к тому времени сочинениях, в особенности Георги и Шторха, так и на собственных впечатлениях 1813 и 1814 гг., когда он посетил Петербург, Москву и Крым.
(обратно)478
Изобретение термостата (1816) открыло возможность создания «автоматического сада» с регулируемой температурой, Лаудон предложил «ветряную машину», он сыграл также решающую роль в развитии стеклянных оранжерей. См.: Weisz H. Gesellschaft Natur Koevolution. Bedingungen der Möglichkeit nachhaltiger Entwicklung -berlin.de/dissertationen/weiszhelga
(обратно)479
Ganay E. Les jardins de France et leur decor. P., 1949. P. 259, 248–253.
(обратно)480
Цит. по: Мастера искусств об искусстве. Т. 4. С. 129.
(обратно)481
Pückler-Muskau G. Andeutungen über Landschaftsgartnerei. Stuttgart, 1834. Цит. по: Hoffmann A. Op. cit. S. 247.
(обратно)482
Brodziński K. Wspomnienia mojej młodości. Kraków, 1928. S. 36.
(обратно)483
Сталь А.Л.Ж. де. О Германии. Цит. по: Манифесты западноевропейского романтизма. М., 1980. С. 384.
(обратно)484
Novalis. Werke und Briefe. München, 1962. S. 277.
(обратно)485
Price Uvedale. Essay on the Picturesque. 1794. См.: Wimmer С.А. Geschichte der Gartentheorie. Darmstadt, 1989. S. 219, 460.
(обратно)486
См.: Славгородская Л.В. Образ романтического парка в немецкой литературе начала XIX века // ТОДРЛИ. СПб., 1996. Т. 50. С. 747–753.
(обратно)487
Цит. по: Мастера искусств об искусстве. Т. 4. С. 329, 346.
(обратно)488
Percier Ch., Fontaine P.F. Choix des plus celebres maisons de plaisance de Rome et de ses environs. P., 1809. P. 255.
(обратно)489
Цит. по: Thalmann M. Romantiker entdecken die Stadt. München, 1965. S. 61.
(обратно)490
Свирида 1994. С. 154; Svirida I. Wersal w kulturze rosyjskiej // Biuletyn historii sztuki. 2001. № 1/4. S. 372–373; Свирида 2006. С. 37. См. также: Вронская А.Г. Реджинал Блумфилд и его роль в британском садовом искусстве. Автореф. дисс… канд. иск. М., 2007.
(обратно)491
Подробнее: Свирида 2006. С. 26–30; см. также: Савинская Л.Ю. «.Циркуль зодчего, палитра и резец ученой прихоти твоей повиновались» // «Ученая прихоть»: коллекция картин князя Н.Б. Юсупова. М., 2001.
(обратно)492
Соколов Б.М. Альбом графа Северного, или Сады Павла I // Наше наследие. 2001. № 57.
(обратно)493
Медведкова О.А. Предромантические тенденции в русском искусстве рубежа XVIII–XIX веков. Михайловский замок // Русский классицизм второй половины XVIII – начала XIX века. M., 1994; Свирида 1999. С. 77.
(обратно)494
Осминская Н.А. Проект «Храма Знаний, или Монпарнаса» в Версале как прообраз начинаний Н.П. Шереметева в Останкине // Русская усадьба. 1999. Вып. 5. С. 197–198.
(обратно)495
О роли польских садов как «жилища муз и философии» (Ю. Выбицкий) см.: Свирида 2006. С. 25–30.
(обратно)496
Нащокина М.В. Русские сады XVIII – первая половина XIX века. М., 2006. С. 207.
(обратно)497
Цит. по: Славгородская Л.В. Образ романтического парка в немецкой литературе начала XIX в. // ТОДРЛ. Т. 50. СПб., 1996. С. 749.
(обратно)498
Wimmer С.А. Op. cit. S. 428.
(обратно)499
Thouin G. Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. P., 1819–1820. Цветными литографиями сопровождалось издание 1838 г. Это сочинение переиздавалось до 1920 г. Во вступлении к сочинению Туэн в качестве предшественника естественного стиля назвал Шарля Дефренуа (проект парка для предместья Сен-Антуан в Париже), однако лавры его создания все же отдал англичанам.
(обратно)500
Hobhouse P. Plants in Garden history. L., 1992. P. 246–247.
(обратно)501
Loudon J.C. The Suburban Gardener and Villa Companion. L., 1836–1838. P. 169.
(обратно)502
Цит. по: ButtlarА. von. Op. cit. S. 77.
(обратно)503
Hirschfeld. Theorie der Gartgenkunst. Bd. 5. S. 69.
(обратно)504
Цит. по: Мастера искусств об искусстве. Т. 4. С. 134; Свирида 2006. С. 25–30.
(обратно)505
Loudon J.C. The Suburban Gardener. P. 137.
(обратно)506
Цит. по: Манифесты западноевропейского романтизма. С. 125.
(обратно)507
Schlegel A.W. Die Kunstlehre. Stuttgart, 1963. S. 178.
(обратно)508
Цит по: Gothein M.L. Gartenkunst. Jena, 1926. Bd. 2. S. 408.
(обратно)509
Новалис. Генрих фон Офтердинген // Избранная проза немецких романтиков. М., 1979. Т. 1. С. 304.
(обратно)510
Rulikowski M. Teatr na Litwie. Wilno, 1907. S. 71.
(обратно)511
Цит. по: Friedrich K.D. Lebenswelt der Romantik / Hrsg. von R. Benz. München, 1948. S. 226.
(обратно)512
Цит. по: Kleßmann E. Op. cit. S. 85. Аналогичные высказывания К.Д. Фридриха см.: Ibid. S. 123–124.
(обратно)513
Цит по: Thalmann M. Op. cit. S. 55.
(обратно)514
Берковский Н.Я. О романтизме и его первоосновах // Проблемы романтизма. М., 1971. С. 7.
(обратно)515
Novalis. Op. cit. S. 537.
(обратно)516
Воейков А.Ф. Царицыно // Новости литературы. 1825. Янв. С. 1, 11.
(обратно)517
Scheffels J.V. Des Biedermanns Abendgemutlichkeit // Idem. Sämtliche Werke. Leipzig. Bd. 9. S. 49. Цит. по: Gentsch D. Biedermeier. Leipzig, 1976. S. XXXVI.
(обратно)518
Schestag A. Zur Entstehung und Entwicklung des Biedermeierstiles // Kunst und Kunsthandwerk. 1903. N 6. S. 263–290; 1904. N 7. S. 415–427; 1906. N 11. S. 568–573; Rosenberg A. Handbuch der Kunstgeschichte. 1908.
(обратно)519
Boehn M. von. Biedermeier. Deutschland von 1815–1847. Berlin, 1910.
(обратно)520
Коваленская Н.Н. Русский жанр накануне передвижничества. Художественные и социальные особенности Москвы // Русская живопись XIX в. М., 1929. С. 51; Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980. С. 72–92; Он же. Стиль без имен и шедевров // Пинакотека. 1998. № 4; Кантор А. Тихий сад // Там же. Важны также другие статьи этого номера, посвященного бидермейеру.
(обратно)521
Польские портреты 1830-1840-х гг. позволяют говорить о «сарматском бидермейере» (Свирида 1999. С. 190–191).
(обратно)522
Biedermeiers Glück und Ende… die gestörte Idylle / Hrsg. von H. Ottomeyer. Ausstellung in Münchener Stadtmuseum. München, 1987; Himmelheber G. Kunst des Biedermeier. 1815–1835. München, 1989; Romantik. Klassicismus. Biedermeier. Östrreichische Galerie. Wien, 1997.
(обратно)523
Fulleborn U. Frührealismus und Biedermeierzeit // Begriffsbestimmung des literarischen Biedermeier. Darmstadt, 1974. S. 329–364; Poprzęcka M. Akademizm. W., 1989. S. 204.
(обратно)524
Himmelheber G. Biedermeier als Vorbild // Idem. Kunst des Biedermeier. S. 71–75. К бидермейеру может быть возведен и так называемый немецкий сад начала XX в., получивший название Freilufthaus (см.: Gothein M.L. Geschichte der Gartenkunst. Jena, 1926. Bd. 2. S. 457).
(обратно)525
Boehn M. von. Biedermeier. Deutschland von 1815–1847. Berlin, 1910.
(обратно)526
Ganay E. Op. cit. P. 243, 253.
(обратно)527
Goethe W. Gespräche. Berlin, 1910. Bd. 3. S. 215. Цит. по: Gothein M.L. Op. cit. Bd. 2. S. 415.
(обратно)528
Fleming L., Gore F. The English Garden. L., 1997. P. 167.
(обратно)529
Pfann H. Der kleine Garten an Beginn des XIX. Jahrhunderts // Studien zur deutschen Kunstgeschichte. Strasburg, 1935; Dulmen A. von. Das irdische Paradies. Bürgerliche Gartenkultur der Goethezeit. Köln; Weimar; Wien, 1999.
(обратно)530
Althofer H. Wiener Garten des Vormarz // Wiener Jahrbuch fur Kunstgeschichte. Wien, i960. Bd. XVIII (XXII); Kant H. Wiener Garten. Vier Jahrhunderte Gartenkunst. Wien, 1964; Riedl-Dorn Ch. Botanik und Gartenkunst im Wiener Vormarz // Burgersinn und Aufbegehren. Biedermeier und Vormarz in Wien.
(обратно)531
Brown J. The Pursuit of Paradise. A Social History of Gardens and Gardening. L., 1999. P. 136–168.
(обратно)532
Hilberd S. Rustic adornments for homes of taste. London, 1856. P. 2.
(обратно)533
Repton H. Fragments on the Theory and Practice of Landscape Gardening. L., 1816. Характерно для эпохи слово фрагмент в названии и структуре сочинения.
(обратно)534
Hirschfeld C.C.L. Kleiner Gartenbibliotek. 1792. Цит. по: Dulmen A. von. Op. cit. S. 6.
(обратно)535
См. о нем: Der Parkschöpfer Hermann Pückler-Muskau: das gartenkunstlerische Erbe. Weimar, 1995.
(обратно)536
Софронова Л.А. Романтические воззрения на природу: «Генезис из духа» Юлиуша Словацкого // Натура и культура. Славянский мир. М., 1977. С. 15.
(обратно)537
Loudon J.C. Suburban Gardеner. 1838. P. 149–159.
(обратно)538
Bouché C.P. Der Zimmer– und Fenstergarten… Anhang: Betrachtungen über den Stadtgarten oder Anweisung zur möglichsten Benutzung der Räume hinter und zwischen Gebäuden in Städten. Berlin, 1822. S. 320.
(обратно)539
Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина) // Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 27.
(обратно)540
Цивьян Т.В. Интерьер космоса в интерьере дома // Натура и культура. С. 49.
(обратно)541
Им была посвящена книга Буше. См. примеч. 116
(обратно)542
Lichtwark A. Makartbouquet und Blumenstrau. Berlin, 1894.
(обратно)543
Gräfin zu Donna U. Blumenmöbel der Zeit um 1800 // Garten. Kunst. Geschichte / Hrsg. E. Schmidt, W. Hausmann, J. Gamer. Worms, 1994.
(обратно)544
Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX в. среди европейских школ. С. 80–81; Он же. Стиль без имен и шедевров. С. 7.
(обратно)545
Gartenlust / Hrsg. G. Gollwitzer. München, 1961. S. 143 (репринт, 1-е изд. 1843 г.).
(обратно)546
Ritter J.A. Allgemeines deutsches Gartenbuch… Quedlinburg; Leipzig, 1832. S. 3.
(обратно)547
Прокофьев В.Н. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени (к проблеме примитива в изобразительных искусствах) // Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени. М., 1983. С. 18.
(обратно)548
Батюшков К.Н. Соч. М., 1955. С. 315 (1811–1812).
(обратно)549
Так называлось приложение к изданию книги Буше 1822 г. (см. примеч. 116).
(обратно)550
Thalmann M. Op. cit.
(обратно)551
Dulmen A. von. Op. cit. S. 166–176.
(обратно)552
Цит. по: Kleßmann E. Op. cit. S. 83.
(обратно)553
Сад жизни и сад смерти противопоставлены у Пушкина как воплощающие животворящую силу плодородия и неподвижный, навечно «запечатленный» образ застывшей природы («Вертоград моей сестры»).
(обратно)554
Принц де Линь 1809. Т. 3, ч. 6. С. 23.
(обратно)555
Принц де Линь 1809. Т. 4, ч. 8. С. 132.
(обратно)556
Ligne Ch. J. De. Coup d' oeil sur Beloeil et sur une grande partie des jardins de l'Europe // Mélanges. Vol. VIII. Р. 30.
(обратно)557
Colonna F. Hypnerotomachia Poliphili. Venice: A. Manutius, 1499. Любовное борение во сне Полифила. [Гл. XXI–XXIV. Путешествие на остров Киферу]. Цит. по: Соколов Б.М. «Чистосердечный читатель, рассказ о снах Полифила выслушай…» Архитектура, эрудиция и неоплатонизм в романе Франческо Колонны // Искусствознание. 2005. № 2.
(обратно)558
Panofsky E. Et in Arcadia ego. Poussin and the Elegiac Tradition // Idem. Meaning in the Visual Arts. Papers in and on Art History. New York, 1955.
(обратно)559
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 317.
(обратно)560
Цит. по: Майкапар А. „Et in Arcadia Ego": до и после Пуссена
(обратно)561
Олеарий А. Описание путешествия в Московию / Пер. с нем. А.М. Ловягина. Смоленск, 2003. С. 300, 302 (см.: Свирида И.И. Российский ландшафт в иностранных текстах: от Герберштейна до Кюстина // Россия: воображение пространства / пространство воображения. М., 2007).
(обратно)562
Szafrańska M. La nostalgie retrouvée // Les Cahier de Varsovie. 1985. N 12.
(обратно)563
Оркестровые партии этого контрданса недавно обнаружены в архиве: Matté C., MattéJ.L. Iconographie de la cornemuse. Inventaire des representations conserves en France. . [Matté].
(обратно)564
Цивьян Т.В. К семиотической интерпретации мотива лестницы-«лесенки» в античной вазописи (вокруг Адониса и Диониса) // Исследования по структуре текста. М., 1987.
(обратно)565
Заложена в 1782 г. Шимоном Богумилом Цугом (1733–1807), создателем значительных классицистических сооружений, в 1770-1780-х гг. он разбил наиболее известные польские естественные парки – Повонзки И. Чарторыской, Мокотув И. Любомирской, Солец, На Ксенженцем и На Гуже К. Понятовского. В оформлении Аркадии участвовали художники Ж.-П. Норблен, А. Орловский, М. Плоньский. См.: Piwkowski W Nieborów – Arkadia. W., 1988; Idem. Arkadia. Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej. W., 1995; Idem. Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne. Studia i Materiały Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Ogrody 5. W., 1998; Idem. Nieborów. W., 2005; Свирида 1994.
(обратно)566
[Radziwiłł H.] Guide d'Arcadie. Berlin, 1800. Польск. пер.: S.Ż[echowska]. Przewodnik Arkadii // Album literckie. W., 1848. T. 1.
(обратно)567
Kępińska A. Jan Piotr Norblin. 1978; Piwkowski W. Neborów i Arkadia. W., 1987; Swirida I. W poszukiwaniu ukrytych znaczeń. Park naturalny XVIII stulecia a wolnomularstwo // Ars Regia. 1993. Vol. II.
(обратно)568
Принц де Линь 1809. Изображение княгини Радзивилл Аркадской. Т. 3, ч. 6. В Главном архиве древних актов в Варшаве хранится рукописный экземпляр этого текста (Свирида 1994. С. 203).
(обратно)569
Mikocki T. Collection de la Princesse Radziwiłł. Les monuments antiques et antiquisants d'Arcadie et du chateau de Nieborów. Wr.; W., 1995.
(обратно)570
Постройки по образцу римского Пантеона сооружались во многих садах Европы, начиная с Чизвика лорда Берлингтона. В радзивилловской Аркадии так называлась ротонда в западной части Святилища Дианы (c. 207; ил. с. 203).
(обратно)571
Баткин Л.М. Мотив «разнообразия» в «Аркадии» Санадзаро и новый культурный смысл античного жанра // Античное наследие в культуре возрождения. М., 1984. С. 162.
(обратно)572
Эффект подобного удвоения (а точнее, мультиплицирования) можно ощутить на переплете дореволюционной «Детской энциклопедии» Ю.Н. Вагнера, где изображен мальчик, который, глядя вдаль, держит раскрытый том этой энциклопедии. На его переплете изображена та же картинка, на которой вновь изображен мальчик, держащий книгу с этой картинкой. Это можно представить в непрерывном повторении, что создает образ бесконечно углубляющегося мира, вызывая желание все же действительно заглянуть в этот далекий мир, т. е. читать Энциклопедию.
(обратно)573
Как «уголок меланхолии» это фрагмент парка изобразил Норблен (Нац. музей в Кракове. Реконструкция саркофага в: Piwkowski. Wł. Nieborów. W., 2005. S. 305.
(обратно)574
В один из 16 известных проектов Гробницы иллюзий включены заказанные в Петербурге копии фрагментов двух статуй из Египетского вестибюля Павловского дворца (Piwkowski W. Nieborów. S. 146). Автор проекта Хенрык Иттар (ил. с. 209).
(обратно)575
[Radziwiłł M.P.] X.M.R. Ostatnia wojewodzina wileńska (Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa). Lwów, 1892. S. 148.
(обратно)576
Юнг Э. Бытие разумное. М., 1787. С. 68.
(обратно)577
Глинка Ф. Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год. М., 1815. Ч. 4. С. 233–235 (описание Аркадии). В 1798 г. Н.А. Львов рисовал в альбоме А. Безбородко проект преобразования двух бассейнов в подобный цирк.
(обратно)578
Piwkowski Wł. Nieborów. S. 149–150.
(обратно)579
Установлено К. Залеским.
(обратно)580
Делиль Ж. Сады. Л., 1987. С. 21.
(обратно)581
Х. Радзивилл была творчески одаренной натурой, передавшей художественные способности свои потомкам. Среди них наиболее известен сын Антони, талантливый композитор, первый автор музыки к «Фаусту» Гёте. Благодаря рисовальным талантам детей и внуков оказались запечатлены несохранившиеся виды Аркадии, среди них Вход в парк и Шалаш отшельника, крытый соломой и примостившийся к Гроту Сивиллы (К. Радзивилл. 1796), события семейной жизни, в том числе такое выдающееся, как выступление Шопена в Антонине (Познаньское воеводство), а также портрет композитора (два рисунка Э. Радзивилл. 1829).
(обратно)582
Gavelle R. Et in Arcadia ego // Bulletin de la Société d'Études du XVIIe siècle. 1953. N 18.
(обратно)583
Фраза «Et in Arcadia ego» не встречается у античных авторов и приписывается папе Клименту IX (Джулио Роспильози), покровителю выдающегося барочного скульптора Бернини.
(обратно)584
Arkadia. Dział rękopisów. Księga zwiedzających. S. 21.
(обратно)585
Жуковский В.А. ПСС и писем. В 20 т. М., 2004. Т. 13. С. 309. Благодарю ГС. Злобина и А.А. Литвинова за библиографические сведения. Об А. Радзивилле см.: Бэлза И. История польской музыкальной культуры. М., 1957. Т. 2. С. 238; Карпова Е.В. Русская и западноевропейская скульптура XVIII – начала ХХ веков. Новые материалы. Находки. Атрибуции. СПб., 2009. С. 115–120.
(обратно)586
Barcan L. Nature's Work of Art. The Human Body as Image of the Word. New Hawen; L., 1975.
(обратно)587
Chojecka Е. Obraz natury «drugiego obiegu» – wizja alchemiczna // Sztuka a natura. Katowice, 1991. S. 84.
(обратно)588
Софронова Л.А. О мифопоэтическом значении оппозиции человек/ не-человек // Миф в культуре: Человек/нечеловек. М., 2000. С. д.
(обратно)589
Виноградова Л.Н. Человек/нечеловек в народных представлениях // Человек в контексте культуры. М., 1995. С. 17–26; Толстая С.М. Символические заместители человека в народной магии // Судьбы народной культуры. Памяти Марины Ивлевой. СПб., 1998.
(обратно)590
Цит. по: Мастера искусства об искусстве. М., 1966. Т. 2. С. 49.
(обратно)591
Бубнова Е.А. Старый русский фаянс. М., 1973. С. 89.
(обратно)592
Тананаева Л.И. Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI–XVII вв. М., 1996. С. 92; Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986. С. 331–350; Соколов М.Н. Мистерия соседства: К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999. С. 297–319.
(обратно)593
Bentkowska A. Antrophomorphic Landscape in 16th– and 17th-century Western Art. A question of attribution and interpretation // Biuletyn Historii Sztuki. 1997. N 1.
(обратно)594
Карев А.А. Концепция «природного» и русский портрет на рубеже барокко и классицизма // Натура и культура. Славянский мир. М., 1997. С. 81, 83.
(обратно)595
Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002. С. 280.
(обратно)596
Топоров В.Н. Тезисы к предыстории «портрета» как особого класса текстов // Исследования по структуре текста. М., 1978. С. 283–285.
(обратно)597
Тананаева Л.И. Сарматский портрет: Из истории польского портрета эпохи барокко. М., 1979.
(обратно)598
Данилова И. Е. Искусство Средних веков и Возрождения. М., 1984. С. 210, 204.
(обратно)599
Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен: Россия семнадцатого столетия. М., 2008. С. 41–42.
(обратно)600
Там же. С. 49.
(обратно)601
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия: Догматическое богословие. М., 1991. С. 241.
(обратно)602
Либман М. Я. Очерки немецкого искусства позднего Средневековья и эпохи Возрождения. М., 1991. С. 67.
(обратно)603
Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века. М., 1955. С. 20.
(обратно)604
Цит. по: Овчинникова Е.С. Иосиф Владимиров: Трактат об искусстве // Древнерусское искусство XVII в. М., 1964. С. 37.
(обратно)605
Цит. по: Лебедев Г. Русская живопись первой половины XVIII в. Л.; М., 1938. С. 36, 35.
(обратно)606
Guze I. Twarze z portretów. W., 1974. S. 99-115, 134–135.
(обратно)607
О «соприсутствии» сакрального и мирского в протестантизме. См.: Соколов М.Н. Мистерия соседства: К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999. С. 257–271.
(обратно)608
Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века // Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973. С. 43. Также с. 367.
(обратно)609
Лебедев Г. Указ. соч. С. 46.
(обратно)610
Мастера искусства об искусстве. М., 1966. Т. 2. С. 338–339.
(обратно)611
Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. М., 1965. С. 151.
(обратно)612
Этому была посвящена выставка в лондонской Национальной портретной галерее: Portrait in disguise. National portrait gallery. L., 1994.
(обратно)613
Свирида 1999. С. 36–39.
(обратно)614
Цит. по: Ryszkiewicz A. Polski portret zbiorowy. Wrocław, 1961. S. 122.
(обратно)615
См.: Софронова Л.А. Польская романтическая драма. М., 1992. С. 186.
(обратно)616
Waetzoldt W. Die Kunst des Porträts. Leipzig, 1908. S. 116; Wallis M. Autoportret. W., 1964. S. 113–116.
(обратно)617
Виппер Б.Р. Проблема сходства в портрете // Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. С. 207.
(обратно)618
Цит. по: Guze J. Twarze z portretów. W., 1974. S. 26.
(обратно)619
Калитина Н.Н. Французский портрет XIX в. М., 1985. С. 152–153.
(обратно)620
О функции замещения см: Вдовин Г. Становление «Я» в русской культуре XVIII в. и искусство портрета. М., 1999. Гл. 2.
(обратно)621
Цит. по: Мастера искусства об искусстве. Т. 2. С. 33.
(обратно)622
Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Работы по поэтике. М., 1987.
(обратно)623
Мельников Г.П. Живое/неживое: голем, машина и концепция современной культуры Э. Фромма // Миф в культуре. Человек/нечеловек.
(обратно)624
Martin P. Pursuing Innocent Pleasures: the Gardening World of Alexander Pope. Hamden (Conn.), 1984; Зыкова Е.П. Пастораль в английской литературе XVIII в. М., 1999. С. 61–62.
(обратно)625
«Know then thyself! Presume not Good to scan! / The proper study of mankind is man». Pope A. An Essay on Man in Four Epistles. Epistle II.I.1–2.
(обратно)626
Лавджой А.О. Великая цепь бытия: История идей. М., 2001. С. 14.
(обратно)627
Поуп А. Опыт о человеке / Пер. В. Микушевича // Поэмы. М., 1988. С. 153, 154, 158, 174.
(обратно)628
Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 330.
(обратно)629
Руссо Ж.Ж. Избр. соч. М., 1961. Т. 3. С. 576.
(обратно)630
Софронова Л.А. Польская театральная культура эпохи Просвещения. М., 1985, passim.
(обратно)631
Krasicki I. Uwagi. Milczenie // Dzieła. Berlin, 1845. S. 485.
(обратно)632
Eustachewicz M. Poeta w ogrodzie // Pamiętnik Literacki. 1975. R. LXVI. Z. 3. S. 18.
(обратно)633
Свирида И.И. Утопизм и садово-парковое искусство эпохи Просвещения // Культура эпохи Просвещения. М., 1993.
(обратно)634
Русcо Ж.Ж. Избр. соч. Т. 3. С. 575, 578.
(обратно)635
Шиллер Ф. О наивной и сентиментальной поэзии // Собр. соч.: В 7 т. М., 1957. Т. 6. С. 423.
(обратно)636
Depmn J. La philisophie de l'inquiétude en France en XVIII siècle. P., 1979.
(обратно)637
Шиллер Ф. Указ соч. С. 423.
(обратно)638
Carmontel L. Jardin de Monceau. Avertissement. P., 1779. P. 3.
(обратно)639
Ligne, prince de. Mon refuge ou satyre sur les abus des jardins modernes. L., 1801. P. 40.
(обратно)640
Свирида 1994. С. 112–119.
(обратно)641
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 570.
(обратно)642
Цит. по: Folkierski W. Entre la classicisme et le romantisme. P.; Cracovie, 1925. P. 235.
(обратно)643
Шиллер Ф. Указ. соч. М., 1957. Т. 6. С. 423.
(обратно)644
Мамардашвили М. Символ и сознание. М., 1997. С. 24; см. также: Кассирер Э. Опыт о человеке // Общество, культура, философия: Рефер. сб. М., 1983. С. 112.
(обратно)645
Gersdorff D. Königin Luise und Friedrich Wilhelm III. Eine Liebe in Preus– sen. Hamburg, 1998. S. 82.
(обратно)646
Correspondance inédite du Roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin (1764–1777). P., 1875. P. 194; Polska stanisławowska. T. 1. S. 5.
(обратно)647
Гаврин В.В. «Ум любит простор», или еще раз о композиции портрета П.А. Демидова работы Д.Г. Левицкого // Культура и пространство. Славянский мир. М., 2004.
(обратно)648
Происхождение названия связано с женской одеждой XVI в. Вертюгаден (фр. Vertugadin, от vertu – добродетель, garder – хранить; согласно современному словарю – фижмы, лужайка, в словаре моды – это каркас в виде огромного колеса или тамбурина под юбками. Вертюгаден – также садовый зеленый Амфитеатр (с. 344).
(обратно)649
Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1987.
(обратно)650
Шиллер Ф. Указ. соч. С. 447, 514.
(обратно)651
Дидро Д. Избр. соч. М., 1978. Т. 1. С. 201.
(обратно)652
Sierakowski W. Postać ogrodów. Kraków, 1798. Т. 1. S. 6.
(обратно)653
Принц де Линь 1809. Т. 4. Ч. 8. С. 94–95.
(обратно)654
Мочалова В.В. Человек реальный и человек эстетический // Человек в контексте культуры. Славянский мир. М., 1995. С. 93–98.
(обратно)655
Швидковский Д.О. «Общество дилетантов» и пейзажный парк // XVIII век. Ассамблея искусств. М., 2000.
(обратно)656
См. также: Hunt J.D. The Picturesque Garden in Europe. L., 2003. P. 136.
(обратно)657
О китайских садах: Перевод из книги, сочиненной господином Чамберсом. СПб., 1771. С. 19.
(обратно)658
Ligne Ch. de. Mon refuge ou satir sur les jardins modernes. L., 1801. P. 39.
(обратно)659
Руссо Ж.Ж. Избр. соч. T. I. С. 321–324.
(обратно)660
Trembecki S. Zofiówka // Poezje. Lipsk, 1836. T. 2.
(обратно)661
Czartoryska I. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów. Wrocław, 1805. S. IX.
(обратно)662
Михайлов А.В. Об одной позднепросветительской утопии // Культура эпохи Просвещения. С. 69.
(обратно)663
Mumford L. The Story of Utopies. N.Y., 1962. P. 15.
(обратно)664
Francastel P. Preambule // Utopie et institutions au XVIIIe siècle: Le pragmatisme des Lumières. P., 1963. P. 8.
(обратно)665
Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. СПб., 1899, Т. 1. С. 227, 230.
(обратно)666
Делиль Ж. Сады. Л., 1987. С. 15.
(обратно)667
Зыкова Е.П. Указ. соч. С. 159.
(обратно)668
Софронова Л.А. Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 632; см. также: Утопия и утопическое в славянской культуре. М., 2002, в том числе вводную статью Л.А. Софроновой «Об утопии и утопическом».
(обратно)669
Ср.: Свирида И.И. Утопизм и садово-парковое искусство эпохи Просвещения // Культура эпохи Просвещения. М., 1993.
(обратно)670
Czartoryski А.К. О wierszu pasterki rzeczonym albo bukoliki // Sielanki polskle. W., 1778. S. 8.
(обратно)671
Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. С. 467.
(обратно)672
Свирида 1994. С. 52–75. О попытке освобождения крестьян см. с. 000
(обратно)673
Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. М., 2003. С. 466–518.
(обратно)674
Турчин В.С. Аллегории будней и празднеств в «сословной иерархии» XVIII–XIX вв. // Русская усадьба. М., 1996. № 2. С. 22.
(обратно)675
Novikova A. Virtuosity and Declensions of Virtue. Thomas Arundel and Aletheia Talbot Seen by Virtue of a Portrait Pair by Daniel Mytens and a Treatise by Franciscus Junius // Virtue, virtuoso, virtuosity in Netherlandish Art 1500–1700 / Ed. by J. de Jong, D. Meijers, M. Westermann, J. Woodall, eds. Netherlands Yearbook for History of Art 2003. Vol. 54. Zwolle, 2004.
(обратно)676
Евангулова О.С., Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII в. М., 1994. С. 13–19.
(обратно)677
Krasicki I. Dzieła. Berlin, 1845. S. 115.
(обратно)678
Село Надеждино и архив кн. Ф.А. Куракина в 1888 и 1890 гг. // Русская старина. 1890. Т. 68. № 10. С. 234.
(обратно)679
О контактах с французским двором, в том числе с Марией Антуанеттой, см.: Куракин А.Б. Ежедневная записка пребывания их императорских высочеств в Париже // Русский Гамлет. М., 2004.
(обратно)680
См.: И сад был книгой // Дмитриева, Купцова 2003. С. 453. Здесь же воспроизведено второе дополненное издание стихов 1796 г. Цит. с. 452, 453, см. также: Восемнадцатый век: Исторический сборник, изданный по бумагам фамильного архива кн. Ф.А. Куракиным. М., 1905. Т. II.
(обратно)681
Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992. С. 13.
(обратно)682
Михайлов А.В. Йохан Хейзинга в историографии культуры // Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 450.
(обратно)683
Цит. по: Ehrard J. L'idée de la nature en France à l'aube des Lumières. P., 1970. P. 96.
(обратно)684
Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека [17931794] // Собр. соч. Т. 6. Письмо 15.
(обратно)685
Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 548.
(обратно)686
Цит. по: Mauzi R. L'idée du bonheur dans la pensée françаise au XVIII siècle. P., 1960. P. 112.
(обратно)687
Stanisław August Poniatowski. Pamiętniki. Wyd. W. Konopczyński. W., 1915. T. 1, cz. 1. S. 142. См. также (c. 000).
(обратно)688
Цит. по: Михайлов Б.Б. Площадь и сцена в Москве XVIII в. (пространство театральное и пространство историческое) // Театральное пространство. С. 255.
(обратно)689
Kniaźnin F. Balon. Pieśń siódma // Kniaźnin F. Dzieła. W., 1928. S. 59; [II.3, с. 000].
(обратно)690
Ruyer R. L'utopie et les utopies. P., 1950. P. 8.
(обратно)691
Цит. по: Bartier J. Laicité et franc-maçonnerie. Bruxelle, 1981. P. 319. Казанова не имел дворянства, но подписывался Jacques Casanova de Seingalt.
(обратно)692
Ch.J. de Ligne. Mélanges. Vol. XXIX, p. 38–78.
(обратно)693
Polska stanisławowska. T. II. S. 545.
(обратно)694
Цит. по: Siemieński L. Dzieła. W., 1881. T. I. S. 143.
(обратно)695
Jezierski F.S. Wybór pism. W., 1952. S. 229.
(обратно)696
Lettres et pensées du Maréchal Prince de Ligne publiées par Madame de Staël Holstein. P., 1809. P. 92.
(обратно)697
Принц де Линь 1809. Т. 2, ч. 3. С. 76.
(обратно)698
Там же. Т. 1, ч. I. С. VII.
(обратно)699
Встреча произошла в Париже в трудный для Руссо период, и де Линь пригласил его в Белёй «жить в том храме, который я построил для Вас в моем владении, – писал он, – где нет ни парламента, ни духовенства [с их стороны философ в то время подвергался преследованиям], но где найдете прекрасные сады, поля и рощи» (Принц де Линь 1809. Т. 2, ч. 4. С. 73–74).
(обратно)700
Lettres et pensées du Maréchal Prince de Ligne. P. 92.
(обратно)701
Линь, принц де. О путешествиях // Избранные философические, политические и военные творения принца де Линя, изданные одним из его приятелей, служащие продолжением к Творениям его, изданным Госпожею Стаэль-Голстейн и Г. Пропиаком / Пер. с фр. Немир[овского]. М., 1810. Т. 6. С. 50; L'art de voyager // Ligne Ch. J. de. Mélanges. Vol. XXXI. В первом из них де Линь вывел себя в качестве двадцатисемилетнего человека, «несколько известного» в Европе благодаря участию в войне. К тому времени он небезуспешно участвовал в Семилетней войне и к ее окончанию достиг указанного возраста, что позволяет датировать сочинение 1763 годом.
(обратно)702
Watelet C.A. Essai sur les jardins. P., 1774. Здесь автор развивал идею живописного сада (pittoresque), представляя его разные типы. В заключение под названием «Французский сад, письмо к другу» Ватле дал описание своего сада, которое и предлагал читать де Линь (французский в данном случае не означало регулярный).
(обратно)703
Принц де Линь 1809. Т. 2, ч. 3. С. 57.
(обратно)704
[Prince de Ligne]. Coup d' oeil sur Beloeil et sur une grande partie des jardins de l'Europe à Beloeil, de l’imprimerie du P. Charles de… [прочерк] 1781. На экземпляре Британской библиотеки (шифр 7055.d.3) старая надпись (возможно автора): «Ouvrage compose par le Prince de Ligne et imprimé chez lui on n'en a tiré que 50 Exemp: qui ont ete destribué en present Par Lauteure» (орфография оригинала). Рус. пер.: Взор на сады / Принц де Линь 1809. Т. 4, ч. 8. С. 94–133. Текст значительно сокращен. Авторы перевода устанавливаются по одновременному изданию: Линь, принц де. Письма и мысли маршала принца де Линь, изданные в свет баронессою Стаэль Гольстейн / Пер. с фр. М. И[льин]ским и А. И[вано]вым. В 2-х ч. М.: В Университетской типографии, 1809. Перевод неровного качества, частично архаичен по отношению к оригиналу (цит. далее с указанием страницы в тексте). Фрагменты сочинения, цитируемые с указанием номера тома (VIII или IX) и страницы, переведены автором заново с издания: Ligne Ch. J. de. Mélanges.
(обратно)705
Ligne, prince de. Mon refuge ou satyre sur les abus des jardins modernes. L., 1801; Idem. Adieux à Beloeil. Beloeil, 1807.
(обратно)706
См. описание в: Свирида 1999. С. 65.
(обратно)707
См.: Wiebenson D. The Picturesque Garden in France. Princeton, 1979; Hunt J.D. The Picturesque garden in Europe. L., 2004.
(обратно)708
Принц де Линь 1809. Т. 4, ч. 8. С. 4.
(обратно)709
Потемкин имел несколько дач на Петергофской дороге, которые часто менял. Де Линь писал о Светлейшем князе, что тот «купит имение, устроит в нем колоннаду, разобьет английский сад, и продаст.». См.: Горбатенко С.Б. Английские сады на петергофской дороге // Философский Век. Альманах. СПб., 2000. Вып. 20. С. 186. Де Линь оставил блестяще написанный литературный портрет Потемкина.
(обратно)710
Браун его переделывал в 1772–1773 гг., что позволяет уточнить время поездки принца в Англию.
(обратно)711
Линь, принц де. Письма., и творения. Т. 2, ч. 4. С. 1. Вёрлиц действительно мог напомнить ему о Царском Селе, их «связи и переклички» несомненны, как и с Английским дворцом и парком в Петергофе. См.: Глезер Е.Н. Архитектурный ансамбль Английского парка. Л., 1979; Швидковский Д. О. «Gartenreich» в Ангальт-Дессау и в Петербургской губернии // Пинакотека. 1999. № 3/4 (№ 10/11). Де Линь предложил пять маршрутов по достопримечательностям Вёрлица. Согласно предположению Р. Мортье, они заимствованы из какого-то путеводителя по парку.
(обратно)712
Girardin R.L. De la composition des paysages, Ou des moyens d'embellir la nature… autour de l’Habitation, en joignant l'agréable à l'utile. Genève, 1777 (рус. пер. Б.М. Соколова см.: Искусствознание. 2007. № 1/2); Idem. Promenade ou itinéraire des jardins d'Ermenonville, auquel on a joint vingt-cinq de leurs principales vues, dessinées et gravées par J. Merigot fils. P., 1788. Пер. и вступ. ст. Б.М. Соколова см.: Искусствознание. 2007. № 1/2.
(обратно)713
См.: Dickinson AS. Russia's First «Orient»: Characterizing the Crimea in 1767. P. 16–17.
(обратно)714
Mémoire sur les Juifs (1797). См.: Delsemme P. Prince de Ligne franc-maçon // Bon-a-tire. Revue litteraire en ligne. 2004. № 10.
(обратно)715
Принц де Линь 1809. Т. 3. С. 6–7.
(обратно)716
Walpole H. On modern gardening // Anecdotes of painting in England. 3rd ed. L., 1782. Vol. 4. Цитирую по доступному мне изд.: Walpole H. Über die englische Gartenkunst von August Wilhelm Schlegel übersetzt. Heidelberg, 1994. S. 39.
(обратно)717
Формулировку принца – «Je ne décide point entre Kent et Le Nôtre» – повторил Делиль (ее французский текст приведен в: Hunt J.D. The Picturesque garden in Europe. P. 98). Делиль во вступлении к поэме отмечал: «Многие весьма именитые авторы писали о садах. Автор этой поэмы заимствовал у них некоторые рекомендации и некоторые описания, а во многих местах ему посчастливилось даже совпасть с ними, ибо его поэма была начата до того, как их произведения увидели свет». Стихотворным обращением к Делилю принц открыл свое сочинение: «Дождемся света мы и истинного вкуса. / О, Новый Бог садов!»
(обратно)718
Татарские мотивы были прямым результатом крымской поездки. Де Линь назвал фрагмент своего сада «татарской деревней», поскольку там «хижины пастухов и бараны в духе дикой природы. молочня сделана в виде мечети. два минарета служат голубятнями» (VIII.22). В Белёй было устроено также татарское кладбище, где он поместил надгробья, увенчанные тюрбанами (VIII.24).
(обратно)719
Mortier R. En relisent le Prince de Ligne // Acts du XIe Congrès international de Bibliophilie. Bruxelles, 1979; De NolaJ.-P. Goût française et mode anglaise dans le Coup d'oeil sur Beloeil du Prince de Ligne // Revue de la littérature comparée. 1983, № 2. P. 184.
(обратно)720
Ch. de Ligne, prince de. Mon refuge. P. 24.
(обратно)721
В 1793 г. принц писал Екатерине из Белёй: «Я украдкою снял вид с Царского Села, с колонны кагульской, вместо которой поставил обелиск из белого мрамора вышиною в пять футов» (Принц де Линь 1809. Т. 2, ч. 3. С. 74). Обелиск, установленный в 1788 г. в честь военных успехов Шарля в сражениях с турками, после его гибели в Шампани получил иной смысл.
(обратно)722
Le Rouge G.-L. Jardins anglo-chinois ou details de nouveaux jardins à la mode. P., 1776–1788, cah. VII (15–18), VIII (16–21).
(обратно)723
Шартье Р. Письменная культура и общество. М., 2006.
(обратно)724
См.: Polska stanisławowska. T 1–2; Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. СПб., 1991; Он же. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. СПб., 1997; Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.
(обратно)725
Вульф Л. Указ. соч.; Свирида 1999; Она же. Русско-польские художественные отношения в европейском культурном контексте XVIII – начала XIX вв. // Пинакотека. 2005. № 1/2 (20/21).
(обратно)726
Однако вряд ли можно говорить об эпохе Просвещения как цельном явлении в культурах всех восточноевропейских народов, они по-разному открывали свои пути в Новое время, одним из которых стало так называемое Национальное возрождение. См.: Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX вв. М., 1990; там же: Свирида И.И. Типы и направления национальных культурных процессов в Центрально– и Юго-Восточной Европе. С. 13–34; она же. Национальное возрождение / к вопросу о типе культуры // Сов. славяноведение. 1989, № 3.
(обратно)727
Tazbir J. Rzecz Pospolita i świat. Wrocław, 1971; Каменецкая Е. Основные направления развития портрета в крупных художественных центрах Польши и Литвы. Автореферат дисс. канд. иск. Л., 1983; Тананаева Л.И. Испанский парадный портрет и развитие польской портретной живописи конца XVI – начала XVII века // Польская культура в зеркале веков. М., 2007.
(обратно)728
Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002. С. 127–160.
(обратно)729
Reichman J. Orient w kulturze polskiego Oświecenia. Wrocław, 1964; TazbirJ. Orient i Orientalizm w sztuce. W., 1986.
(обратно)730
Kowecka Е. Dwór «najrządniejszego w Polszczę magnata». W., 1993; Свирида И.И. Чужое имя в искусстве: три Версаля // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006.
(обратно)731
Szacki J. Historia myśli socjologiczneij. W., 1983, cz. I. S. 88.
(обратно)732
Кант Э. Соч. М., 1966. Т. 6. С. 29.
(обратно)733
Tazbir J. Kultura szlachecka w Polsce. W., 1978; Лескинен М.В. Указ. соч. С. 41–47.
(обратно)734
Bajer P.P. Polish Nobility and Its Heraldry. #3p; см. также: Zajączkowski A. Szlachta polska: kultura i struktura. W., 1993.
(обратно)735
Свирида 1978, passim.
(обратно)736
Wierzbicka-Michalska K. Teatr w Polsce w XVIII wieku. W., 1977; Софронова Л.А. Польская театральная культура эпохи Просвещения. М., 1965.
(обратно)737
Барт Р. Система моды: Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 335.
(обратно)738
Jezierski F.S. Wybór pism. W., 1952. S. 142, 214.
(обратно)739
Баженов В.И. Письма. Пояснения к проектам: Свидетельства современников. Биографические документы. М., 2001. С. 106.
(обратно)740
Нauser A. Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. München, 1958. Bd. II.
(обратно)741
Софронова Л.А. Польская театральная культура эпохи Просвещения. С. 73–85.
(обратно)742
Dmochowski F.К. Sztuka rymotwórcza. Wrocław, 1956. S. 85.
(обратно)743
Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 256.
(обратно)744
Цит. по: Polska stanisławowska. T. 2. S. 514.
(обратно)745
Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о Границах живописи и поэзии // Избранное. М., 1980. С. 424, 369.
(обратно)746
Рейнольдс Дж. Заметки к «Искусству живописи» Дюфренуа // Мастера искусства об искусстве. М. 1967. Т. 3. С. 408.
(обратно)747
Mortier R. L'originalité. Une nouvelle categorie esthetique du Siècle des Lumières. Genève, 1982.
(обратно)748
Лессинг Г.Э. Указ. соч. С. 424.
(обратно)749
Фальконе Э.М. Размышления о скульптуре // Мастера искусства об искусстве. М., 1967. Т. 3. С. 346.
(обратно)750
Грёз Ж.-Б. Письмо художнику Дюкре // Мастера искусства об искусстве. Т. 3. С. 368–369.
(обратно)751
Dmochowski F.К. Op. cit. S. 18.
(обратно)752
Krasicki I. Pisma wybrane. W., 1954. T. I. S. 195.
(обратно)753
Konarski S. Pisma wybrane. W., 1955. Т. II. S. 58. В польских книгах XVIII в. иллюстрация не была распространена. Однако в польских библиотеках было много зарубежных гравированных изданий.
(обратно)754
Kaledarz półstoletni. 1750–1800. Wybór, 1975. S. 80.
(обратно)755
Цит. по: Вульф Л. Указ. соч. С. 354.
(обратно)756
Репродуцировано в: Marceli Bacciarelli. Życie-Twórczość-Dzieła. Орг. A. Chyczewska. Poznań, 1968. T. I. S. 19, 20.
(обратно)757
Лихачев Д.С. Система стилевых взаимоотношений в истории европейского искусства и место в ней русского искусства XVIII в. // Русская литература XVIII в. и ее международные связи. Л., 1975. С. 7.
(обратно)758
Bernacki L. Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. Wrocław, 1925. Vol. I. S. 341.
(обратно)759
Мерсье Л.-С. Год две тысячи четыреста сороковой. Л., 1977. С. 166.
(обратно)760
Konarski S. Op. cit. S. 298.
(обратно)761
Bohomolec F. Komedie konwiktowe. W., i960. S. 91.
(обратно)762
Przybylski R. Klasycyzm czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. W., 1983. S. 78–79.
(обратно)763
Поуп А. Поэмы. М., 1988. С. 142.
(обратно)764
Письмо Станислава Августа И. Красицкому. Цит. по: Krasicki I. Op. cit. T. IV. S. 249.
(обратно)765
Jezierski F. Op. cit. S. 125–126.
(обратно)766
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Цит. по: http://nz-biblio.narod.ru/html/eliadei/.
(обратно)767
Фуко М. Археология знания: Пер. с фр. / Общ. ред. Бр. Левченко. Киев, 1996. С. 10.
(обратно)768
Софронова Л.А. История и культура // История и культура. Славянский мир. М., 1997. С. 15.
(обратно)769
Интервью с профессором Полем Рикёром // Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. . Б/п.
(обратно)770
Об отношении Просвещения к мифу как ко всякой иррациональности см.: Хоркхаймер М, Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб., 1997. http://ec-dejavu.ru/e/Enlightenment-2.html.
(обратно)771
Гердер И.Г. Избр. соч. М.; Л., 1959. С. 287.
(обратно)772
Giullot H. La Querelle des Anciens et des Modernes en France. P., 1914; Спор о древних и новых. М., 1985; Secomska K. Spór о starożytność. W., 1991.
(обратно)773
Bieńkowski T. Antyk // Słownik literatury polskiego Oświecenia. Wrocław etc., 1977. S. 17.
(обратно)774
Бахтин M.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 297.
(обратно)775
Krasicki I. Historia / Opracowanie i wstęp M. Klimowicza. W., 1956. S. 9.
(обратно)776
Цит. по: Кассирер Э. Философия Просвещения. С. 243.
(обратно)777
Watelet С.Н. L'art de peindre. Р., 1774. P. 59.
(обратно)778
Гердер И.Г. Избр. соч. С. 274.
(обратно)779
Кассирер Э. Философия Просвещения. С. 255.
(обратно)780
Бодэн Ж. Метод, облегчающий познание истории (1566). Цит. по: Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986. С. 350.
(обратно)781
Свидерская М.И. Пространственные искусства в культуре итальянского возрождения // Классическое и современное искусство Запада. Мастера и проблемы. М., 1989.
(обратно)782
Вернадский В.А. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988. С. 192.
(обратно)783
Baumgarten A.G. Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (1735).
(обратно)784
Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Указ. соч. С. 16.
(обратно)785
Jezierski F.S. Wybór pism. W., 1952. S. 143.
(обратно)786
Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о Границах живописи и поэзии // Избранное. М., 1980. С. 434.
(обратно)787
Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств XVIII в. М., 1956. С. 240.
(обратно)788
Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. М., 1970. С. 313–334.
(обратно)789
Герман М. Уильям Хогарт и его время. Л., 1977. С. 122.
(обратно)790
Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980. С. 359.
(обратно)791
Герман М. Указ. соч. С. 122 (c. 000).
(обратно)792
См. Darnton R. The Great Massacre and other Episodes in French Cultural History. New York, 1984 (рус. пер. 2002).
(обратно)793
История в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера / Пер. и примеч. Н.В. Ревуненковой. Под общ. ред А.Д. Люблинской. Л., 1978. С. 7.
(обратно)794
Krasicki I. Op. cit. S. 9.
(обратно)795
Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978.
(обратно)796
Watelet С.А. L'art de peindre. P., 1774. Р. 59.
(обратно)797
Урванов И.Ф. Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода. СПб., 1793. С. 54.
(обратно)798
Correspondance inédite du Roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin (1764–1777). P., 1875. P. 165.
(обратно)799
Czartoryska I. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów. Wrocław, 1805. S. 47–48.
(обратно)800
Урванов И.Ф. Указ. соч. С. 38.
(обратно)801
Там же.
(обратно)802
Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987. С. 331.
(обратно)803
Karpiński F. Na Wokluz, wody i dom Gocki pod Białymstokiem // Dzieła. Kraków, 1862. S. 394.
(обратно)804
Ryszkiewicz A. Polski portret zbiorowy. Wrocław, 1961. S. 69.
(обратно)805
Albertrandi A. Wiersz о malarstwie. W., 1790. S. 58.
(обратно)806
Acta regnum et populi Poloni, иначе называемые Teki Naruszewicza: в 230 томах. Библиотека Чарторыских в Кракове.
(обратно)807
Castell R. The villa of Ancients Illustrated [1728]. См.: BiałostockiJ. Teoria i twórczość. Poznań, 1961. S. 186; Hunt J.D. Garden and Grove: The Italien Renaissance Garden in English Imagination. 1600–1750. Princeton, 1986. P. 194–195.
(обратно)808
См.: Свирида 1994. С. 37–38.
(обратно)809
Miziołek J. Villa Laurentina: Arcydzieło sztuki stanisławowskiej. W., 2007. S. 11.
(обратно)810
Abramowicz A. Dzieje zainteresowań starożytniczych w Polsce. Wrocław, 1987, cz. 1–2.
(обратно)811
Sroczyńska K. Zygmunt Vogel – rysownik gabinetowy Stanisława Augusta. Wrocław, 1969.
(обратно)812
Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976. С. 148.
(обратно)813
Дюбо Ж.-Б. Указ. соч. С. 149.
(обратно)814
Дидро Д. Указ. соч. С. 356.
(обратно)815
Polska stanisławowska. T. 1. S. 597.
(обратно)816
Дидро Д. Указ. соч. С. 358.
(обратно)817
Свирида 1978. С. 11–38.
(обратно)818
Mańkowski T. Mecenat artystyczny Stanisława Augusta, W., 1976; Kwiatkowski M. Stanisław August Król-Architekt. Wrocław; W.; Kraków, 1983; RottermundA. Zamek Warszawski w epoce Oświecenia: Rezydencja monarsza, Funkcje i treści. W., 1989.
(обратно)819
Программа оформления Замка проанализирована в: Rottermund A. Op. cit.
(обратно)820
В качестве такового король предполагал Станислава Понятовского, своего племянника, несомненно, просвещенного человека, заслуживающего не только художественно-биографического описания (Брандыс М. Племянник короля. М., 1974), но и научного. Он был знатоком искусства, коллекционером, проповедником псевдоготики, создателем парка в Корсуни. Благодаря ему в Россию попал живописец С. Тончи. См.: Свирида 1994, с. 27 и др.; Свирида 1999. С. 134–135).
(обратно)821
Naruszewicz A. Historia narodu polskiego od przyjęcia chrześciaństwa. In: 7 t. Kraków, 1780–1786.
(обратно)822
См.: Свирида 1978. С. 212.
(обратно)823
GrabskiA.F. Myśl historyczna polskiego Oświecenia. W., 1976.
(обратно)824
Это был придворный вариант Академии художеств. Создать полноценную Академию у Станислава Августа не хватало средств. Как важный документ эпохи и этого просветительского замысла остались проекты, см.: Tatarkiewicz W. Akademia Sztuk Pięknych za Stanisława Augusta // Idem. O sztuce polskiej XVII i XVIII w. W., 1966; см. также: Свирида 1978. С. 124–127 (там же дальнейшая литература вопроса).
(обратно)825
Albertrandi A. Wiersz о malarstwie. W., 1790. S. 57–58; см. также: Свирида И.И. Концепции польской художественной культуры: От Просвещения к романтизму // Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX вв. М., 1985.
(обратно)826
О Смуглевиче см.: Drema V. Pranciskus Smuglevicius. Vilnius, 1973; Свирида 1999. С. 69–83.
(обратно)827
Porębski M. Dzieje malowane. W., 1962. S. 47–49; Rottermund A. Ор. cit.
(обратно)828
Цит. по: Кассирер Э. Указ. соч. С. 241.
(обратно)829
В контексте русско-польских художественных связей см. об этом: Свирида 1999. С. 36–39.
(обратно)830
[Мнишек У.] Дневник… писанный во время пребывания императрицы Екатерины II в Киеве и в Каневе в 1787 г. одною из придворных дам короля Станислава Августа // Сын отечества. 1845. Кн. 3. С. 31. Оригинал: Wyciągi Piotrowickie… opublikowane przez A.E. Koźmiana. Wrocław, 1842. S. 25–39.
(обратно)831
Самозванство уже ранее волновало Екатерину в связи с появлением двойников Петра III см.: Мыльников А.С. Легенда о русском принце. Л., 1987. С. 71, 72, 78, 149.
(обратно)832
Listy Pani Mniszchowej… do matki Pani Zamoyskiej. // Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. R. I. 1866. P., 1867. S. 174–231. Цит. по: Gębarowicz M. Początki malarstwa historycznego w Polsce. Wrocław, 1981. S. 58.
(обратно)833
Смирнов Я.И. Рисунки Киева 1651 г. по копиям их конца XVIII в. М., 1908. Копии рисунков из собрания Станислава Августа, на основании которых была написана книга, в то время находились в Петербургской Академии художеств.
(обратно)834
Свирида 1994. С. 20, 97, 126, 156.
(обратно)835
С 1854 г. они были в Оружейной палате, в 1923–1939 гг. после возвращения по Рижскому миру в Королевском замке в Варшаве, где во время войны погибли. Оригиналы в ГИМ. См.: Ровинский Д.А. Материалы для русской иконографии. М., 1886. Вып. 4. № 123/129, где воспроизведены оригиналы и копии; в тексте Валентий Котерский назван Валерием. См. также: Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1889. Т. 4. С. 124–130; Драгохруст Е.И. Иконографические источники, освещающие польскую интервенцию начала XVII в. // Труды ГИМ. М., 1941. Вып. XIV. С. 29–72; Gębarowicz M. Op. cit.; см. также: Аронова А. Свадьба Лжедмитрия и Марины Мнишек: европейский придворный праздник на российской сцене // Пинакотека. 2005. № 1/2 (№ 20–21).
(обратно)836
Ацаркина Э.Н. Карл Павлович Брюллов. 1799–1852. М., 1963. С. 181. Оригиналы тогда еще находились в Вишневце. В 1876 г. Александр II подарил их Историческому музею.
(обратно)837
Ровинский Д.А. Материалы для русской иконографии. С. 3. Описание событий современниками см.: Сказания о Самозванце. СПб., 1859. Ч. 1–2.
(обратно)838
Бялостоцкий Я. Искусство и политика: 1770–1830 // Советское искусствознание. М., 1981. 8о. С. 233–258; Honour H. Neo-Classicism. Harmond– sworth, 1968. P. 68–80.
(обратно)839
Помарнацкий А.В. Портреты А.В. Суворова. Очерк иконографии. Л., 1963. С. 44–46; Michalowski J. Warszawskie portrety Suworowa w nowym opracowaniu // Biuletyn Historii Sztuki. 1968. R. XXX. № 4.
(обратно)840
Porębski M. Op. cit. S. 52–59; см. также: Wiliński St. U źródeł portretu staropolskiego. W., 1958; Gębarowicz M. Portret XVI–XVIII wieku we Lwowie. Wrocław etc., Kraków, 1971; RyszkiewiczA. Niektóre przejawy pychy szlacheckiej w dziełach sztuki // Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej. W., 1976; Тананаева Л.И. Сарматский портрет. Из истории польского портрета эпохи барокко. М., 1979.
(обратно)841
Свирида 1999. С. 173.
(обратно)842
Тананаева Л.И. Польское изобразительное искусство эпохи Просвещения. Живопись. Рисунок. М., 1968. С. 96.
(обратно)843
Zygulski Zd. Dzieje zbiorów puławskich (Swiątynia Sybilli i Dom Gotycki) // Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków, 1962. T.VII; Свирида 1994. С. 72–74; Aleksandrowska E. Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin, 1998.
(обратно)844
Цит. по: Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 94.
(обратно)845
Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970. С. 329.
(обратно)846
Ryszkiewicz A. Jean Gigoux i romantyczny typ portretu wodza zwyciężonej armii // Biuletyn Historii Sztuki. 1961. R. N 1.
(обратно)847
Софронова Л.А. Несколько слов о театре // Театральность в жизни и в искусстве. М., 1993. С. 3; Она же. Поэтика славянского театра XVII – первой половины XVIII века. Польша, Украина, Россия. М. 1981. С. 78–87.
(обратно)848
О понятии театральность см.: Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века // Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973; Софронова Л.А. Российский феатрон: московский любительски театр XVIII в. М., 2007. С. 120–121; Театральность в жизни и искусстве, статьи Л.А. Софроновой, Л.Н. Титовой, Н.М. Куренной, В.В. Мочаловой.
(обратно)849
Топоров В.Н. Эней – человек судьбы. М., 1993. С. 44.
(обратно)850
Евреинов Н.Н. Театр как таковой. М., 1923. С. 20, 27, и далее с. 32; см.: Куренная Н.М. О категории театральности // Театральность в жизни и в искусстве.
(обратно)851
Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992.
(обратно)852
Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984; Свирида И.И. Сады в иностранных текстах о России XVIII в.: древнерусская традиция и Версаль // Плантомания. Русский вариант. XII ЦС. СПб., 2006.
(обратно)853
Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 73
(обратно)854
Шиллер Ф. Избранные стихотворения и драмы. Л., 1937. С. 19–20.
(обратно)855
Кадышев В.С. Философские мотивы в комедии Мариво // Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980. С. 46–47.
(обратно)856
Лавджой А. Великая цепь бытия: история идеи. М., 2001. С. 15.
(обратно)857
Chrościcki J. Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. W., 1974.
(обратно)858
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 4.
(обратно)859
Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004. С. 220.
(обратно)860
Гомбрих Э. История искусства. М., 1998; ; б/п.
(обратно)861
Термин рококо появился в конце XVIII в. как производное от слов rocaille (небольшой камень нерегулярной формы, раковина) и barocco. Изобретение термина приписывается разным художникам: граверу Базену, живописцу круга Давида М. Куэ (M. Quai).
(обратно)862
Ermatinger E. Barock und Rokoko in der deutschen Dichtung. Leipzig, 1926; см. также: Laufer R. Style rococo, style des Lumières. P., 1963
(обратно)863
Михайлов А.Д. Роман Кребийона-сына и литературные проблемы рококо // Кребийон-сын. Заблуждения сердца и ума… М., 1974. С. 296.
(обратно)864
Выражение, существующее во французском языке с XIII в. и восходящее к Плинию (lnane nescio quid. Histoire naturelle. XXXVI, 16).
(обратно)865
Сиповская Н.В. Искусство к случаю // Ассамблея искусств. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII в. М., 2000.
(обратно)866
Дидро Д. Избр. соч. М., 1978. Т. 1. С. 339.
(обратно)867
Болотов А.Т. Некоторые практические замечания о садах новейшего вкуса // Экономический магазин. 1784а. Ч. 20. С. 29.
(обратно)868
Дарнтон Р. Высокое Просвещение и литературные низы в предреволюционной Франции // НЛО. 1990. № 37.
(обратно)869
Верещагин В. Путевые заметки Н.А. Львова по Италии в 1781 г. // Старые Годы. 1909. Апрель. С. 276–282.
(обратно)870
О возможностях альтернативного развития см. Там же. С. 22–23; (с. 110, 180, 330).
(обратно)871
Швидковский Д.О. Краткое рококо Петра III. – sica.ru/histr_artide/2002_04/hist0ry2002_04_01b.htm.
(обратно)872
Построена римским архитектором Г. Кьявери для саксонского курфюрста, который сменил конфессию, чтобы вслед за отцом получить польский трон под именем Августа III. Церковь должна была вмещать католические процессии, которые, выходя на улицы, раздражали протестантское население. В настоящее время Кафедральный собор Святой Троицы.
(обратно)873
Giersberg H.J. An Architectural Partnership. Frederick the Great and Georg W. von Knobelsdorf at Schloss Sanssouci // The Connoisseur. 1977. May.
(обратно)874
Алпатов М.В. Синтез искусств в эпоху барокко // Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963. С. 158.
(обратно)875
Тургенев А.И. Дневники 1825–1826. М.; Л. 1964; – new_a_i/text_0030.shtml
(обратно)876
Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976. С. 18.
(обратно)877
Гёте И.В. Собрание соч.: В 10 т. М., 1980. Т. 10. С. 40.
(обратно)878
Wierzbicka-Michalska K. Teatr w Polsce w XVIII w. W., 1977; Театр в национальной культуре стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1976; Титова Л.Н. Чешский театр эпохи национального возрождения. М., 1980; Софронова Л.А. Польский театр эпохи Просвещения. М., 1985.
(обратно)879
Сиповская Н.В. Праздники в русской культуре XVIII века // Развлекательная культура XVIII–XIX вв.: Очерки истории и теории. СПб., 2001; Семина В.С., Баженова Т.П. Европейские мотивы в архитектонике праздничной и развлекательной культуры России XVIII–XIX вв. // Аналитика культурологии. 2007. № 3 (9). Электронное издание.
(обратно)880
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Введение; цит. по: /Введение.
(обратно)881
Дмитриев И.И. Сочинения. М., 1986. С. 280.
(обратно)882
Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век / Сост. П.Е. Мельгуновой, К.В. Сивковым и Н.П. Сидоровым. М., 1918. Ч. II, вып. 2. С. 223–228.
(обратно)883
Он «велел их, раздев донага, вымазать всех дегтем и водить с процессиею по всем улицам села. Маленьких же ребятишек… велел заставлять кричать: „Воры! Воры!" и кидать в них грязью», а потом, собрав всех крестьян, «торжественно» произнес речь, пообещав еще большие неприятности в случае повторения таких преступлений (Болотов А.Т. Жизнь и приключения… М.; Л., 1931. Т. 3. С. 182–183).
(обратно)884
Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа. М., 2003. Гл. IV; см. также: Прилож. «Материалы к истории русского усадебного театра».
(обратно)885
Мочалова В.В. Театральность вне театра // Театральность в жизни и искусстве. С. 43.
(обратно)886
Лотман Ю.М. Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX в. // Он же. Статьи по типологии культуры; Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в. // Он же. История и типология русской культуры. М., 2002.
(обратно)887
Софронова Л.А. Российский феатрон. С. 416.
(обратно)888
Пыляев М.И. Старое житье: Очерки и рассказы. СПб., 1892. С. 82.
(обратно)889
Дидро Д. Указ. соч. С. 550, 286.
(обратно)890
Софронова Л.А. «Бедный» мистериальный театр // Славяноведение. 1992. № 3. С. 12.
(обратно)891
Дидро Д. Указ. соч. С. 550, 286.
(обратно)892
Вольтер, встав на защиту энциклопедистов, выдал пьесу «Кафе, или Шотландка» за перевод с английского и назвал автором некого священника Юма, родственника и друга великого философа.
(обратно)893
Золотов Ю.К. Французский портрет XVIII века. М., 1968. С. 241.
(обратно)894
Герман М.Ю. Уильям Хогарт и его время. Л., 1977. С. 131.
(обратно)895
Лотман Ю.М. Театральный язык и живопись // Театральное пространство. Материалы научной конференции. М., 1979. С. 244.
(обратно)896
Там же. С. 119, 125.
(обратно)897
Герман М.Ю. Указ. соч. С. 51, 8о.
(обратно)898
Конен В.Д. Окончательна кристаллизация гомофонно-гармонического стиля в эпоху классицизма // Западноевропейская художественная культура XVIII в. С. 33.
(обратно)899
Подробнее см.: Свирида И.И. Время сада // Знаки времени в славянской культуре от барокко до авангарда. М., 2009.
(обратно)900
Раппопорт А.Г. Пространство театра и пространство города в Европе XVI–XVII вв. // Театральное пространство. С. 208.
(обратно)901
Шахнович М.М. Египтомания и театрализация пространства // Виртуальное пространство культуры. Материалы научной конференции. СПб., 2000.
(обратно)902
Цит. по: Polska stanisławowska w oczach сudzoziemców. W., 1963. Т. 2. S. 35.
(обратно)903
[Carmontel L.C. de]. Jardin de Monceau… P., 1759. P. Цит.: Свирида 1994, с. 68.
(обратно)904
Виппер Б.Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI в. М., 1956. С. 79.
(обратно)905
Швидковский Д.О. Просветительская концепция среды в русских дворцово-парковых ансамблях второй пол. XVIII в. // Век Просвещения: Россия и Франция. М., 1988. С. 190, 193.
(обратно)906
Цит. по: -ka.ru/data/docs/11320.doc
(обратно)907
Старикова Л.М. Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны. Документальная хроника. 1730–1740. М., 1996. Вып. 1. С. 572; Софронова Л.А. Феатрон. С. 207–210. Об определении веселый по отношению к садам см. с. 112.
(обратно)908
Веселова А.Ю. Язык и стиль садовых трактатов конца XVIII – начала XIX века // Царицынский науч. вестник. М., 2005. Вып. 7/8.
(обратно)909
О понятиях вертюгаден и булингрин см. с. 416, 425.
(обратно)910
Whately Th. Observations on Modern Gardening, illustrated by descriptions. L., 1770 / Пер. Б.М. Соколова // Искусствознание. 2006. № 1.
(обратно)911
De Ligne Ch. Coup d'oeil sur Beloeil… Beloeil, 1781. P. 132.
(обратно)912
Экономический магазин. 1784. Ч. 20. С. 40.
(обратно)913
Czartoryski A. Mémoires. P., 1887. Vol. 1. P. 8.
(обратно)914
См.: Свирида 2006. С. 31–32.
(обратно)915
Маркова Т.И. Элементы театральности в этикете // Виртуальное пространство культуры. СПб., 2000; Сиповская Н.В. Обеды «к случаю»: настольные украшения XVIII века // Развлекательная культура России.
(обратно)916
Гёте И.В. Соч. Т. ю. С. 14.
(обратно)917
Цветаева М. Театр. М., 1988. С. 73.
(обратно)918
Niemcewicz J.U. Pamiętniki czasów moich. W., 1957. T. 2. S. 135.
(обратно)919
Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972. С. 127.
(обратно)920
Свободная женская одежда эпохи рококо. Название от имени Адриенны Лекуврер (1692–1730).
(обратно)921
Впервые это сделал Джон Джонстон (польск. Jan Jonston, он был шотландец, родившийся и работавший в Польше) в сочинении Theatrum universale historiae naturalis (1650–1653); см.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 159, 162.
(обратно)922
Цивьян Т.В. Оппозиция мужской/женский и ее классифицирующая роль в модели мира // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991.
(обратно)923
Цит. по: Ehrard J. L'idée de la nature en France à l’aube des Lumières. P., 1970. P. 171.
(обратно)924
Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1986.
(обратно)925
Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в. // История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 243–246.
(обратно)926
Цит. по: Эйгес И. Вечно женственное // Словарь литературных терминов. М.; Л., 1925. Т. 1.
(обратно)927
Сиповская Н.В. Царственная молочница // Пинакотека. 1997. № 2.
(обратно)928
Аникст А.А. Комментарии // И.В. Гёте. Избр. произведения. М., 1985. № 2. С. 700.
(обратно)929
Лотман Ю.М. Женский мир // Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994. Цит. по: .
(обратно)930
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. СПб., 1873. Т. 2. С. 127. «Диким» правление Петра III казалось Болотову, вероятно, прежде всего за приверженность нового императора Фридриху II, что было трудно понять этому участнику Семилетней войны
(обратно)931
Карев А.А. Концепция природного и русский портрет на рубеже барокко и классицизма // Натура и культура. Славянский мир. М., 1997. С. 81.
(обратно)932
Колпакова Н.П. Лирика русской свадьбы // Лирика русской свадьбы. Л. 1973. С. 245.
(обратно)933
Цит. по: Русская старина. 1874. Т. 9, кн. 3. С. 540.
(обратно)934
Эйдельман Н.Я. Дашкова и Дидро // Век Просвещения. Россия и Франция. Випперовские чтения-1987. М., 1989. С. 134.
(обратно)935
Ключевский В. О. Соч.: В 8 т. М., 1956–1959. Т. 4. С. 340.
(обратно)936
Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. М., 1992. С. 25.
(обратно)937
Де Бруин К. Путешествия в Московию / Пер. П.П. Барсова // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 75.
(обратно)938
Берк К.Р. Путевые заметки о России // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб., 1997. С. 166–167. Д. Кук в 1735 г. писал, что «церемония бракосочетания и осуществления брачных отношений теперь не так нелепа, как, говорят, была прежде. Невеста не вручает своему жениху плетку» (Кук Д. Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части Персидского царства // Там же. С. 423).
(обратно)939
Вдовин Г. Становление «Я» в русской культуре XVIII века и искусство портрета. М., 1999. С. 126–128.
(обратно)940
Лотман Ю. Женское образование в XVIII – начале XIX века // Беседы о русской культуре. СПб., 2008.
(обратно)941
Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 71.
(обратно)942
Krasicki I. Op. cit. S. 510.
(обратно)943
Так писал Бернарден де Сен-Пьер, составивший в целом очень лестное мнение о польках. Polska stanisławowska. T. I. S. 207.
(обратно)944
Ibid. T. 2. S. 786.
(обратно)945
Ibid. S. 426.
(обратно)946
Krasicki I. Dzieła. Berlin, 1845. S. 510.
(обратно)947
Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. М., 1979. С. 74. Гравюра Б. Пикара для французского издания (1727), в которой на фоне парка представлена беседа автора с просвещаемой им маркизой, была приложена в качестве фронтисписа также к русскому переводу 1740 г.
(обратно)948
Polska stanisławowska. T. 1. S. 207–208.
(обратно)949
Krasicki I. Op. cit. S. 488, 231.
(обратно)950
Дидро Д. Указ. соч. С. 437.
(обратно)951
Свидерская М.И.
(обратно)952
Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987. С. 155.
(обратно)953
Руссо Ж.Ж. Трактаты. М., 1998. С. 100.
(обратно)954
Липатов А.В. Amor divinus и amor profanes. Образ любви в литературе польского барокко // Эрос в национальной культуре. М., 2002.
(обратно)955
Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX в. Памяти П.Г. Богатырева //Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973. С. 43.
(обратно)956
Лебедев Г.Л. Русская портретная живопись первой половины XVIII в. Л.; М., 1938. С. 46.
(обратно)957
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 56 и 668 (Распоряжение о придворном маскараде).
(обратно)958
Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 103.
(обратно)959
M[onsegnior] Noverre [J.-G]. Lettres sur la danse, sur les ballets et les arts… St. Petersbourg, 1804. Vol. 4. P. 52.
(обратно)960
Ligne Ch. J. Mes écarts ou ma tête en liberté // Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires. Dresde, 1807. T. XIII.
(обратно)961
Кант И. Соч. М., 1966. Т. 6. С. 26.
(обратно)962
Мнение по поводу сочинения Ж.-Б. Дюбо. Цит. по: Рейнгардт Л.Я. Вступ. ст. в: Ж-Б. Дюбо. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976. С. 19.
(обратно)963
Anderson J. The Constitutions of Freemasons. 1723 (этот документ в литературе принято называть «Конституции Андерсона»). Цит. по: Лучинский Г. Франкмасонство // Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф.А. и Эфрон И.А. СПб., 1890–1907.
(обратно)964
Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. М., 1955–1957. Т. 6. С. 142.
(обратно)965
Кант И. Указ. соч. С. 17.
(обратно)966
Małachowski-Łempicki S. Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1776–1822. Dzieje i materiały. Wilno, 1930. P. 56.
(обратно)967
Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000; Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения, М., 1986. С. 331–350.
(обратно)968
Шартье Р. Письменная культура и общество. М., 2006.
(обратно)969
Чудинов А.В. Масоны и Французская революция: дискуссия длиною в два столетия // Новая и новейшая история. 1999. № 1.
(обратно)970
Цит. по: Załęski S. O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822. Kraków, 1889. P. 51.
(обратно)971
Cegielski T. «Ordo ex Chao». Wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII–XVIII w. W., 1994. S. 220–224.
(обратно)972
См.: Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, кабалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1992. С. 269–282.
(обратно)973
Cegielski T. Sekrety masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia. W., 1992. P. 93.
(обратно)974
Шукуров Ш.М. Храм умер? Введение в проблемы храмового сознания // Храм земной и небесный. М., 2004. С. 9 и passim; Турчин В.С. Храмовое сознание в ситуации риска. Масонская традиция XVIII-ХХ вв. // Там же.
(обратно)975
См.: Ryckwert J. The First Modern: The Architects of the Eighteenth Century. L., 1981.
(обратно)976
Buttlar A. von. Der Englische Landsitz. 1715–1760. Symbol eines liberalen Weltentwurfs. Mittenwald, 1982. S. 136.
(обратно)977
Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994. С. 529.
(обратно)978
Цит. по: Вёрман К. История искусства. СПб., s. a. Т. 3. С. 79.
(обратно)979
Jaroszewski T.S. Ze studiów nad problematyką recepcji Palladia w Polsce w drugiej połowie XVIII w. // Klasycyzm. Studia nad sztuką polską XVIII и XIX ww. Wrocław etc, 1968. S. 133–188.
(обратно)980
Cegielski T. «Ordo ex Chao». S. 221–223.
(обратно)981
Масонская программа этого парка была ясна современникам и прочитывается в его первом описании. См.: Rode А. Beschreibung des Fürstlichen Anhalt-Dessauischen Landshauses und Englischen Gartens zu Wörlitz. Dessau, 1798.
(обратно)982
Aftanazy R. Materiały do dziejów rezydencji. W., 1987. T. 2а. S. 230–231.
(обратно)983
В этом плане Гермеса могли отождествлять с Эвклидом. См.: Йейтс Ф. Розенкрейцерское Просвещение. М., 1999. С. 374.
(обратно)984
Morawińska A. Augusta Fryderyka Moszyńskiego Rozprawa o ogrodnictwie angielskim. Wrocław, 1977. S. 104.
(обратно)985
Aftanazy R. Op. cit. T. 4a. S. 367.
(обратно)986
Buttlar A. von. Op. cit. S. 95-120; Svirida I. Le jardin naturelle et la franc-maçonnerie // Actes du Septième congrès international des Lumières. Oxford, 1987; Hajos G. Romantische Gärten der Aufklärung: Englische Landskultur des 18. Jahrhundert in und um Wien. Köln, 1989; Свирида 1994. С. 124–150.
(обратно)987
Małachowski-Łempicki S. Wolnomularstwo. S. 7.
(обратно)988
Ciechchanowiecki A. Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonim. Köln; Gratz, 1961. Михал Казимеж был дядей Михала Клеофаса Огиньского, автора популярных полонезов.
(обратно)989
Цит. по: Лучинский Г. Указ. соч.
(обратно)990
Janoniene R. J. Rustemas. Vilnius, 2003.
(обратно)991
Szemesz A. Wspomnienia o szkole malarskiej wileńskiej // Athenaeum. 1844. T. 6. S. 222.
(обратно)992
Свирида 1999. С. 202
(обратно)993
См. о нем: Zalęski K. Vilniaus masonai // Vilniaus klasicizmas. Parodos katalogas. Lietuvos dailes muziejus. 2000. S. 221–224, 226–227.
(обратно)994
Гуцевич ввел в ложу каноника Никодима Пузыну (см.: Małachowski– Łempicki S. Wykaz polskich łoż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738–1821. Kraków, 1929. S. 152).
(обратно)995
См. о нем: Polski słownik biograficzny. Т. XX. S. 137–139; Petkus V Vilniaus wyskupas kunigaistis Ignas Jokübas Masalskis. Vilnius, 2000.
(обратно)996
Цит. по: ZalęskiS. Op. cit. S. 51.
(обратно)997
Цит. по: Пыпин А.Н. Русское масонство. СПб., 1916. С. 52.
(обратно)998
Об археологических исследованиях территории Верек см.: Petkus V. Op. cit. P. 69–70. Архивная документация с. 235–236.
(обратно)999
Будрейка Э. Веркяйский дворец. Вильнюс, 1985. С. 23. Из этой работы взяты далее приводимые сведения, связанные с планом Верок и конкретными обмерами (с. 8, 18).
(обратно)1000
Gromann I.G. Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten, Englischen Anlagen. Leipzig, 1798. H. 30. Bild VI.
(обратно)1001
Литография опубликована в 1846–1847 гг. в «Album de Vilna», изданном Я.К. Вильчиньским. Акварель художник сделал ранее, в 1845 г. (Ruseckas К. Laiskai sünui Boleslovui, Lietuvos valstybes istorijos archyvas. F. 1135. Ap.19. B. 15. P. 479).
(обратно)1002
Куракин Б.И. Дневник и путевые заметки кн[язя…] // Архив князя Ф.А.Куракина / Под ред. М.И. Семевского. СПб., 1890. Кн. 1. С. 107.
(обратно)1003
Племянница Масальского Хелена в 1779 г. стала женой Шарля Антуана, старшего сына Ш.Ж. де Линя, для молодых супругов Масальским производилась перестройка Верок, которые он планировал сделать центром майората. В 1792 г. Шарль Антуан погиб, епископ Масальский в 1794 г. был казнен, а Хелена вышла замуж за Винцента Потоцкого. О дальнейшей судьбе Верок см.: Свирида 1999. С. 237–239.
(обратно)1004
Lorentz S. Op. cit. S. 375.
(обратно)1005
См.: Morawińska A. Augusta Fryderyka Moszyńskiego Rozprawa o ogrodnictwie. S. 104.
(обратно)1006
Такая композиция близка мандале, одному из основных символов в буддизме, рассматриваемому Юнгом как универсальный.
(обратно)1007
См.: Ostrowska-Kębłowska Z. Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII w. w Wielkopolsce. Poznań, 1968.
(обратно)1008
Свирида 1994. С. 101–102.
(обратно)1009
Розенкрейцерство существовало в XVIII в. в качестве высших степеней посвящения в масонских ложах.
(обратно)1010
Сейчас этот эффект можно наблюдать лишь зимой, сквозь опавшую листву деревьев, но в XVIII в. они не были столь высоки.
(обратно)1011
Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 2006. С. 560.
(обратно)1012
Солнце означало также масонский орден в целом и изображалось кругом с точкой в центре.
(обратно)1013
Керлот Х.Э. Указ. соч. С. 206.
(обратно)1014
Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М., 1994. С. 288.
(обратно)1015
Forstner Osb D. Die Welt der christlichen Symbole. Innsbruck, 1966. S. 436–437.
(обратно)1016
Подобная сфера увенчивала дворец в Яблонне, принадлежавший Михалу Понятовскому, примасу Польши. Газонный партер перед дворцом в виде прямоугольника и две стоящие перед ним колонны создавали у посетителя впечатление, что он входит в масонскую ложу (Ф. Смуглевич. Вид Яблонны. После 1784 г. Кабинет гравюр библиотеки Варшавского университета). Зал в подземной части дворца предназначался для собраний ее членов.
(обратно)1017
Aftanazi R. Op. cit. T. 4a. S. 509; T. 4b. S. 306. Fig. 559.
(обратно)1018
Похлебкин В.В. Указ. соч. С. 388.
(обратно)1019
В принадлежавшем Бжостовскому Павлове до 1939 г. существовал восьмигранный павильон со слепыми окнами (Aftanazy R. Op. cit. Т. 4a. С. 324). Они были характерным признаком масонских построек.
(обратно)1020
В последнее время появились работы о масонской программе в русских садах. См.: Новиков В.И. Масонские усадьбы Подмосковья // Русская усадьба. М., 1999. Вып. 5(21); Турчин В.С. Взгляд русского масона на природу естественную и искусственную // Русская усадьба. 2002. Вып. 8 (24); Холодова Е.В. Кинь-Грусть, Храм Солнца и Космический квадрат // Там же. С. 49–76; Нащокина М.В. Русские сады. С. 220–233. Она же. Русские масонские сады // Русская усадьба. 2006. № 12. О масонских аллюзиях в постройках Петра III и Павла I cм. с. 142. Эта тема освещена автором также в: Svirida I. Koncepty wolnomularskie w usadbie rosyjskiej // Sztuka Królewska i Muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze polskiej i powszechnej. W., 2009 (w druku). Там речь идет, в частности, о Царском Селе.
(обратно)1021
Джейкоб М.К. Масонство // Мир Просвещения. Исторический словарь. М., 2003, с.285.
(обратно)


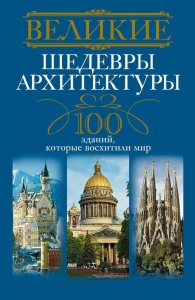
Комментарии к книге «Метаморфозы в пространстве культуры», Инесса Ильинична Свирида
Всего 0 комментариев