Мид М. - Культура и мир детства.
Избранные произведения
От редколлегии
Институт этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР и Главная редакция восточной литературы издательства "Наука" начиная с 1983 г издают книжную серию "Этнографическая библиотека".
В серии публикуются лучшие работы отечественных и зарубежных этнографов, оказавшие большое влияние на развитие этнографической пауки и сохраняющие по нынешний день свое важное теоретическое и методическое значение. В состав серии включаются произведения, в которых на этнографических материалах освещены закономерности жизни человеческих обществ на том или ином историческом этапе, рассмотрены крупные проблемы общей этнографии. Так как неотъемлемой задачей науки о народах является постоянное пополнение фактических данных и глубина теоретических обобщений зависит от достоверности и детальности фактического материала, то в "Этнографической библиотеке" найдут свое место и работы описательного характера, до сих пор представляющие выдающийся интерес благодаря уникальности содержащихся в них сведений и важности методических принципов, положенных в основу полевых исследований.
Серия рассчитана на широкий круг специалистов в области общественных наук, а также на преподавателей и студентов высших учебных заведений.
Серия открылась изданием двух книг: "Лига ходеносауни, или ирокезов" Л.Г.Моргана и "Структурная антропология" К.Леви-Строса. Обе вышли в свет в 1983 г. (в 1985 г. книга Леви-Строса была издана дополнительным тиражом). Предлагаемая книга Маргарет Мид "Культура и мир детства. Избранные произведения" впервые знакомит советского читателя с сочинениями знаменитого американского ученого, родоначальницы этнографии детства.
В процессе подготовки к изданию находится труд русского ученого - тюрколога, лингвиста и этнографа - академика В.В.Радлова (1837-1918) "Из Сибири. Страницы дневника" (перевод с немецкого). В перспективном плане серии также работы Д. И. Зеленина, М. Мосса, Л. Я. Штернборга, В. Г. Богораза, И. Ф. Сумцова и др.
I. Иней на цветущей ежевике. Часть 2
"Иней на цветущей ежевике (* Сочетание Blackberry winter (букв, "ежевичная зима"), которым озаглавлена автобиографическая книга М.Мид, обозпачает холодную пору поздней весны, когда цветет ежевика. В эпиграфе, открывающем книгу, сказано: "Blackberry winter, время, когда иней ложится на цветы ежевики; без этого заморозка не завяжутся ягоды. Это предвестник обильного урожая". - Примеч. ред.). Годы моей молодости" (Mead M. Blackberry Winter, My Earlier Years. William Morrow & Company, Inc. N.Y., 1972) - автобиография М.Мид, доведенная ею до начала второй мировой войны. Для перевода взята вторая часть книги (с. 134-240), в которой содержится описание главных этнографических экспедиций исследовательницы - полевые работы на Самоа, Новой Гвинее, Бали (1926-1938). Первая и третья части книги носят более личный, семейный характер.
Глава 11. Самоа: девушка-подросток
Когда я отправилась на Самоа, мое понимание обязательств, налагаемых на исследователя работой в поле и составлением отчетов о ней, было смутным. Мое решение стать антропологом частично основывалось на убеждении, что простой ученый, даже не обладающий особыми дарованиями, необходимыми великому художнику, может содействовать умножению знаний. Это решение было связано и с острым чувством тревоги, переданным мне профессором Боасом1 и Рут Бенедикт2. В отдаленных частях земли под натиском современной цивилизации ломаются образы жизни, о которых нам ничего не известно. Описать их нужно теперь, теперь, в противном случае они навсегда будут потеряны для нас. Все остальное может подождать, но это стало самой насущной задачей. Такие мысли овладели мною на встречах в Торонто в 1924 году, где я, самая юная участница конгресса, слушала других, постоянно говоривших о "своем народе". У меня не было народа, о котором я могла бы говорить. С этого времени у меня созрела твердая решимость выйти в поле, и не когда-нибудь в будущем, после размышлений на досуге, а немедленно, как только я завершу необходимую подготовку.
Тогда я очень плохо представляла себе, что такое полевая работа. Курс лекций о ее методах, прочитанный, нам профессором Боасом, не был посвящен полевой работе, как таковой. Это были лекции по теории - как, например, организовать материал, чтобы обосновать или поставить под сомнение определенную теоретическую точку зрения. Рут Бенедикт провела одно лето в экспедиции, занимаясь группой совершенно окультуренных индейцев в Калифорнии, куда она забрала с собой на отдых и свою мать. Она работала и с зуньи3. Я читала ее описания пейзажей, внешнего вида зуньи, кровожадности клопов и трудностей с приготовлением пищи. Но я очень мало почерпнула из них сведений о том, как она работала. Профессор Боас, говоря о квакиютлях4, называл их своими "дорогими друзьями", но за этим не следовало ничего такого, что помогло бы мне понять, что значит жить среди них.
Когда я решила взять в качестве предмета исследования девушку-подростка, а профессор Боас разрешил мне отправиться в поле на Самоа, я выслушала его получасовое напутствие. Он предупредил меня, что в экспедиции мне следует быть готовой к кажущимся потерям времени, к тому, чтобы просто сидеть и слушать, и что не следует терять время, занимаясь этнографией вообще, изучением культуры в ее целостности. К счастью, много людей - миссионеров, юристов, правительственных чиновников и этнографов старого закала - уже побывало на Самоа, так что искушение "тратить время" на этнографию, добавил он, будет у меня менее острым. Летом он написал мне письмо, в котором еще раз посоветовал беречь здоровье и вновь коснулся задач, стоящих передо мной:
Я уверен, Вы тщательно обдумали этот вопрос, но па некоторые его стороны, особо интересующие меня, мне хотелось бы обратить Ваше внимание, даже если Вы уже и думали о них.
Меня очень интересует, как молодые девушки реагируют на ограничения свободы поведения, накладываемые на них обычаем. Очень часто и у нас в подростковом возрасте мы сталкиваемся с бунтарским духом, проявляющимся либо в угрюмости, либо во вспышках ярости. У нас мы встречаем людей, для которых характерна покорность, сопровождаемая подавленной мятежностью. Это проявляется либо в стремлении к одиночеству, либо в навязчивом участии во всех общественных мероприятиях, за которым кроется желание заглушить внутреннюю тревогу. Не совсем ясно, можем ли мы столкнуться с подобными явлениями в примитивном обществе и не является ли у нас стремление к независимости простым следствием условий современной жизни и более развитого индивидуализма. Меня также интересует крайняя застенчивость девушек в примитивном обществе. Я не знаю, обнаружите ли Вы ее на Самоа. Она характерна для девушек большинства индейских племен и проявляется не только в их отношениях с посторонними, но и в кругу семьи. Они часто боятся говорить со стариками и очень застенчивы в их присутствии.
Еще одна интересная проблема - вспышка чувства у девушек. Вы должны обратить особое внимание на случаи романтической любви у старших девушек. По моим наблюдениям, ее ни в коем случае нельзя считать исключенной, и она, естественно, в своих наиболее ярких формах выступает там, где родители или общество навязывают девушкам браки против их воли.
... Ищите индивидуальное, но думайте и о схеме, ставьте проблемы так, как Рут Бунзель5 поставила их в исследовании искусства у пуэбло и геберлинов на северо-западном побережье. Полагаю, Вы уже прочли статью Малиновского6 в Psyche о поведении в семье на Новой Гвинее7. Я думаю, что на него сильно повлияли фрейдисты, но проблема, поставленная им,- одна из тех, которые встают и передо мной.
Здесь необходимо упомянуть еще и об объемистой книге Г.Стэнли Холла8 о подростках, в которой, отождествляя стадии роста человека со стадиями человеческой культуры, он утверждал, что развитие каждого ребенка воспроизводит историю человеческого рода. Учебники же исходили из предпосылки, заимствованной в основном из немецкой теории9, согласно которой половое созревание - период мятежа и стресса. В то время половое созревание и подростковый возраст прочно отождествлялись всеми. Только много позже исследователи, занимавшиеся развитием детей, начали говорить о гипотетическом "первом подростковом периоде" - приблизительно в возрасте шести лет - и о втором кризисе - во время полового созревания, о продолжении подросткового периода после двадцати лет и даже о каких-то проявлениях его у взрослых, которым за сорок.
Моя подготовка по психологии дала мне представление о выборках, тестах, систематизированных анкетах поведения. У меня также был даже небольшой опыт практической работы с ними. Моя тетушка Фанни работала в Ассоциации защиты юношества в Халл-Хауз в Чикаго, и одно лето я посвятила чтению отчетов этой Ассоциации. Они дали мне представление о том, что такое социальный контекст индивидуального поведения, о том, чем следует считать семью и каково ее место в структуре общества.
Я понимала, что мне надо будет изучить язык. Но я не знала никого, кроме миссионеров и их детей, ставших этнологами, кто владел бы разговорным языком изучаемого народа. Я прочла только один очерк Малиновского и не знала, в какой мере он владел языком тробрианцев10. Сама же я не знала ни одного иностранного языка, я только "учила" латынь, французский и немецкий в средней школе. Наша языковая подготовка в колледже заключалась в кратком знакомстве с самыми экзотическими языками. На занятиях на нас без всякой предварительной подготовки обрушивали вот такие предложения:
И это был своего рода великолепный метод обучения. Он учил нас, как и наши семинары по формам родства и религиозным верованиям, ожидать в экспедициях встречи с чем угодно, сколь бы странным, непонятным и причудливым оно ни показалось нам. И безусловно, первая заповедь, которая должна быть усвоена этнографом-практиком, гласит: очень вероятно, что ты столкнешься с новыми, неслыханными и немыслимыми формами человеческого поведения.
Эта установка на возможность столкновения в любое мгновение с новой, еще не зарегистрированной формой человеческого поведения - причина частых стычек антропологов с психологами, которые пытаются "мыслить с естественнонаучной точностью" и не доверяют философским конструкциям. Эта установка была причиной и наших столкновений с экономистами, политологами и социологами, которые используют модель социальной организации нашего общества в своих исследованиях других общественных укладов.
Хорошая школа, пройденная нами у профессора Боаса, разрушила нашу инертность, воспитала в нас готовность к встрече с неожиданным и, да будет это сказано, с чрезвычайно трудным. Но нас не обучили, как работать с экзотическим чужим языком, доведя знание его грамматики до такой степени, чтобы можно было научиться говорить. Сепир11 заметил мимоходом, что изучение иностранного языка лишено морального аспекта: честным можно быть, считал он, только на родном языке.
Таким образом, в нашем образовании не было знания к а к. Оно дало нам лишь знание того, что надо искать. Спустя много лет Камилла Веджвуд во время своей первой экспедиции на остров Манам коснется этого вопроса в первом письме домой: "Как узнать, кто брат чьей-то матери? Это знают лишь бог и Малиновский". В вопросе же Лоуи12: "Как мы узнаем, кто брат чьей-то матери, если кто-нибудь не скажет нам об этом?" - ясно видно разительное отличие его методов полевой работы от моих.
Полученное образование привило нам чувство уважения к изучаемому народу. Каждый народ состоит из полноценных человеческих существ, ведущих образ жизни, сопоставимый с нашим собственным, людей, обладающих культурой, сравнимой с культурой любого другого народа. У нас никто никогда не говорил о квакиютлях, или зуньи, или же о любом ином народе как о дикарях или варварах. Да, это были примитивные народы, то есть их культура была бесписьменной, она сложилась и развивалась без поддержки письменности. Но понятие "примитивный" означало для нас только это. В колледже мы твердо усвоили, что нет правильной прогрессии от простых, "примитивных" языков к сложным "цивилизованным" языкам. В действительности многие примитивные языки куда более сложны, чем письменные. В колледже мы также узнали, что, хотя некоторые художественные стили и развились из простых узоров, существовали и другие, эволюционировавшие от усложненных форм к более простым.
Безусловно, был у нас и курс по теории эволюции. Мы знали, что, для того чтобы человекоподобные существа выработали язык, научились пользоваться орудиями труда, разработали формы социальной организации, способные передавать опыт, приобретенный одним поколением, другому, понадобились миллионы лет. Но мы выходили в поле для того, чтобы искать не ранние формы человеческой жизни, но такие формы, которые были отличны от наших, отличны потому, что определенные группы примитивных людей жили в изоляции от основного потока великих цивилизаций. Мы не делали ошибки подобно Фрейду, предполагавшему, что примитивные народы, живущие на далеких атоллах, в пустынях, в чаще джунглей или же на арктическом Севере, тождественны нашим предкам13. Конечно, мы можем узнать у них, сколько времени понадобится для того, чтобы повалить дерево каменным топором, или же как мало пищи может принести в дом женщина в обществах, где главный источник пищи - охота мужчин. Но эти изолированные народы - не звенья генеалогического древа наших предков. Для нас было ясно, что наши предки на перекрестках торговых путей, где встречались представители разных народов, обменивались идеями и товарами. Они переходили через горы, отправлялись за моря и возвращались домой. Они брали в долг и вели учет. На них влияли открытия и изобретения, сделанные другими народами, влияли очень сильно, что было невозможно для народов, живших в относительной изоляции.
Мы были готовы к тому, что в нашей полевой работе можем столкнуться с различиями, значительно превышающими те, которые мы находим во взаимосвязанных культурах западного мира или в жизни народа па разных стадиях нашей собственной истории. Отчеты о найденном, об образе жизни всех исследованных народов и будут главным вкладом антропологов в копилку точных знаний о мире.
Таков был мой интеллектуальный багаж в области теоретической антропологии. Я, конечно, в какой-то мере научилась пользоваться методиками обобщенного описания таких, например, явлений, как использование народом своих природных ресурсов или форм социальной организации, развитых им. У меня был и некоторый опыт анализа наблюдений, сделанных другими исследователями.
Но никто не говорил о том, какими реальными навыками и способностями должен обладать молодой антрополог, вышедший в поле, - способен ли он, например, наблюдать и точно регистрировать увиденное, есть ли у него интеллектуальная дисциплина, необходимая для упорной работы день за днем, когда нет никого, кто руководил бы им, сопоставлял бы его наблюдения, кому можно было бы пожаловаться или перед кем похвалиться удачей. Письма Сепира к Рут Бенедикт и личные дневники Малиновского полны горьких сетований на праздность, а написаны они были как раз в то время, когда, как мы хорошо знаем, они совершали великолепную работу. Никого не интересовала наша способность выносить одиночество. Никто не спрашивал, как мы наладим сотрудничество с колониальными властями, с военными или с чиновниками Управления по делам индейцев, а работать мы должны были с их помощью. Здесь нам никто не давал никакого совета.
Этот стиль, сложившийся в начале столетия, когда исследователю давали хорошую теоретическую подготовку, а затем посылали его жить среди примитивного народа, предполагая, что со всем остальным он разберется сам, сохранился до нашего времени. В 1933 году, когда я давала молодой исследовательнице, отправлявшейся в Африку, советы, как справляться с пьянством британских чиновников, антропологи в Лондоне ухмылялись. А в 1952 году, когда с моей помощью Теодора Шварца14 послали учиться новым навыкам - обращению с генератором, записи на магнитную ленту, работе с камерой - всему тому, с чем предполагалось столкнуться в поле, профессора Пенсильванского университета считали это смешным. Те, кто учит сейчас студентов, учат их так, как их профессора учили их самих, и если молодые этнографы не впадут в отчаяние, не подорвут свое здоровье, не умрут, то они станут этнографами традиционного стиля.
Но это расточительная система, система, на которую у меня нет времени. Я борюсь с ней, давая моим студентам возможность воспроизвести мою подготовку к полевой работе, поработать над моими записями, поощряя их занятия фотографией, создавая для моего класса такие ситуации, в которых студенты сталкиваются с реальными проблемами и реальными трудностями, ситуации, где есть неожиданное и непредвиденное. Только таким образом мы сможем оценить реальные достоинства разных способов регистрации увиденного и посмотреть, как реагируют студенты в тех случаях, когда они потеряют ключ от фотокамеры или забудут снять крышку с объектива во время ответственного снимка.
Однако в этой борьбе я постоянно терплю поражение. Годичное обучение тому, как защитить каждый предмет от влажности или падения в воду, не мешает молодому этнографу завернуть единственный экземпляр уникальной рукописи в простую оберточную бумагу, положить паспорт и деньги в грязную, рваную сумку или же забыть упаковать дорогую и нужную камеру в герметический контейнер. Это досадно, ибо приобретают же практические навыки студенты, обучающиеся другим наукам: химики усваивают правила лабораторных работ, психологи привыкают пользоваться секундомером и писать протоколы экспериментов.
То, что антропологи предпочитают быть самоучками во всем, даже в усвоении теорий, преподанных им в колледже, по-моему, профессиональная болезнь, которая связана с чрезвычайно трудными условиями полевой работы. Для того чтобы сделать ее хорошо, исследователь должен освободить свой ум от всех предвзятых идей, даже если они относятся к другим культурам в той же части света, где он сейчас работает. В идеальном случае даже вид жилища, возникшего перед этнографом, должен восприниматься им как нечто совершенно новое и неожиданное. В определенном смысле его должно удивлять, что вообще имеются дома, что они могут быть квадратными, круглыми или овальными, что они обладают или не обладают степами, что они пропускают солнце и задерживают ветры и дожди, что люди готовят или не готовят, едят там, где живут. В поле никакое явление нельзя принимать за нечто само собой разумеющееся. Коль скоро мы об этом забудем, мы не сможем свежо и ясно воспринять то, что у нас перед глазами, а когда новое видится нам в качестве одного из вариантов чего-то уже известного, мы можем совершить очень грубую ошибку. Рассматривая некое увиденное жилище как большее или меньшее, роскошное или скромное по сравнению с жилищами уже известными, мы рискуем потерять из виду то, чем является именно это жилище сознании его обитателей. Позднее, когда исследователь основательно познакомится с новой культурой, все в ней должно быть подведено под уже известное о других народах, живущих в данном регионе, включено в наши теории о примитивных культурах вообще, в наши знания о человеке как таковом - знания на сегодняшний день, разумеется. Но основная цель этнографических экспедиции - расширить наши знания. Вот почему установка на распознавание новых вариантов уже известного, а не на поиск принципиально нового малоплодотворна. Очистить же собственное сознание от предвзятых представлений очень трудно, и, не затратив на это годы, почти невозможно освободиться от предрассудков, занимаясь только собственной культурой или другой, близкой ей.
В своей первой экспедиции этнограф всего этого не знает. Ему известно только то, что перед ним сложнейшая задача научиться достаточно четко понимать чужой язык и говорить на нем, определить, кто что собой представляет, понять тысячи действий, слов, взглядов, пауз, входящих в еще неизвестную систему, и, наконец, "охватить" структуру всей культуры. До моей поездки на Самоа я хорошо осознавала, что категории описания культур, употребленные другими исследователями, были и не очень оригинальными, и не очень чистыми. Грамматики, созданные ими, несли па себе печать идей индоевропейских грамматик, а описания туземных вождей - европейские представления о ранге и статусе. Я сознавала, что мне надо будет прокладывать свой путь в этом тумане полуистин и полузаблуждений. К тому же передо мной была поставлена задача изучения новой проблемы, проблемы, по которой не было никаких исследований и, следовательно, руководств.
Но, в сущности, сказанное верно и для любой экспедиции, действительно заслуживающей этого названия. В настоящее время исследователи отправляются в поле, чтобы поработать над какой-нибудь небольшой проблемой, для решения которой достаточно заполнить несколько анкет и провести несколько специальных тестов. В тех случаях, когда вопросы неудачны, а тесты совершенно непонятны и чужды испытуемым, эта работа может столкнуться с немалыми трудностями. Однако, если культура уже достаточно хорошо изучена, успех или неуспех опросов такого рода не имеет большого значения. Дело обстоит совсем иначе, когда надо точно зарегистрировать конфигурацию целой культуры.
В то же время необходимо всегда помнить, что некая целостная конфигурация, усматриваемая исследователем в какой-нибудь культуре, является только одной из возможных, что другие подходы к той же самой человеческой ситуации могут привести к иным результатам. Грамматика языка, над которой вы работаете, не есть грамматика с большой буквы, а лишь одна из возможных грамматик. Но так как вполне может быть, что эта грамматика окажется единственной, которую вам придется разрабатывать, то чрезвычайно важно, чтобы вы слушали язык и регистрировали факты со всей тщательностью и не опирались при этом, насколько это возможно, на складывающуюся в вашем сознании грамматику.
Все это очень важно, но это отнюдь не проясняет задачи повседневной работы. Нельзя узнать наперед, с какими людьми придется столкнуться и даже как они будут выглядеть. Хотя и имеется много фотографий, сделанных другими, но к моменту вашего прибытия на место внешний вид людей племени может измениться. Одно лето я работала среди индейцев омаха15. Как раз ко времени моего прибытия девушки в первый раз сделали перманент. Этого я не могла предвидеть. Мы не знаем, с каким реальным колониальным чиновником, плантатором, полисменом, миссионером или торговцем столкнет нас жизнь. Мы не знаем, где мы будем жить, что будем есть, пригодятся ли нам резиновые сапоги, обувь, защищающая от москитов, сандалии, чтобы дать отдохнуть ногам, шерстяные носки, впитывающие пот. Обычно же при подготовке экспедиций стараются брать как можно меньше вещей (а когда этнографы были беднее, то брали еще меньше) и строить как можно меньше планов.
Когда я отправилась на Самоа, у меня было полдюжины хлопчатобумажных платьев (два очень нарядных), потому что мне сказали, что в тропиках шелковая ткань разлагается. Но, прибыв на Самоа, я обнаружила, что жены моряков носят шелковые платья. У меня были маленький саквояж для денег и бумаг, небольшой "кодак" и портативная пишущая машинка. Хотя уже два года, как я была замужем, я никогда не жила в отелях одна, а мой опыт путешествий ограничивался лишь короткими поездками на поезде не далее Среднего Запада. Проживая в больших и малых городах, в фермерских районах Пенсильвании, я познакомилась с различными типами американцев, но у меня не было ни малейших представлений о людях, служащих в военно-морском флоте США в мирное время, я ничего не знала об этике морской жизни на базах. Я никогда не была ранее в море.
На приеме в Беркли, где я сделала краткую остановку, ко мне подошел профессор Крёбер16 и спросил твердым и сочувственным голосом: "У вас есть хороший фонарь?" У меня не было вообще никакой лампы. Я везла с собой шесть толстых блокнотов, бумагу для пишущей машинки, копирку и ручной фонарик. Но у меня не было фонаря.
Когда я прибыла в Гонолулу, меня встретила Мэй Диллингхэм Фриер, подруга моей матери по Уэлсли. Она, ее супруг и дочери жили в своем доме в горах, где было прохладнее. В мое распоряжение она предоставила "Аркадию" - их прекрасный, большой дом в городе. То, что когда-то мать подружилась с Мэй Диллингхэм и сестрой ее мужа Констанцией Фриер в Уэлсли, решило все мои проблемы в Гонолулу на многие годы. Мэй Диллингхэм была дочерью одного из первых миссионеров на Гавайях, а ее муж Уолтер Фриер - губернатором Гавайских островов. Сама она как-то до странности не вписывалась в рамки своей знатной, большой и богатой семьи. Она была преисполнена каких-то очень деликатных чувств, а ее отношение к жизни было сугубо детским. Но она умела распоряжаться, когда ей было нужно, и, пользуясь своим влиянием, которое простиралось вплоть до Самоа, она смогла найти сотни возможностей, чтобы сделать мой путь гладким. Все устроилось под ее присмотром. Музей Бишоп включил меня в свой штат в качестве почетного члена; Монтегю Кук, представитель другой старой фамилии на Гавайях, каждый день отвозил меня в музей, а Э. Крэгхилл Хэнди17 пожертвовал неделей своего отпуска, чтобы каждый день давать мне уроки маркизского языка, родственного самоанскому. Подруга "мамы Мэй", как я ласково назвала ее, дала мне сотню лоскутков старого, разорванного муслина "вытирать детям нос", а сама она подарила мне шелковую подушечку. Так она прореагировала на практический совет, данный мне на сей раз одним биологом: "Всегда имейте с собой маленькую подушку, и вы сможете улечься спать везде". Кто-то познакомил меня с двумя самоанскими детьми, обучавшимися в школе. Предполагалось при этом, что их семьи будут помогать мне на Самоа.
Все это было чрезвычайно приятно. У меня, защищенной авторитетом Фриеров и Диллингхэмов, не могло быть более удачного начала экспедиции. Но осознавала я это лишь смутно, так как не могла отделить то, что проистекало из их влияния, от самой обыкновенной любезности. Однако многие исследователи терпели самое настоящее фиаско уже в первые недели своих экспедиций. Обстоятельства делали их такими жалкими, такими нежеланными, такими обесславленными (может быть, потому, что другой антрополог в свое время восстановил всех против себя), что вся экспедиция проваливалась еще до ее начала. Существует очень много непредвиденных опасностей, от которых можно лишь попытаться уберечь своих учеников. Велика и роль случая. Миссис Фриер могло просто не быть в Гонолулу в то время, когда я прибыла туда. Вот и все.
Через две недели я отправилась в путь, утопая в гирляндах цветов. В то время гирлянды бросали с палубы в море. Сейчас гавайцы (* В оригинале - самоанцы (вероятно, ошибочно).- Примеч. ред.) дарят гирлянды из раковин, потому что ввоз цветов и плодов в другие порты запрещен. Они приносят с собой пластиковые мешки, в которых уносят цветы и фрукты домой. Но когда отплывала я, кильватер судна сверкал и искрился плывущими цветами.
Итак, я прибыла на Самоа. Вспомнив стихи Стивенсона18, я поднялась на рассвете, чтобы собственными глазами увидеть, как первый в моей жизни остров Южных морей проплывет над горизонтом и встанет перед моим взором.
В Паго-Паго никто меня не встречал. У меня было рекомендательное письмо от главного хирурга военно-морского флота, сокурсника отца Лютера19 по медицинскому колледжу. Но в то время все были слишком заняты, чтобы обратить на меня какое-либо внимание. Я нашла комнату в ветхом отеле и поспешила на площадь, где в честь прибывших на пароходе были устроены танцы. Повсюду виднелись черные зонты. Большинство самоанцев носили одежду из хлопчатобумажной ткани: на мужчинах были костюмы стандартного покроя, на женщинах же - тяжелые, неудобные блузы. В самоанских одеждах были только танцоры. Священник, приняв меня за туристку, с которой можно позволить себе небольшую вольность, перевернул мой значок (Фи-Бета-Каппа)20, чтобы посмотреть мое имя. Я сказала: "Это не мое". Эта реплика запутала мои дела на много месяцев вперед.
Затем наступило время, очень тяжелое для любого молодого исследователя, к сколь тяжелым испытаниям он бы ни готовился. Я была на Самоа. У меня была комната в отеле, бывшем местом действия рассказа и пьесы Сомерсета Моэма "Дождь", которую я видела в Нью-Йорке. У меня были рекомендательные письма. Но мне никак не удавалось заложить основы моей будущей работы. Я нанесла визит губернатору, пожилому брюзгливому человеку, не дослужившемуся до ранга адмирала. Когда же он сказал мне, что так и не выучил самоанский язык и что я не выучу его тоже, я имела неосторожность заметить, что после двадцати семи лет трудно учить языки. Это, безусловно, никак мне не помогло.
Я не знаю, удалось ли бы мне вообще начать работу, не будь письма от главного хирурга. Это письмо открыло мне двери медицинского управления. Старшая сестра, мисс Ходжесон, обязала молодую сестру-самоанку Дж. Ф. Пене, которая жила в США и превосходно говорила по-английски, заниматься со мной по часу в день.
После этого я должна была спланировать работу на оставшееся время. Я в полной мере сознавала как свою самостоятельность, так и ответственность перед комиссией, финансировавшей мою работу, которая не соглашалась выплатить мне деньги даже за три месяца вперед. Так как не было иного способа измерить мою прилежность, я решила работать по восемь часов в день. В течение одного часа меня учила Пепо. Семь же часов я тратила на заучивание словаря. Так, чисто случайно, я набрела на лучший метод изучения языка - учить его такими большими порциями и так быстро, как это только возможно, чтобы каждая заученная часть подкрепляла другую.
Я сидела в старом отеле и ела отвратительные блюда, приготовленные Фаалавелаве - это имя означает "Несчастье",- блюда, призванные подготовить меня к самоанской пище. Время от времени меня приглашали в больницу или в семьи медицинских работников. Национальный совет по научным исследованиям настоял на том, чтобы отправлять мне деньги почтой, а почту привозило только очередное судно. Это означало, что в течение шести недель я буду без денег и не смогу планировать отъезд до тех пор, пока не уплачу по счету в отеле. Каждый день я бродила по портовому городу и испытывала мой самоанский язык на детях, но все это было слабой заменой места, где я могла бы вести настоящие полевые работы.
Наконец судно прибыло. И тогда, воспользовавшись услугами матери полусамоанских ребятишек, с которыми я познакомилась в Гонолулу, я сумела выбраться в деревню. Эта женщина договорилась о моем десятидневном пребывании в Ваитонги, где я должна была остановиться в семье вождя, обожавшего принимать гостей. Именно в его доме я и получила основную подготовку в самоанском этикете. Моей постоянной спутницей была его дочь Фаамоту. Мы спали с нею вместе на кипах циновок в отдельной спальне. От остальной семьи нас отделял занавес из ткани, но само собой разумеется, дом был открыт для глаз всей деревни. Когда я мылась, то мне приходилось надевать нечто вроде малайского саронга, который легко сбросить под деревенским душем, в сухое же я одевалась перед глазеющей толпой ребятишек и взрослых прохожих. Я научилась есть самоанскую пищу и находить в ней вкус и чувствовать себя непринужденно, когда в гостях получала пищу первой, а вся семья сидела степенно вокруг меня, ожидая, когда я кончу трапезу, чтобы и они, в свою очередь, могли есть. Я заучила сложные формулы вежливости и научилась пускать по кругу каву21. Саму же каву я никогда не делала, ибо готовить ее следует только незамужней женщине. Но в Ваитонги я не сказала, что я замужем. У меня были лишь смутные представления о том, к каким последствиям в плане ролевых обязанностей это могло бы меня привести. День ото дня я все лучше овладевала языком, все более правильно сидела, испытывая все меньшую боль в ногах. По вечерам устраивались танцы, и я брала свои первые танцевальные уроки.
Ваитонги - красивая деревня с широкой площадью и высокими круглыми гостевыми домами, покрытыми пальмовыми крышами. У столбов этих домов рассаживались вожди по торжественным случаям. Я научилась распознавать листья и растения, применяемые для плетения циновок и изготовления тапы. Я научилась обращаться к другим людям соответственно их рангу и отвечать им в зависимости от того, какой ранг они приписывали мне.
Единственный трудный момент я пережила, лишь когда один прибывший в деревню оратор22 с Британского Самоа23 завел со мной беседу, в основе которой лежал опыт более свободного сексуального мира порта Апиа. Все еще не уверенная в своем самоанском языке, я объяснила ему, что брак между нами был бы неприличным из-за несоответствия наших рангов. Он принял эту формулу, но добавил с сожалением: "У белых женщин такие красивые толстые ноги".
Прожив эти десять дней, бывших для меня настолько же восхитительными и полными, насколько и трудными и бесполезными были предыдущие шесть недель, я вернулась в Паго-Паго, чтобы подготовиться к поездке на Тау, остров в архипелаге Мануа. Все были согласны с тем, что на островах Мануа традиции сохранились в большей неприкосновенности и что мне лучше всего отправиться туда. На Тау имелся медицинский пункт, и Рут Холт, жена главного фармаколога Мейта Эдварда Р. Холта, возглавлявшего этот пункт, была в Паго-Паго, где рожала ребенка. Главный медик в Паго-Паго распорядился, чтобы я поселилась прямо на медицинском пункте. Я прибыла на остров вместе с миссис Холт и новорожденным на тральщике, временно заменившем станционное судно. Во время опасной выгрузки через риф опрокинулся вельбот со школьниками, и миссис Холт вздохнула с громадным облегчением, оказавшись со своей малюткой, названной Моана, в безопасности па земле.
Жилье мне оборудовали на задней веранде амбулатории. От входа в амбулаторию мою кровать отделяла решетка, и через маленький двор была видна деревня. Рядом находился дом самоанского типа, где я должна была работать с подростками. Самоанский пастор из соседней деревни приставил ко мне девочку, которая стала моей постоянной компаньонкой, так как появляться где-либо одной мне не подобало. Я устроилась на новом месте, урегулировала мои хозяйственные отношения с Холтами, у которых был еще мальчик Артур. Ему еще не было двух лет, однако он говорил уже и по-самоански и по-английски.
Преимущества моего поселения в амбулатории мне скоро стали ясны. Остановись я в самоанском семействе, мне бы не удалось общаться с детьми. Для этого я была слишком значительной персоной. Люди знали, что, когда в Паго-Паго прибыли военные корабли, я обедала на флагманском судне. Это определило мой ранг. С другой стороны, я настаивала, чтобы самоанцы звали миссис Холт фалетуа, чтобы не возникало никаких вопросов, где и с кем я питаюсь.
Живя в амбулатории, я могла делать то, что в противном случае было бы совершенно неприличным. Девушки-подростки, позднее и младшие девочки, в необходимости изучения которых я тогда убедилась, днем и ночью заполняли мою решетчатую комнатку. Впоследствии я получила право на использование помещения школы для "экзаменов". Под этим предлогом я проинтервьюировала их и предложила несколько простых тестов каждой девочке. Я могла свободно ходить по деревне, вместе со всеми участвовать в рыбной ловле, заходить в дома, где женщины занимались плетением. Постепенно я провела перепись всех жителей деревни и изучила семью каждой из моих подопечных. По ходу дела я, безусловно, углублялась и во множество этнологических проблем, но я никогда не принимала участия в политической жизни деревни.
Моя полевая работа была крайне осложнена свирепым ураганом, разрушившим переднюю веранду амбулатории - помещение, которое я приспособила под свой кабинет. Этот ураган уничтожил все здания в деревне и погубил урожай. Все церемонии были почти полностью приостановлены на время восстановления деревни, а мне, с большим трудом привыкшей к самоанской пище, пришлось со всеми жителями деревни перейти на рис и лососину, доставляемые Красным Крестом. Морской капеллан, присланный следить за распределением пищи, увеличил собою число жителей нашего маленького жилища. К тому же его пребывание в доме вызвало глубокое раздражение мистера Холта, который, не получив в свое время высшего образования, был всего лишь помощником фармацевта. Он испытывал жгучую боль, сталкиваясь с любыми проявлениями рангов и отличий.
В течение всех этих месяцев мне почти нечего было читать, но это не имело большого значения, так как работа занимала все время моего бодрствования. Единственным отвлечением были письма. Отчеты о моей жизни, адресованные моим родным, были хорошо взвешенны, это были отчеты о моих радостях и тяготах. Зато в письмах к друзьям я слишком заостряла внимание на трудностях, так что Рут решила, что я переживаю тяжелый и неудачный период жизни. Дело же прежде всего заключалось в том, что я не знала, правильными ли методами работаю. Какими должны были быть эти правильные методы? Я не располагала примерами, на которые могла бы опереться. Профессору Боасу как раз перед отплытием из Паго-Паго я написала письмо, в котором делилась с ним своими планами. Его ободряющий ответ пришел, как раз когда я закончила работу на Тау и собиралась домой!
Эти письма тем не менее возвращают к жизни сцены тех далеких времен. В одном из них я писала:
Самое приятное время дня здесь - закат. В сопровождении приблизительно пятнадцати девушек и маленьких детей я иду через деревню к концу пирса Сиуфанга. Здесь мы стоим на площадке, огражденной железной решеткой, и смотрим на волны. Брызги океана попадают нам в лицо, а солнце плывет над океаном, спускаясь за холмы, покрытые кокосовыми пальмами. Большинство взрослых вышло на берег купаться. Они одеты в лавалавы, у каждого вёдра на коромыслах. Главы же семейств сидят в фалетеле (деревенский дом для гостей) и готовят каву. В одном месте группа женщин заполняет небольшое каноэ раствором местного крахмала из арроурута. Иногда, как только мы подходим к берегу, томные звуки деревянного колокола, призывающего к вечерней молитве, настигают нас. Дети должны поспешить укрыться. Если мы на берегу, то они бегут к ступенькам амбаров и сидят там, свернувшись калачиком, до тех пор, пока снова не зазвонит колокол, возвещая, что молитва окончена. Иногда же при звуках колокола все мы уже в безопасности, у меня в комнате. Здесь молитва должна быть произнесена по-английски. Девушки вынимают цветы из волос, и праздничная песня замирает на их устах. Но как только снова зазвучит колокол, не очень серьезная благоговейность сбрасывается: цветы вновь занимают свое место в волосах девушек, и праздничная песнь вытесняет религиозный хорал. Девушки начинают танцевать, и танцы их отнюдь не пуританские. Они ужинают около восьми, и иногда я получаю небольшую передышку. Но обычно ужин так короток, что у меня нет времени отдохнуть от них. Дети много танцуют для меня; они любят это делать, и танец - превосходный показатель их темперамента, так как танец на Самоа индивидуален, зрители же считают своим долгом сопровождать его непрерывными комментариями. В перерыве между танцами они смотрят мои картинки, при этом я всегда стараюсь показать доктора Боаса повыше на стене. Этот диапозитив завораживает их...
С наибольшим удовольствием я вспоминаю поездки в другие деревни, на другие острова архипелага Мануа, в другую деревню на Тау - Фитиуите, где я жила, как молодая деревенская принцесса, прибывшая в гости. Мне было позволено собирать всех, кто мог бы мне рассказать о чем-то мне интересном, и в качестве ответной любезности я должна была танцевать каждый вечер. Все эти поездки выпали на конец моей экспедиции, когда я почувствовала, что задание выполнено и я могу "тратить время" на этнологию вообще, проанализировать, какими деталями в настоящее время образ жизни на архипелаге Мануа отличается от других островов.
Во всех моих последующих экспедициях, где мне приходилось работать с совершенно неизвестными культурами, передо мной стояла более благодарная задача - сначала познакомиться с культурой вообще, а уже потом работать над ее частными сторонами. На Самоа этого не надо было делать. Вот почему мне удалось завершить работу о жизни девочки-подростка за девять месяцев.
Исследуя девочку в предпубертатном возрасте, я также открыла метод возрастных срезов24, к которому можно прибегнуть, когда нельзя провести много лет в экспедиции и вместе с тем нужно воспроизвести динамическую картину развития человеческой личности. На Самоа я сделала только первый шаг. Позднее я обратилась к маленьким детям, а затем - к младенцам, ясно понимая, что мне необходимы все стадии развития человека. Но на Самоа я все еще была под влиянием психологии, усвоенной мною в колледже. Вот почему я исследовала индивидуальные случаи, а тесты изобрела сама: тест на наименование предметов в картинках, заимствованных мною из журнального рассказа Флаерти "Моана из Южных морей", и тест, на идентификацию цвета, для которого я нарисовала сотню маленьких квадратиков.
Когда я писала "Взросление на Самоа", я самым тщательным образом закамуфлировала все действительные имена, при этом приходилось пользоваться иногда даже двойной маскировкой, чтобы исключить всякую возможность распознать реальные лица, стоящие за тем или иным именем. Во введениях, которые я написала к последовавшим изданиям, я не обращалась к девушкам, изученным мною, как к читателям, для которых пишу. Трудно было представить, чтобы какая-нибудь из них когда-нибудь смогла научиться читать по-английски. Сегодня, однако, дети и внуки девушек, подобных тем, кого я изучала на Тау, посещают американские колледжи - половина самоанцев живет сегодня в США25,- и, когда их коллеги по курсу читают о самоанцах, живших пятьдесят лет назад, они спрашивают себя, что из прочитанного относится к ним.
Глава 12. Возвращение из экспедиции
В июне 1926 года я вернулась на Тутуилу, а двумя неделями позднее в Паго-Паго взошла на борт небольшого судна. Последние недели на Самоа породили у меня глубокую ностальгию. Я вновь посетила Ваитонги, деревню, где я училась спать на кипе циновок и где Уфути, приветливый вождь, обожавший развлекать американских гостей, лично возглавил мое обучение тому, как надлежит передавать чашу с какой и как следует произносить формулы вежливости, имеющие здесь исключительное значение. Семья, принявшая меня тогда, была так рада мне, как если бы они не видели меня в течение многих лет. У меня было ощущение человека, вернувшегося домой после многолетнего путешествия. Вновь посетив Ваитонги, я поняла, как я тоскую по дому, как сильна моя потребность в любви, потребность, которую я лишь частично могла удовлетворить, нянчась с самоанскими младенцами или играя с детьми. В условиях, когда почти не приходилось переживать ощущение соприкосновения, лишь самоанские младенцы поддерживали во мне жизнь. Это впоследствии выразил Грегори Бейтсон26, сказав, что в полевых условиях, длящихся месяцами, мучительнее всего не отсутствие секса, а отсутствие нежности. Некоторые исследователи привязываются к кошкам или собакам; я решительно предпочитаю младенцев. В Ваитонги я поняла, как тоскливо мне, как мне хотелось бы быть там, где кто-то хочет, чтобы была я, именно потому что я есть я.
Принявшая меня семья утешила меня, и я поняла, что они охотно ухаживали бы за мной в течение всей оставшейся жизни. Фаамоту, моя "сестра", собиралась выйти замуж, и, так как однажды в одной из своих цветистых речей я сказала, что Самоа превосходит всех по части вежливости, а Франция - страна самого красивого платья, Фаамоту захотела иметь свадебный наряд из Парижа. В тот год я купила его в Галерее Лафайета, но к тому времени, когда платье прибыло на Тау, Фаамоту была вынуждена мне написать: "Макелита, успокой свое сердце, не сердись. Случилось неприятное: мой жених взял себе в жены другую".
Неделя, проведенная в Ваитонги, несколько смягчила мою тоску по дому. Здесь я снова была дома, хотя всего лишь год назад он был мне неизвестен. Но это заставило меня с еще большей остротой осознать куда более сильную потребность - потребность в беседе, в общении с людьми моего собственного типа, людьми, читавшими те же самые книги, понимавшими мои намеки, людьми, понимавшими мою работу, людьми, с которыми я могла бы обсудить проделанное мной и которые могли бы помочь мне оценить, действительно ли я сделала то, за чем была послана. Мне самой пришлось разработать все методики обследования, включая тесты, и у меня не было никакой возможности определить, хорошо или плохо проделанное мною.
Я отправилась из Паго-Паго в шестинедельное океанское плавание в Европу. Скоро я не буду больше одна. Лютер, проведший интересный, но какой-то одинокий год в путешествиях, пытаясь понять новый для него мир, будет ждать меня. Рут Бенедикт, сопровождавшая своего супруга на конференцию в Скандинавию, планировала встретиться со мной в Париже. Луиз Розенблатт, моя подруга по колледжу, проведшая год в университете в Гренобле, также прибудет в Париж. А в это время я перестала получать письма, ниспадавшие на меня в экспедиции периодическими ливнями, иногда по семьдесят или восемьдесят за раз. Сейчас не могло быть никаких писем: они путешествовали медленнее, чем я. Поэтому я чувствовала себя чрезвычайно одинокой.
На переходе из Паго-Паго в Сидней мы пережили самый жестокий шторм, который когда-либо случался в этих широтах в течение многих десятилетий. Погибло одиннадцать кораблей. На нашем судне волны накрывали верхнюю палубу, и пассажиры, смертельно больные морской болезнью, кланялись, как кегли. На борту судна было несколько интересных людей, включая судового офицера, служившего в свое время на "Титанике". Он жил сейчас человеком без отечества, вдали от дома. Была также жалкая, отощавшая миссионерская пара с Западного Самоа с двухлетним ребенком и крошечным младенцем. Как и все другие, родители были внизу, жестоко страдая от морской болезни. Женщина же сомнительной репутации, с ярко окрашенными волосами делила заботу о младенце со своими дружками. Я стала присматривать за двухлетним ребенком, совсем не говорившим по-английски, которому еще предстояло пройти через травмирующий опыт столкновения с миром людей, не понимающих ни одного его слова. Мне было немножко жалко себя, каким-то чудом пощаженную морской болезнью, даже готовую к небольшим развлечениям и вместе с тем связанную заботами о маленьком ребенке. Но общение с ним помогало мне узнать, что значит для маленького ребенка быть оторванным от тех, кто может понять только что заученные им слова, и окруженным людьми, не понимающими его либо потому, что они не знают языка, на котором он говорит, либо потому, что в его языке слишком много семейного жаргона. В каком отчаянии должны быть дети, осиротевшие в результате войны и усыновленные на другом конце мира! Это даже трудно себе представить людям, никогда не пережившим такого полного отчуждения. Почти пятьдесят лет спустя я все еще слышу этот печальный, тревожный, слабый голос: "Ua pau le famau, Makelita, ua pau le lamau"27 - маленький жалкий птенчик, вывалившийся из гнезда.
В Сиднее, куда я наконец прибыла, меня встретили родственники одного из друзей Лютера с огромными букетами цветов, нарванных в собственном саду. Сидней был моим первым городом после девяти месяцев захолустья. Они повезли меня слушать донских казаков и ватиканский хор. Двумя днями позже я взошла на борт роскошного океанского лайнера, парохода "Читрал" компании "Пи энд О", направлявшегося в свой первый рейс в Англию.
Я и не подозревала, конечно, как бы изменилось все плавание, да и вся моя жизнь, если бы "Читрал" пошел, как планировалось, на Тасманию, чтобы забрать груз яблок. Однако в Англии бастовали докеры, и яблоки оказались ненадежным грузом. Поэтому, вместо того чтобы отправиться на Тасманию, а уже потом в Англию, "Читрал" проторчал в гавани Сиднея. Большинство пассажиров все это время были на берегу, и кают компания была почти пустой. Лишь немногие из пассажиров, такие, как я, с небольшими деньгами и не имевшие особых причин быть в городе, оставались на борту. Среди них был и молодой психолог из Новой Зеландии Рео Форчун, только что добившийся двухгодичной стипендии в Кембриджском университете за свою работу о снах. Главный стюард, заметивший, что мы наслаждаемся компанией друг друга, предложил нам стол на двоих. Мы говорили друг с другом так увлеченно, что многочисленная пестрая компания за столом только мешала бы нам. Предложение было с радостью принято. Воспитанная в мире, где обмен мыслями между мужчиной и женщиной не влек за собой автоматически романа, я не имела ни малейших представлений о том, как наше поведение будет расценено австралийскими пассажирами.
И Рео и я находились в состоянии глубокого возбуждения. Он ехал в Англию на встречу с людьми, которые будут понимать, о чем он говорит, а я, только что завершившая экспедицию, жаждала общения. Во многих отношениях очень неопытный и неискушенный, Рео отличался от всех, кого я знала до сих пор. Он никогда не видел игры профессиональных актеров, оригинала картины, написанной великим художником, не слышал музыки, исполняемой симфоническим оркестром. Но для того чтобы восполнить изоляцию, в которой новозеландцы жили до эры современных средств коммуникации, он, забираясь вглубь, с наслаждением перечитал всю английскую литературу и страстно поглощал все, что он мог найти по психоанализу. Встреча с ним была похожа на встречу с инопланетянином и вместе с тем с человеком, с которым у меня было много общего.
Рео пропитался идеями У. Риверса28, кембриджского профессора, труды которого по физиологии, психоанализу и этнологии будоражили весь мир. Я никогда не встречалась с Риверсом. Рео, само собой разумеется, также. Но оба мы видели в нем человека, у которого мы хотели бы учиться - общая и несбыточная мечта, потому что он умер в 1922 году. Риверс интересовался эволюцией и бессознательным, его ранними корнями у предков человека. Он был зачарован Фрейдом, но относился критически к его теориям. Со свойственной ему проницательностью Рео указал в сочинении, которое принесло ему премию, что Риверс фактически переворачивает Фрейда, не меняя предпосылок - делая страх вместо либидо главной движущей силой человека.
Рео изучал сон, изучал совершенно самостоятельно, проводя эксперименты над собой в психологической лаборатории: он будил себя, чтобы проверить, являются ли первые часы сна более спокойными, чем последние. Он интересовался этим вопросом, поднятым .Фрейдом, равно как и другим - родственны ли по тематике сны, приснившиеся в одну ночь. Еще в начале нашего путешествия я стала записывать свои сны для Рео. В одну ночь я записала до восьми снов с одной главной темой и двумя побочными. Один из этих снов в слегка измененной форме был опубликован им в его книге "Спящий мозг".
Наш корабль тянул с отплытием из Австралии и задерживался на несколько дней в каждом порту. В Мельбурне мы сходили в театр. Когда я была на Самоа, Рут написала мне о приезде Бронислава Малиновского в Америку, и я рассказала Рео о нем. Его замечания в адрес Малиновского не были особенно лестными. Тот любил являться на публике в виде некоего донжуана, а сплетни многое добавляли к набору его рассказов о своих похождениях. Вполне вероятно, во всем этом было много позы, но в глазах новозеландца Рео его поведение было скандальным распутством.
Первая великая книга Малиновского о тробрианцах "Аргонавты Тробрианских островов"29 была опубликована, когда я училась в аспирантуре, но я не прочла ее тогда. Довольно слабый доклад об этой книге был прочитан на аспирантском семинаре, где наше внимание сосредоточилось на кула, внутриостровном торговом синдикате, проанализированном в книге, а но на теориях и методах работы Малиновского. Они не были столь новаторскими для учеников Боаса, как для студентов в Англии. Однако письма Рут пробудили мою любознательность, и в Аделаиде Рео и я сошли на берег, нашли университетскую библиотеку и прочли статью по антропологии, которую Малиновский написал для последнего, дополнительного тома Британской энциклопедии. Я сказала, что намерена посетить заседание Британской ассоциации содействия развитию наук этим летом, до конгресса американистов в Риме. Рео был уже зачарован Малиновским, но из ревности он противился моей поездке на английский конгресс: он был убежден, что Малиновский непременно соблазнит меня.
Так началась долгая история его односторонней внутренней полемики с Малиновским, полемики, сильно окрашенной эдиповым комплексом. Позднее, во время своей первой экспедиции на Добу, остров, примыкающий к Тробрианским островам и включенный Малиновским в анализ кула, Рео проводил целые ночи над "Аргонавтами", которые стали для него моделью разработки методики полевой работы, подборкой теорий для критики и способом сделать жизнь нескучной. В 1963 году в новом введении к дешевому изданию "Колдунов с Добу"30, непреходящей по значимости первой книги Рео, он снова пустился в полемику с Малиновским, полемику, мало выигравшую от той эмоциональной подоплеки, на которой она основывалась.
Когда Рео кончил рукопись "Колдунов с Добу", я написала Малиновскому и предложила ему подумать, не будет ли выгодно для него написать введение к этой книге, так как в противном случае рецензенты обратят слишком много внимания на некоторые толкования кула, отличающиеся от его собственных. Малиновский согласился, и его большое, обстоятельное введение обеспечило как принятие книги к печати издательством Рутледж, так и большой интерес читателей к книге сразу же после ее публикации.
И все же я никогда не встречала Малиновского до 1939 года, хотя он вновь вошел в мою жизнь, но на этот раз другим образом. В 1926 году, во время своей поездки по Америке, он лез вон из кожи, чтобы доказать всем и каждому, что из моей экспедиции на Самоа ничего не получится, что девять месяцев - слишком малое время для любого сколько-нибудь серьезного исследования, что я даже не изучу язык. Затем в 1930 году, когда была опубликована моя книга "Как растут на Новой Гвинее", он побудил одного из своих учеников написать рецензию, в которой утверждалось как нечто само собой разумеющееся, что я не разобралась в системе родства у народа манус, а воспользовалась сведениями школьника-переводчика. Не знаю, была ли бы я столь рассерженной, если бы критика исходила от кого-нибудь другого, но в данном случае ярость моя была так велика, что я отложила очередную экспедицию на три месяца и написала специальную монографию "Системы родства па островах Адмиралтейства"31 только для того, чтобы продемонстрировать всю полноту моих познаний по этому предмету.
Таким образом, Малиновский, сыгравший ту же роль в Англии, что Рут и я в Соединенных Штатах, сделав антропологию доступной широкой публике и связав ее с другими науками, вошел в наши жизни благодаря чисто случайной встрече двух людей на борту судна, медлившего с отплытием у австралийского берега, судна, раскачиваемого волнами из-за пустых трюмов. <...>
Проходили недели. Мы провели день на берегу Цейлона. Прибыли в Аден. Мы увидели берега Сицилии. И наконец судно подошло к Марселю. Рео оставался на нем, отправляясь в Англию. Он собирался остановиться у тетки и готовиться к поступлению в Кембридж. За мною же в Марсель прибыл Лютер, и я покидала судно. Когда судно причалило, мы были настолько увлечены беседой, что даже не заметили этого. Наконец, почувствовав, что судно не движется, мы прошлись по палубе и увидели обеспокоенного Лютера на пристани. Это один из моментов моей жизни, который я бы охотно вернула назад и прожила совсем иначе. Таких моментов немного, но это один из них.
Вот таким образом я в первый раз прибыла в Европу, прибыла не через бурную Атлантику, а самым кружным путем, прожив до этого девять месяцев на Самоа. Лютер захотел показать мне, чем он занимается. Он повез меня в Прованс - в Ним, где к нам присоединилась Луиз Розенблатт, в Ле-Бо и, наконец, в Каркассон. И Лютер и Луиз были переполнены впечатлениями от года своей жизни во Франции. Я была полна моей самоанской экспедицией, но рассказывать о ней с той же пылкостью, как на судне, людям, голова которых была занята другим, оказалось трудно. И все же те дни навсегда запомнятся мне. Только в Каркассоне я вновь вернулась к Лютеру.
Из Южной Франции мы отправились в Париж, куда прибыла из Швеции Рут. Здесь же проводили свой отпуск много других наших друзей. Однако Лютер не мог оставаться с нами в Париже. Он окончательно разорвал со священнической карьерой и получил пост преподавателя в Сити-колледж, где он работал раньше. Сейчас ему надо было возвращаться домой, чтобы готовиться к лекциям, и посреди всей этой суматохи - споров, поисков друг друга по кафе, погони за новостями, посещения театральных премьер - из Англии прибыл Рео, полный решимости изменить мои планы.
Наконец я прибыла в Рим и снова встретилась с Рут. У нее было неудачное лето. Часть его она провела одна и находилась в состоянии глубокой депрессии. Но она постригла волосы и появилась перед нами в серебряном шлеме седых волос, в блеске своей былой красоты. В Риме я провела вместе с нею неделю. Однажды сумерки застали нас на Протестантском кладбище у могилы Китса, и мы слышали звон колокола, специально звонившего для тех, кто остается здесь после заката. На Конгрессе американистов гремели фанфары в честь Муссолини и звучали тихие, приглушенные приветствия в адрес собравшихся здесь ученых.
Я должна была встретиться с Рео в Париже, но железнодорожный туннель был перекрыт, и, когда мы проснулись, оказалось, что мы все еще в Италии. Но он все же пришел на пристань проводить меня. Через десять дней медленно плывший пароход доставил нас в Нью-Йорк. Все мои коллеги пришли на пристань встретить меня. Меня 8ахлестнул поток новостей: Леония была очень несчастной, Пелхам влюбился, Лютер нашел нам квартиру. Я сразу же погрузилась в свою новую работу помощника хранителя по этнологии в Американском музее естественной истории.
Но все изменилось. Моя экспедиция была романтичной, и люди хотели слышать о ней, в то время как Лютер побывал лишь в Европе, где был каждый. "Как ты думаешь, я не похож на супруга миссис Браунинг?" - добродушно спросил он меня, когда мы возвращались домой после приема, устроенного в мою честь миссис Огберн32. На этом приеме она спросила: "Соблюдают ли они какие-нибудь манеры за столом?", и я ответила: "У них есть чаши для мытья пальцев".
Это была странная зима. Лютер преподавал антропологию. Это означало, что я для него была полезным источником сведений за завтраком. Но мы поженились в надежде найти общее призвание, работая с людьми в церкви. Теперь это все ушло, а вместе с ним и чувство общности цели. Моя новая должность оставляла мне время писать, и я почти кончила "Взросление на Самоа". Оставалось написать только две последних главы, в которых я применяла увиденное мною к американской жизни. Я начала также перестраивать маорийскую коллекцию музея с помощью новозеландского специалиста Г. Д. Скиннера, бывшего в Нью-Йорке в это время.
Рео в Кембридже формально значился в числе изучавших психологию. Но его контакты с назначенными ему руководством Ф. Бартлетом33 и Дж.Маккерди34 оказались сложными. В Кембридже он познакомился также с профессором антропологии А. Хаддоном35 и начал подумывать о переходе в антропологию и работе на Новой Гвинее. Он написал мне: "...Хаддон очень добр ко мне, но свою сетку против москитов он отдал Грегори Бейтсону". Так в первый раз я услышала имя Грегори. В конце концов Рео получил от людей, распоряжавшихся его новозеландской стипендией, разрешение потратить оставшиеся деньги на издание его только что законченного исследования о снах "Спящий мозг". Эта книга, субсидированная как коммерческая публикация, так никогда и не дошла до читателя-специалиста. Он решил оставить Кембридж и надеялся получить антропологическую стипендию с помощью Радклифф-Брауна36, создавшего перспективный исследовательский центр при Сиднейском университете в Австралии. Он написал мне об этом, а наша корреспонденция перемежалась стихами, которые мы писали друг другу..
Изменилась и картина моего собственного будущего. Лютер и я всегда мечтали иметь много детей - шестерых, и не менее, думалось мне. Наш жизненный план состоял в том, чтобы вести скромную жизнь семьи деревенского священника в приходе, где все нуждались бы в нас, в доме, полном наших собственных детей. Я была уверена в Лютере как в отце. Но той осенью гинеколог сказал мне, что у меня никогда не будет детей. У меня была суженная матка - дефект, который невозможно исправить. Мне было сказано, что в случае беременности у меня обязательно будут выкидыши. Это изменило картину всего моего будущего. Я всегда хотела приспособить мою профессиональную жизнь к обязанностям жены и матери. Но если мне не дано материнства, то куда больший смысл приобретало профессиональное сотрудничество в полевых работах с Рео, остро интересовавшимся моими проблемами, чем работа с Лютером, преподававшим социологию. (В действительности же позднее Лютер стал первоклассным археологом, работавшим в той науке, которая потребовала от него всего его умения обращаться с вещами, равно как и всей его человеческой чуткости. Но это позднее.) Одной из главных причин того, почему я не хотела выходить замуж за Рео, было сомнение в его; отцовских качествах. Но если у меня не будет детей...
Весной Рео написал мне, что он получил деньги от Австралийского научного совета на проведение полевых работ и что он собирается в Сидней. Я согласилась встретиться с ним в Германии, куда я направлялась для изучения океанийских материалов в немецких музеях. Наша летняя встреча была бурной, но Рео был полон заманчивых идей, и, когда мы расставались, я согласилась выйти за него замуж.
Я вернулась в Нью-Йорк попрощаться с Лютером. Мы провели вместе мирную неделю, не омраченную упреками или чувством вины. В конце этой недели он отправился в Англию, чтобы встретиться с девушкой, на которой впоследствии женился и которая стала матерью его дочери.
Я осталась жить с тремя подругами по колледжу. Мы пропели волнующую и тревожную зиму, каждая из нас страдала от своей сердечной раны. Я сохранила свой интерес к снам, а Леония рассказывала нам свои сны, которые она впоследствии переделала в стихи. В ту зиму она стала соискателем стипендии Гуггеихейма, и я настояла на том, чтобы в своем заявлении она указала на свои 119 высших баллов, полученных в колледже. И конечно, когда она пошла на собеседование с Генри Алленом Моу, так много лет возглавлявшим фонд Гуггенхейма, тот сказал: "Я был в восторге от..."- таким тоном, что она ожидала, что он добавит: "...вашей прекрасной поэмы "Возвращение домой"", ведь только она могла оправдать такой тон, но он уточнил: "...ваших превосходных отметок в колледже!" Я почувствовала, что действительно начинаю понимать свою американскую культуру.
"Взросление на Самоа" было принято к публикации. Я добавила две главы, основанные на лекциях, прочитанных мною в клубе для девушек-работниц. Там у меня возникла редкая возможность проверить мои идеи на смешанной аудитории. В ту же зиму я написала "Социальную организацию на Мануа"37 - этнографическую монографию, рассчитанную на специалистов. В музее были изготовлены новые витрины для башенного зала, куда я переместила коллекцию маори, написав маленький путеводитель для нее. Это дало мне ощущение того, что я делаю первые, еще скромные успехи в качестве музейного хранителя.
Самой трудной задачей, стоявшей передо мной, была задача получения денег для экспедиции на Новую Гвинею, куда я должна была поехать с Рео после нашей свадьбы. Антропологические рандеву такого рода устроить столь же тяжело, как свидания в легендах о разделенных любовниках. Каждый должен получить отдельную субсидию из разных источников и спланировать все таким образом, чтобы два человека в конечном счете прибыли в одно и то же время и в одно и то же место с научными программами, оправдывающими их совместную работу здесь. Это требует изрядного умения маневрировать. Рео обеспечил себе уже второй год исследовательской работы своими отчетами по Добу. Очередь была за мной.
Читая Фрейда, Леви-Брюля и Пиаже, основывавшихся на предположении, что в мышлении примитивных народов и детей очень много общего - Фрейд при этом причислял и тех и других к разряду невротиков, - я заинтересовалась проблемой: а что же собой представляют дети примитивных народов, если их взрослые по своему мышлению напоминают наших детей? Вопрос этого рода очевиден, но никто его не поставил. Занимаясь сложнейшей проблемой применения фрейдовских гипотез к анализу поведения примитивных народов, я написала две статьи - "Комментарии этнолога к "Тотему и табу"" и "Отсутствие анимизма у одного примитивного народа"38. В последней я проанализировала тот факт, что определенный тип дилогического мышления, о котором говорили Леви-Брюдь и Фрейд, не наблюдается у самоанцев, обследованных мною. Именно эту проблему мне и захотелось изучить в полевых условиях. Вот почему я обратилась к фонду разработок по общественным наукам за субсидией на изучение "мышления детей дошкольного возраста", живущих на островах Адмиралтейства. Именно здесь, считал Радклифф-Браун, Рео и я должны провести наши полевые работы. Термин "дети дошкольного возраста" звучит несколько странно, когда его применяют для обозначения детей примитивного народа, вообще не имеющего школ, но так было принято характеризовать детей до пяти лет.
Для того чтобы выйти замуж за Рео, я должна была развестись, получить субсидию на экспедицию, а также разрешение Годдарда39 на годичный отпуск в музее. Когда я доверительно сообщила ему, что со всем этим связан и роман, он радостно содействовал осуществлению моих планов. К тому же мне надо было подготовиться к экспедиции. Эта подготовка среди многого прочего включала подбор целой батареи тестов и игрушек для моей работы с детьми. В ряде случаев мне все это пришлось придумывать из головы, так как в моем распоряжении не было прецедентов, на которые можно было бы опереться.
Эта зима была трудной и в другом отношении. Все мои друзья знали, что я собираюсь выйти замуж за Рео, в то же время Лютер никому не говорил, что он также собирается жениться. Я часто с ним виделась, для того чтобы поговорить о его планах. Все это шокировало отца, который придерживался мнения, столь распространенного в прошлых поколениях, мнения, по которому встречи между супругами, намеревающимися развестись, были чем-то отвратительным, чем-то вроде инцеста. Это шокировало и моих друзей. Они полагали, что я эксплуатирую Лютера, играю его чувствами. Мне было очень трудно жить в ситуации, которую так ложно понимали. Облегчало только одно: я знала, что в конечном счете все узнают истину.
Тем не менее мне было трудно выносить критику моего бессердечия большинством моих друзей, осуждавших меня, когда у них оставалось время от собственных передряг. Вот почему для меня было громадным облегчением, когда наш семейный очаг, состоявший в конце из пяти членов, в июне распался. Ко мне прибыла Рут, преподававшая на летних курсах. В конце лета она отправилась в экспедицию, а я отбыла на длительное время на остров Манус. До моего отбытия мне показали только макет моей первой книги, и прошло много месяцев, прежде чем я узнала, что эта книга стала бестселлером.
Глава 13. Манус: мышление детей у примитивных народов
Мы планировали пожениться в Сиднее. Но когда я была уже в дороге, Рео под впечатлением упорного неверия Радклифф-Брауна в нашу предстоящую женитьбу забеспокоился и поменял наши планы. Когда мое судно причалило к берегу в Окленде, на Новой Зеландии, Рео появился на борту и объявил, что мы поженимся сегодня. В магазине не нашлось обручального кольца маленьких размеров, нам пришлось отдать кольцо в переделку, и это заняло почти все время стоянки. Мы попали в бюро регистрации браков почти перед закрытием и вернулись на судно, когда оно уже собиралось отчаливать. Затем мы прибыли в Сидней и поставили Радклифф-Брауна перед свершившимся фактом.
Было решено, что мне предстоит работать на островах Адмиралтейства среди народа манус, так как никто из современных этнографов еще никогда не работал здесь. Что же касается моих личных интересов, то я просто хотела поработать в среде какого-нибудь меланезийского народа, добыв тем самым сведения, полезные для музея, и решив для себя проблему, в чем мышление взрослых у примитивных народов, мышление, о котором говори лось, что оно аналогично мышлению детей цивилизованных народов, отличается от мышления их собственных детей. Рeo поговорил с правительственным чиновником, служившим па острове Манус, и тот посоветовал ему выбрать предметом исследования жителей свайных построек, поставленных прямо в лагуне, на южном побережье острова. Чиновник считал, что жизнь там куда более приятна, чем в остальных частях острова. Мы разыскали несколько старых текстов манус, собранных в свое время каким-то немецким миссионером, и нашли краткое описание этого парода, сделанное немецким исследователем Рихардом Паркинсоном40, и это было все.
Когда мы прибыли в Рабаул, который тогда и был центром этой мандатной территории Новая Гвинея, нас встретил антрополог Э.П.У.Чикиери, состоявший на правительственной службе; он предложил предоставить в наше распоряжение Боньяло, школьника манус, чтобы помочь нам начать изучение языка, Боньяло отнюдь не был в восторге от перспективы вернуться на Манус, но у него не было выбора. Из Рабаула мы отбыли на Манус, имея на своем попечении Боньяло. Десять дней мы прожили в гостях у окружного правительственного чиновника, а в это время в деревне готовились к нашему поселению. Случайно мы услышали, что Мануваи, другой мальчик из деревни Боньяло, только что завершил свою работу по контракту. Рео сходил поговорить с ним и нанял его. Так в нашем распоряжении оказалось два мальчика из одной и той же деревни Пере, и мы решили, что нам надо ехать работать именно туда. Сорок лет спустя Мануваи все еще любил рассказывать, как он удивился, когда в молодости перед ним предстал странный молодой белый человек и заговорил с ним на его родном языке.
Было устроено так, чтобы верховный вождь южного побережья острова отвез нас и наши вещи в Пере в своем каноэ. Плавание морем длилось с раннего утра до полуночи, когда, очень голодные - Рео считал, что манус будут смущены, если мы возьмем пищу с собой,- мы прибыли в залитую лунным светом деревню. Дома с конусообразными крышами стояли на высоких сваях в мелкой лагуне среди крохотных островков, покрытых пальмами. На расстоянии виднелась темная масса большого острова Манус.
Мне следовало направить мой первый квартальный отчет в Нью-Йорк, и в первый же день по прибытии мы стали очень напряженно работать, фотографируя жителей деревни - мужчин с волосами, связанными в узлы, руками и ногами, украшенными лентами с бусинами из смолы орехового дерева, женщин с бритыми головами и вытянутыми мочками ушей, шеями и руками, с которых свисали волосы и кости мертвых. Центральная лагуна была оживлена: повсюду отчаливали лодки с грузом свежей и копчёной рыбы, которую предполагалось обменять на рынке на таро, орех для бетеля41, бананы и листья перца. Манус, как оказалось, торговый народ, вся жизнь которого сосредоточена вокруг обменных операций: на рынке у жителей отдаленных островов вымениваются крупные вещи - стволы деревьев, черепахи и прочее; между собой осуществляются обмены, связанные с брачными выплатами, в которых прочные ценности: собачьи зубы, раковины, а с недавних пор бусы отдаются за предметы потребления - пищу и одежду.
Так началась лучшая экспедиция, которая у нас когда-либо была. Добуанцы Рео были суровой трупной колдунов, где каждый был врагом своих ближайших соседей, а каждому женатому мужчине или замужней женщине периодически приходилось жить среди враждебных и опасных родственников жены или мужа. Поэтому Рео был очарован этим новым народом, куда более открытым и неподозрительным. Однако прошло много времени, прежде чем он понял, что у них нет страшных тайн и секретов. Однажды мы работали в противоположных концах одного жилища: я - с женщинами, собравшимися вокруг покойника, а Рео - с мужчинами. Периодически к дому подплывали каноэ, из которых высаживались все новые и новые группы скорбящих. Они пробегали через дом и бросались, рыдая, на труп. Пол свайной постройки опасно колебался, и женщины умоляли меня покинуть дом. Они боялись, что пол в любую минуту может рухнуть и мы все окажемся в воде. Я послала на этот счет записку Рео. Он написал мне в ответ: "Оставайся здесь. Они, по-видимому, не хотят показывать тебе что-то". Я отказалась уйти. Тогда люди, думавшие о моей безопасности, и только о ней, были вынуждены перенести тело покойника в другой дом, где мне было безопаснее.
Каждый из нас уже изучил по одному языку Океании, и сейчас мы вместе работали над языком манус. Нашим первым учителем был Боньяло, школьник, предоставленный в наше распоряжение властями в Рабауле. Он немножко, очень немножко говорил по-английски. Ни один из нас не знал пиджин-инглиш, главного языка-посредника этого района42. Поэтому нам пришлось учить не только манус, но и пиджин - неприятная побочная задача. Когда Боньяло, невероятно глупый мальчик, не мог объяснить, что такое мвеллмвелл (это полное дорогое убранство невесты, состоящее из ракушечных денег и собачьих зубов), Рео приказал ему пойти и принести эту мвеллмвелл, чем бы она аи была. Я все еще слышу вопрос изумленного Боньяло: "Захватить с собой - что?!" Точно так же ответил бы любой из нас, если бы ему приказали принести полный спальный гарнитур, для того чтобы проиллюстрировать какое-нибудь грамматическое правило. Насколько я была поражена неприятными чертами манус как народа в сравнении с самоанцами, настолько же Рео был приятно удивлен, сравнив их с добуанцами. И ни один из нас не отождествлял себя с ними. Манус - пуритански настроенные, трезвые, энергичные люди. Души предков непрерывно побуждали их к деятельности, наказывали за малейший сексуальный проступок, за легкое прикосновение, например, к телу представителя другого пола даже тогда, когда рушилась хижина, или же за сплетни, когда две женщины беседовали о своих супругах. Духи наказывали их за невыполнение бесчисленных экономических обязательств, а если они их выполняли,- то за невзятие на себя новых. Жизнь у манус очень напоминала шагание вверх по эскалатору, бегущему вниз. Мужчины умирали рано, не дождавшись детей своих сыновей. Они терпели нас, коль скоро мы обладали чем-то, в чем они нуждались, и даже по временам проявляли заботу о нашем благополучии. Но это не помешало им отказать нам в продаже рыбы, когда запас нашего обменного табака был исчерпан. В действительности отношение к нам было очень утилитарным. Дети были очаровательны, по у меня всегда стоял перед глазами образ взрослых, которыми они вскоре станут.
На Манусе мы с Рео не были связаны таким сотрудничеством, которое складывается на основе удачных или неудачных различий темпераментов и которое приобрело такое большое значение в наших последующих полевых работах. Здесь мы просто соревновались друг с другом честно и добродушпо. Главным источником сведений для Рео служил Поканау, интеллектуал, мизантроп, заворчавший на меня, когда я прибыла на Манус двадцать пять лет спустя: "Ты зачем явилась сюда? Почему явилась ты, а не Моэйап?" Моим информатором был Лалинге, главный соперник Поканау. Его приводила в ужас незащищенность женщины в деревне, где ей не к кому было обратиться за помощью, кроме как к мужу. Он добровольно вызвался быть моим братом, так, чтобы у меня было место куда убежать, если Рео начнет меня бить. Когда мы покупали какие-нибудь вещи: Рео - для музея в Сиднее, я - для Музея естественной истории в Нью-Йорке, жители деревни откровенно наслаждались нашим соперничеством из-за них. Но манус - народ нехитрый, и им чужд распространенный новогвинейский стиль натравливания слугами хозяина и хозяйки дома друг на друга. С этим стилем нам пришлось столкнуться в последующих экспедициях. Может быть, это отсутствие интриг объяснялось и тем, что нашим обслуживающим персоналом были дети до четырнадцати лет. Нанимать для обслуживания детей старшого возраста я сочла слишком сложным. Вот почему у нас была своего рода кухня при детском саде, по временам оказывавшаяся сценой бурных схваток, во время которых наш обед летел в море.
Мы вели тяжелую трудовую жизнь, почти без всяких радостей. Рео решил, что печь хлеб - потеря времени, и у нас не было хлеба. Нашей главной пищей были копченая рыба и таро. Однажды кто-то принес нам цыпленка, я зажарила его и. положила в нашу кладовку, но в нее забралась собака и стащила мясо. А еще раз я открыла нашу единственную банку с закусками, потому что к нам обещал прийти на обед капитан торговой шхуны, но настал час отлива, и он отплыл. У нас у обоих были приступы малярии. Чтобы избежать назойливого и неприличного клянченья сигарет детьми, я решила не курить. Рео курил трубку. Лишь ночами, когда деревня засыпала, я выкуривала сигарету и чувствовала себя при этом провинившейся школьницей. Когда наши походные кровати сломались, мы должны были заменить их "новогвинейскими"- рулонами тяжелой ткани, через которые продеваются колья. Внизу колья скрепляются поперечными планами. Эти кровати обязательно провисают, и вы чувствуете себя спящими в глухом мешке.
Но мы наслаждались нашей работой, и Рео начал совершенствовать то, что я впоследствии назову методом анализа событий, - метод организации наблюдений вокруг главных в деревне. Дружеское соперничество между нами, относящееся к постановке проблем и выбору методов, скрашивало то, что обычно называют монотонной рутиной трудового дня. Современного туриста лагуны привлекают своей тропической красотой, мы же относились к ним, как местные жители. Риф несет в себе постоянную угрозу. Отдаленные горы на большом острове выглядят мрачными и враждебными и потому, что они населены духами и призраками, в существование которых верят, и потому, что там живут злые люди. Деревня по ночам не была местом для танцев. и песен, как на Самоа, или же местом, где рыскают колдуны, как на Добу. Она была местом, где мстительные духи, хранители нравственности, карали грешников, а семейства сводили счеты друг с другом. Девушки вечерами сидели взаперти. Каноэ, наполненные юношами и молодыми мужчинами, чей брак все еще не был устроен из-за сложных экономических расчетов, бесцельно" сновали вокруг деревни, молодежь била в гонги или же строила планы бегства на работы к белым людям.
Рео, научивший Поканау диктовать содержание спиритических ночных сеансов, сосредоточился на обработке текстов этих записей. Он записывал все, не пользуясь стенографией, и двадцать пять лет спустя, познакомившись с моим методом записи па пиджин-инглиш прямо на машинку, Поканау кричал в энтузиазме: "Это куда лучше, чем перо Моэйана"; "Теперь я все занесу на бумагу". Это "все" означало просто невероятное число повторений, которое сломило бы даже неутомимое усердие Рео, если бы ему пришлось записывать их все и при этом обычным письмом.
Не имея никакой возможности убедиться в точности описания событий, отстоящих от настоящего даже на небольшие временные интервалы, мы не углублялись в далекое прошлое. Когда я вернулась па Манус в 1953 году, я проверила все - положение зданий и характер экономических отношений в 1928 году. Оказалось, что воспоминание о них было совершенно точным. Мне стало ясно тогда, что сбор сведений о событиях двадцатипятилетней давности, включение исторического материала в исследование не несет в себе никакой опасности обращения к недостоверному. Но если ваша экспедиция длится недолго, то у вас нет никакой возможности проверить точность рассказов о событиях, случившихся в прошлом, у народов, не имеющих письменности.
В 1953 году манус и я хорошо помнили о нашем пребывании в этой деревне. Они помнили, как Моэйан зашил большую рану на колене Нгалеана; как мы наняли маленькую шхуну Мастера Крамера и поплыли на ней па острова Лоу и Балуан; как жители Лоу хотели заставить нас спать в жалкой, дырявой хижине; как мальчишки, взятые нами с собою, вернулись с Балуана, распевая неприличные песни, с непристойным ликованием. Для новогвинейских детей вообще характерна навязчивая привычка подхватывать какой-нибудь случайный момент или событие и увековечивать его в песне. В 1953 году даже самые маленькие мальчики, завидев меня, начинали распевать: "Aua nat e jo um е jo lau we"? ("Мои маленькие, скажите, где мой дом?"). Этот вопрос я им однажды задала, может быть сопроводив его какой-нибудь особой интонацией.
Наши работы хорошо продвигались вперед. К июню 1929 года, после нашего шестимесячного пребывания на Манусе, мы имели все основания быть довольными собранными материалами. Народ манус тогда, как и сейчас, занимался рыбной ловлей. Их жизнь состояла из месячных циклов: время ожидания того, когда рыба пройдет через рифы в лагуну, и период интенсивной деятельности - ловли и доставки улова. Ритм их жизни отличался от ритма жизни сельскохозяйственных народов. Для последних важно (Планирование всего годового цикла - от посева до урожая и от урожая через "голодный период", когда возникает желание пустить в пищу запас семян.
Мы видели смерть, а без этого нельзя считать, что ты достаточно хорошо понимаешь какой-нибудь народ. Манувай, наш очаровательный, очень тщеславный и молодой кок, прошел через пышный церемониальный ритуал протыкания мочек ушей. Китени, молодая девушка, достигла половой зрелости и была отправлена на месячное уединение с группой других молодых девушек - так отмечается это великое событие. Из своего месячного отсутствия в качестве сувенира, как у нас дебютантки приносят фотографии своего первого выхода в свет, она принесла красивую композицию из скелетов тех рыб, которые были пойманы для нее и ее подруг. Мы анализировали и регистрировали бесчисленные сделки в собачьих зубах и ракушечных деньгах, и люди стали говорить: "Теперь мы не должны больше ругаться, а то Пийан все это запишет". Моя способность записывать была главной причиной того, почему после нескольких больших пиров они стали с нетерпением ожидать католическую миссию: у нее они смогли бы научиться сами вести письменные счета.
Я собрала массу материалов, главной частью которых были рисунки детей - тридцать пять тысяч, ибо, когда я обнаружила вопреки всем ожиданиям, что "примитивные дети" не проявляют ни малейшего следа естественного анимизма наших детей43, рисующих на луне человека, а дома с лицами, я столкнулась с необходимостью собрать очень большое количество материала. Это "дна из проблем полевой работы. Коль скоро исследователь ищет что-то фактическое - скажем, решает вопрос, есть ли у данного народа специальные церемонии, отмечающие наступление полового созревания у девушки, - ему нужно всего лишь увидеть и зарегистрировать одну из таких церемоний в ее мельчайших деталях. Это дает ему право утверждать, что у этого народа такая церемония есть, и не только утверждать, по и описать, что люди делают во время ее. Конечно, здесь может быть масса вариаций, зависящих от тысячи разных обстоятельств: богат ли отец девушки или беден, есть ли у нее сестры, старшая ли она дочь, или же, как у манус, сколько у нее теток, ибо все они должны присутствовать во время этой церемонии, когда девушку окунают в море. Но коль скоро он зарегистрировал одну такую церемонию, ее многочисленные детали и вариации легко могут быть объяснены на основе знания других элементов культуры.,
Сопоставимым примером оказывается какой-нибудь отчет о церемонии выпуска в колледже, скажем, в 1970 году, когда студенчество было возбуждено и нервозно. Если известна общая форма таких церемоний - академические шапочки и мантии, торжественная музыка, почетные степени, велеречивый оратор этого дня, длинная процессия студентов, шествующих за своими дипломами, родственники, выскакивающие из толпы, чтобы сфотографировать своего, сына или дочь, тогда характерные особенности акта этого года легко укладываются в известную схему. Откажутся ли студенты носить шапочки и мантии, откажутся ли поэтому преподаватели присутствовать па церемонии, согласятся ли скрепя сердце студенты надеть эти ненавистные шапочки и мантии, пройдет ли, наконец, слух, что все выпускники выйдут на акт голыми, покрыв себя только мантиями, - все это может считаться серьезными модификациями принятого обычая. Безразлично при этом, пропоют ли или не пропоют студенты Gaudeamus, исполнят ли они его сквозь зубы,- традиционная церемония останется частью всех этих событий. Вот почему легко изучать формы поведения активного, конкретного и связанного с событиями, которые можно сфотографировать или записать на магнитофон. События такого рода могут быть сфотографированы и записаны на магнитофон даже и без присутствия антрополога.
Но значительно более трудно в этнографической полевой работе иметь дело с негативными случаями - изучать, например, что происходит у народа, не отмечающего формальными актами достижение их девушками половой зрелости. Зафиксировать расплывчатые формы поведения, замещающие явные церемонии и ритуалы, куда более трудно.
Точно так же редко возникает необходимость собирать более, ста рисунков для того, чтобы показать, что дети рисуют человеческую фигуру, основываясь на стиле рисунков взрослых. Но если взрослые вообще не рисуют людей, то понадобятся тысячи рисунков, чтобы установить, что будут делать совсем не обученные дети, когда их попросят нарисовать, человека. Для арапешей, ятмулов и балийцев44 я располагаю небольшими, но вполне достаточными коллекциями детских рисунков. У всех этих народов стиль рисунков детей был подобен стилю рисунков взрослых: угловатые, деревянные фигуры у арапешей, стилизованные узоры у ятмулов, живое воспроизведение образов театра теней у балийских мальчиков и кондитерски-пышные изображения людей у балийских девочек. Но когда я обнаружила, что дети маиус не разделяют даже в малой степени анимистического мировоззрения своих родителей и рисуют только максимально ясные образы реального мира, я должна была коллекционировать и коллекционировать их рисунки, пока не решила, что объем коллекции в тридцать пять тысяч единиц будет достаточным. И двадцать пять лет спустя, когда я просила порисовать взрослых мужчин, рисовавших для меня мальчишками, рисовавших с наслаждением день за днем и никогда больше не пытавшихся рисовать после моего отъезда, я обнаружила, что они настолько полно воспроизводят свои прежние индивидуальные версии группового стиля, что я могла бы классифицировать рисунки каждого просто по памяти.
В конце нашей работы на Манусе мы намерены были вернуться, в Соединенные Штаты, где, Рео получил стипендию в Колумбийском университете. Обсуждался и другой план - уехать в Новую Зеландию, где, как говорил Рео, я могла бы обработать мои полевые заметки, а он стал бы на это время простым чернорабочим. Все это была романтика, далекая от современности, и у меня хватило ума не согласиться, хотя некоторые опасения насчет жизни Рео в США у меня и были. Я знала, как хорошо, принята моя книга в стране, где я была уже хорошо известна, а он был иностранцем и опубликовал до этого в Англии всего лишь небольшое специальное исследование, которое в Америке никто не читал. Его работа о добуанцах (еще не опубликованная, конечно) была бы его первой этнографической монографией, но в ней был один ужасный пробел. Он сломал свой фотоаппарат и не отремонтировал его вовремя, до экспедиции. Вот почему у него не было фотографий, а этнографическая книга без фотографий почти немыслима. Что было делать?
Когда мы прибыли в Рабаул и пошли обедать к гостеприимному судье Филипсу, ставшему нашей прочнейшей опорой на Новой Гвинее в течение многих последующих лет, мы все еще решали, сможем ли мы сойти с судна в Самараи. Там я предполагала пожить в отеле, а Рео, вооруженный теперь работающей камерой, смог бы попасть на маленький остров Тевара из архипелага Добу и сделать нужные снимки. Каким-то образом этот вопрос всплыл за обедом, и в одну минуту судья Монти Филипс нашел его решение. Ему нужен был кто-то, чтобы написать биографию замечательной женщины-пионерки миссис Паркипсон. Она стала жертвой одного американского авантюриста, который, пообещав ей описать ее жизнь и прогостив у нее дома несколько месяцев, оставил ее, не написав ни слова. Это была превосходная возможность. Я могла отправиться в Сумсум, имение миссис Паркинсон, а Рео, путешествуя налегке, смог бы съездить на Добу. В нашем распоряжении оказалось всего два часа, чтобы отправиться в порт, получить наш багаж из трюма. Все удалось великолепно. Хотя из шести недель, что Рео провел на Добу, солнце светило всего три дня, он сделал достаточно снимков, чтобы проиллюстрировать свою книгу.
А в это время я слушала Феб Паркипсон, одну из самых замечательных женщин своего времени. Ее отец был племянником американского епископа. Он женился на самоанке и стал американским консулом на Западном Самоа. В 1881 году Феб прибыла на паруснике на Новую Гвинею как юная супруга немецкого инженера и исследователя. Рихард Паркинсон в свое время воспитывался с маленькими принцессами Люксембургскими и всегда очень тщательно следил за тем, чтобы его воротнички были накрахмалены, а суп - горячим. То малое, что Феб знала о мире, она усвоила от монахинь. Ее самоанские сверстницы смеялись над нею, вышедшей замуж за человека на двадцать лет ее старше и потерявшего зубы в дорожном происшествии в Африке.
Паркинсоны оказались одной из первых семей, осевших на Новой Британии. Там они вместе со своими родственниками, вывезенными с Самоа, разбили плантации, где выращивали акры ананасов для германского военно-морского флота. Миссис Паркинсон и ее устрашающая сестра, "королева" Эмма, которая в свое время владела целым флотом пароходов, совершавших регулярные рейсы в Сан-Франциско, задали тон всей светской жизни на этой территории. Рихард Паркинсон не только управлял всем имуществом Эммы, но и фотографировал и собирал коллекции по всей Новой Британии. Его книга "Тридцать лет в Южных морях", опубликованная в 1907 году, все еще является классической45.
Живые рассказы миссис Паркинсон помогли мне составить цельное представление о жизни первых европейских поселенцев на этой территории. Мне это удалось потому, что я знала и Самоа и Новую Гвинею. Она объяснила мне также, какое суровое истязание, а в прежние времена даже смерть выпадали на долю титулованной самоанской девушки, не выдержавшей проверки на девственность в день свадьбы, и как этот обычай вошел в самоанскую культуру, на первый взгляд мягкую и податливую. Я никогда не видела этой церемонии, и что-то в ней было мне непонятно. Миссис Паркинсон объяснила мне, что жертвами этого обычая были только те девушки, которые не были достаточно предусмотрительными, чтобы рассказать старым женщинам о том, что они потеряли девственность. Предусмотрительную же девушку старухи, эти хранительницы чести титула, снабжали кровью цыпленка.
Она рассказала мне, как изменилась жизнь на этой территории под влиянием растущего напряжения как раз перед первой мировой войной, когда немецкое колониальное общество стало более рафинированным и начало пренебрежительно относиться к метискам. Затем началась война. Прибыли австралийские солдаты в своей тяжелой, неуклюжей форме. Они, одурев от жары, слонялись повсюду, имея отнюдь не воинские намерения. Однажды миссис Паркинсон приехала в Кокопо, взглянула на эту оккупационную армию, спросила: "Так это война? Это армия?"- и сейчас же уехала обратно. Но и у нее наступили трудные времена, в особенности после войны, когда англоязычная община в своих типично расистских установках всячески подчеркивала смешанное происхождение группы героических женщин, бывших первыми поселенцами на Новой Гвинее. В ее годы ей приходилось зарабатывать на жизнь, вербуя рабочую силу на плантации.
Шесть недель, проведенных в Сумсуме, были великолепны, и здесь же я получила некоторое представление о том, что значит управлять плантацией. Я так заинтересовалась этим, что миссис Паркипсон сочла себя обязанной сказать мне, что такого рода занятие не для меня. Здесь снова я услышала об этом "бедном мистере Бейтсоне", который, работая в Сумсуме, "не питался правильно и схватил ужасные тропические язвы". Я уехала от нее умудренная, собрав большое количество старых фотографий и увезя с собою уникальный отчет об одной стороне жизни Новой Гвинеи - о переходном периоде между временем исследований и временем заселения этого острова западными людьми. Я написала большую главу о миссис Паркинсон, названную мною "Ткачиха границы", для книги "В обществе мужчин". Эту книгу группа антропологов посвятила лицам, сообщившим им ценные сведения.
Рео присоединился ко мне в Самараи на судне, отправлявшемся на юг, и мы пустились в долгое плавание домой, сначала на Гавайи, где миссис Фриер, подруга моей матери по колледжу и жена бывшего губернатора, поразила Рео, предложив нам вечером лишь стакан воды, а затем в Сан-Франциско. Там мы остановились у доктора Джарвиса, врача, лечившего в свое время мою мать, маньяка по части своих диагнозов. Тогда он считал свищи причиной всех заболеваний. Он утверждал, что вылечит мои непрекращающиеся мышечные боли, которые ранее объяснялись плохими зубами, эмоциональным конфликтом, чрезмерной работой. Он сделал мне операцию и позволил Рео быть при этом заинтересованным зрителем. Эта операция оказалась не очень мудрым шагом, так как что-то пошло плохо и я чуть не умерла. Последний отрезок нашего долгого пути, поездка через Соединенные Штаты с нашими шестнадцатью местами багажа, упакованными по-новогвинейски, когда каждый предмет - винтовка, фотоаппарат, пишущие машинки, аптечка - пакуется отдельно, оказался каким-то кошмаром. И вот наконец мы прибыли в Нью-Йорк и были очень возбуждены встречей с друзьями, которые, в частности, рассказали мне, что я пользуюсь широкой известностью как писатель-этнограф. Я смутно догадывалась об этом и раньше, но никак не могла этого полностью осознать.
Глава 14. Годы между экспедициями
Экзотический зять всегда забавлял моего отца, хотя по временам он чувствовал себя с ним несколько неловко. Рео, который вышагивал длинными шагами, без шляпы, обернув шею пестрым широким шарфом, вместо пальто надев свитер под пиджак и неся внушительную черную резную трость, привезенную с Тробрианских островов, как компаньон для воскресных прогулок по Филадельфии слишком бросался в глаза.
С самого начала наша жизнь в Нью-Йорке оказалась нелегкой. Для нас нашли квартиру в старом четырехэтажном доме из коричневого камня на запад от Бродвея, на 182-й улице. Все наши соседи были на грани нищеты. Одна из семей жила этажом ниже, и, так как мы никогда не приглашали друг друга в гости, наше знакомство ограничивалось одалживанием стульев и тарелок. Еще ниже этажом жил владелец дома, который день за днем, фальшивя, наигрывал на фортепьяно один и тот же мотив. В нашей квартире было четыре комнаты, вытянутые вдоль узкого коридора, выходившего на открытую лестничную клетку: большая передняя комната с диваном, где засыпали наши частые ночные гости, кухня, ванная и большая спальня с окнами па темный, двор. В дальнем конце коридора была другая, меньшая комната, веселая и светлая. Я предложила оборудовать ее под кабинет для Рео, так как он еще не приобрел должного ранга в аспирантуре Колумбийского университета, чтобы иметь право на казенный кабинет. И весь год Рео жаловался, что я выселила его из жилых комнат, и сослала в ужасную заднюю каморку.
У нас не водилось больших денег в тот год, и все, что я могла себе позволить, - это иногда нанять кого-нибудь для уборки. Это значило, что до ухода на работу я должна была прибраться, так чтобы, вернувшись домой с кучей провизии для приготовления обеда, можно было смотреть на все спокойно. Вернуться в комнату, служившую нам и столовой, заваленную бумагами, и не находить в ней места, на котором бы мог, отдохнуть глаз, было для меня слишком тяжелым наказанием.
К тому же Рео не любил видеть меня за домашней работой, хотя сам не намеревался мне помогать. Более того, он считал эту работу вообще упреком себе. В результате я наловчилась, по воскресеньям убирать дом украдкой, делая вид, что с полным вниманием слушаю все, что мне говорят. Я ждала паузы, чтобы выскользнуть из комнаты и расстелить еще одну простыню или же вымыть еще одну чашку, а затем появиться вновь. Так мне удалось научиться делать все необходимое столь ненавязчиво, что Грегори Бейтсон, посетивший наш лагерь на Сепике, отметил, что он никогда не видел меня занятой домашними делами.
В межнациональных браках всегда заложены трудности даже и без тех осложнений, которые вносят меняющиеся роли мужчины и женщины. Мужчины британского происхождения, как правило, принимают как раз те решения, которые принимаются женщинами американского происхождения: как обставить дом, где развести розы на террасе, куда поехать в отпуск. Во время второй мировой войны было забавно наблюдать за этими двумя тинами браков. Если жена была американкой, а супруг англичанином, то в доме велась непрерывная война из-за того, кому что надлежит решать. Но если супруг был американцем, а жена англичанкой, то браку, по всей вероятности, суждено было распасться, так как ни он, ни она не считали своим делом решать, кого пригласить на обед или пойти ли вечером в кино.
Когда мы прибыли в Нью-Йорк в сентябре 1929 года, как раз перед крахами банков, ознаменовавшими начало великой депрессии в США, мы увидели, что все захвачены игрой на бирже. У меня было пять тысяч долларов в банке, весь доход от моей книги, и Рут Бенедикт попыталась убедить меня вложить эти деньги в акции. Я отказалась, и все считали, что я слегка помешалась - по-видимому, в результате своего столь долгого пребывания в тропиках. Текущий счет на мое имя был открыт в маленьком провинциальном банке в Дойлестауне. В те годы многие маленькие банки небольших городов оказались надежнее крупных. В 1932 году, когда я снова была на Новой Гвинее, отец телеграфировал мне, предлагая вновь открыть нам счет в банке Дойлестауиа. Но Рео открыл счет в "Бэнк оф Юнайтед Стейтс", филиал которого был рядом с нами. И именно этот банк лопнул одним из первых. Рео был потрясен. В Новой Зеландии банкротства банков не было. Пришла катастрофа, и разоренные маклеры бросались с небоскребов, не оставив ничего своим семьям, кроме страховки. Цены начали падать. Администрация музея созвала весь штат и урезала нашу заработную плату. Мой начальный оклад составлял только 2500 долларов в год, и в течение последующих лет зарплата оставалась на этом сниженном уровне.
Тем не менее депрессия поначалу значила очень мало для меня. Я не испытывала никаких симпатий к лихорадочной игре на бирже, особенно если ею занимались люди из академического мира, у которых слишком мало денег, чтобы рисковать потерять их. Моя бабушка дважды в день бубнила мне в ухо, расчесывая мои волосы: "Всегда живи по средствам". Я не игрок, и, может быть, услышанное изречение "Счастлив в картах - несчастлив в любви" также произвело на меня впечатление. А когда пришел крах, я просто была довольна, что не рискнула своим гонораром, который смог послужить мне основой для подготовки будущей экспедиции. Я знала о циклах деловой активности, и крахи банков не слишком волновали меня, так как я знала, что и в прошлом бывали паники и лопались банки. Внешне не был серьезно обеспокоен и мой отец. Однако, изучая цены на золото, по которым можно было предсказать крупнейшие войны в Западной Европе начиная с шестнадцатого столетия, он сказал: "Маргарет, до следующей войны десять лет". Я ответила па это: "Тогда обработаем поскорее наши полевые записи, чтобы мы могли поскорее вернуться в поле и спасти побольше культур до того, как придет война и, может быть, уничтожит их навсегда".
В мои студенческие дни я была потрясена ужасными потерями информации в экспедициях. Этнографы накапливают массу написанного от руки материала, остающегося не расшифрованным в течение всей их жизни, материала, который никто не может прочесть и обработать после их смерти. В Новой Зеландии Рео и я навестили Элсдона Беста46, этого неутомимого летописца маори, и мы увидели его шкафы, полные записок. Каждое лето Плиний Эрл Годдард предпринимал очередную поездку на Юго-Запад и набирал множество новых записей, которые он никогда не обрабатывал. Даже Боас с его потрясающим числом публикаций так и не мог написать резюме, в котором подвел бы итог своего исследования индейцев квакиютль. Он собирался сделать это, но на третьей странице новой рукописи он запутался в описании каких-то технических деталей, записи по которым так и не смог расшифровать в свое время. Я поклялась, что никогда не буду предпринимать следующую экспедицию, пока детально не опишу предыдущую.
Во всем том, что касалось наших писательских дел, я задавала тон, вот почему наша жизнь была очень напряженной. За два года, прожитые нами в Нью-Йорке, каждый из нас написал по три большие работы, к тому же мы совершили небольшую экспедицию к американским индейцам. Так хорошо потрудившись, мы могли с чистой совестью снова ехать на полевые работы. В ту первую зиму Рео написал окончательный вариант "Колдунов с Добу", а я -"Как растут на Новой Гвинее". По вечерам мы либо читали друг другу то, что каждый из нас сделал в течение дня, либо читали вслух других авторов.
Первый вариант рукописи о Добу Рео закончил сразу же после того, как вернулся с поля, еще до нашей женитьбы. Реакция Радклифф-Брауна на это была: "Не верю!" Его собственный опыт относился к классическим законченным патрилинейным обществам, и ему было трудно принять такое общество, как добу. А та страсть, с которой Рео описывал своих колдунов, была подстать всему его темпераментному отношению к жизни. Другие считали его описание добу преувеличенным. Но такие практики полевой работы, как Геза Рохейм47, Ян Хогбин48 и Энн Чоунинг49, у которых была возможность проверить его описание на месте, так не думали. В Нью-Йорке ему удалось переписать и расширить первоначальный вариант своей рукописи в свете данных, полученных на Манусе. Если Радклифф-Браун, считал Рео, поверит данным о манус, то он должен будет принять и его описание добу. Этого, к сожалению, не произошло. То, что следовало объяснить как углубление собственных этнографических концепций Рео, совершенно ошибочно было приписано Радклифф-Брауном и другими моему влиянию.
В моей жизни это случалось часто. Однако никто не понимал, в чем заключалось мое действительное влияние. Оно состояло в моей способности наслаждаться работами других и оценивать их так, что мои оценки были для них чем-то вроде вливаний новой энергии, необходимой для того, чтобы завершить этап исследования или закончить книгу. Но фактом является и то, что люди, находящиеся под моим так называемым влиянием, счастливы лишь тогда, когда они работают на пределе своих способностей. Когда же их собственный порыв иссякает и они не могут больше черпать мою энергию, они воспринимают ее в качестве упрека, непрошеного стимулятора и отвергают. Мое влияние на "Колдунов с Добу" было лишь влиянием восторженного, внимательного и очень восприимчивого слушателя. Позднее, когда Рео все больше стад уходить в личностную символику того, над чем он работал, и переключил свое внимание с вопросов религиозного поведения (область, в которую он внес наибольший вклад) на проблемы секса и агрессии, проблемы, куда менее успешно отфильтрованные его памятью, он стал гораздо менее продуктивен. После того как мы расстались, он работал лишь над одной монографией - изданием своих арапешских текстов и грамматики языка арапешей,- но оставил ее незавершенной.
Однако в течение тех двух лет мы питали друг друга и нашим энтузиазмом, и нашей энергией. Мы напряженно работали весь день и награждали друг друга по вечерам, прослушивая написанное за день или обсуждая что-нибудь. Мы ходили в театры и принимали друзей. Нашу гостевую комнату занимали те из моих подруг, у кого не ладилось с написанием диссертации или возникали осложнения с мужем или любовником. Наша квартира была прочным, хотя и слишком бурным семейным очагом, и все, кто попадал в затруднительное положение, могли найти в ней убежище. <...>
Весной 1930 года доктор Уисслер50, глава этнографического отдела музея, спросил меня, не соглашусь ли я проделать небольшую работу среди индейских женщин на средства Комитета миссис Леопард Эльмхёрст. Я не очень заинтересовалась этим предложением, но Рут посоветовала мне поехать к индейцам омаха. При этом условии она обещала мне найти деньги и для Рео, чтобы он смог поработать над проблемой, которая уже давно занимала ее. В преданиях большинства племен американских индейцев содержится много упоминаний о видениях. Слыша о них, дети весьма тонким образом получают представление о содержании и форме этих видений, а потом активно ищут их. Но в обширных материалах, собранных по мифологии омаха, не было зарегистрировано ни одного упоминания об этих видениях. Рут желала знать, почему это так. И так как доктору Уисслеру было все равно, где я израсходую небольшую сумму в 750 долларов, с которой он не знал, что делать, мы поехали в резервацию омаха в Небраску.
Эта экспедиция оказалась тяжелым испытанием для нас обоих. Мы купили "форд". Вел его Рео, совершенно пренебрегая всякой осторожностью, так что временами вместо пыльной, грязной дороги мы оказывались в поле. Томительно жаркое, сухое лето в Небраске, характер ландшафта, где расстояние можно замерить только по маленьким холмам, атмосфера агентства по делам индейцев, уровень жизни в резервации - все это было новым для нас и очень удручающим. До сих пор мы работали в живых культурах, там, где одежда, дома, внешний жизненный стиль народа соответствовали тем частям культуры (системы родства, мифология, религиозные верования), которые мы были призваны изучить. Но здесь перед нами была культура настолько редуцированная в сопоставлении с ее прошлым, со временем, когда омаха были индейцами прерий, охотниками на бизонов, что от нее остались почти неузнаваемые реликты и ничего, что могло бы удовлетворить эстетическое чувство в настоящем. Женщины носили длинные хлопчатобумажные платья, конечно, несколько отличающегося покроя, но современные; когда они танцевали, то накидывали на плечи одеяла, купленные в лавке. Они жили в маленьких, теперь уже ветхих домах, построенных для них в то время, когда каждый человек мог получить 160 акров земли при условии, что он будет обрабатывать ее. Но лишь немногие из мужчин занимались земледелием. Вместо этого они проживали свою ренту, гоняли на разбитых, старых автомобилях по округе и стремились получить максимальное удовольствие от встреч друг с другом, играя в азартные игры. Но там, где ранее ставками были одеяния из конской или бизоньей шкуры, сейчас в ход шли монеты в пять или десять центов.
Мы привыкли оказывать разные мелкие услуги изучаемому нами народу, выражая свою признательность медицинской помощью, вниманием и прежде всего давая пищу для размышлений тем его умственно развитым представителям, которые были в восторге от возможности выйти в мыслях далеко за пределы своей собственной культуры. Но этим индейцам из резервации нам нечего было предложить. Медицинская помощь у них была, но они очень часто пренебрегали ею. С антропологами они встречались и раньше и привыкли рассматривать их прежде всего как источник дохода. Как мне сказал один старик: "Мы никогда никому не рассказываем всего. Мы что-то сберегаем для следующего". Люди отказывались говорить нам о чем-нибудь, не получив предварительно десять или пятнадцать долларов за информацию. Да и после этого не было полной уверенности, что они не ответят повторным отказом.
Мы, конечно, не пытались изучить язык, ибо денег у нас было только на три месяца работы. А так как никто из нас до этого никогда не работал с помощью переводчиков, то мы оба нашли этот опыт и раздражающим до крайности, и угнетающим. Но Рео пришел в отчаяние главным образом потому, что у него возникли сомнения, сможет ли он вообще разрешить тайну, разгадать которую он и был сюда послан. У него возникло убеждение, что его специально послали сюда с миссией, обреченной на неудачу, что американские антропологи ничего не читают, кроме материалов об индейцах, и что его профессиональная репутация в США будет отныне основываться на экспедиции, в которой ему ничего не удалось сделать. Как можно что-нибудь сделать в культуре, где настоящий церемониал умер, а люди говорят о чем-нибудь не из интереса, а только за деньги?
Эта позиция американских индейцев, воспитанная десятилетиями взаимодействия культур, была чужда нам, привыкшим к народам Океании. Сколь бы суровы и темны они ни были, их суровость и темнота несли в себе что-то более разумное. Здесь же нас не покидало мрачное чувство, что этот народ сам пошел вспять. Мы познакомились с двумя замечательными стариками, служившими переводчиками у племени. Оба были воспитаны на Востоке в домах квакеров и говорили на точном и беглом английском. Но следующее поколение было послано в школы для индейцев, где дети из различных языковых групп были слиты вместе, а их обучением занимались федеральные чиновники, мало знавшие, а еще меньше заботящиеся о своих учениках и культурах, откуда те вышли. В итоге школьники вернулись в свои резервации с худшим знанием английского, чем у взрослых, но значительно более отчужденными от традиционной культуры. Процветало пьянство. Разрушенные семьи, заброшенные дети и общая социальная дезорганизация были заметны всюду.
Моя задача касалась женщин. Это была неблагодарная задача проанализировать долгую историю ошибок американской политики в отношении индейцев в прошлом и напророчить ей еще более мрачное будущее. Хотя мы поняли на Новой Гвинее, что контакты культур неизбежно ведут к большим изменениям и многие из последних будут изменениями к худшему, все же одно дело - опасение за будущую судьбу народа, с которым ты познакомился и научился его ценить, и другое - картина очевидной катастрофы, каждый день стоящая перед глазами.
Даже соединение наших полевых денег не избавило Рео от тяжелых трудов по сбору нужной ему информации. Оправдались и его самые пессимистические предчувствия: он никогда не добился должного признания своего успеха в решении проблемы, почему нет сведений о видениях в мифах омаха, рассказываемых не по секрету и посвященным, а публично.
Он нашел, что, хотя омаха, по-видимому, и приняли тот же обычай, что и их соседи по прерии, а именно, что каждый волен утверждать, будто он имеет видения, и требовать власти, право на которую они ему дают, фактически у омаха членство в религиозных сообществах определялось наследственными правами на тайное знание. Когда те, кто не имел наследственных прав на видения, постились и выдвигали свои притязания, им говорили, что их видение ложно.
Ситуация была настолько необычной, как и предчувствовала Рут, что открытие Рео действительно прошло незамеченным. Американисты не оцепили его искусство детектива, проявленного им в работе с меланезийскими колдунами, у которых Рео выведал необычные тайны. Наибольшее признание принесли ему "Колдуны с Добу", наиболее известная его книга, и "Религия манус". Что же касается его книги "Тайные общества омаха", создавая которую он столкнулся с наибольшими трудностями, то она не принесла ему никакого успеха.
Это было тяжелое лето, лето, полное испытаний. Второй этаж нашего маленького каркасного домика раскалялся так, что до двух часов ночи мы даже не пытались заснуть. По временам мы выезжали в соседний городишко, где устраивались концерты духового оркестра, а в субботу вечерами бросали с крыши цыпленка, за которого дралась ожидавшая внизу толпа. Иногда мы даже отваживались съездить в Су-Сити посмотреть кино. Но Рео сказал, да и я это чувствовала, что полевую работу вести много легче, когда внешний мир далеко и невозможно выехать куда-нибудь, даже если и есть такое место. Здесь слишком легко было сесть в автомобиль и уехать.
В конце лета мы поехали домой, проклиная постоянно ломающуюся машину. Мы сделали остановку в Цинциннати; даже сегодня, когда я еду по этому городу, кошмар нашей первой поездки по улицам с напряженным движением встает в моей памяти. Как бы там ни было, мы остались живы и приехали в Нью-Йорк целыми, хотя и очень усталыми.
В ту зиму Рео получил в свое распоряжение половину кабинета в здании факультета Колумбийского университета, так что он почувствовал себя не таким узником, каким ощущал себя дома. У нас было немножко больше денег, и я смогла переоборудовать большую спальню в столовую, а старый спальню. Теперь мы могли с большим комфортом принимать наших друзей. Я обработала летние записки, что сделал и Рео. Весною он сдал свои докторские экзамены, а диссертацией послужила его книга "Религия манус". Пора было опять отправляться в поле.
Я была убеждена, частично на основании своих полевых работ на Манусе, где мы в какой-то мере дополняли друг друга и не соперничали, что полевые работы создают нам наилучшие условия для сотрудничества. Мы сказали Боасу, что, так как у меня не может быть детей, мы оба готовы для любых планируемых полевых работ. Кроме того, мы сказали ему, что нам бы хотелось поработать среди навахо, группы американских индейцев с еще живой и не тронутой культурой, не разрушенной исчезновением бизонов и окончанием войны с индейскими племенами, как была разрушена культура омаха. Но в то время на каждое "поле" как на свою полноправную собственность притязал тот ученый, который уже проводил исследования по данной культуре. Эта ситуация усугублялась еще и тем, что исследователей было мало и их нужно было рассредоточивать. В итоге мы были разочарованы, по не удивлены, когда Боас сказал нам, что навахо "принадлежит" Глэдис Рейхардт.
Мы стали планировать экспедицию на Новую Гвинею. На пев пошли деньги, сэкономленные мною из гонораров за "Взросление на Самоа", а недостающую сумму дали нам Совет по исследованиям в области общественных наук Колумбийского университета и мой музей из фонда Фосса отдела антропологии, фонда, специально предназначенного для антропологических исследований. Мы намеревались отправиться весной 1931 года.
Однако как раз в это время появился обзор одного из учеников Малиновского, в котором меня обвиняли в том, что я не поняла систему родства на Манусе. Я сразу же решила, что не могу уехать в экспедицию, не подготовив к печати специальную монографик" по этому вопросу - "Система родства на островах Адмиралтейства".
Это означало, что мы должны были задержаться в Нью-Йорке на лето. В Колумбийский университет прибыл Радклифф-Браун, чтобы прочесть лекционный цикл на летних курсах. Он всегда был ленив и склонен к импровизации, и здесь он не намеревался очень стараться. Но Рео и я прослушали весь его курс, сидя в первом ряду, ожидая наилучшего и получив его. По вечерам я надевала свои самые красивые платья и готовила на обед то, что любил Радклифф-Браун. В конце летнего семестра я завершила свою монографию, Радклифф-Браун уехал в Чикаго, а мы отдали нашу квартиру Луиз Розенблатт, только что вышедшей замуж за Сиднея Ратнера. Наконец-то мы были готовы к поездке на Новую Гвинею.
Глава 15. Арапеши и мундугуморы: половые роли в культуре
В декабре 1931 года мы прибыли к арапешам и начали полевую работу, давшую мне совершенно новое понимание ролей мужчин и женщин в культуре и взаимосвязей врожденных половых различий темперамента с культурой. Эти открытия были связаны с таким стечением обстоятельств, которое нельзя объяснить никакими удачными случайными совпадениями.
Когда Рео и я вернулись на Новую Гвинею, мы решили исследовать народ, живущий на равнине между хребтом Торричелли и северным берегом острова. Мы знали об этих людях, что они строят гигантские треугольные дома для мужских собраний и что у них очень развита ритуальная сторона жизни. Мы полагали, что изучить другие племена мы сможем в будущем, но на этот счет у нас не было точных планов.
Долгий путь в горы, по опасным тропам, проходившим то через крутые склоны, то через русла горных потоков, был медленным и тяжелым - в частности, потому, что меня должны были нести, но другого пути вглубь не было. Однако удача Рео, нанявшего ним носильщиков из деревень, расположенных за горным хребтом, обернулась неожиданной стороной. Наши носильщики бросили нас со всем нашим багажом на вершине хребта, и у нас не было никого, чтобы нести наш шестимесячный запас в том или другом направлении - на равнины за горным хребтом пли же обратно на побережье. Итак, у нас не было выбора: мы не могли попасть ни к народу, выбранному нами для нашего исследования, ни обратно на побережье. Вот почему нам пришлось осесть, построить дом и работать там, где мы оказались, работать с простыми, обнищавшими горными арапешами, церемониальная жизнь которых была обеднена, а искусство еще более примитивно. Перед этим Рео, однако, все же сделал попытку раздобыть носильщиков, спустившись на равнину, но, по его словам, он нашел, что "у этих людей вообще нет культуры - они называют своячениц "друзьями"". Теперь, когда мы застряли в горной деревушке Алитоа, он решил изучать язык горных арапешей, что оказалось совсем не легким делом.
Как и в случае наших полевых работ на Манусе, наши личностные реакции на эту новую культуру были в очень высокой степени предопределены нашим прошлым опытом - опытом работы на Самоа, опытом, бесконечно мне импонировавшим, и опытом работы Рео на Добу, культуру которого он страстно ненавидел, и опытом исследования народа манус, проведенного нами без особых симпатий и антипатий, но иследования, хорошо сделанного, не вызвавшего сколько-нибудь серьезного конфликта темпераментов я личностей. Мы были твердо убеждены, что именно культура является главным фактором, который учит детей, как думать, чувствовать и действовать в обществе. Несколько месяцев спустя после того, как мы взялись за нашу работу, мы получили от Рут Бенедикт первый вариант ее "Моделей культуры". Рео прокомментировал его так: "Недостаточно сказать, что культуры различны. Главное состоит в том, что они невероятно различны". Тогда нам не пришло в голову, что различие опыта, приобретенного мною на Самоа, а Рео на Добу, в столь же большой мере зависело от наших личностей, как и от природы культур, исследованных нами.
Я, безусловно, и раньше соглашалась с новаторскими идеями Рут Бенедикт, идеями, но которым различные культуры выбирают различные стороны человеческой личности, отвергая другие. Она установила, испытав при этом чувство откровения, что между разнообразными культурами американских индейцев имеется одно фундаментальное различие: некоторые из них всемерно подчеркивают значимость экстаза (для обозначения их она воспользовалась ницшеанским термином "дионисовские"), в то время как другие превыше всего ценят умеренность и сбалансированность (она обозначила их опять же ницшеанским термином "аполлоновские"). Все это пришло ей в голову во время ее пребывания в поле тем летом 1927 года, когда я встретилась с Рео в Германии перед его поездкой на Добу. В следующую зиму она работала над статьей "Психологические типы культур Юго-Запада", где впервые это блестящее прозрение получило свое логическое развитие. Тогда я писала "Социальную организацию па Мапуа", и мы обстоятельно обсуждали с ней тип личности, заложенный в институтах самоанской культуры.
Несколько ранее она высказывалась в том же духе, утверждая, что именно те личности, которые по своим врожденным свойствам слишком резко расходятся с нормами своей культуры, именно они считают свою культуру глубоко чуждой себе. В 1925 году она писала мне из резервации пуэбло в Коиити: "Я хочу найти по-настоящему не открытую страну". Она не переставала спрашивать, была ли бы она счастлива, родись она в другом времени и месте, например в древнем Египте. В наших дискуссиях мы обе согласились обозначать термином "девиант" людей, не приспособленных к своей культуре. Во "Взрослении на Самоа" я написала главу и назвала ее "Девиант", где описала девушек, темперамент которых - то, что я назвала избыточной реактивностью в соединении с жизненной ситуацией и опытом,- заставляет их отклоняться от норм поведения самоанской личности.
Однако идея естественных задатков или же конституционных психологических типов еще не вошла по-настоящему в мое мышление. Я прочла важную статью Селигмана51 "Антропология и психология - некоторые точки соприкосновения", а в 1924 году, во время захватывающих переживаний, связанных с конгрессом Британской ассоциации этнографов в Торонто, Сепир говорил о том, как культуры навязывают определенные стили поведения, включая позы и жесты. Время от времени я размышляла над тем, в чем были корни моего очевидного отклонения от принятого стиля поведения женщин, ориентированных на карьеру. И для меня было ясно, что я девиант в том смысле, что у меня был значительно больший интерес к тем вещам, которые занимают женщин, не нацеленных на карьеру. Я также мучительно думала над противоположностью моих психологических задатков в сравнении с моими братьями и сестрами, над тем, почему они совершенно иначе реагируют на события нашей общей жизни. Столь же мучительно я думала о несходстве между Рут и мною, особенно когда она высказывала в отношении меня заведомо, на мой взгляд, противоречивые суждения вроде того, например, что меня совершенно невозможно представить мужчиной и вместе с тем что "тебе лучше быть отцом, чем матерью".
Когда я сформулировала проблему, с которой я прибыла в поле на этот раз, как проблему анализа влияния культуры на характер мужских и женских ролей, то за ней стояло недвусмысленно сформулированное намерение найти новый подход к фундаментальной проблеме биологических различий, связанных с полом.
Итак, в 1931 году задачей моего исследования, задачей, прямо провозглашенной в качестве главной, был анализ различных способов, с помощью которых культуры определяют нормы ожидаемого поведения мужчин и женщин. При этом мне не надо было тщательно обосновывать цель моей экспедиции, ибо она не зависела от получения нужных средств в каком-нибудь комитете, требовавшем обстоятельно разработанной гипотезы. Нет, нужная сумма была получена от музея, а для музея было совершенно достаточно сказать, что я хочу поехать туда-то и туда-то и провести такие-то и такие-то полевые работы.
Но безусловно, проблема половых различий очень сильно занимала меня, и, когда я начала работать с горными арапешами, именно ей я и уделила основное внимание. Однако на первый взгляд результаты оказались разочаровывающими.
У арапешей, как у мужчин, так и у женщин, в одинаковой мере оказалось нормой поддерживать, лелеять детей, заботиться об их росте. Мальчики помогали растить и кормить обрученных с ними маленьких жен, а мужья и жены дружно соблюдали табу, защищавшее их новорожденных детей. Весь смысл жизни заключался в том, чтобы содействовать росту - росту растений, свиязей и прежде всего детей. Функция отца сводилась к роли кормильца, так как арапеши считали, что для создания ребенка нужны многие акты соития, а ребенок создается из крови матери и семени отца.
Агрессивное поведение - поведение, связанное с неуважением к правам других, с нарушением правил, правил, запрещающих есть своих собственных свиней, дичь, которую ты сам убил, выращенный тобою ямс,- подвергалось здесь самому суровому осуждению. Но порицают и осуждают арапеши не агрессора, а всякого, кто вызывал гнев и акты насилия у другого.
На все скверное в мире арапеши смотрели удивленно и отстраненно. Некоторые девочки растут слишком быстро и становятся женщинами до того, как созревают их мужья-мальчики, которым полагалось созревать раньше их. И некоторые люди, мужчины и женщины, оказываются агрессивными, теряют контроль над своим поведением. Самое лучшее, что можно сделать в таких случаях,- это не возбуждать их. Но от каждого, будь он мужчина или женщина, ожидают, что он будет заботливым, ласковым человеком, внимательным к нуждам других.
Рео и я очень по-разному реагировали на арапешей. Я тоже считала их культуру, почти лишенную церемониальной стороны, лишенную каких-то тонкостей, очень поверхностной. Она требовала от меня применения всех моих, теперь уже достаточно хорошо развитых навыков полевого исследователя. Для меня было бы катастрофой столкнуться с такой культурой в моей первой экспедиции. Тогда мне показалось бы, что я имею дело с маленькой кучкой людей, просто отдыхающих в деревне после тяжелых работ или бесцельно слоняющихся с унылым видом. Теперь же я нашла этих людей в чем-то созвучными мне, хотя и скучными в интеллектуальном плане. Они были способны на ясное, хорошее мышление, а некоторые мальчики показывали хорошие результаты по тесту интеллекта Стэнфорд - Бине52. Но имелись и девиантные личности, переживавшие известные трудности в этой мягкой, расплывчатой культуре, где никто не выполнял работу профессионально, никто в точности не знал, что означает только что раздавшийся сигнальный крик, где каждый называл другого не по имени, а термином родства, отвечающим конкретному случаю всепроникающего закона взаимных услуг. Так, человек мог называть одного из двух братьев "братом матери", а второго -"шурином", в зависимости от того, кому он сейчас помогал - своей матери или сестре.
Рео, стремившийся выжать грамматику из неохотно диктуемых текстов, нашел все - и народ, и культуру - бесформенным, малопривлекательным и в высшей степени чуждым ему духовно. Когда его приводил в ярость один из мальчишек, ведших наше хозяйство, он угрожал ему физической расправой. Тогда я, в свою очередь, бросалась между провинившимся и поднятой рукой Рео. Сам Рео был выходцем из культуры, где мальчики претерпевали физические наказания, а мужчины били женщин. Я же выросла в семье, где ни один мужчина, по-видимому, никогда не поднял руку па женщину или ребенка в течение многих поколений. И когда я становилась на сторону злополучного арапеша, это еще больше раздражало Рео. Я начала думать об арапешах и самоанцах вместе как об одной категории людей, противопоставив их в некоторой степени манус и уж определенно добуанцам, этим свирепым воинам, суровым и опасным колдунам.
Теперь у меня было много времени для размышлений. Я не могла никуда выйти из деревни, потому что тропы были круты и опасны для моей больной лодыжки. Деревня же часто была совершенно пустой. В собранной мною информации, даже при самой искусной ее обработке (всякий пойманный мною житель оказывался источником полезных сведений), все же было слишком много пустых мест. Отдельные индивиды представляли у меня целые демографические группы. Они могли описать генеалогическое древо самым систематическим образом, но оказалось, что их действительная система родства совершенно ему не отвечала. Я также проводила много часов, копируя на акварельных миниатюрах их технику росписи панелей из коры. В динамичном обществе у меня совсем не было бы для этого времени.
В то время я пережила два глубоких чувства. Одно из них было приятным. Оно пришло, когда я осознала, что окупила все то, что мир вложил в мою учебу, или же, говоря языком Америки, что я преуспела. У меня родилось чувство свободы, свободы от обязательств, свободы выбрать то, чем я хочу заниматься.
Второе чувство было иным. Это было ощущение загнанности в угол, ощущение, что мы никуда не движемся в области теории. Наши личные отношения с Рео складывались нелегко. Когда в наши руки попали "Колдуны с Добу", превосходно изданные в Англии, Рео посмотрел на книгу и печально сказал: "Это последняя книга, которую я написал один. Все мои другие будут написаны с тобой". Я изучила язык арапешей, но не испытывала удовольствия от ощущения преодолеваемых трудностей, того удовольствия, которое заставляло меня проводить по восемь часов в день, изучая словарь манус или самоанцев. Я чувствовала себя в чем-то конченой.
Я открыла новый тип полевых работ. Я умела изучать детей и связывать методы их воспитания с культурой, взятой в ее целостности. Все это вносило динамический элемент в то, что в противном случае было бы достаточно плоской картиной жизни другого общества. Мы с Рео изобрели метод анализа событий и научились рассматривать небольшие события в более широких контекстах. Но разрешение проблемы, с которой я прибыла в поле, проблемы, как предписываемые культурой различия в маскулинном и фемининном поведении сказываются на различии структуры личностей у мужчин и женщин, подвигалось вперед очень мало. У арапешей нормативы культуры предполагают такое небольшое различие характеров мужчин и женщин, что я опасалась, открыла ли я здесь что-либо новое. Я поняла, что если в культуре манус делается акцент на анальности, то арапеши акцентируют оральность53 и такой акцент на оральности и пище вполне соответствует теоретическим концепциям ранних работ Фрейда и Абрахамса. Но и у этого вывода отсутствовало достаточно солидное теоретическое обоснование.
Итак, когда Рео делал короткие вылазки в соседние деревеньки и совершал более длительные вояжи к побережью или па равнины за горами, я сидела в Алитоа и считала свою интеллектуальную жизнь завершенной. Мне казалось, что мне предстоит исследовать еще много культур, пользуясь одним и тем же методом, что жизнь не уготовила мне больше никаких интеллектуальных наслаждений. Может быть, все это было притупляющим следствием непрерывных занятий Рео Малиновским. Но тогда это было парадоксальным, так как студенты, действительно работавшие у Малиновского, получали от него мощный интеллектуальный заряд. А может быть, такова была моя реакция на неприятности, возникшие дома.
Один научный фонд, как написала мне Рут, выделил миллион долларов на проведение антропологических исследований. Но возникла одна сложность: этой суммой должен был распоряжаться Радклифф-Браун. Когда я услышала об этой новости, у меня возник превосходный план. Если мы действительно получим эти деньги, то лучше всего было бы, как мне казалось, предложить субсидии на проведение полевых работ самым многообещающим представителям всех общественных наук. Это значило бы, что большое число живых культур оказалось бы исследованным с точки зрения политической экономии, политологии и психологии, а также что целая группа специалистов в перспективных общественных науках получила бы возможность познакомиться из первых рук с тем, что собою представляет определенная культура. Тем самым был бы сотворен новый мир.
Но очень скоро стало очевидным, что несговорчивость обеих сторон обречет на неудачу любой план использования денег. Радклифф-Браун, несмотря на всю свою одаренность, вел себя вызывающе, обладал догматическим умом и диктаторскими наклонностями. Боас и другие ведущие американские антропологи решили, что они скорее лишатся этих денег, чем позволят Радклифф-Брауну распоряжаться ими. К тому же времени, когда эти деньги вновь стали доступными антропологам, к концу 1940 года, каждая из общественных наук пошла своим путем и их представители - культурантропологи и социальные антропологи, социальные психологи и социологи - образовали какой-то сумасшедший тандем, передачи у которого были сорваны. Даже решая одни и те же проблемы, они подходили к ним с разными мерками и разными концептуальными схемами.
Я предчувствовала неизбежную неудачу этого великого плана, и это предчувствие частично объясняло мою депрессию. Это была сравнительно мягкая форма депрессии. Я полагаю, что она чем-то напоминала депрессию, которую многие испытывают в середине жизни, когда начинают понимать, что им не продвинуться дальше в своей профессиональной области. Тогда мне было тридцать. С тех пор у меня никогда не было депрессий, длившихся больше чем несколько дней. Но на той горе, где туманы закрывали горизонт и можно было видеть лишь крупные листья папайи, проглядывавшие сквозь туман, будущее казалось мне тусклым и непривлекательным.
Когда мы, наконец, вернулись от арапешей в августе 1932 года, оба мы были очень неудовлетворены научными результатами нашей экспедиции. Языковая работа неизбежно становится скучнее, когда каркас языка прояснится и остается только заполнить его деталями. Рео был очень доволен своими экспедициями а глубь острова, и в особенности тем, что ему удалось расширить наши представления о страшных колдунах с равнины, шантажировавших наших кротких горцев. Они вымогали у них пищу, блага, имеющие рыночную стоимость, в обмен на обещание не трогать их родственников. Но во многих отношениях нашему материалу не хватало каких-то кульминаций; Мы не видели ни одной большой церемонии, обрядов посвящения, мы даже не видели никаких драматических столкновений.
Именно то обстоятельство, что культура была так поверхностна, позволило мне позднее документировать ее самым тщательным образом. И напротив, я подсчитала, когда Теодор Шварц начал свои работы на Манусе, что потребуется около тридцати лет, чтобы обстоятельно документировать эту культуру, а это еще не очень сложная культура. Что же касается ятмулов, народа, живущего на Сепике, начальные шаги по изучению которого сделал Грегори Бейтсон, то здесь понадобятся многие годы труда многих исследователей, использующих всю современную технику регистрации информации.
После того как мы спустились с гор, мы провели шесть недель в Каравон, гостеприимной плантации на побережье, где мне уже приходилось останавливаться, когда Рео был в глубинах острова, добывая носильщиков. Там мы отдохнули, приглядывая вместе с тем за плантацией отсутствовавших хозяев, пополняя наши запасы, готовясь к тому, чтобы отправиться к берегам Сепика, на новое место стоянки нашей экспедиции.
Когда мы еще были у арапешей, мы получили номер "Океании", в котором был опубликован короткий отчет Грегори Бейтсона о его исследовании ятмулов. Мы с Рео не сочли его очень интересным. Рео по-прежнему считал, что Грегори слишком тененциозен, остается пленником кембриджской традиции. При этом он постоянно ссылался на свои встречи с Грегори в Сиднее. Тогда Рео возвращался с Добу с материалом, нуждавшимся только в дополнении, и с хорошо спланированной монографией, в то время как в запасе у Грегори не было ничего, кроме разочарования, связанного с его попытками исследовать культуру баинингов54. (И сейчас, сорок пять лет спустя, культура баинингов все еще сокрушает сердца исследователей, выбирающих ее для своих первых полевых работ.) Мы знали, что Грегори снова был на берегах Сепика, но здесь Рео спросил, почему он, а не мы должен заниматься этой великолепной культурой.
В те времена этика полевых работ была очень строгой. Боао отказал нам в праве заниматься навахо, потому что они "принадлежали" Глэдис Рейхардт. Он это сделал, не обращая никакого внимания на то, что мы смогли бы проделать эту работу куда лучше, чем она. До сих пор я никогда не встречалась с Грегори Бейтсоном и потому ни в коем случае не была его защитником. Когда мы оба были на Манусе, я написала ему, прося проделать некоторую работу для музея. Он отказался, обнаружив полнейшее отсутствие заинтересованности. Однако он послал нам какие-то свои заметки, сделанные в Бипи55, отдаленной деревушке на островах Адмиралтейства, где он остановился на короткое время в 1929 году, сойдя с борта шхуны, шедшей из Новой Британии. Тогда он предпринимал свою замечательную экспедицию на Сепик. Но безотносительно к тому, обладал ли Грегори какими-нибудь исключительными правами на культуру Сепик или же нет, он ее выбрал, он уже был там, и она принадлежала ему. В то время мы еще не знали, что профессор Хаддон выразил желание исследовать бассейн реки Сепик и опровергнуть построения Грегори, нарушившего равновесие между биологией и антропологией в пользу антропологии. Э. П. У. Чиннери, чиновник-антрополог из администрации, не дал ему в 1927 году, во время его первой экспедиции, поработать в бассейне Сепика и настоял на том, чтобы он отправился к баинингам. Но сейчас на счету у Грегори было уже три экспедиции к ятмулам.
Вот почему, когда мы решили отправиться на Сепик, я была решительно за то, чтобы мы не вторгались на территории Грегори. Я настаивала также на том, чтобы мы отправились туда, где никто до нас не был. Тем самым мы исключили бассейн реки Керам, нижнего притока Сепика, где немецкий этнограф Рихард Турнвальд56 изучал народность банаро57 в начале первой мировой войны. Когда война началась, австралийцы получили сообщение о "немецком десанте" на реке Керам. Но когда воинский отряд, получивший задание взять в плен этот десант, прибыл на Керам, он нашел лишь одного Турнвальда, мирно изучавшего местную деревню. В конечном итоге мы решили подняться вверх по Сепику до первого его притока, расположенного выше реки Керам, и исследовать народ, живший там. Мы приняли совершенно произвольное решение, но оно привело нас к среднему течению реки Сепик.
Мы поселились на берегах реки Юат (называемой местными жителями и Биват) среди мундугуморов58, уже в течение трех лет бывших под правительственным контролем. Окружное правительственное управление, возглавляемое чиновником-новичком, знало лишь название деревень и границы их языковых ареалов. Вербовщики знали о мундугуморах лишь одно: они любят пуговицы. Однако мундугуморы оказались не совсем удачным выбором.
Это была свирепая группа каннибалов, захватившая лучшие земли вдоль берега реки. Они совершали набеги на жалких соседей, заселявших болотистые земли, и приводили их женщин своим вождям. Во времена немецкого владычества, как нам рассказали мундугуморы, власти от случая к случаю посылали карательные экспедиции, сжигавшие деревни и убивавшие всех находившихся поблизости. Но эти экспедиции никак не смущали и не сдерживали их. Австралийская администрация, сменившая немецкую, нашла иной метод предотвращения межплеменной войны. Она не сжигала деревни, а бросала вождей в тюрьму. Так, два вождя в Кенакатеме, деревне, где мы остановились, были в тюрьме уже в течение года, где они постоянно мучились вопросом, кто же соблазнил их многочисленных жен.
Когда эти вожди вернулись домой, они провозгласили, что война окончена. Но это означало, что и все церемонии внезапно прекратились. Женщины и до этого были допущены к обряду инициации, и тем самым кульминационный момент ритуала - отделение мужчин от женщин и детей - исчез, а самой церемонии, по-видимому, предстояло отмереть. Кроме того, молодые мужчины обязаны были покидать деревню и уходить на заработки. Безоговорочный разрыв с прошлым, что очень характерно для всех культур в бассейне Сепика, привел к своего рода культурному параличу.
Но надо было работать. Рео на сей раз решил, что здесь он будет изучать духовную культуру, а я - язык, детей и материальную культуру. Так как в нашем распоряжении был только один хороший поставщик информации, то мы работали с ним поочередно. Рео коллекционировал бесчисленные записи о войнах за женщин. Я детально изучала технологию. Нашим бичом были москиты, и мы обнаружили, что и сами мундугуморы постоянно говорили о москитах, о том, жалят они пли не жалят. Задача собрать сведения о культуре, которую сам народ считал исчезнувшей, была чрезвычайно трудна и неблагодарна. В середине нашего пребывания у мундугуморов я обнаружила, что Рео, настаивавший на том, что только он будет изучать систему родства, потерял ключ в своих поисках. Ключ был дан ему из анализа словаря детей, над которым я работала. Я понимала, что если бы он в свое время не провел так резко разграничительную линию между своей работой и моей, то мы смогли бы значительно раньше сопоставить наши материалы. Сейчас же мы вообще могли потерять идею в наших поисках, и это раздражало. Подобное разделение было в грубейшем противоречии с предписаниями настоящей научной методики исследования. Я но возражала против разделения труда, основывающегося на одном простом принципе: Рео выбирал себе то, что он хотел исследовать, оставляя мне все, что, с его точки зрения, казалось наименее интересным. Я не возражала, коль скоро работа подвигалась вперед. Меня беспокоило другое: было вполне возможно, что работа вообще не будет сделана.
К тому же я понимала, что никак не двигаюсь в своих исследованиях стиля поведения полов. Мундугуморы отличались от арапешей во всех отношениях. Доминирующим типом у мундугуморов были свирепые стяжатели - мужчины и женщины; нежные же и ласковые мужчины и женщины оказывались париями этой культуры. Женщина, которая проявила бы великодушие, накормив своей грудью ребенка другой женщины, овдовев, просто не нашла бы себе нового супруга. Как от мужчин, так и от женщин ожидалось, что они должны быть открыто сексуальными и агрессивными. Как правило, оба пола не любили детей, а в тех случаях, когда детям позволяли остаться на свете, родители сильно тяготели к детям противоположного пола. У арапешей женщин стремились отстранить от работы в огородах, защищая эти огороды: ямсу не нравилось иметь дело с женщинами, У мундугуморов пары совокуплялись в чужих огородах, чтобы испортить ямс владельцев. Как у арапешей, так и у мундугуморов я обнаружила сильную унификацию личности культурой, причем и у мундугуморов считалось, что и мужчина и женщина должны воплощать в себе единый тип личности. Идея поведенческих стилей, отличающих мужчин от женщин, была чужда обоим народам. Это завело в тупик решение главной проблемы, которую я ставила перед собой. Конечно, у меня собиралась масса нового материала, но не по тому вопросу, над которым я особенно хотела работать. В двух моих предшествующих экспедициях, где исследуемые народы были выбраны столь же произвольно; мне сопутствовала удача. Но на сей раз, казалось, она оставила меня.
Кроме того, мне была отвратительна культура мундугуморов с ее бесконечными схватками, насилием и эксплуатацией, нелюбовью к детям. У мундугуморов сложилась особая в данном регионе система родства, которая не была ни патрилинейной, ни матрилинейной в своих основных характеристиках: женщина принадлежала к роду своего отца, к которому принадлежала и его мать. Мужчина же принадлежал к роду матери, к которому принадлежал и ее отец. Это означало, что мужчина принадлежал к той же группе, что и его дед с материнской стороны, но он не был связан родственными узами ни со своим отцом, ни о его братьями, ни с братьями своей матери. И конечно же, он и его сестры принадлежали к разным "кланам". Такая система породила безжалостное соперничество и вражду между представителями одного и того же пола, беспощадную эксплуатацию чувств маленьких детей. Маленькие мальчики семи-восьми лет должны были становиться на сторону отца, когда он хотел обменять дочь на новую жену, в то время как при правильном подходе сестру мальчика следовало бы держать дома, чтобы обменять ее впоследствии на жену для него. Маленьких мальчиков. отправляли на месяцы заложниками к временным союзникам племени, но, когда их посылали туда, им приказывали внимательно изучать тропинки в джунглях, которые вели к деревням, где их держали заложниками. Впоследствии при набегах они: должны были служить проводниками. Любовь сопровождалась царапаньем и побоями, а люди совершали самоубийство в порыве гнева, бросаясь в каноэ и уплывая вниз по реке, где их схватит и съест соседнее племя.
Труднее всего было выносить отношение мундугумопов к детям. Женщины хотели иметь сыновей, а мужчины - дочерей. Ребёнка нежелательного пола завертывали в ткань из коры и бросали живым в воду. Кто-нибудь мог выловить это суденышка из коры, проверить пол ребенка и отправить его дальше. Я так сильно реагировала на этот обычай, что решила родить несмотря ни на что. Мне было ясно, что культура, так отвергающая детей, не может быть хорошей, а влияние ее жестко предписанных норм на поведение отдельного индивидуума было слишком прямым.
Рео же мундугуморы и отталкивали и притягивали. Они затронули в нем какие-то струнки, совершенно чуждые мне, а работа с ними обострила те стороны его личности, которым я никак не могла сочувствовать. Свои болезни он лечил тем, что уходил из деревни и карабкался по горам, как бы бросая вызов болезни, выбивая ее из организма. Как только мы поженились, он нежно заботился обо мне во время первых моих приступов малярии - они ужасны, зябнешь так сильно, что даже не верится, что когда-нибудь согреешься и перестанешь трястись. Но позднее, когда я стала больше чем женой для него, частицей его самого, он так же свирепо обращался со мной, как со своими болезнями. Когда у меня возник нарыв на пальце и нужно было сделать горячую припарку, он сказал мне, чтобы я делала ее сама. А в свое время в Нью-Йорке, когда я заболела, он отказался выйти из дома за термометром. Мне пришлось обратиться к соседу, и я обнаружила, что у меня температура более 40°. У мундугуморов меня часто лихорадило, и все это в соединении с бескомпромиссным отношением Рео к болезням, москитами и неприязнью, вызываемой этим народом, сделало три месяца пребывания там очень неприятным временем моей жизни.
Как раз перед рождеством мы упаковали наши вещи и отправились к устью Юата, туда, где река сливалась с темными, быстрыми волнами Сепика. Ночь, которую мы провели там, ожидая катера администрации, была самой скверной из всех проведенных мною у мундугуморов. Там сделали дверь в уборную из пальмовых листьев, покрытых шипами, и, когда я попыталась ее открыть, сотни шипов вонзились мне в руки.
Наконец утром прибыл чиновник на казенном катере, и мы начали долгое плавание вверх по течению, стремясь попасть к рождеству в Амбунти, главный административный центр на реке, отстоящий на 250 миль от ее устья. Эта часть Сепика широка и глубока, по обоим берегам тянутся большие болота, и только местами, где уровень земли поднимается, высокие деревья вычерчивают свои темные зеленые силуэты на фоне неба. Мы проплыли мимо Тамбунама, покрытого густой тенью, самой впечатляющей деревни на Сепике и одной из самых красивых деревень Новой Гвинеи, с ее большими жилыми домами, ротанговыми масками, повешенными на коньки, с ее двухконусным мужским домом, установленным на большой площади, где росли посаженные кротоновые пальмы. И снова Рео и я вздохнули с завистью. Это была культура, которую нам хотелось бы изучать.
Глава 16. Чамбули: пол и темперамент
Поздно вечером катер причалил у Канканамуна, деревни ятмулов, где работал Грегори Бейтсон. Мы прошли к его комнатушке, защищенной противомоскитными сетками, и увидели там дерево, растущее прямо сквозь крышу, так что и его кот, и, разумеется, москиты могли попадать внутрь когда им заблагорассудится. Долгие часы, проведенные под палящим солнцем на реке, были мучительны. После первых приветствий Грегори, посмотрев на меня, сказал: "Вы устали"- и подвинул мне стул. Меня охватило чувство благодарности - ведь это были первые ласковые слова, услышанные мною за многие месяцы, проведенные у мундугуморов.
Эта первая встреча как-то очень своеобразно возродила во мир то состояние души, с которым я прибыла с Самоа. Но сейчас положение было значительно более сложным. На этот раз пас было трое, и Грегори больше стосковался по разговорам, чем мы с Рео. Он работал один и был угнетен и обескуражен ходом своих полевых работ. Он и Рео просидели всю ночь за разговорами. Я же, чтобы мужчины могли поговорить свободно, беседовала с молодым чиновником из колониальной администрации, сопровождавшим нас.
Однако не прошло и часа после нашего прибытия, как Грэгори принес мою книгу "Как растут на Новой Гвинее" и усомнился в правильности моих наблюдений, по которым мужчины у манус не имеют представления о том, что девушки менструируют от менархе до замужества. Я объяснила, что они не знают этого лишь потому, что никто не подозревает об их невежестве. Здесь дело обстоит точно так же, как и со многими девушками в нашем обществе: их обучают "фактам жизни", и тем не менее они дорастают до женской зрелости, так и не зная самых элементарных фактов о репродуктивной системе человека. Считается чем-то само собой разумеющимся, что они знают все, однако они не знают. Но это было только начало. Впоследствии он заметил, что антропологи, читавшие мои труды, но не знавшие меня, склонны брать под сомнение верность моих выводов, так как они не могут примириться с быстротой моих исследовании.
На следующий день, когда катер медленно двигался вверх по течению широкой, быстрой реки, мы все говорили и говорили с сопровождавшим нас Грегори, возбужденные встречей с человеком, получившим совсем иную подготовку, чем мы. Рео и я имели гуманитарное образование, Грегори же по образованию был биолог и в своих рассуждениях легко перебрасывался с одной науки на другую, приводя примеры то из физики, то из теологии.
Боас усвоил правила научного метода так полно, что он почти никогда не делал научный метод, как таковой, предметом разбора со своими студентами. Он никогда не обременял нас беседами об аксессуарах науки, мы ничего не слышали от него о гипотезах, парадигмах, мы никогда не занимались чистой эпистемологией59. Преподавая свою дисциплину студентам, Боас выстраивал материал таким образом, что они из него усваивали правильные процедуры исследования. В результате для нас был совсем непривычен повышенный интерес к методологическим сторонам науки, отличавший людей, воспитанных в духе английской традиции того времени, таких, как Уоддингтон60, Эвелин Хатчинсон, Джозеф Нидэм61, "мудрец" Бёрнелл и, разумеется, сам Бейтсон.
Но и Грегори не имел представления о том типе антропологии, в духе которого мы были воспитаны. Ни методы Хаддона и Хаттона62 в Кембридже, ни несколько отличные функционалистические подходы Бронислава Малиновского и Радклифф-Брауна не предусматривали изучения личности или упорного, систематического наблюдения деталей поведения.
Грегори с большим трудом осваивал вопросы методики исследования, мы изголодались по теории. В течение года никто из нас не встречал никого, с кем мы могли бы поговорить о том, чем мы занимаемся. К тому же у меня было странное ощущение освобождения из тюрьмы - тюрьмы на вершине Арапешских гор, где мне нельзя было выйти из деревни в течение семи с половиной месяцев, и кошмарной тюрьмы - разлагающейся, враждебной и замученной москитами деревни мундугуморов.
Мы проговорили весь день и большую часть времени нашего пребывания в Амбунти в разгар сверхфантастического новогвинейского рождества. Наша компания состояла из семнадцати человек, происходивших из самой разной среды. В нее входила и женщина, которую только что выпустили из тюрьмы, где она находилась за убийство собственного ребенка. Она каким-то чудом оказалась в верховьях Сепика. Кутеж длился целый день, и наши неискушенные маленькие арапешские мальчики, которых мы привезли с собой в верховье, с удивлением смотрели на происходившее - на разбиваемую посуду, на мебель, выбрасываемую из дверей какого-то дома. В десять вечера наш веселый, симпатичный и пьяный хозяин, "Робби с Сепика", сказал: "А у нас был обед?" Я выпрашивала большие куски хлеба с маслом у кухарки Робби в течение всего этого долгого пьянства без какой бы то ни было закуски. В компании был и вербовщик рабочей силы, пользовавшийся дурной славой из-за своего жестокого обращения с мальчиками. Для Рео он был чем-то вроде красной тряпки для быка, и он непрерывно грозился его избить.
Перед самым рождеством первым тостом этой изрядно подвыпившей компании было: "За дам!". Но когда кто-то предложил следующий тост: "За короля, благослови его бог!"- прозвучал голос Грегори, в котором звучали недвусмысленные английские властные нотки: "Этого делать нельзя. Пьяны ли вы или трезвы, тост за короля должен быть первым или не быть вообще". Под утро пиво кончилось, и мужчины вскрыли ящик с шампанским, который был спрятан какими-то старателями для того, чтобы отметить находку золота, если, конечно, таковая состоится. Они начали пить шампанское до завтрака, и австралийцы ворчали, что, они хотели бы, чтобы это было пиво.
Через два дня после рождества Грегори взял нас с собой, чтобы посмотреть на племя ваштук63, которое рекомендовали нам в качестве объекта нашей следующей экспедиции. Его большое каноэ с подвесным мотором, о котором до сих пор с тоскою вспоминают на Сепике, было отбуксировано катером, и теперь мы трос могли на нем поехать. Первую ночь мы провели в гостевом доме деревни, которая была охвачена возбуждением и тревогой. Люди говорили - мы так никогда и не узнали, было ли это правдой,- что готовится набег на деревню, и опасались за свою и нашу участь. Хотя они и говорили на диалекте языка ятмулов верховьев Сепика, они могли понимать Грегори. Поэтому он сидел на площади и говорил с ними, а Рео с револьвером страховал его, сидя в доме для гостей. В эту ночь мы зажгли лампы и дежурили по очереди, бодрствуя, лежа на полу нашей наспех оборудованной комнаты с противомоскитными сетками. Никакого нападения не последовало, но возникла неприятная ситуация совсем иного характера. Рео, проснувшись, услышал мой разговор с Грегори. Многое говорит за то, что реальная эдипова ситуация не является первичной. Первичным в возникновении эдипова комплекса являются родители, говорящие друг с другом на языке, непонятном ребенку. С того времени мы и установили с Грегори тот тип общения, в котором не принимал участия Рео.
Эта ситуация еще более осложнилась на следующий день, когда мы стали взбираться на гору Вашкук. Я шла босая, только так я могла ходить по новогвинейским горам. В дороге Грегори предложил искупаться, предполагая со своими богемными нормами поведения университетской юности, что купаться мы будем голыми. Это предложение привело в ужас Рео. Грегори прибыл из мира, где многочисленные и сложные любовные истории были широко распространены. Рео же вырос в мире, где все еще хранили верность самым строгим викторианским ценностям. Ему было трудно примириться с фактом, что я уже была замужем и что, женившись на мне, он, с его точки зрения, взял в жены чужую жену. Ему всегда было трудно мириться с соперничеством на любом уровне. То обстоятельство, что он сам так же наслаждался компанией Грегори, как и я, ничему здесь не помогало.
Мы провели два тревожных дня у вашкуков, и у меня зрело отрицательное отношение к этому месту как месту будущей работы. Оно во многом напоминало поселение арапешей, только было хуже. Дома были разбросаны на большом расстоянии друг от друга вдоль крутых, опасных трон. Один дом мог отстоять от другого на милю, а жили в нем всего лишь мужчина с женщиной и две собаки. Нам нужна была деревня с большим населением и богатой церемониальной жизнью. Ее мы предполагали найти на равнинах за Арапешским хребтом. Мы спустились с горы и вернулись в Канканамун.
Там Грегори пообещал показать нам другое перспективное место для будущей экспедиции - племя, жившее на берегах озера Чамбули (сейчас произносится Чамбри). Это озеро считается самым красивым на Новой Гвинее. Его черную полированную поверхность покрывают тысячи розовых и белых лотосов и белых водяных лилий, а ранним утром на отмелях стоят белые скопы и голубые цапли. О народности чамбули64 почти ничего не было известно, кроме того, что они строили мужские дома усложненyой конструкции и жили компактными группами. Предполагали также, что они в чем-то напоминают ятмулов.
Мы провели неделю в Канканамуне и немного прикоснулись к культуре ятмулов, так как Грегори взял с собою Рео в большой мужской дом - единственный традиционный мужской дом, сохранившийся на берегах Сепика к настоящему времени, а я побродила по деревне. Это посещение придало нашим представлениям о культуре ятмулов некоторую наглядность, позволившую впоследствии понимать рассуждения Грегори, когда мы стали заниматься сложными сравнениями этой культуры с культурой чамбули <...>. Мы с Грегори уже некоторое время тому назад начали в шутку соревноваться в знании методов полевых работ, ибо, хотя мы с Рео обладали значительно более совершенными вербальными методиками таких исследований, у Грегори было топкое понимание самой процедуры научного поиска. Оно впоследствии нашло свое воплощение в нашей сложной работе на острове Бали.
Рано утром мы снова отправились в путь в большом, глубоко сидящем каноэ, пробираясь по извилинам узких искусственных каналов, прорытых в высокой траве, покрывавшей пространство между главным руслом реки и озером Чамбри. Было очень жарко и тихо. Черная вода каналов, черная от отложений гниющей растительной массы, обладала острым запахом, причудливо смешивавшимся с запахом нашего завтрака - консервированных анчоусов. Озеро, гладкое, как зеркало, было прекрасно. Оно было точно таким, каким его описывали. Деревни чамбули выглядели процветающими и казались перспективными с точки зрения той работы, которую мы были намерены предпринять. Грегори, конечно, мог говорить с этим народом, так как они пользовались языком ятмулов в своей торговле с соседями. Их собственный язык был так труден, что окружающие племена отказывались его изучать. Рассказывали даже, что молодые люди чамбули, проведя несколько лет на заработках, утверждали, что забыли свой язык и говорили на языке ятмул с родителями.
В это время произошел сложный переворот в наших отношениях. Часто Рео и я чувствовали себя намного старше Грегори. На самом же деле между Рео и Грегори был только год разницы в возрасте, а полевую работу они начали в одно и то же время. Он был худой, по-юношески стройный и выглядел очень молодо, и в антропологии мы многому могли его научить. Иногда, однако, Грегори казался старше нас. За ним стояла уверенность англичанина и интеллектуальная основательность кембриджского естественнонаучного образования. К тому же культура чамбули представлялась небольшой, своеобразной разновидностью культуры ятмулов в среднем течении Сепика. Зная ятмулов, Грегори тем самым уже многое знал о характере этой культуры, в то время как нам только предстояло ее узнать, начиная с языка, очень трудного, имеющего много грамматических родов65, в котором только начинает складываться двухродовая система обозначения одушевленных и неодушевленных предметов.
Чамбули делились на три группы, различавшиеся по обрядам и по организации общественной жизни. В прошлом они обменивались преступниками и правонарушителями, которых в качестве своей первой человеческой жертвы казнили мальчики из других групп. Около двадцати лет тому назад ятмулы изгнали чамбули и овладели их землями. Каждая из групп бежала в разные места к своим торговым партнерам. Под зашитой правительства несколько лет тому назад они смогли вернуться па спои земли и восстановить свои деревни. Вернувшись, они принесли с собой множество стальных инструментов и, вдохновленные своим успехом, построили цепочку прекрасных мужских домов вдоль всего берега озера.
Даже теперь эти три группы очень сильно соперничали между собой. Мы выбрали место для нашего будущего жилища рядом с домом для гостей. Это было самое удобное для пас место. Фактически же нам пришлось строить два дома и пообещать жить в том, который будет лучше. Пока строились эти дома, строители все время подсылали шпионов друг к другу, чтобы выведать, как идут дела у других. Естественно, что для жилья мы выбрали тот дом, который был расположен ближе к центру событий и где легче было наблюдать за жизнью деревни. Второй дом служил для нас базой в дальнем конце деревни. Это было удобно, так как, хотя Жилые постройки были расположены близко друг к другу по крутому склону холма, а дома мужчин - далеко внизу у самого берега озера, расстояния, которые надо было преодолевать, пытаясь охватить два или три события, происходящие одновременно, были громадны. А у чамбули ключом била кипучая деятельность.
Наконец-то исполнилось паше желание. Мы были там, где что-то происходило. Но у меня стали проявляться признаки усталости: трудно было изучить три новых языка за такое короткое время. Мне снилось, что я стою у дома и вежливо прошу разрешения войти, по никто не отвечает мне. Затем я просыпалась и вспоминала, что говорила во сне на языке, где только существительные и глаголы были из языка чамбули. В свою речь я вставляла самоанские слова.
Некоторое время спустя Грегори решил поработать в Айбоме, деревне другой этнической группы, известной своими керамическими изделиями и находящейся также на берегах озера Чамбри. Он поставил там дом для себя и довольно часто приходил к нам. Мы завели целую службу обмена посланиями между двумя лагерями. С их помощью мы иногда даже вели долгие теоретические споры. Под влиянием этих посланий и наших дискуссий, когда мы собирались вместе, мысли Грегори о культуре ятмулов стали приобретать определенную форму; у него начала складываться структурная модель этого общества, во многих отношениях дополняющая ту, которую мы обнаружили, в Чамбули.
Лишь теперь, после того как мы поработали с двумя культурами, в которых, как я полагала, мне не удалось найти ничего действительно интересного для решения той проблемы, с которой я прибыла в поле, чамбули дали мне некоторую модель. Точнее, они дали мне недостающее звено, идею, сделавшую возможным новое истолкование всего того, что мы уже узнали. Очень часто именно такого рода сравнения различных культур открывают нам действительные параметры поставленной проблемы, позволяют сформулировать ее с новой точки зрения. Контрасты, вызываемые к жизни сравнением, необходимы, чтобы пополнить картину.
У чамбули нормативные отношения между мужчинами и женщинами обратны тем, какие характерны для нашей собственной культуры. У чамбули деятельны и энергичны женщины. Они руководят деловой стороной жизни и очень легко кооперируются при выполнении каких-нибудь работ в большие группы. У каждой женщины свой глиняный очаг, имеющий форму большого горшка с многоярусным орнаментом на нем. Этот "горшок" вставляется в кольцо, сплетенное из ротанга. Женщины носят с собой свои очаги и ставят их в больших домах, предназначенных для расселения нескольких семей, всякий раз, когда предстоит какая-нибудь совместная работа.
Маленькие девочки столь же сообразительны и ловки, как и их матери. Чамбули оказались единственной культурой из тех, с которыми я работала, где мальчики не были самыми перспективными членами общины, наиболее любознательными, наиболее свободными в своих интеллектуальных проявлениях. У чамбули именно девочки были сообразительны и свободны, а маленькие мальчики - уже захвачены сопернической, озлобленной, построенной на личностной конкуренции жизнью взрослых мужчин. Война давно уже перестала интересовать мужчин чамбули, и еще до того времени, как охота за головами была запрещена постановлением администрации, честь, связанная с добычей этого страшного трофея, честь, необходимая для того, чтобы приобрести звание мужчины, скорее покупалась, чем завоевывалась. Дядя держал беспомощного, схваченного им пленника, а племянник убивал, пронзая его копьем. Это было последней стадией охоты за головами, стадией, на которой приобретение всякой головы, даже головы старухи или ребенка, было более значимым, чем проявление настоящей мужской храбрости. В этом отношении этнические группы бассейна Сепика предельно отличались от американских индейцев прерий. У последних большую честь приобретал воин, укравший лошадь или прикоснувшийся к действительному живому врагу, чем воин, добывший скальп. Чамбули же вообще перестали воевать и охотиться за головами врагов, воинские союзы развалились.
Формально мужчины возглавляли семьи, по фактически всем существенным управляли женщины, они одевали мужчин и детей и шли по своим делам, шли будничные, деловые и умелые. А в это время в церемониальных домах на берегу озера мужчины вырезали из дерева, писали красками, сплетничали, впадали в истерику, соперничали.
У чамбули Рео, работая над системой родства, пережил одну из тех вспышек методологического озарения, которые только и придают ценность любой научной работе: он понял, что два типа систем родства, до сих пор описываемые как принципиально отличные, фактически являются зеркальным отражением друг друга. Грегори прибыл к нам как раз тогда, когда Рео разработал эту идею, и удивился нашему ликованию. Рео опубликовал это открытие в "Океании", в статье, скромно названной "Заметки о кросскузенных браках". На его идеи тогда обратили мало внимания, хотя двадцать лет спустя именно на постановке проблем такого рода создавались научные карьеры. Но в тот вечер в Чамбули мы считали это открытие триумфом.
В разговорах с Грегори о чамбули стала просматриваться и главная идея культуры ятмулов. Грегори интересовался тем, что впоследствии он назвал этосом - эмоциональной тональностью общества. Впервые он почувствовал, что такое этос, читая "Пустынную Аравию" Даути66. Сейчас же он считал, что он схватил смысл этоса культуры ятмулов. В Канканамуне и Палимбаи, в деревнях, где он работал, женщины были скромны, просто одеты и непритязательны, а мужчины - напыщенны, их поведение отличалось резкостью и чисто мужской бравадой.
Впрочем, у ятмулов была одна церемония, в которой мужчины и женщины менялись привычными ролями. Эта церемония - навен - среди всего остального отмечала первое деяние ребенка: первое животное или птицу, убитую им, первую удачную игру на барабане или на флейте, первый поход в другую деревню и возвращение из нее или (для девочек) первую пойманную рыбу, или приготовление сагового пирога. В таких случаях братья матери, одетые в старые, грязные травяные юбочки, гротескно изображали женщин, а сестры отца, одетые в мужские украшения, гордо шествовали по деревне и, скребя зазубренными липовыми тростями по внутренним частям деревянных бутылок, производили звук, символизировавший мужскую гордость и самоутверждение. Эти церемониальные трансформации, разыгрываемые с большой увлеченностью, подчеркивали подлинный контраст между полами, тот тип маскулиино-фемининного контраста, который так хорошо знаком евро-американскому миру.
В наших тянувшихся неделю за неделей беседах о материале, собранном Грегори и нами, постепенно начала вырисовываться новая формула отношения между полом и темпераментом. Мы спрашивали себя: а что, если существуют другие виды врожденных различий, столь же важных, как половые, но пересекающих границы половой дифференциации? Что, если люди, будучи от рождения разными, могут подгоняться под систематически заданные типы темперамента, и что, если существуют мужская и женская разновидности таких типов? И что, если общество - путем воспитания детей, поощрения и наказания определенных видов поведения, своими традиционными описаниями героев, героинь, а также злодеев, ведьм, колдунов, сверхъестественных сил - может сделать упор на одном только типе темперамента, как у арапешей и мундугуморов, или, напротив, может выдвинуть на первый план особую взаимодополняемость между полами, как у ятмулов и чамбули? И что, если характерные для евро-американских культур нормально ожидаемые различия между полами могут быть перевернуты, как это, по-видимому, произошло у чамбули, где женщины были энергичны, умели действовать сообща, тогда как мужчины были пассивны, являлись объектом выбора для женщин и в своем характере обнаруживали те черты мелочной злобности, ревности и подверженности настроению, которые феминистки оправдывали подчиненной и зависимой ролью женщин?
Когда мы обнаружили эту проблему, забившись в крохотную, восемь на восемь футов, комнатку, защищенную от москитов, то наша мысль постоянно металась между анализом самих себя и друг друга как индивидуумов и анализом культур, изучаемых нами в качестве антропологов. Исходя из гипотезы о наличии различных комплексов врожденных черт, каждый из которых характерен для определенного типа темперамента, нам стало ясно, что мы с Грегори близки друг другу по темпераменту: фактически мы представляли мужскую и женскую разновидности темперамента того типа, который находился в резком контрасте с типом темперамента, представленным Рео. В равной степени стало ясно, что было бы бессмысленно определять личностные черты, объединявшие нас с Грегори, как "женские". Точно так же было бы бессмысленно определять поведение арапешей-мужчин как "материнское", когда мы имеем дело с культурой, в которой главное дело мужчин и женщин - кормить и выращивать детей. Точно так же мужчины и женщины мундугуморы, сексуально сильные, гордые индивидуалисты, могут быть отнесены к единому, хотя и совершенно иному типу темперамента. Думая о различных обществах, мы стремились представить в виде системы типы темпераментов, стандартизируемые организацией различных культур.
Накал наших споров только усиливался треугольником, сложившимся у нас. Грегори и я полюбили друг друга, хотя мы и строго контролировали себя. Каждый из нас пытался перевести силу наших чувств в более совершенную и вдумчивую полевую работу. Говоря о различии культур арапешей, мундугуморов, чамбули и ятмулов, мы говорили также о различии личностных акцентов, делаемых тремя англоязычными культурами - американской, новозеландской и английской, которые были представлены нами, и об академическом этосе, объединявшем нас с Грегори. Все это имело прямое отношение к нашим попыткам найти новую форму отношений между полом, темпераментом и типом поведения, требуемым культурой.
В наших размышлениях мы многим были обязаны учению Рут Бенедикт о широком диапазоне личностных возможностей, из которого каждая культура отбирает в качестве нормативных лишь некоторые человеческие качества. Когда мы были на Сепике, мы прочли рукопись ее "Моделей культуры", копию которой она прислала нам. Но Рут Бенедикт использовала выражение "диапазон" лишь фигурально и не видела системы во взаимоотношениях различных, культурно обусловленных типов личности. Я же в своих раздумьях опиралась на работы Юнга, в особенности на его четырехчленную схему классификации личностей по психологическим типам67. У Юнга каждый тип соотносился с другими дополняющим образом. Грегори с его склонностью пользоваться биологическими аналогиями обращался к формальным структурам мёнделевской теории наследственности.
По мере того как мы шли вперед, мы попытались построить нашу типологию личностей в виде четырехчленной схемы и найти в ней место наиболее известным нам культурам с точки зрения того, какой тип темперамента более всего поощряется культурой в целом. При этом мы пришли к выводу, что, по-видимому, должна быть и еще одна культура, конкретным примером которой мы не располагали. Я предположила, что культура Бали, возможно, заполнит эту лакуну в нашей схеме. Когда наконец мы попали на Бали, оказалось, что моя догадка была точной.
Пользуясь разработанной нами четырехчленной схемой, мы разместили культуры, явившиеся основой нашей теории, так, как показано на следующей ниже схеме. Место каждой из них на этой схеме определено ее требованиями к темпераменту мужчин и женщин. Культуры, расположенные на противоположных полюсах, фактически дополнительны по отношению друг к другу.
Мы продумали также все, что мы знали о полинезийских обществах, говоривших, в сущности, на общем языке и происходивших от общего корня68. Здесь мы подчеркивали не половые контрасты, а сходство темпераментов у обоих полов, требуемое культурой.
Основываясь на разработанной нами теории, мы стали извлекать из нее очевидные следствия. Теория состояла в том, что существует ограниченный набор типов темперамента, каждый из которых характеризуется определенным сочетанием врожденных личностных черт. Связь между всеми этими типами образует определяющую систему. Если дело обстоит именно так, то казалось очевидным, что индивидуум, чей темперамент несовместим с типом (или типами), требуемым культурой, в которой он был рожден и воспитан, окажется в невыгодном положении и уязвимость его позиции будет вполне закономерной и прогнозируемой.
Далее, нам представлялось, что можно делать достаточно точные прогнозы и об обществе, в котором поведение двух полов - или же, к примеру, разных возрастных, статусных или этнических групп - стилизуется культурой в соответствии с контрастирующими моделями темперамента. В обществе, где от мальчиков ждут уверенности, смелости, инициативности, а от девочек - скромности, чуткости и пассивности, некоторые мужчины и женщины будут не на уровне этих ожиданий. И это произойдет не потому, что мужчины, не укладывающиеся в ожидаемые нормы поведения, будут менее маскулинными, а женщины - менее фемининными, но потому, что врожденный темперамент индивидуума расходится со стандартами, принятыми для его или ее пола в этом обществе.
Мы размышляли также о следствиях этой теории для личностных отношений. Например, к чему приведет брак, в котором у партнеров одинаковые темпераменты? Или же брак, где сходятся люди с резко противоположными темпераментами? Или, наконец, брак, в котором у партнеров отличные, хотя и менее контрастные темпераменты? В то время нам казалось, что браку между двумя лицами сходного темперамента, как отношениям между братом и сестрой, будет не хватать силы и контрастности.
Сорок лет спустя мне представляется, что сходство темпераментов будет более всех цениться лицами одного и того же пола, воспитанными в той же самой культуре. А контраст между маскулинностью и фемининностью будет наиболее высоко цениться в отношениях между мужчиной и женщиной того же самого темперамента, воспитанными в одной и той же культуре.
Наши непрерывные дискуссии, конечно, проливали свет и на нас самих, на наши личности. Как Грегори, так и я ощущали, что мы до некоторой степени девианты в наших собственных культурах. Многие формы агрессивного мужского поведения, принятые в качестве стандартов в английской культуре, отталкивали его. Мой собственный интерес к детям не укладывался в стереотип американской женщины, делающей карьеру, или же в стереотип властной, эгоистичной американской жены и матери. Мне доставляло наслаждение срывать с себя покровы предписанного культурой поведения и чувствовать, что наконец-то осознаешь себя тем, кто ты есть на самом деле. Рео же не переживал столь острого чувства открытия самого себя. По своему темпераменту он подходил к нормативам своей культуры, хотя даже в Новой Зеландии от мужчин ожидалось более мягкое и более пасторальное поведение, а его самого в большей мере, чем надо, тревожили неконтролируемые импульсы чувства.
Тогда мы считали, что сделали потрясающее открытие. Рео и я телеграфировали Боасу, что мы вернемся домой с исключительно важной новой теорией. Но мы сознавали и опасности, заложенные в ней, ибо знали о существовании весьма естественной и очень свойственной человеку тенденции связывать личностные черты с полом, расой, телосложением, цветом кожи или же с принадлежностью к тому или иному обществу, а затем делать возмутительные сравнения, основанные на таких произвольных ассоциациях. Мы знали, насколько политически острой может стать проблема врожденных различий. Мы знали также, что русские отказались от своего эксперимента по воспитанию однояйцовых близнецов, когда стало ясно, что, даже воспитанные в различных условиях, они обнаруживают удивительное сходство69. В то время мы еще не осознавали всего ужаса нацизма с его обращением к "крови" и "расе". Доходившие до нас ограниченные сведения не давали нам возможности в полной мера осознать политический потенциал Гитлера.
В то время мы еще очень мало знали и о проделанных попытках связать темперамент с типом телесной организации человека. Хотя за ними и стояли какие-то смутные идеи, связывающие телесную организацию человека с его психическим складом, мы в очень малой мере могли что-нибудь заимствовать от них. Попав снова в библиотеки, мы обратились в первую очередь к работе Кречмера, связывавшего типы психических расстройств с конституциональными типами человека70. Но эта область исследований оказалась весьма запутанной. Теории такой связи были разработаны по данным, полученным при анализе устойчивых популяций Европы, и при проверке на чрезвычайно разнообразной популяции США обнаружили все свои дефекты. Наша же теория уже и тогда была более утонченной. Мы признавали, что люди одного и того же темперамента в различных обществах могут обладать одним и тем же конституциональным типом, более того, типичная телесная поза формируется культурой, в какой человек был воспитан.
Когда мы прибыли домой после работы в поле, мы все еще смотрели на мир широко открытыми глазами, глазами, внимательными к каждому жесту и каждому поступку. Казалось, что все наши друзья стали понятнее для нас. Но мы также ясно сознавали и возможные опасности, связанные с теоретизированием о любых врожденных различиях между людьми. Вот почему мы воздерживались от публикации наших гипотез в то время.
После нашего возвращения в Австралию с Сепика весной 1933 года наши пути разошлись. Я вернулась в Америку, чтобы возобновить работу в музее и вновь поселиться в квартире, занимаемой когда-то мной с Рео. Рео поехал в Англию через Новую Зеландию, где он снова встретил Айлин, девушку, которую он раньше любил. Грегори поплыл в Кембридж на грузовом судне, и прошли месяцы, прежде чем я снова что-то услышала о нем.
Наши первые теоретические формулировки относительно темперамента развивались разными путями. Исходя из контраста между ожидаемым мужским и женским поведением и способа институционализации и театрализации этого контраста у ятмулов, Грегори написал первый доклад об этосе их церемонии навен для международного конгресса в Лондоне.
Я провела летние месяцы на междисциплинарном семинаре, организованном Лоуренсом К. Фрэнком в Дартмуте, в ходе которого я усвоила от Джона Долларда71 более точные правила описания характера культур. Затем я принялась за книгу "Пол и темперамент", в которой я описывала те способы, которыми стилизуют поведение мужчин и женщин культуры арапешей, мундугуморов и чамбули. Хотя вся теория темперамента как социального типа дифференциации у меня уже сложилась, я не рассматривала ее в этой книге. Весной 1934 года Грегори, Г.Уоддингтон, Джастин Бланко-Уайт и я встретились в Ирландии. Здесь мы снова обсуждали проблему типа темперамента и попытались в еще большей мере уточнить первоначальную ее формулировку. Тем летом я кончила "Пол и темперамент". Книга была опубликована весной 1935 года.
О том, сколь трудным оказалось для американцев отделить идею внутренней предрасположенности от приобретенного под воздействием культуры поведения, можно было судить по противоречивым реакциям на книгу. Феминистки приветствовали ее как доказательство того, что женщина отнюдь не "по природе" любит детей, и требовали, чтобы у маленьких девочек отняли кукол. Рецензенты обвиняли меня в отрицании любых половых различий. Четырнадцать лет спустя, когда я написала "Мужчину и женщину", книгу, где весьма тщательно рассматриваются вопрос о различиях культур и темпераменты, а затем и личностные характеристики, по-видимому непосредственно связанные с половыми различиями между мужчинами и женщинами, женщины обвинили меня в антифеминизме, а мужчины - в воинствующем феминизме, представители же обоих полов - в отрицании полноценности и красоты женского бытия, как такового.
В следующую зиму, 1934/35 годов, я занялась проблемой сотрудничества и конкуренции среди примитивных народов. Это была новаторская работа72, объединявшая специалистов разного профиля - выражение "междисциплинарные исследования" еще не было изобретено. В ней участвовали аспиранты, молодые полевые исследователи, работавшие со мной. Мы исследовали тринадцать примитивных культур, чтобы получить какие-то новые подходы к проблемам нашей собственной культуры.
Центральной проблемой была проблема взаимодействия между формами социальной организации и типами структур личности. В этом исследовании мы смогли выявить взаимодействие между специфическими стилями жизни и некоторыми коллективистскими чертами характера.
Весной 1935 года Грегори приехал в США. Работая вместе с Радклифф-Брауном, мы предприняли еще одну попытку определить, что следует понимать под обществом, культурой и характером культуры. К тому времени нам стало ясно, что исследование прирожденных различий между людьми должно подождать до лучших времен. После своего возвращения в Англию Грегори завершил рукопись своей книги "Навен", великолепного исследования культуры ятмулов73.
В Лондоне Рео отверг все психологические подходы к теории. Теперь мы были разведены, и из Англии он поехал в Китай преподавать. Грегори снова получил стипендию в Кембридже, и он и я наконец-то были свободны, чтобы встретиться на Яве и начать полевые работы на Бали.
Глава 17. Бали и ятмулы: качественный скачок
Мы прибыли на Бали в марте 1936 года, во время балийского Нового года - Ньепи, когда весь день на острове царило абсолютное молчание. Никто не ходил по дорогам, не раздавались звуки гонгов, не слышно было криков. Не плакали дети, и не лаяла ни одна собака. Получив специальное разрешение, мы поехали к нашему место назначению в Убуд, передвигаясь в полном одиночестве по обычно оживленным дорогам. Мы увидели остров таким, каким нам никогда не довелось видеть его снова: это была безмолвная сцена без актеров, тонкий и причудливый узор в чередовании засеваемых и убираемых полей. На каждом кусочке этого острова был свой собственный ритм сельскохозяйственных работ. Автомобиль по крутой дороге взобрался на холодное нагорье - здесь впоследствии мы поселились, - а затем помчался вниз, в плодородные земли Южного Бали, где в этот день среди рисовых полей не шествовали даже торжественные процессии уток.
Ровно в полдень наш автомобиль остановился перед домом Уолтера Спайса74. Мы спустились по ступенькам извилистой каменной лестницы, расположенной между массами тропической зелени, посаженной так, чтобы создать видимость живописных джунглей. Уолтер Спайс, изящный блондин, оторвался от своей беседы с Берил де Зёте, с которой он работал над книгой о балийской драме, и сказал: "Мы уже думали, что не дождемся вас". Было только время ленча, но мы действительно приехали позднее, чем обещали.
Мы не смогли пожениться на Яве - для этого пришлось слетать в Сингапур. Оттуда мы решили ехать на Бали пароходом, который медленно плыл извилистым путем менаду островами. На судне Грегори читал гранки своего "Навена" и делал предметный указатель к нему. Завершение этой книги для него было условием нашего брака. Тем самым он доказывал, что может сам проделать ту работу, которую мы хотели сделать, работая вместе. "Навен" вобрал в себя материалы трех его экспедиций и прозрение, снизошедшее на него в Чамбули, когда долгие годы упорной, но малоудовлетворительной полевой работы Грегори соединились с годами энергичных и плодотворных исследований, проведенных мною с Рео. Это дало ему и новые идеи о путях развития культур, и планы наших дальнейших совместных работ. Предпринимая экспедицию на Бали, мы надеялись, что сможем разработать новую методологию исследований, объединив подготовку Грегори в биологии, его интерес к тонкостям этоса культур с годами моего опыта наблюдения над тем, каким образом из детей, рождающихся, как мы полагали, с одним и тем же уровнем способностей, вырастают взрослые, которые отличаются друг от друга столь же заметно, как баининги и ятмулы, изученные им, или же как народы, исследованные мною и Рос; самоанцы, добуанцы, манус, омаха, арапеши, мундугуморы чамбули.
Балийскую культуру мы избрали сознательно после долги предварительных размышлений, предполагая, что именно здесь должна осуществиться одна из теоретически мыслимых разновидностей детерминации черт характера культурой. Мы уже просмотрели достаточно много материала в фильмах и фотографиях, сделанных на Бали, наслушались балийской музыки, исследованной Колин Макфи, и прочли большое число составленных Джейн Бело скрупулезных отчетов о церемониях балийцев, связанных со страшным несчастьем - рождением близнецов. Вот почему мы были убеждены, что нам нужна именно балийская культура.
Мне было тридцать четыре года, а Грегори - тридцать один. За моими плечами стояло то, что можно было назвать годами завершенного труда; Грегори же предстояла еще многолетняя работа. Мы выглядели людьми одного возраста, немного моложе, чем были на самом деле. Но во многих отношениях между нами была громадная возрастная разница. Я стала взрослой в одиннадцать лет и с тех пор не переставала быть ею; Грегори же сохранял стройную астеническую фигуру и профиль подростка еще почти десять лет, вплоть до окончания войны. Но энергия, вкладываемая каждым из пас в нашу полевую работу, была энергией различного рода. На Бали мы нашли то, в чем каждый из нас нуждался: я - совершенное интеллектуальное и эмоциональное партнерство, в котором не было никаких напряжений, связанных с личностными конфликтами; Грегори - до конца осмысленный сбор материала. В работе на Бали ему не надо было ждать, пока заполнятся его записные книжки, чтобы потом уже определить направления анализа собранного материала.
За плечами у пас обоих была полевая работа на Новой Гвинее - суровость новогвинейских зарослей, оживляемых иногда лишь птицей яркой расцветки или ярким цветком; опыт работы с народами, отделенными друг от друга страхом и враждой и преследующими свои собственные цели. Эти народы настороженно относятся к европейским гостям и везут их в каноэ или несут в гору их груз лишь тогда, когда это выгодно. Европейцы, с которыми мы встречались на Новой Гвинее, по большей части австралийские исследователи, авантюристы и чиновники, были часто живописны, добры, но с ними нельзя было поговорить о том, чем занимаешься или о чем думаешь. Для большинства из них народы Новой Гвинеи были совершенно чужими и странными душами, которые надлежало спасти несмотря на всю их необычную телесную оболочку. Новогвинейцы, мужчины и женщины, по их мнению, были людьми, поведение которых непрогнозируемо и неуправляемо. И вместе с тем ими надо было управлять, командовать, как-то их цивилизовать. Полевая работа на Новой Гвинее была изнурительна, в особенности на Сепике (где я встретилась с Грегори): москиты и жара, сопровождаемые постоянным раздражением от укусов, порезов, зуда кожи, небольших кожных инфекций, которые могли перейти в трофические язвы. Не было квалифицированной медицинской помощи, и ничего нельзя было сделать, не возложив ответственность только на самое себя.
Не было и никаких гарантий, что вам дано будет увидеть какую-нибудь церемонию, раскрывающую смысл всей культуры, сколь бы долго вы ни оставались в поле, сколь бы терпеливо ни сносили вы смесь туземных блюд с консервированной пищей, сколь ни притерпелись бы к жаре и усталости, потокам воды в сезоны дождей (а на Сепике и к разливам), к периодически возобновляющимся приступам малярии. Было вполне вероятно, что за всю экспедицию исследователь не увидит ни одной большой церемонии, не умрет ни один значительный человек, не произойдет ни одной драматической схватки, которая позволила бы внезапно понять идею жизни данного народа. Исследователи ждали месяцами пира, откладывавшегося с недели на неделю, чтобы услышать, что празднество наконец-то состоялось две недели спустя после их отбытия.
На Новой Гвинее исследователи были в самом буквальном смысле этого слова во власти ситуации, сложившейся в деревне, где им в конце концов удалось осесть. Они зависели от того, найдутся ли способные и умелые люди в деревне во время их пребывания там. Быть может, тогда там будет только один такой человек, который станет источником информации, а может быть, вообще никого. К тому же исследователь сталкивался с неопределенностями погоды, капризами судовладельцев и окружных чиновников и почти всегда с упадком сил - этим следствием малярии, с которой тогда не умели бороться.
В своей первой экспедиции к баинингам Грегори терпеливо просидел со стариком, делавшим маски. У старика был острый шип под языком, и он сплевывал кровью на белую ткань из луба. Он готовился, думал Грегори, к какой-то церемонии. Но однажды утром Грегори, проснувшись, обнаружил, что деревня пуста. Все жители ушли. У арапешей носильщики обманули нас с Рео и бросили на вершине горы в деревне, которая не входила в наши экспедиционные планы и где нам пришлось просидеть семь с половиной месяцев. Единственная церемония, которую мы видели в Алитоа, состоялась почти сразу же после нашего прибытия туда. Во все же остальное время мне пришлось громадным трудом добывать сведения о культуре от мужчин и женщин, У большинства из которых начинала болеть голова, если им приходилось думать более десяти минут подряд. Многое из того, что мне удалось узнать, основывалось на анализе перечней имен. А часто целыми днями вообще ничего не происходило.
Грегори с раннего детства воспитывали как биолога. Когда он был младенцем, его отец, генетик Уильям Бейтсон, вскрывал яйца, пытаясь решить проблему распределения полов; дом, в котором он жил, был окружен грядками, где росли растения, посаженные для того, чтобы дать информацию менделевского типа.
Его подготовка натуралиста ориентировала его на повышенную внимательность к процессам, происходящим в природе, а не на эксперимент в лаборатории, заставляющий природу давать весьма конкретные ответы на очень четко поставленные вопросы. Его первой публикацией было описание биологического организма, до сих пор никем в Англии не описанного. В качестве антрополога он хотел получить возможность систематизировать свои наблюдения, располагать достаточным количеством данных, чтобы их можно было привести в определенную систему. Его "Навен" был составлен из фрагментов, обрывков мифов и церемоний, записанных на месте или же в той последовательности, которую им придал рассказчик, причем самые глубокие по смыслу из них казались настолько незначительными, что их легко было вообще не заметить.
Бали являл собой контраст по отношению ко всем этим злоключениям полевой этнографии. Прекрасный остров с тщательно террасированными и засеянными полями, с дорогами, полными людей, грациозно и неутомимо переносивших грузы на головах или плечах. Деревни были застроены плотно и расположены близко друг от друга. На языке бали говорило свыше миллиона человек в отличие от любой новогвинейской культуры, язык которой был языком всего лишь нескольких сотен, в лучшем случае - тысяч человек. Часть балийцев была грамотной несколько веков, а голландцы научили некоторых из них современному письму, так что с самого начала в нашем распоряжении оказался секретарь-балиец, который и писал и говорил на языке, изучаемом нами, и записывал наиболее утомительные, повторяющиеся и длительные по времени части церемоний. Бали изобиловал экспрессивными ритуалами. За исключением нашего первого дня, когда царило абсолютное молчание, к нам постоянно доносились звуки какой-то музыки, пусть даже просто звон бубенчиков, подвязываемых женщинами под колено, или звук свирели, на которой играл одинокий крестьянин, стороживший свое далекое поле. Проезжая по хорошо содержавшимся дорогам (голландские администраторы верили в хорошие дороги), вы двигались от одного храмового праздника к другому, мимо толп людей, разряженных в яркие ткани, несущих жертвоприношения, целых оркестров, спешивших в соседнюю деревню, танцоров в грансе или невест, несомых в паланкинах.
Многие из европейцев, встреченных нами, были художники, танцоры и музыканты, - люди, проводившие месяцы, а то и годы на Бали, чтобы писать картины или книги, а иногда просто для того, чтобы насладиться живописью и танцами балийцев. Если на Новой Гвинее нас часто охватывало чувство беспомощности, когда мы пытались втолковать европейцам, что местные жители, среди которых им приходится жить, столь же реальны, как колониальные администраторы, что они обладают столь же богатым умом и страстями, то здесь мы встретились с постоянным и активным интересом европейцев к нашей работе, с их горячим одобрением. В этом отношении не было различий между людьми, прибывшими на остров на короткое время, и теми, кто, как Уолтер Спайс или же Джейн Бело и Колин Макфи, сами поселились на Бали. В своих домах они собирали деревянную резьбу из одной деревни, настенные росписи из другой, устраивали концерты музыкантов из третьей. И по мере того как менялся Бали, шли в ход новые материалы, а в живописи и танцах появлялись новые темы. Местные художники, одновременно и увлеченные и направляемые, строго критикуемые и поощряемые, добивались высокого мастерства в воплощении новых форм.
Уолтер Спайс нашел нам маленький, современного стиля дом неподалеку от своего и обеспечил нас слугами. Еда - традиционная балийская кухня, видоизмененная столетиями влияния голландского вкуса,- была превосходна. Она состояла из риса и гарниров, приправленных острыми специями. Блюда были очень разнообразны и калорийны: крохотный цыпленок или утка резались и готовились тремя-четырьми различными способами. На Новой Гвинее я, как правило, теряла двадцать пять - сорок фунтов за каждую экспедицию; на Бали я совсем не потеряла в весе. Медиум, к которому один из моих друзей сводил меня в Нью-Йорке, сказал о Грегори: "Корми этого человека, корми его цыплятами, он совсем чист внутри". На Бали это нетрудно было сделать.
Со временем нам следовало выбрать деревню и построить дом. Надо было только решить, где его строить, и найти подходящего мастера. Только те, кто работали в обществах, где деньги не убеждают людей делать то, что они не хотят, смогут понять, каким раем показался нам Бали. Каждый день какая-нибудь церемония, если не в этой деревне, так в соседней, неподалеку. К нашим услугам всегда были информанты, секретари, писцы, готовые принять участие в опросе. Помогала и домашняя прислуга. Когда мы приходили домой поздно вечером, нас ждал горячий и вкусный ужин. Любая группа людей - прохожие на дорогах, группки, сидящие у маленьких придорожных киосков, где продавались освежающие напитки, плотные толпы, собирающиеся вокруг музыкантов, - была благодарным объектом для фотографирования групп людей в характерных позах, много говоривших глазу. И перед нами было два года работы.
В течение двух первых месяцев мы работали над балийским языком, пользуясь услугами Мада Калера, нашего феноменального секретаря-балийца, знавшего пять языков. Его словарный запас английского состоял из 18 000 слов, хотя до этого он никогда не встречался с человеком, родным языком которого был бы английский. Мы решили учить балийский, а не малайский язык, хотя первый был более трудным, и Грегори всегда сожалел об этом решении. Малайский язык, используемый здесь в качестве языка-посредника, много проще и сознательно избегает всех ограничений и бесконечных условностей, принятых речи людей разных классов и каст на Бали. Мы должны были научиться справляться со словарем семнадцати кастовых уровней, нам никогда не отвечали на словаре того языка, с которым мы обращались к кому-нибудь. А слова были чрезвычайно специфичны. Если вы покажете балийцу каравай хлеба и попросите разрезать его, употребив не глагол, обозначающий "разрезать на равные куски, толщина которых меньше, чем их ширина и длина", а какой-либо иной, он посмотрит на вас совершенно непонимающими глазами. Грегори этот тип языковой точности слишком живо напоминал требования английской культуры. Но, приведенная в восторг в свое время знакомством с формулами вежливости самоанского языка, я восхищалась и сложностями балийского. К тому же я воспользовалась преимуществами моего пола. Балийские женщины не учат письменность, основанную на санскрите75. Так и я совершенно не знала древнего балийского языка, языка богослужебных книг.
В течение тех двух месяцев, что мы жили в Убуде, Верил работала над своей книгой, и это было связано с почти ежедневными поездками на какую-нибудь очередную церемонию или же на церемонию, специально устроенную для нее. На Бали, где всякое театральное представление служит и жертвой богам, всякий, кто пожелает принести им благодарность или искупительную жертву, может заказать спектакль в театре теней или ритуальный танец. Это делает Бали раем для антропологов. Мы сняли один из самых удачных наших фильмов, наняв группу танцоров для исполнения в дневное время того ритуального танца в трансе, который исполняется только ночью. У нас не было никакой осветительной аппаратуры, а мы пожелали заснять различные движения танцоров, мужчин и женщин, когда они направляют острые как бритва серпы на самих себя, изображая самоуничтожение. Человек, устроивший нам это представление решил заменить морщинистую старуху, исполнявшую танец по ночам, молодой, красивой женщиной. Поэтому мы оказались свидетелями того, как женщины, до сих пор никогда не входившие в ритуальный транс, безошибочно повторяли движения, которые они наблюдали всю свою жизнь.
Постепенно мы разработали формы регистрации происходящего. Я следила за ходом главных событий, а Грегори делал фильмы и слайды. У нас не было средств звукозаписи, и мы должны были положиться на музыкальные фонограммы других. Наш же молодой секретарь Мада Калер вел по-балийски протокол, который давал нам словарь и служил средством проверки моих наблюдений. Мы скоро поняли, что лишь записи с точным обозначением времени происходящего могут скоординировать работу трех исследователей друг с другом и позволят сопоставить позднее фотографии какой-нибудь сцены с ее описанием. Для событий особого рода вроде транса танцоров мы использовали секундомер.
Все это породило некоторый конфликт между нами и нашими хозяевами, людьми искусства. Этот конфликт усилился, когда на сцене появилась Джейн Бело и восстала против того, что она называла "холодными, аналитическими" процедурами. Берил с ее острым язычком и даром разрушительной критики весьма удачно высмеяла этот конфликт между наукой и искусством, отождествив себя с ведьмой, главной фигурой балийского фольклора. Вот почему с тех пор я периодически отмечала особо удачные моменты в своем дневнике буквами г. р., обозначавшими слова ranga padem - "ведьма мертва". Эти буквы указывали, что на время я чувствовала себя свободной от влияния Берил и от тлетворных влияний балийской культуры, всемерно подчеркивающей значение безотчетного страха как регулятора поведения.
Итак, мы пировали день за днем, а каждое посещение храма, каждое очередное представление или спектакль в театре теней доставляли нам все большее наслаждение и становились все более понятными. В то же время мы искали нужную нам деревню. Мы приняли решение, противоречившее обычным подходам европейцев к высоким культурам Востока. Бали - одна из таких культур, индуистская по религии, с санскритскими текстами, искусством и музыкой, ритуалом, заимствованным из Индии через Яву. Если исключить голландских юристов и случайных антикваров, иногда отваживавшихся на поездки в отдаленные горные деревни, большинство исследователей Бали сосредоточивали свое внимание на высокой культуре дворцов раджей и церемониях, возглавляемых священниками-браминами,- больших кремациях или обожествлении отца какого-нибудь раджи. Мы решили не делать этого. Мы хотели подойти к балийской культуре так, как подходили к любой другой примитивной культуре, пользуясь нашими собственными глазами и ушами. Мы не стали рыться в древних текстах или словарях, выискивая этимологию слов, тщательно проанализированных голландскими учеными. Нам не хотелось обосновывать нашу работу высокоучеными сопоставлениями, чуждыми самим жителям деревень.
Мы намеревались обосноваться в самой простой деревне, какую только можно будет найти, и изучить балийскую культуру в том ее виде, в каком она воплощена в жизни сельских жителей. Мы собирались записывать проповеди сельского священника, а не искаженные версии буддийских или индуистских ритуалов, исполняемые священниками на равнинах. Это решение выдвигало перед нами новые трудности: жизнь в горах означала скверные дороги и, следовательно, ходьбу пешком, переноску тяжестей.
Жители гор одевались в грубые привозные одежды и лишь изредка надевали дорогие домотканые и прекрасно окрашенные балийские одежды. Они часто набивали свои рты комками нарезанного табака - это выглядело совершенно неэстетично. Это были суровые люди, с подозрением относившиеся ко всякому чужому. У них совершенно не было той доверчивости к любому человеку, которая характеризовала жителей равнин. Последние были приветливыми и более утонченными. Они привыкли к жизни при княжеских дворцах, к золотым и серебряным коробкам для бетеля, к влажным рисовым полям и обильной пище.
Выбор нами деревни Баюнг-Геде, ставшей нашей штаб-квартирой на два года, оказался удачным. Это была одна из тех удач, которые сопутствовали мне всю мою жизнь. В Баюнг-Геде ограды дворов делались из бамбука, а не представляли собой глухие глинобитные стены, как в других деревнях. Они не закрывали происходившее во дворе от постороннего взгляда. Я уже знала, как много времени тратит исследователь, входящий во двор, на разного рода церемонии и раздачу лакомств. Поэтому мне было ясно, что в Баюнг-Геде можно увидеть происходящее во дворах, просто проходя по улице, фактически не вступая в чужой дом. Но я еще ничего не знала о контактах, которых следовало избегать. Например, человек, посетивший дом, где был новорожденный, не мог в тот же день войти в дом, где хранится бог.
Позднее Грегори, Мада Калер и я договорились, что один из нас должен оставаться "чистым" до заката, так чтобы по крайней мере ему можно было входить в дома повышенной святости.
В Баюнг-Геде мы обнаружили, что всё там происходит в замедленном ритме и упрощенном виде. Жертвоприношение, включающее в себя в любом ином месте не менее сотни предметов, в Баюнг-Геде могло состоять из десятка. Все население деревни страдало базедовой болезнью, и у 15 процентов был четко выраженный зоб. Плохое функционирование щитовидной железы имело своим последствием замедленность темпа жизни в деревне, действия упростились, не потеряв при этом, однако, своей формы.
Попытайся мы изучить балийскую культуру в ее сложных и развитых формах, представленных на равнинах или даже в горной деревне, жители которой не страдали базедовой болезнью, сомнительно, что мы смогли бы сделать все то, что сделали за оставшееся у нас время. После года интенсивного изучения относительно упрощенных форм балийской культуры в Баюнг-Геде мы смогли проследить весь ход церемонии обожествления отца раджи Керангсама. Готовясь к этой церемонии, сотни женщин работали месяцами, заготавливая жертвоприношения, складывавшиеся штабелями, подпиравшими небо.
Итак, мы поставили свой дом в Баюнг-Геде. Это был набор легких достроек, крытых бамбуковой дранкой, с полированными цементными полами, с крытыми переходами из одного павильона в другой. Мебель для нас изготовили китайские и балийские мастера. В конце нашего пребывания в деревне у нас было семнадцать столов. Мы освещали наши павильоны вечерами множеством маленьких керосиновых ламп с высокими тонкими стеклами.
Когда мы планировали нашу экспедицию, мы решили применить в широких масштабах киносъемку и фотографирование. Перед экспедицией Грегори запасся семьюдесятью пятью пленками для "лейки" на два года нашей экспедиции. Но однажды, когда мы наблюдали родителей и детей в течение сорока пяти минут, мы обнаружили, что Грегори израсходовал три полные катушки пленки. Мы посмотрели друг на друга, на наши записи, на снимки, сделанные Грегори к этому времени, проявлявшиеся и печатавшиеся китайцем в городе. Мы их монтировали и каталогизировали на больших листах картона. Стало ясно, что мы во много раз превысили планируемые перед экспедицией расходы на фотографирование. А денег было мало. Тогда мы приняли решение: Грегори запросил из дома недавно изобретенный скоростной механизм перемотки пленки, позволявший делать снимки в очень быстрой последовательности. Он заказал и рулон пленки, которую сам разрезал и вставлял в кассеты, так как мы не могли позволить себе покупать заряженные кассеты из-за объема предстоящих съемок. Чтобы не тратить деньги на проявление пленки, мы купили бачок, с помощью которого можно было проявлять десять катушек пленки одновременно, и таким образом мы смогли проявлять за вечер по 1600 кадров.
Первоначально мы намеревались снять 2000 фотографий; фактически же мы сняли 25 тысяч. Это означало, что и записи, сделанные мною, увеличились на порядок, а если к ним еще прибавить и записи Маде, то объем нашей общей работы вырос в колоссальной степени.
Трудоемкость наших методов регистрации заставила ждать 25 лет, пока наша работа окажет серьезное влияние на антропологические экспедиции. И все же до сих пор нет фоторегистрации людских взаимодействий, сопоставимых с теми, которые Грегори сделал на Бали, а затем у ятмулов. В 1971 году, когда Американская антропологическая ассоциация собрала симпозиум по новейшим методам использования и анализа фото- и фонографических материалов, фильмы Грегори о балийских и ятмулских родителях и детях все еще демонстрировались как образцы того, что может дать фотография.
Когда мы вернулись в США, мы решили, хотя уже и были вовлечены в работы военного времени, подготовить одну публикацию, показывающую способы фоторегистрации и письменной записи фактов, разработанные нами. Подготовка к изданию "Балийского характера", нашей единственной совместной с Грегори книги о Бали, включала последовательный просмотр 25 тысяч снимков и отбор из них наиболее показательных. Грегори увеличил их, и мы отобрали 759 для публикации. В этой книге мы развили новый метод демонстрации тематически сходных деталей, взятых из разных сцен: спящий мужчина; мать, несущая спящего ребенка; воры, засыпающие во время суда над ними. Все эти детали были лишь тематически связаны, и все же контекст и цельность любого события при этом никак не нарушались.
Но не только фотография сделала эту нашу экспедицию новым словом в этнографии. Грегори нашел также новые методы письменной регистрации событий, позволявшие реконструировать всю последовательность основных и побочных событий и точно устанавливать момент, когда антрополог начинает понимать смысл регистрируемого им события. На последующих ступенях анализа этот метод записи позволял включать в нее различные ссылки и другие теоретические идеи. Указывались также фотографии и части фильмов к соответствующим листам записи. С помощью этого метода регистрации событий по прошествии тридцати лет я могу точно локализовать каждый момент записи или составить пояснительную подпись под фотографией, в которой будет точно опознана даже нога ребенка в углу снимка.
Благодаря плотности населения и богатству ритуальной жизни мы смогли составить много новых тематических подборок материала. Мы зарегистрировали не одно, а двадцать празднеств в честь рождения ребенка; у нас было тогда пятнадцать зарегистрированных случаев впадения в транс одних и тех же маленьких девочек; мы собрали в одной деревне шестьсот маленьких кухонных божков и могли их сравнивать с пятьюстами другими, собранными в другой деревне; сорок картин, выражающих мечты одного человека, могли быть сопоставлены нами с такими же картинами сотен других художников.
От возможности получать такой ценный материал кружилась голова. Мы реагировали на нее лихорадочной работой. Каждый из нас побуждал другого исследовать новые горизонты этой культуры или вносить новые усовершенствования в методы сбора фактов. Когда Грегори работал с ятмулами, он придумал термин "шизмогенезис"- понятие, которое впоследствии было определено как положительная обратная связь, т. е. порочный круг отношений, в которых враждебность двух лиц или двух групп нарастает до момента открытого разрыва. Будучи на Бали, он прибавил к нему термин "зигогенезис", т. е. отношения, с нарастающей силой стремящиеся не к разрыву, а к гармоническому равновесию. По большей части, когда мы работали поздно по вечерам - уходили спать, лишь проявив последнюю пленку, включив запись на нее в наш каталог или разработав некоторое теоретическое положение,- мы чувствовали огромное удовлетворение. Наш рабочий темп ослаблялся лишь периодически наступавшей усталостью и нашими посещениями роскошных домов друзей на равнине, где, однако, мы тоже много работали.
В работу на выездах мы включали Джейн Бело с ее секретарем, обученным Мада Калером, а также Катаране Мершон - бывшую танцовщицу, жившую с супругом в прибрежной деревне Санур. В этой деревне даже маленькие дети впадали в транс, в изобилии имелись "ведьмы" и жил старый, мудрый священник, желавший мыслить независимо. G ним всегда можно было проконсультироваться. Мы обучили смышленого мальчика, ранее усыновленного Мершонами, обязанностям секретаря. Он помогал Катаране. Когда мы посещали Мершонов, мы вместе работали над большими церемониями. Когда мы бывали в гостях у Джейн Бело и Колин Макфи, мы изучали деревню Саджан или состояния транса, интересовавшие Джейн Бело. Все это не казалось трудным. Материала было много, а ощущение успехов, сделанных нами в методике и теории, вдохновляло нас.
По истечении двух лет, когда мы планировали закончить работы и вернуться домой, мы с радостью констатировали, что собрали беспрецедентное количество материала. Но сущность антропологического труда - сравнение. А между тем у нас не было материала, с которым мы могли бы сравнить собранное нами. Надвигалась война. Даже по газетам двухмесячной давности нетрудно было судить, что начало войны не заставит себя долга ждать. Но, несмотря на то что война становилась все более и более неминуемой, мы планировали организовать большую междисциплинарную экспедицию, включающую эндокринологов и психиатров, на Бали. Мы думали, что ее штаб-квартира разместится во дворце Бангли, где мы смогли бы заняться исследованием правящей касты и развернуть интенсивные работы под защитой королевской власти. Каждый член этой гипотетической экспедиции сначала должен был бы проработать все тексты о Бали, просмотреть кино- и фотоматериал, а затем получить в свое распоряжение опытного секретаря и "свою" деревню. Мы даже арендовали дворец на три года, хотя и знали, что, по всей вероятности, наши планы останутся всего лишь мечтами. Мы серьезно отнеслись к предложению Нолана Льюиса76 организовать экспедицию по исследованию шизофрении в других культурах, а так как денег на реализацию этого проекта не было, часть работы мы проделали сами. К ней были привлечены Джейн Бело, Катаране Мершон, и, кроме того, мы заручились помощью голландских специалистов на острове. Можно было осуществить и большие планы.
Между тем вопрос, что делать с нашим несопоставленным материалом, оставался нерешенным. Мы мечтали вернуться домой через Ангкор Ват77 - то место в мире, которое я хотела видеть больше всего. Сейчас оно сильно повреждено в результате вьетнамской войны. Но наша антропологическая совесть победила. Мы решили вместо этого вернуться на Сепик и поработать с ятмуламя. Грегори хорошо знал эту культуру. Место было мне знакомо, и я владела местным обиходным языком. Там мы надеялись за относительно короткое время снять фильмы, сделать нужные серии фотографий и составить детализированные протоколы наблюдений, методика которых была разработана нами на Бали.
Мы сели на голландское судно, шедшее в Порт-Морсби. Во время нашего плавания Гитлер захватил Австрию, и австрийский посол, направлявшийся в Новую Зеландию, внезапно оказался человеком без отечества. Мы разбили наш лагерь в Тамбунане, большой и разбросанной ятмулской деревне, где Грегори до этого не работал, и попытались воспроизвести работу, проделанную нами на Бали. Жаль, что с нами не было Мада Калера, на которого можпо было возложить часть работы по описанию происходящего. Имена на Сепике были четырех-пятисложными, и их нельзя было сокращать. Грегори болел почти треть времени нашего пребывания на Сепике. К тому же было необычно сухо, люди почти забросили все ритуалы и со страстью предались охоте на крокодилов. В деревню они часто возвращались лишь для того, чтобы поспорить о разделе копченого крокодильего мяса. То, что было пылкой мечтой па Бали, оказалось кошмаром реки Сепик.
Но все же за шесть месяцев мы собрали весь необходимый материал. Мы могли теперь сопоставить материнское поведение балийки и ятмулки по многим аспектам - поведение, например, балийской матери, одалживающей чужого младенца для того, чтобы вызвать приступ ревности у своего собственного, с поведением ятмулской матери, всячески оберегавшей своих детей от ревности. Мы могли сопоставить различное отношение к драме и театральным представлениям у этих двух народов. Балийцы стремились ограничить драматическое в жизни рамками сценической площадки, стремясь к миру и спокойствию в своих повседневных отношениях. Даже детям они не разрешали ссориться из-за игрушек. Ятмулы же дерущиеся, кричащие и ссорящиеся в реальной жизни, использовали театральные представления для того, чтобы внести моменты статической красоты в свою куда более бурную действительную жизнь.
Мы получили нужные нам контрасты и были готовы работать, основываясь на новых теоретических подходах, у себя дома - принять участие в развитии кибернетики, теории групповых решений. Новые плодотворные идеи, содержащиеся в модально-зопальной теории Эрика Эриксона78 позволили нам придать нашим идеям о темпераменте более утонченную форму.
Но дни наших совместных полевых работ были сочтены. В течение последующих двух лет, включающих и короткое, шестинедельное возвращение па Бали для пополнения небольших лакун в материале и сбора данных о развитии за год детей, обследованных нами в свое время в Баюнг-Геде, мы работали очень напряженно. Мы анализировали и каталогизировали наши материалы, работали с представителями других дисциплин лад теоретическими проблемами, поставленными нашими исследованиями, сделали несколько фильмов и готовили к печати "Балнйский характер"79. Но затем, когда нас всех захлестнула война, Грегори обратился к другим делам и никогда уже не возвращался к полевым работам этого рода. Вместо этого он занялся анализом небольших последовательностей событий, зарегистрированных с помощью магнитофона и киносъемок: в ходе интервьюирования шизофреников, наблюдений за поведением спрутов в бассейне, выдр в зоопарке или же пойманных дельфинов. Все эти записи имели для него чисто вспомогательное значение и теряли свою ценность, как только была совершена мыслительная работа, совершавшаяся с их помощью.
Я попыталась повторить балийский эксперимент многими способами, но в целом это мпе не удалось. Я работала над анализом фотографий, к числу которых относились и многие наши балийские серии. Я исследовала вместе с фотографиями культуры, ужо известные мпе, и культуры, незнакомые мне. Я дважды допыталась работать вместе с одной супружеской парой на острове Манус.
Продолжались работы среди балийцев и ятмулов. В 1957 году я взяла с собой на Бали Кепа Хепмона, где он сделал серии снимков того, что я видела ранее но не фотографировала. В 1968 году он вернулся на Бали один, чтобы с помощью фотосъемок изучить жизнь одной балийской семьи из Баюнг-Геде, деревни, где все учителя и школьники выпускного класса погибли во время политических убийств80. Рода Метро81 вернулась к ятмулам, чтобы пополнить музыкой, танцами, ее собственным сложным восприятием ту работу, которую проделали мы с Грегори. Мои коллеги и студенты пользовались небольшими частями нашего балийского материала для очень тонкого теоретического анализа. Колин Макфи завершила свою фундаментальную работу по балийской музыке, затратив па нее многие годы. Кончены были книги и монографии Джейн Бело, и как раз перед ее смертью появился сборник статей, которые писали все мы, когда работали вместе. В прошлом году Катаране Мершон наконец-то опубликовала отчет о своей работе в Сануре. Недавно, основываясь на совершенно других подходах, Клиффорд и Хилрид Гирц проделали великолепную работу на Бали, соблюдая ту необходимую отделенность от исследуемого материала, которой так не хватало нашей собственной работе,- Грегори так увлекался выражением лиц и жестами участников петушиных боев, что подчас забывал снять сам петушиный бой.
В новом зале "Народы Тихого океана" в Американском музее естественной истории открыта выставка, основанная на коллекции 1300 деревянных резных балийских изделий, проанализированных Клэр Холт с помощью перфокарт. Она пользовалась методом, предварившим методы анализа с помощью ЭВМ. Эта работа не была доведена до конца, так как Клэр прервала ее, занявшись свой великой книгой по индонезийскому искусству.
Мы предпринимали и другие попытки воспроизвести некоторые из условий балийского исследования. Большой проект Колумбийского университета по исследованию современных культур, разработанный сразу же после войны под общим руководством Рут Бенедикт, был одной из таких попыток. Мы работали небольшими группами, каждый член которых отличался от других своей подготовкой, опытом, образованием: ученые, художники, искусствоведы. В каждой из девяти культур, исследованных нами на расстоянии, мы работали с информантами и пользовались фильмами, романами, автобиографиями, произведениями художественного творчества, стенографическими отчетами съездов, пособиями по уходу за детьми и иной дидактической литературой и многими другими материалами, распространенными в современных сложных обществах. В этом проекте важную работу проделал Джоффри Горер82. Он сам в свое время побывал на Бали, и его письма к нам на Бали из Сиккима, где он изучал лепча83, и наши месячные отчеты, отправляемые ему, стали органической частью всего балийского эксперимента. С нами па проекту исследования современных культур работала и Джейп Бело. Но интервью, посвященное детству в отдаленных странах, кинофильмы, сделанные где-то далеко, в Советском Союзе или ва Франции, протоколы собраний, живопись и скульптура художников, которых никто никогда не видел за работой,- всё это была лишь бледным подобием работы в центре самой культуры, ежедневного наблюдения одних и тех же людей, непосредственной проверки теорий на месте путем наблюдения за очередной жестикуляцией или же очередным впадением в транс.
Когда я вернулась на Бали в 1957 году, балийцы знали, что ни один из наших союзов, этих примеров товарищеского сотрудничества, восхищавших Бали, не сохранился. Они знали, чта Джейн Бело была очень больна, но, когда я рассказала им, что ее память сохранила Бали на всю ее жизнь, они сказали мне серьезно: "Видишь ли, она оставила свою душу на Бали, она не спросила разрешения богов, когда уезжала". Уолтер Спайс умер на корабле, эвакуировавшем заключенных как раз перед началом японского вторжения. Моя дочь84 хранит одно из его редких и прекрасных полотен. Колин Макфи умерла две недели спустя после правки гранок ее книги, Джейн Бело - до публикации своей "Традиционной балийской культуры", а Клэр Холт - в разгар работы над новым проектом этнографического исследования Индонезии.
В момент, когда я пишу эти строки, Грегори учит студентов и едет с отобранной группой на Бали, где они намерены провести шесть недель. Он снова увидит этот остров после тридцатичетырехлетнего перерыва.
Я рада, что мне однажды удалось создать образец того, чем может быть этнографическая работа, даже если этот образец и связан с громадной перегрузкой, перегрузкой, при которой целый жизненный путь конденсируется в несколько лет.
II. Взросление на Самоа
"Взросление на Самоа" (Coming of Age in Samoa. A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilization. 7th Printing. N. Y.: Morrow & Company, 1973) - первая книга М.Мид, вышедшая в 1928 г. в издательстве Морроу в Нью-Йорке и принесшая ей мировую известность. До сих пор "Взросление на Самоа" остается самой популярной работой исследовательницы. Книга неоднократно переиздавалась и переведена на многие языки мира. Настоящий перевод сделан с седьмого издания книги, снабженного специальным предисловием автора. В перевод включены те главы книги, которые, с точки зрения составителя и переводчика, наиболее рельефно передают представления исследовательницы об этосе самоанской культуры - диффузность родственных связей в больших семейных группах, определенную социальную деперсонализованность человека, в особенности женщины, в самоанской общине, значительную степень свободы сексуальных отношений, "отдушины" для проявления индивидуальности в искусстве. Включена в перевод и большая глава, посвященная сопоставительному анализу образа жизни на Самоа и в современной автору Америке. Последняя глава вместе с "Введением" четко излагает основные принципы культурно-исторической школы в этнографии и в известной мере является ответом на задачу, поставленную Францем Боасом молодой исследовательнице перед ее отъездом "в поле": почему пубертатный период у юношей и девушек некоторых примитивных обществ протекает бесконфликтно? (См. его письмо к М. Мид в ее автобиографии, разд. I наст, изд.)
1. Введение
За последние сто лет родители и педагоги перестали считать детство и юность чем-то очень простым и самоочевидным. Они попытались приспособить образовательные системы к потребностям ребенка, а не втискивать его в жесткие педагогические рамки. К этой новой постановке педагогических задач их вынудили два фактора - рост научной психологии, а также трудности и конфликты юношеского возраста. Психология учила, что многого можно добиться, поняв характер развития детей, его основные стадии, поняв, чего следует ожидать взрослым от двухмесячного младенца и двухлетнего ребенка. Гневные же проповеди с кафедр, громогласные сетования консерваторов от социальной философии, отчеты судов по делам несовершеннолетних и других организаций свидетельствовали, что надо делать что-то с тем периодом жизни человека, который наука называет юностью. Зрелище молодого поколения, все более отклоняющегося от норм и идеалов прошлого, сорванного с якоря респектабельных семейных стандартов и групповых религиозных ценностей, пугало осторожного консерватора и соблазняло пропагандиста-радикала на миссионерские крестовые походы против беззащитного юношества. Оно беспокоило даже самых легкомысленных из нас.
В американской цивилизации с ее многочисленными противоречиями различных иммигрантских слоев, десятками конфликтующих стандартов поведения, сотнями религиозных сект, с ее колеблющимися экономическими условиями жизни нарушенный статус юности был более заметен, чем в старших по возрасту и более устоявшихся цивилизациях Европы. Американские условия бросали вызов психологу, педагогу, социологу, требуя от них приемлемого объяснения растущих страданий детей. Подобно тому как в сегодняшней послевоенной Германии (* Имеется в виду Германия после первой мировой войны. - Примеч. ред.), где молодое поколение стоит перед еще более трудной, чем у наших детей, проблемой адаптации к условиям жизни, книжные лавки наводнены литературой, теоретизирующей насчет юности, так и у нас, в Америке, психологи делают все, чтобы объяснить брожение молодежи. В итоге мы имеем такие работы, как "Юность" Стэнли Холла, видящие в самом пубертатном периоде причины конфликтов и неудовлетворенности подростков. Юность здесь рассматривается как возраст расцвета идеализма, как время мятежа против авторитетов, как период жизни, в котором трудности адаптации и конфликты абсолютно неизбежны.
Осторожный детский психолог, основывающий свои суждения на эксперименте, не согласился бы с этой теорией. Он сказал бы: "У нас нет данных для выводов. Сейчас мы знаем очень мало даже о первых месяцах жизни ребенка. Мы только начали узнавать, когда его глаз будет в состоянии следить за движением луча света, так можем ли мы дать определенный ответ на вопрос, как будет реагировать развитая личность, о которой мы еще ничего не знаем, на религию?" Но предостерегающие прописи науки всегда непопулярны. И если ученый-экспериментатор не хочет связывать себя с определенной теорией, то социолог, проповедник и педагог с тем большей настойчивостью пытаются получить прямой и недвусмысленный ответ. Они наблюдают в нашем обществе поведение подростков отмечают в нем очевидные и повсеместные симптомы мятежа и выводят их из возраста, как такового. Матерей предупреждают, что дочери в возрасте с тринадцати до девятнадцати лет особенно трудны. Это, утверждают теоретики, переходной возраст. Физические изменения, происходящие в телах ваших мальчиков и девочек, сопровождаются определенными психическими изменениями. Их столь же невозможно избежать, как невозможно предотвратить физиологические изменения. Как тело вашей дочери превращается из тела ребенка в тело женщины, так же неизбежно происходят и духовные изменения, причем происходят бурно. Теоретики смотрят вокруг себя на подростков в нашей цивилизации и повторяют убежденно: "Да, бурно".
Такие взгляды, хотя и не подкрепленные выводами экспериментальной науки, получили широкое распространение, повлияли на нашу педагогическую теорию, парализовали наши родительские усилия. Когда у ребенка режутся зубы, мать должна смириться с его плачем. Точно так же она должна вооружиться максимальным хладнокровием и терпеливо переносить неприятные и бурные проявления "переходного возраста". Если ребенка не за что ругать, то единственная разумная педагогическая политика, которую мы вправе потребовать от учителя, - терпимость. Теоретики продолжают наблюдать за поведением подростков в американском обществе, и каждый год приносит им подтверждение их гипотезы: отчеты школ и судов по делам несовершеннолетних дают все новые и новые примеры трудностей развития в юношеском возрасте.
Но постепенно утверждался и другой путь науки о развитии человека - путь этнографа, исследователя людей в самых разнообразных социальных средах. Этнограф, по мере того как он осмысливал все растущий материал о нравах примитивных народов, начинал понимать огромную роль социального окружения, той среды, где родился и был воспитан каждый человек. Один за другим различные аспекты человеческого поведения, которые было принято считать непременными следствиями нашей природы, оказывались простыми продуктами цивилизации, то есть чем-то таким, что наличествует у жителей одпой страны и отсутствует у жителей другой, хотя последние принадлежат к той же самой расе. Все это научило этнографа тому, что ни раса, ни общая человеческая природа не могут предопределить, какую форму примут даже такие фундаментальные человеческие эмоции, как любовь, страх, гнев, в различных социальных средах.
Поэтому этнографы, опираясь на свои наблюдения за поведением взрослых людей в других цивилизациях, приходят ко многим выводам, аналогичным выводам бихевиористов1, занимавшихся младенцами, которые еще не подвергались воздействию цивилизации, формирующей их податливую человеческую природу.
Именно исходя из этого взгляда на человеческую природу, этнографы и прислушались к ходячим толкам о юности. И они услышали, что как раз те установки, которые, с их точки зрения, определяются социальной средой, - восстание против авторитетов, идеалистические порывы, философские сомнения, мятежность и воинственный пыл - приписываются действию специфического периода физиологического развития человека. Однако их знания о детерминирующей роли культуры, о пластичности человеческой природы заставили их усомниться в этом. Возникают ли все эти трудности адаптации у подростков только потому, что они подростки, или же потому, что это подростки, живущие в Америке?
В распоряжении биолога, усомнившегося в старой гипотезе и желающего проверить новую, - лаборатория. Там в условиях самого строгого контроля он может менять свет, воздух, пищу, которые получают его животные или растения с самого момента их рождения и в течение всей их жизни. Оставляя неизменными все условия, кроме одного, он может осуществить самые точные измерения влияния именно этого единственного условия. Это и есть идеальный метод науки, метод контролируемого эксперимента, с помощью которого можно осуществить строгую объективную проверку всех гипотез.
Даже в области ранней детской психологии исследователь лишь частично может воспроизвести эти идеальные лабораторные условия. Он не может контролировать дородовое окружению ребенка, а свои объективные измерения сможет осуществить только после его рождения. Он может, однако, контролировать среду, в которой ребенок живет в течение нескольких первых дней своей жизни, и решать, какие зрительные, слуховые, обонятельные или вкусовые раздражители оказывают на него влияние. Но для исследователей юношеского возраста не существует таких простых условий работы. А мы пожелали исследовать не более и не менее как влияние цивилизации на развитие человека в пубертатный период. Для того чтобы изучить его самым строгим образом, нам следовало бы сконструировать разные типы различных цивилизаций и подвергнуть большие группы подростков влиянию разных сред. При этом мы бы составили перечень факторов, влияние которых мы хотели бы исследовать. И уже затем, если бы мы захотели, например, изучить влияние размеров семьи на психологию подростков, мы должны были бы построить ряд цивилизаций, сходных во всех отношениях, исключая одно - организацию семьи. И тогда, если бы мы нашли отличия в поведении наших подростков, то мы могли бы с уверенностью утверждать, что именно размеры семьи вызывают это отличие, что, например, единственному ребенку предстоит более бурная юность, чем ребенку - члену большой семьи. Точно таким же образом мы смогли бы поступить и с целой дюжиной других факторов, предположительно оказывающих влияние на поведение подростков: раннее или позднее знание о половой жизни, ранний или поздний сексуальный опыт, раздельное или совместное обучение полов, разделение труда между полами или те общие трудовые задачи, давление, оказываемое на ребенка с целью заставить его сделать определенный конфессиональный выбор, или же отсутствие такового. Мы бы варьировали один фактор, оставляя совершенно неизменными другие, и анализировали, какие стороны нашей цивилизации, если такие вообще имеются, ответственны за трудности, переживаемые нашими детьми в юношеском возрасте.
К сожалению, нам отказано в таких идеальных методах эксперимента, когда предметом нашего исследования становятся человечество или вся структура социальных отношений. Экспериментальная колония Геродота, где младенцы отбираются у родителей2, а результаты их воспитания тщательно регистрируются,- утопия. Неправомерен и выборочный метод - отбор из нашей собственной цивилизации групп детей, удовлетворяющих тому или иному требованию. По этому методу мы должны были бы отобрать пятьсот подростков из маленьких семей и пятьсот - из больших, а затем попытаться установить, кто из них пережил наибольшие трудности приспособления к среде в юности. Но при этом мы бы не знали, каковы были другие факторы, воздей ствовавшие на этих детей,- какое воздействие на их юношеское развитие оказало их знакомство с половой жизнью или же соседи из их непосредственного окружения.
Какой же метод тогда доступен для нас, желающих провести эксперимент на людях, но не имеющих возможности ни создать контролируемые условия для такого эксперимента, ни найти примеры этих условий в нашей собственной цивилизации? Единственно возможный метод для нас - это метод этнографа, обращение к иной цивилизации и изучение людей, живущих в условиях другой культуры в какой-то иной части мира. Для таких исследований этнографы выбирают совсем простые, примитивные народы, общество у которых никогда не достигало усложненности, характерной для нашего. Выбирая такие простые народы, как эскимосы, австралийские аборигены, жители островов южной части Тихого океана, индейцы пуэбло, этнографы руководствуются следующим соображением: простота цивилизации облегчает ее анализ.
В развитых цивилизациях, подобных европейским или высшим цивилизациям Востока, исследователю понадобились бы годы, прежде чем он начал бы понимать силы, действующие внутри их. Изучение только французской семьи как института потребовало бы от него предварительного изучения французской истории, французского права, отношения протестантизма и католицизма к полу и личности. Примитивный народ, лишенный письменности, ставит перед нами значительно менее сложную задачу, и опытный исследователь может понять принципы организации примитивного общества за несколько месяцев.
Мы также не делаем предметом нашего исследования и простую крестьянскую общину в Европе или же изолированную группу белых жителей гор на американском Юге. Образ жизни этих людей, хотя и прост, принадлежит, в сущности, той же самой исторической традиции, которой принадлежат и сложные части европейской или американской цивилизации. Предметом нашего исследования мы берем примитивные группы, имеющие за своей спиной тысячелетия исторического развития по путям, совершенно отличным от наших. Категории индоевропейской грамматики отсутствуют в их языке, их религиозные идеи по самой своей природе отличны от наших, их социальная организация не только проще, но и существенно отлична от нашей. Все эти контрасты, которые одновременно и достаточно ярки, чтобы удивить и пробудить мысль каждого, привыкшего только к нашему образу жизни, и достаточно просты, чтобы их можно было понять быстро, помогут узнать многое о влиянии цивилизаций на индивидуумов, живущих в них.
Вот почему, исследуя проблему юности, я решила не ехать ни в Германию, ни в Россию, а отправилась на Самоа, на один из островов в Тихом океане, расположенный в 13 градусах от экватора и населенный смуглым полинезийским народом. Я женщина и, следовательно, могла рассчитывать на большую доверительность в работе с девушками, чем с юношами. Кроме того, женщин-этнологов мало, и потому наши знания о девушках, принадлежащих к примитивным народам, значительно более скудны, чем знания о юношах. Это и побудило меня обратить преимущественное внимание в моем исследовании на самоанскую девушку-подростка.
Но, поставив себе задачу таким образом, я должна была вести себя совершенно иначе, чем я бы себя вела, будь предметом моего исследования девушка-подросток в Кокомо, штат Индиана. В последнем случае я бы сразу же взялась за суть дела. Мне бы не пришлось долго размышлять над языком штата Индиана, над его застольными манерами или же ритуалом отхода ко сну. Мне не пришлось бы также изучать самым исчерпывающим образом, как там учат детей одеваться, пользоваться телефоном или же что вкладывается в понятие совести в Индиане. Все это входит в общую структуру американского образа жизни, известного мне как исследователю и вам - как читателям.
Но дело обстоит совершенно иначе, когда мы проводим эксперимент с девушкой-подростком, принадлежащей к примитивному пароду. Она говорит на языке, сами звуки которого необычны, на языке, где существительные становятся глаголами, а глаголы - существительными самым причудливым образом. Иными оказываются и все ее жизненные привычки. Она сидит на земле скрестив ноги, а усадить ее на стул - это значит сделать ее напряженной и жалкой. Она ест пальцами из плетеной тарелки и спит на полу. Ее дом - это просто круг из забитых в землю кольев, накрытый конусообразной пальмовой крышей, с полом из обточенных морем кусков кораллов. Совсем другая и окружающая ее природа. Над ее деревней колышется листва кокосовых пальм, хлебных и манговых деревьев. Она никогда не видела лошади, а из животных ей известны только свинья, собака и крыса. Она ест таро3, плоды хлебного дерева, бананы, рыбу, диких голубей, полупрожаренную свинину и береговых крабов. И как необходимо было понять глубокие отличия природного окружения, повседневных привычек жизни полинезийской девушки от наших, так же необходимо было осознать, что и социальное окружение этой девушки в его отношении к сексу, детям, личности находится в столь же сильном контрасте с социальным окружением юной американки.
Я углубилась в изучение девушек в этом обществе. Я проводила большую часть моего времени с ними. Я самым тщательным образом изучила домашнюю обстановку, в которой жили эти девушки-подростки. Я тратила больше времени на игры детей, чем на советы старейшин. Говоря на их языке, питаясь их пищей, сидя на полу, покрытом галькой, босая и скрестив ноги, я делала все, чтобы сгладить разницу между нами, сблизиться и понять всех девушек из трех маленьких деревень, расположенных на берегу маленького острова Тау в архипелаге Мануа.
В течение девяти месяцев, проведенных мною на Самоа, я познакомилась со многими деталями из жизни этих девушек - с размерами их семей, положением и обеспеченностью их родителей, выяснила, насколько обширен их собственный половой опыт. Все эти факты повседневной жизни суммированы мною в таблице, приложенной к книге. Все это даже не сырой материал, а лишь голый костяк для изучения семейных проблем и половых отношений, норм дружбы, преданности, личной ответственности, всех тех неуловимых точек кипения, нарушающих спокойную жизнь наших юных полинезиек. Но так как все эти трудноуловимые стороны жизни девушек были столь сильно сходны между собою, так как жизнь одной девушки столь сильно напоминала жизнь другой в простой однородной культуре Самоа, то я сочла себя вправе обобщать, хотя я познакомилась всего лишь с пятьюдесятью девушками, живущими в трех маленьких соседних деревнях.
В главах, следующих за этим введением, я описала жизнь девушек, жизнь их младших сестер, которые скоро станут подростками, их братьев, говорить с которыми им запрещает строгое табу, их старших сестер, прошедших через пубертатный период, их отцов и матерей, мнения и установки которых определяют мнения и установки их детей. И, описывая все это, я всегда задавала себе тот вопрос, который и послал меня на Самоа: являются ли проблемы, будоражащие наших подростков порождением подросткового периода, как такового, или они продукт цивилизации? Будет ли подросток вести себя иначе в других условиях?
Но такая постановка проблемы уже в силу несходства этой простой жизни на маленьком тихоокеанском острове с нашей заставила меня воссоздать картину всей социальной жизни на Самоа. При этом нас интересовали только те стороны этой жизни, которые проливают свет на проблемы юности. Нас не занимали вопросы политической организации самоанского общества, так как они не влияют на девушек и не затрагивают их. Детали систем родства или культа предков, генеалогии и мифологии, представляющие интерес только для специалистов, будут опубликованы в другом месте. Здесь же я попыталась показать самоанку в ее социальном окружении, описать течение ее жизни от рождения до смерти, проблемы, которые она должна будет решать, ценности, которыми она руководствуется в своих решениях, страдания и наслаждения человеческой души, заброшенной на остров в Южных морях.
Это описание претендует на то, чтобы сделать нечто большее, чем просто осветить одну конкретную проблему. Оно должно также дать читателю некоторое представление об иной - и контрастной по отношению к нашей - цивилизации, об ином образе жизни, который другие представители человеческого рода сочли и удовлетворительным pi приятным. Мы хорошо знаем, что самые тонкие наши ощущения и самые высокие ценности всегда в своей основе имеют контраст, что свет без мрака, красота без безобразия потеряли бы свои качества, переживались бы нами не так, как сейчас. Аналогичным образом, если бы мы пожелали оценить нашу собственную цивилизацию, этот усложненный порядок жизни, который мы создали для самих себя и с таким усилием стремимся передать нашим детям, то нам бы следовало сопоставить ее с другими цивилизациями, весьма отличными от нашей. Человек, совершивший путешествие в Европу, возвращается в Америку в состоянии обостренной чувствительности к оттенкам своих собственных манер и взглядов, к тому, чего до путешествия он совершенно не замечал. Но Европа и Америка - части одной и той же цивилизации. Уже простые вариации одной и той же большой модели жизни обостряют способность критической оценки у исследователя современной Европы или же у исследователя нашей собственной истории. Но если мы выйдем из потока индоевропейской культуры, то способность критической оценки нашей цивилизации увеличится еще более. Здесь, в отдаленных частях мира, в исторических условиях, весьма отличных от тех, что привели к расцвету и падению Греции и Рима, группа человеческих существ разработала модели жизни, настолько отличные от наших, что даже в самых смелых фантазиях мы не можем допустить их влияния на наши решения. Каждый примитивный народ избрал для себя одну совокупность человеческих способностей, одну совокупность человеческих ценностей и перекроил их по себе в искусстве, социальной организации, религии. В этом и состоит уникальность его вклада в историю человеческого духа.
Острова Самоа дают нам только одну из этих привлекательных и разнообразных моделей жизни. Но как путешественник, единожды вышедший из дома, мудрее человека, никогда не переступавшего собственного порога, так и знание об иной культуре должно обострить нашу способность исследовать с большей настойчивостью, оценивать с большей симпатией нашу собственную.
В силу же того что мы поставили перед собою совершенна конкретную современную проблему, это повествование о другом образе жизни будет посвящено в основном воспитанию, то есть процессу, благодаря которому младенец любого пола, прибывший на сцену человеческих деяний совершенно неокультуренным, становится полноправным взрослым членом своего общества. Наиболее рельефно мы представим те стороны самоанской педагогики, беря это слово в самом широком смысле, которыми она отличается от нашей. И это противопоставление, обновив и сделав более живыми и наше самопознание, и нашу самокритику, может быть, поможет нам по-новому оценить и даже строить воспитание, которое мы даем нашим детям.
2. День на Самоа
Жизнь здесь начинается на рассвете, а если луна стоит па горизонте вплоть до восхода солнца, то крики молодежи, доносящиеся с холмов, можно услышать и до рассвета. После тревожной ночи, полной призраков, юноши и девушки весело перекликаются друг с другом. Когда же на мягкие линии коричневых крыш, на стройные силуэты пальм, отражающихся бесцветном и мерцающем море, ложится рассвет, влюбленные пробираются домой из укромных мест под пальмами или под сохнущими на берегу каноэ, чтобы свет дня мог найти каждого в предназначенном для него месте. Лениво кричат петухи, а с хлебного дерева разносятся резкие трели какой-то птицы. Назойливый рев воды у рифов приглушается до полутона звуками проснувшейся деревни. Кричат младенцы, и сонные матери спешат дать им грудь. Беспокойная детвора выкатывается из своих постелей и бредет в полудреме к берегу, чтобы освежить лицо морской водой. Мальчишки, настроившиеся на раннюю рыбалку, начинают собирать снасть и идут будить более ленивых компаньонов. Вся деревня, сонная, непричесанная, начинает шевелиться, протирать глаза и, спотыкаясь, бредет к берегу. "Талофа!", "Талофа!", "Выход в море назначен на сегодня?", "Ваша милость изволила собраться на ловлю бонито4?". Девушки останавливаются, чтобы похихикать по поводу некоего юного бездельника, который сегодня ночью удрал от разгневанного отца, и убежденно заявляют, что уж дочь-то этого отца кое-что знает о том, где он скрывается сейчас. Юноша схватывается с соперником, вытеснившим его из сердца возлюбленной, и их ноги вязнут в мокром песке. С другого конца деревни раздается протяжный, раздирающий душу крик. Посланец только что принес весть о смерти родственника в другой деревне. Полуодетые неторопливые женщины с младенцами у груди или на бедре прерывают свой разговор о Лосе, о ее возмутительном уходе из дома отца в более радушный дом дяди и задают вопрос, кто умер. Бедные родственники что-то выпрашивают шепотом у своих богатых сородичей, мужчины строят планы совместного выхода в море за рыбой, какая-то женщина клянчит немного желтой краски у родственницы, по всей деревне разносятся ритмичные звуки тамтама, собирающего молодежь. Она сходится со всех концов деревни, держа в руках палки для вскапывания земли, готовая отправиться в глубь острова, на огороды. Люди повзрослев приступают к своим более уединенным занятиям, и под конической крышей каждой хижины воцаряется обычная утренняя жизнь. Маленькие дети, слишком голодные, чтобы ждать завтрака, выпрашивают ломти холодного таро и жадно грызут их. Женщины несут кипы белья к морю или к ручью на дальнем конце деревни либо отправляются в глубь острова за материалом для плетения. Девочки постарше идут ловить рыбу на риф или усаживаются за плетение новых циновок.
В домах, где тальковые полы только что чисто подметены жесткими метлами с длинными ручками, беременные женщины и кормящие матери подсаживаются друг к другу и начинают сплетничать. Старики усаживаются поодаль, непрерывно скручивая волокна пальмы на своих голых бедрах, и тихо бормочут свои старинные истории. Плотники начинают ставить новый дом, а его будущий владелец суетится вокруг них, стремясь поддержать хорошее настроение. У семей, которые сегодня должны готовить пищу, тяжелый день: таро, ямс5 и бананы уже принесены в дом с огородов, и дети беспрерывно бегают за водой или за листьями для начинки поросят. Когда солнце поднимается выше над горизонтом, тени, отбрасываемые плетеными крышами, густеют, песок начинает жечь, цветы гибискуса вянут на изгородях, а маленькие дети, оставшиеся дома, кричат своим младшим братишкам и сестренкам: "Уходи с солнца!" Те, кто ушел недалеко, возвращаются в деревню, женщины идут со связками малиновых медуз или с корзинами раковин, мужчины несут па шестах корзины с кокосовыми орехами, женщины и дети съедают свой завтрак, горячий, только что из земляной печи6, если сегодня день готовки, а молодежь в полуденный зной проворно приготовляет обед для старших.
Полдень. Песок жжет ноги маленьким детям, и они, побросав свои мячи из пальмовых листьев и волчки из цветов плюмерии7, оставив их вянуть на солнце, уползают в тень своих хижин. Женщины, которым нужно выйти из дома, накрывают голову вместо зонтика широким банановым листом или мокрой тряпкой. Закрывшись циновками от разящего солнца, все, кто остался в деревне, завертывают головы в простыни и ложатся спать. Только несколько безрассудных мальчишек могут в это время улизнуть из дома, чтобы покупаться в тени высокой скалы; несколько трудолюбивых женщин продолжают плести, а маленькая их группа тревожно склоняется над роженицей. Деревня сонна и мертва. Любой звук кажется до странности громким и неуместным. Слова с большим трудом пробиваются через зной. Но вот солнце постепенно садится в море.
Спящие просыпаются, может быть разбуженные криком "Лодка!", прокатившимся через деревню. Рыбаки, усталые и измученные жарой, устанавливают на берегу свои каноэ. Гашеная известь, которой они, спасаясь от жары, обильно смазывали своп головы, не помогла им. Рыбы ярких расцветок разбрасываются на полу или складываются в кучу перед домом, пока женщины не польют на них воду, чтобы снять с них табу. Молодой рыбак с сожалением отделяет из кучи "рыбу табу", предназначенную, вождю, или же радостно набивает корзину из пальмовых листьев рыбой для возлюбленной. Мужчины возвращаются домой на леса, мрачные, нагруженные тяжелой ношей. Они кричат, приближаясь к деревне, и их приветствует хор звонких, высоких голосов тех, кто остался дома. Затем они собираются в доме для гостей, чтобы выпить вечерней кавы8. Эхо разносит по всея деревне мягкие хлопки в ладоши и громкий голос вождя, подносящего каву. Девушки собирают цветы, чтобы сплести ожерелья; дети, освеженные сном и свободные от домашних забот, ведут свои хороводы в полутенях угасающего дня. Наконец солнце садится в пламя, охватывающее все пространство от горы за деревней до океанского горизонта. Последний купальщик уходит с берега; дети спешат домой - их темные маленькие фигурки выгравированы на фоне неба; в домах загораются огни, и каждая семья усаживается за вечернюю трапезу. Влюбленный робко преподносит дары своей милой. Детям кричат, чтобы они оставили свои шумные игры: может быть, в доме какой-нибудь почетный гость, которому надо подать ужин первому, сразу же после проникновенного, но нестройного исполнения христианских гимнов и краткой и изящной вечерней молитвы. На пороге своего дома в конце деревни какой-то счастливый отец во весь голос возвещает односельчанам о рождении сына. В некоторых семьях кого-то недостает, в других же нашли прибежище маленькие беглецы. И вот опять на деревню нисходит покой. Сначала глава дома, затем женщины и дети и, наконец, терпеливые мальчишки постарше съедают свой ужин9.
После ужина стариков и маленьких детей спроваживают в постель. Если у молодых людей гости, то им уступают переднюю часть дома, ибо день - время советов стариков и трудов юности, а ночь предназначена для более легкомысленных дел. Два родственника или же вождь с его советником обсуждают события минувшего дня или же строят планы на утро. По деревне проходит глашатай, объявляя, что общинный амбар с плодами хлебного дерева будет открыт завтра и что завтра же предстоит большая общая рыбная ловля. Если над деревней светит луна, то группки молодых людей обоего пола, по двое, по трое, идут через деревню, а стайки ребятишек ловят береговых крабов или шумно гоняются друг за другом среди хлебных деревьев. В такие ночи половина деревни может быть занята рыбной ловлей при свете факелов, и их колеблющиеся огоньки, отражаясь в воде, обрисовывают причудливые контуры рифа, а эхо доносит крики радости и разочарования, слова насмешки или сдавленный яростный вопль оскорбленной невинности. Группа юношей может пуститься в пляс в честь какой-нибудь девы, прибывшей из соседней деревни. Многие из тех, кто уже лег спать, привлеченные звуками веселой музыки, накидывают на себя свои простыни10 и отправляются смотреть на танцующих. Толпа, одетая в белое и какая-то призрачная, собирается вокруг ярко освещенного дома - кольцо людей, от которого время от времени отделяются парочки и уходят в тень деревьев. Иногда деревня не спит далеко за полночь. Но затем уже наконец слышен мягкий рокот воды у рифа и шепот влюбленных. Деревня же спит до рассвета.
3. Воспитание самоанского ребенка
Дням рождения не придают значения на Самоа. Но появление на свет ребенка, как таковое, в семье высокого ранга предполагает устройство большого праздника и значительные расходы. Первого ребенка женщина должна родить в своей родной деревне, и если случилось так, что она живет в деревне супруга, то на роды она отправляется в свою. В течение нескольких месяцев до родов родственники отца приносят в дар будущей матери пищу, в то же самое время ее родственницы с материнской стороны хлопочут над приданым новорожденному - изготавливают белую материю из луба ему на одежду, плетут несколько дюжий маленьких циновок из листьев пандануса11 в приданое. Будущая мать отправляется в родную деревню тяжело нагруженная пищей в подарок своим родственникам. Когда же она собирается уходить в деревню мужа, то ее родня вручает ей равное количество циновок и материи в дар родственникам мужа. Во время самих родов может присутствовать мать или сестра отца. Они заботятся о ребенке, а повитуха и родственники женщины ухаживают за самой роженицей. Сами роды - отнюдь не интимное дело. Приличия требуют, чтобы роженица не корчилась от боли, не кричала, никак не возражала против присутствия двадцати или тридцати людей в доме, которые, если надо, будут сидеть около нее сутками, смеяться, шутить, развлекаться. Повитуха перерезает пуповину новым бамбуковым ножом, а затем все нетерпеливо ждут, когда выйдет послед - сигнал к началу празднества. Если младенец - девочка, то пуповина зарывается под шелковицу (дерево, из луба которого изготовляется материя)12, чтобы девочка стала хорошей домашней хозяйкой. Если младенец - мальчик, то пуповина бросается в море или закапывается под таро, чтобы он стал искусным рыбаком или прилежным земледельцем. Затем гости расходятся по домам, мать поднимается с постели и приступает к своим обычным делам, а ребенок вообще перестает вызывать большой интерес у кого бы то ни было. День и месяц его рождения забываются. Взрослые бесстрастно отмечают его первые шаги или первые слова безо всяких многословных комментариев или церемоний по этому поводу. Вообще же сразу после рождения ребенок теряет свою церемониальную значимость и обретает ее вновь только по окончании пубертатного периода. В большинстве самоанских деревень в честь девочки не устраивают никаких праздников до тех пор, пока она не выйдет замуж. И даже мать помнит только, что Лоса старше, чем Туку, а Фале, маленький сын ее сестры, младше, чем Винго, сын ее брата.. Относительный возраст имеет большое значение, так как старший всегда может приказывать младшему, до тех пор пока социальные различия между взрослыми не отменят этого правила. Фактический же возраст может быть полностью забыт.
Младенцев всегда кормят грудью, исключая редкие случаи, когда мать теряет молоко. Тогда кормилицу ищут среди родственников. С первой же недели ребенку начинают давать и другую пищу - папайю, кокосовое молоко, сок сахарного тростника; мать пережевывает пищу и дает ее ребенку на пальце либо же, если пища жидкая, смачивает ею кусок материи из луба и дает ребенку сосать ее, как делают пастухи с ягнятами, оставшимися без матери. Детям дают есть всякий раз, как только они начинают плакать, не делая никаких попыток установить точного расписания кормления. Если женщина не ждет другого ребенка, она будет кормить младенца грудью до возраста двух-трех лет. Она это делает потому, что так легче всего его успокоить. Грудные младенцы спят вместе с матерью. После того как их отнимают от груди, они обычно передаются на попечение какой-нибудь маленькой девочки в семье. Их часто обмывают соком дикого апельсина и натирают кокосовым маслом, пока их кожа не заблестит.
Главная нянька - обычно девочка шести-семи лет. У нее не хватит сил даже поднять ребенка, которому более полугода. Она может только таскать его, сидящего с растопыренными нога ми, у себя на левом бедре или па пояснице. Ребенок в возрасте шести-семи месяцев усваивает эту растопыренную позу, даже когда его спускают па пол. Маленькие няньки не побуждают его ходить, так как ходячий ребенок требует больше хлопот. Ходить дети начинают раньше, чем говорить, но определить более или менее точно возраст ребенка, который ужо ходит, невозможно; впрочем, я знала двоих детей, которые умели ходить и о которых мне было известно, что им только по девяти месяцев отроду; по-моему, средний возраст ребенка, когда он становится на ноги, около года. Жизнь на полу - ибо все домашние работы в самоанском семействе производятся на полу - способствует ползанию ребенка, и дети до трех-четырех лет предпочитают не ходить, а ползать.
От рождения до четырех-пяти лет воспитание ребенка чрезвычайно просто. Он должен быть абсолютно послушным, чего, однако, трудно достичь, ибо, как правило, никто не обращает внимания на то, чем занимаются маленькие дети. Он должен уметь сидеть или ползать по дому, но вставать на ноги ему полагается лишь в случае крайней необходимости. Он не должен обращаться к взрослым стоя, выходить на солнце, путать волокна, приготовленные для плетения, разбрасывать по полу сложенные для просушки кокосовые орехи. Он должен следить за тем, чтобы его скудное платье по крайней мере номинально держалось бы на нем, с должной осторожностью обращаться с ножами и огнем и ни в коем случае не прикасаться к чаше для кавы. Если его отец - вождь, то ребенок не должен забираться на его ложе, когда отца нет дома. Все это, конечно, просто запреты, подкрепляемые время от времени шлепками, громкими, раздраженными криками и малоэффективными внушениями.
Обязанность наказывать ослушников обычно возлагается на детей, которые ненамного старше по возрасту. Они привыкают кричать: "Уходи с солнца!"- еще не совсем ясно понимая, зачем это надо делать. К шестнадцати-семнадцати годам все эти увещевания и предостережения оставляют неизгладимый след в языке самоанских мальчиков и девочек, становятся неотъемлемой частью всех их бесед, монотонным, неприятным, фоном любого их разговора. Через каждые две минуты они вставляют в свою речь замечания вроде "Молчи!", "Сиди!", "Заткнись!", "Перестань шуметь!", замечания совершенно механические, ибо малыши в это время могут сидеть, как испуганные мыши. В целом же, однако, эти непрерывные призывы к тишине остаются не более чем призывами, ибо маленькие няньки больше заинтересованы в покое, чем в воспитании своих подопечных. Когда ребенок начинает кричать, его просто уводят подальше от старших. Ни одна мать не станет утруждать себя заботами о воспитании своего младшего ребенка, если есть какой-нибудь старший ребенок, на которого можно возложить эту ответственность.
Если бы на Самоа преобладали маленькие семьи с малым числом детей, то это обязательно привело бы к тому, что половина населения вырастала бы в заботах о других, воспитывалась в духе самопожертвования, в то время как другая превращалась бы в тиранов и себялюбцев. Но на Самоа, как только ребенок подрастает до того возраста, когда его своеволие становится невыносимым, на его плечи возлагается забота о младшем. Каждый ребенок поэтому здесь дисциплинируется и социализируется ответственностью за младшего брата или сестру. <.. .>
К шести-семи годам девочка хорошо усваивает главные запреты, и потому ей можно поручить заботу о младшем. К этому же времени у всех формируется и ряд простых навыков. Она обучается искусству плести твердые угловатые мячики из пальмовых листьев, делать из них или же из цветов франгипани волчки; она умеет взбираться своими маленькими гибкими ножками по стволу кокосовой пальмы, вскрывать кокосовый орех твердым и метким ударом ножа размером с себя самое, убирать мусор с пола, выложенного галькой, приносить воду с моря, раскладывать копру для просушки и убирать ее, когда надвигается дождь, свертывать листья пандануса для плетения; ее можно послать в соседний дом за зажженной лучинкой для трубки вождя или для домашнего очага, и она проявляет такт, обращаясь с какими-нибудь маленькими просьбами к взрослым.
Но для маленькой девочки все эти услуги - всего лишь добавка к ее основному делу, к ее обязанностям няньки. Очень маленькие мальчики также должны ухаживать за младшими детьми, но к восьми-девяти годам их, как правило, освобождают от этого. Любые шероховатости в их характере, еще не сглаженные ответственностью за младших, устраняются в общении со старшими мальчиками. Те берут в свою компанию младших и допускают их к интересным и полезным делам только при условии, что их поведение будет и осторожным и полезным. Мальчишки грубо прогоняют из своей компании маленькую девочку и будут терпеливо сносить присутствие маленького мальчика, который быстро учится в этих условиях тому, как быть полезным. Четыре или пять малышей, желая помочь какому-нибудь юноше в важном деле - в ловле угрей у рифа на петлю, быстро образуют очень эффективную рабочую бригаду: один держит приманку, второй опускает в воду дополнительную петлю, третий старательно ощупывает палкой выбоины в рифе в поисках спрятавшихся угрей, четвертый, наконец, прячет пойманных рыб в свою лавалаву13. У маленьких девочек, обремененных заботой о младенцах и ползунах, слишком маленьких, чтобы их можно было рискнуть взять с собой на риф, у девочек, обескураженных враждебностью мальчишек - их сверстников и презрением подростков, куда меньше возможностей научиться более захватывающим формам игры и труда. Вот почему воспитание девочек по сравнению с воспитанием мальчиков менее всесторонне: мальчики не только проходят дисциплинирующую школу нянченья малышей, но и быстро получают богатые возможности научиться эффективно сотрудничать под руководством своих старших товарищей. У девочек высоко развито чувство индивидуальной ответственности, но их окружение мало учит их эффективной кооперации. Это особенно заметно, когда молодежь проводит какое-нибудь совместное мероприятие: юноши организуются быстро, а девушки, не приученные пи к каким быстрым и эффективным методам сотрудничества, тратят часы на перебранку. <...>
Как только девочка набирается достаточных физических сил, чтобы носить тяжелые ноши, в интересах семьи оказывается переложить заботу о маленьких детях на плечи ее младшей сестры, и девочка-подросток освобождается от обязанностей няньки. С известным основанием можно сказать, что худшая полоса ее жизни прошла. Никогда более она не будет находиться в таком полном распоряжении у старших, никогда более ее не будут терроризировать маленькие двухлетние тираны. Вся раздражающая, мелочная рутина ведения домашнего хозяйства, которую в нашей цивилизации обвиняют за то, что она корежит души и озлобляет взрослых женщин, на Самоа ложится на плечи детей четырнадцати лет. Разжечь очаг или трубку, принести питье, успокоить ребенка, выполнить поручение капризного взрослого - все эти требования преследуют их с утра до ночи. Когда на Самоа ввели несколько месяцев обязательного обучения в государственных школах и дети должны были удаляться из дома на большую часть дня, это привело к полной дезорганизации хозяйства островитян: для них образ жизни, при котором матери должны оставаться дома и заботиться о своих детях, а взрослые - выполнять небольшие повседневные обязанности и куда-то ходить с какими-то поручениями, был совершенно беспрецедентен.
До своего освобождения от обязанности няньки маленькая девочка практически не имела возможности приобрести сложные трудовые навыки. Некоторые могли делать простые работы на кухне - чистить бананы, кокосовые орехи, клубни таро. Кое-кто умел плести простые корзинки. Теперь они должны научиться многому: плести для себя все виды корзин, выбирать листья таро, пригодные для варки, выкапывать только зрелые клубни этого растения. На кухне они учатся готовить палусами: тереть мякоть кокосового ореха, подсушивать ее на горячих камнях, заливать морской водой, процеживать эту похожую на молоко смесь и разливать по сосудам, сделанным из листьев того же таро. <...> Они должны уметь обертывать большую рыбу пальмовыми листьями или завертывать кучку мелкой в широкий лист хлебного дерева. Они должны научиться выбирать подходящие листья для корма свиней и определять, когда пища в земляной печи с раскаленными камнями готова к употреблению. Теоретически говоря, основная работа по кухне делается мальчиками, а там, где девочка должна нести на себе основное бремя тяжелых обязанностей кухарки, она становится предметом сожалений: "Бедная Лоса! В ее доме нет мальчиков, и она всегда должна заниматься очагом одна". Но девочки всегда помогают здесь мальчикам, а нередко делают и большую часть работы.
Как только на девочку начинают смотреть как па существо, способное на какую-то длительную и целенаправленную деятельность, ее вместе со взрослыми посылают в океан за рыбой. Ее учат плести корзины для рыбы, собирать и связывать в пучки прутья для ночных рыбалок с факелами, она умеет тревожить прутиком рыбу-дьявола в ее норе до тех пор, пока та не выйдет и но повиснет послушно па удочке, не без остроумия называемой "иди-сюда". Она умеет нанизывать больших розоватых медуз - их называют лоле (самоанские дети так зовут и конфеты)14 - на длинные нити из коры гибискуса, завершающиеся острым концом, сделанным из прожилки пальмового листа. Она умеет отличать хорошую рыбу от плохой, рыбу по сезону от рыбы, опасной для употребления в некоторые периоды года. Она хорошо знает, что ни в коем случае нельзя хватать двух осьминогов, спаривающихся на скале, ибо тогда на голову неосторожного рыбака непременно свалятся несчастья.
До этого ее познания в области растительного мира в основном были связаны с играми. Панданус давал ей семена для ожерелий, пальмы - листья, из которых можно было плести мячи. На бананах росли листья для зонтиков; из половинки листа вырезался воротничок. Скорлупа кокосового ореха, разрезанного пополам и снабженная соответствующими завязками, превращалась в своеобразные ходули. Цветы дерева пуа15 можно было сшить в прекрасное ожерелье. Теперь она должна познакомиться со всеми этими деревьями и растениями, имея в виду более серьезные цели. Она должна знать, когда листья пандануса готовы для сбора и как эти длинные листья можно срезать одним быстрым и уверенным ударом ножа. Она должна уметь различать три вида пандануса, так как от этого будет зависеть качество ее циновок. Очаровательные оранжевые семена, из которых получались не только красивые, но и вкусные ожерелья, теперь собираются для окрашивания материи из луба. Банановые листья она рвет для того, чтобы прикрыть ими плоские тарелки, завернуть в них пудинг перед выпечкой, покрывать земляную печь, наполненную пищей. Кора бананового дерева16 должна срезаться под таким углом, чтобы из нее получались ровные гибкие черные полосы, необходимые для украшения циновок и корзин. Ей нужно научиться различать и сами бананы: бананы, готовые к укладке в подземные хранилища, или золотистые, искривленные бананы, которые сразу же можно пускать в пищу, бананы, которые нужно подсушить на солнце, чтобы приготовить из них фруктовые сладости впрок. Кора гибискуса уже не сдирается как попало, чтобы сделать из нее бечевку для нанизывания раковин, девочка совершает долгие походы в глубь острова, чтобы отобрать кору нужного качества для плетения.
В доме же главная задача девочки - научиться плести. Она должна овладеть несколькими различными навыками. Прежде всего она учится сплетать пальмовые ветви17 так, чтобы центральная прожилка листа становилась жестким краем ее корзинки или циновки, раскладывая листья соответствующим образом. Из пальмовых листьев, сгибая их пополам, она учится плести корзинки. Она сплетает эти листья и сгибает их прожилки, делая из них края корзины. Затем ее учат плести циновки, которые развешиваются между столбами ее дома. Она накладывает одну половину листа на другую и связывает их. Более трудны для изготовления циновки для пола, сплетаемые из четырех пальмовых листьев, и подносы для пищи с их причудливым узором. Увлекательно работать над простыми двухрядными плетениями, и здесь она скоро становится мастерицей. Интересны и более сложные плетеные изделия, которые доверяются старшим и более искусным плетельщицам. Обычно плести обучает девушку какая-нибудь пожилая родственница, следящая за тем, чтобы та умела делать все виды плетеных изделий. Но в большом количестве ее заставляют делать только самые простые изделия, например циновки для простенков. Из пандануса ее обучают плести циновки для пола и делать один или два вида более сложных покрывал для постели. Когда же ей исполняется тринадцать или четырнадцать лет, она начинает плести свою первую парадную циновку. Парадная циновка - высшее достижение самоанской виртуозности в плетении. Материал для нее берется из пандануса высшего качества. Его замачивают, подпекают и скоблят до тех пор, пока он не приобретает золотистую белизну и тонкость бумаги. Из него делают нити шириной в одну шестнадцатую дюйма. Изготовление этой циновки занимает год или два. И получается она такой же нежной и эластичной, как холст. Эти циновки - большая ценность и всегда должны быть частью приданого невесты. Девушки редко кончают парадную циновку до того, как им исполнится девятнадцать или двадцать лет, но плести ее начинают рано, и, завернутая в какую-нибудь более грубую материю, она покоится на балках хижины - вещественное доказательство прилежности и искусства девушки. Она обучается и первым навыкам изготовления материи из луба. Она умеет выбрать и нарезать прутья шелковицы, снять с них кору, размягчить ее после того, как она была выскоблена более искусными руками. Окраска с помощью трафарета или же прямо от руки - дело более опытных взрослых.
В течение всего этого времени более или менее систематического обучения девушка очень тонко маневрирует между репутацией ученицы, успешно овладевшей необходимым минимумом умения, и славою виртуоза, принесшей бы ей слишком большие хлопоты. Ее шансы на брак очень серьезно ухудшились бы, если бы по деревне прошел слух, что она ленива и неумела в домашней работе. Но после того как она пройдет первые ступени обучения, девушка отнюдь не стремится повысить свою квалификацию в течение трех-четырех лет. Она занимается плетением рядовых вещей - занавесок, корзинок. Она помогает в работах в поле и на кухне и потихоньку плетет свою парадную циновку. Но она избегает репутации мастерицы, как и всякого другого вида ответственности, с помощью одной и той же фразы: "La'itiiti a'u" ("Я еще маленькая"). В это время все ее интересы сосредоточены на тайных любовных интрижках, и она, как в известной мере и ее брат, вполне довольна тем, что на ее долю выпадают только самые повседневные домашние дела.
Но семнадцатилетнему юноше не так легко добиться того, чтобы его оставили в покое. Он усвоил основы рыбной ловли, он может провести свое, долбленое каноэ над рифом, он может управлять рулевым веслом на лодках, выходящих в океан за тунцом. Он может сажать таро и пересаживать ростки кокосовых пальм, быстро чистить кокосовые орехи и вырезать из них мякоть одним ловким и мгновенным движением ножа. В семнадцать или восемнадцать лет его отправляют в аумангу18, общество молодых и старых нетитулованных мужчин19, которое, отнюдь не фигурально, а просто отдавая ей должное, называют "силой деревни". Здесь соперничество, поучение и пример подстегивают его активность. Старые вожди, направляющие деятельность ауманги, одинаково неодобрительно поглядывают и на любое отставание, и на любую чрезмерную скороспелость. Престижу его группы постоянно бросают вызов ауманги других деревень. Товарищи осмеют и накажут юношу, случись ему пропустить какое-нибудь общее дело - расчистку плантации для деревни, выход в море за рыбой, приготовление пищи вождям, игры, устраиваемые в честь прибытия какой-нибудь почетной гостьи из соседней деревни. Кроме того, у юноши значительно больше побуждений учиться, и перед ним куда больший выбор возможных профессий. Женщины ни в чем не специализируются, кроме как в медицине и в акушерстве, а оба эти занятия - преимущественно дело старух, передающих свои знания дочерям или племянницам уже зрелого возраста. Единственная остающаяся роль для девушки - это роль жены оратора деревни. Но какая девушка будет готовиться к этому единственному виду брака, требующему специальных познаний, если у нее нет никаких гарантий выйти замуж за человека этого ранга?
У юноши дело обстоит иначе. Он надеется, что будущее принесет ему звание матаи, титул, который дается члену Фоно - собрания глав семейств. Это звание дает ему право пить каву с вождями, работать с ними, а не с молодежью, право сидеть в общинном доме в присутствии старших, хотя оно "промежуточно" по своему характеру и не несет с собой всей полноты нрав. Но лишь в очень редких случаях он может быть абсолютно уверен в получении и этого звания. Каждая семья располагает несколькими такими титулами, и удостаивает она ими своих самых перспективных юношей. Поэтому у него много конкурентов. Все они тоже члены ауманги, и он должен соперничать с ними во всех делах группы. Перед ним также открыты несколько занятий, в которых он должен специализироваться. Он может стать строителем, рыбаком, глашатаем, резчиком по дереву. Профессиональное искусство поможет ему выделиться из среды товарищей. Успехи в рыбной ловле несут с собой немедленное вознаграждение в виде даров, подносимых им своей милой,- без них на его ухаживания посмотрели бы с презрением. Умение хорошо строить дома - это и богатство, и высокий статус, ибо молодой человек, зарекомендовавший себя искусным плотником, может рассчитывать на столь же почтительное обращение, как и вождь. С ним и говорить будут, как с вождем, употребляя тщательно разработанный лексикон почтительных выражений20, применяемых при обращении к людям высокого положения. Но всему этому постоянно сопутствует требование: не будь слишком умелым, слишком выдающимся, слишком скороспелым. Следует лишь на немного превосходить своих товарищей. Не нужно вызывать ни их ненависти, ни неодобрения старших, которые скорее поощрят увальня, чем примирятся с выскочкой.
И в то же время юноша хорошо понимает нежелание своих сестер брать на себя бремя ответственности. Если же он будет поспешать медленно, не слишком бросаясь в глаза, то у него хорошие шансы стать вождем. Если он достаточно талантлив, то само Фоно может подумать о нем, подыскав для него и даровав ему вакантный титул, чтобы он смог сидеть в кругу стариков и учиться мудрости. Тем не менее нежелание молодых людей добиваться этой чести настолько распространено и хорошо известно, что им всегда внушают: "Если молодой человек всегда увиливает, то ему никогда не быть вождем, он всегда должен будет сидеть за порогом дома, готовя и разнося пищу матаи, и не сможет заседать в Фоно". Более реальна для него возможность, открываемая перед ним его собственной родственной группой, дарующей титул матаи одаренным молодым людям. А он хочет стать матаи, стать когда-нибудь, в далеком будущем, когда его члены слегка утратят свою гибкость, а в его сердце поостынет любовь к танцам и развлечениям. Один двадцатисемилетний вождь говорил мне: "Я только четыре года вождь, но посмотри на меня. У меня седые волосы, хотя на Самоа седина приходит очень поздно, а не в молодости, как у белых людей. Но я всегда должен вести себя как старик. Я должен важно шествовать, размеренным шагом. Я могу танцевать только в самых торжественных случаях. Мне нельзя играть с молодежью. Мои товарищи - шестидесятилетние старики, и я должен следить за каждым своим словом, чтобы не сделать ошибки. В моем семействе тридцать один человек. Я должен думать за них, искать им пищу и одежду, разрешать их споры, устраивать их свадьбы. Во всей моей семье нет ни одного человека, кто посмел бы перечить мне или обращаться ко мне фамильярно, по имени. Трудно быть таким молодым и уже вождем". И старики, сидящие вокруг, качали головами и соглашались: да, не следует такому молодому быть вождем.
Действие присущего людям честолюбия смягчается еще и тем, что молодой человек, ставший матаи, превращается из первого среди своих прежних товарищей в самого зеленого члена Фоно. Он больше не может по-товарищески общаться со своими прежними компаньонами; матаи может общаться только с другими матаи, работать с ними в зарослях пандануса, а по вечерам сидеть и степенно беседовать с ними же.
Юноша поэтому стоит перед более трудным выбором, чем девушка. Ему не нравится ответственность, и вместе с тем он желает выделиться в своей группе; искусство в каком-нибудь деле приблизит день, когда он станет вождем; и тем не менее его наказывают и бранят, если он ослабляет свои усилия; но его и сурово осуждают, если он идет вперед очень быстро; и он должен пользоваться уважением среди своих товарищей, если он хочет завоевать сердце своей милой. С другой стороны, его социальный престиж увеличивается его амурными подвигами.
Вот почему девушка успокаивается, получив "посредственную" оценку, юношу же подстегивают на большие усилия. Юноша сторонится девушки, которая не получила свидетельства своей полезности, слывет глупой и неумелой. Он боится, что ему захочется жениться на ней. Женитьба на неумелой девице была бы самым безрассудным шагом, чреватым бесконечными препирательствами в семье. Поэтому девица, пользующаяся такой дурной славой, должна искать случайных любовников, довольствоваться пресыщенными и женатыми мужчинами, которым уже не приходится бояться, что чувства их подведут и заставят пойти на неблагоразумный брак.
Но девушка в семнадцать лет и не хочет выходить замуж, еще нет. Ведь лучше жить девицей, жить, не неся никакой ответственности, жить, испытывая все богатство и разнообразно чувств. Это лучший период ее жизни. Под ною столько же низших, которых она может обижать, сколько и высших над нею, тиранящих ее. Потери в престиже компенсируются большей свободой. Она очень мало нянчится с детьми. Ее глаза не слезятся от непрерывного плетения, у нее не болит спина от долгих дней, проведенных над доской с тапой. Длительные выходы в море, долгие часы работы в поле или в лесу, где она собирает сырье для плетения,- все это и превосходные возможности для свиданий и встреч. Мастерство означало бы для нее больше работы, более раннее замужество, а замужество есть нечто такое, чего нельзя избегнуть, но что нужно стараться отодвинуть как можно дальше во времени.
4. Самоанское семейство
Самоанская деревня насчитывает тридцать или сорок семейств. Во главе каждого из них стоит старейшина, которого называют матаи. Все эти старейшины титулованы - у каждого из них либо титул вождя, либо титул говорящего вождя, то есть оратора, глашатая, посланника, передающего слова вождей. На официальных собраниях деревни каждый матаи имеет право на только ему принадлежащее место и представляет всех членов своего семейства. Он же несет за них ответственность. Эти семейства состоят из всех индивидуумов, проживших определенное время под защитой общего матаи. Их состав варьирует от малой семьи, куда входят только родители и дети, до семей, состоящих из пятнадцати-двадцати членов, то есть до больших семей, связанных с матаи или его женой по крови, браку или усыновлению, не имея часто никаких близких родственных связей друг с другом. Усыновленные члены семейства обычно, хотя и не обязательно, близкие родственники.
Вдовы и вдовцы, особенно бездетные, обычно возвращаются к своим кровным родственникам, по женатая пара может жить как с родственниками жены, так и с родственниками мужа. Семейства такого рода необязательно проживают в одном месте, а могут быть разбросаны по деревне, занимая три-четыре жилища. Но человек, постоянно проживающий в другой деревне, не может считаться членом семейства, так как последнее представляет собой строго локальную единицу самоанского общества. И в экономическом отношении семейства представляют собой некоторые элементарные ячейки, так как все его члены работают на плантации под присмотром матаи этого семейства, который, в свою очередь, распределяет между ними пищу и другие предметы жизненной необходимости.
Внутри семейства дисциплинарную власть дает скорее возраст, чем родственные отношения. Матаи обладает формальной, а часто и реальной властью над каждым членом семейства, находящегося под его руководством, даже над своими собственными отцом и матерью. Степень этой власти, безусловно, зависит от его личностных особенностей, но все строго следят за тем, чтобы соблюдались некоторые церемониальные формы признания его главенствующего положения. Самый младший ребенок в семействе такого рода подчинен всем его остальным членам, и его положение ни на йоту не улучшается с возрастом, до тех пор пока не родится следующий младший по возрасту ребенок. Но положение самого младшего члена в большинстве самоанских семей очень кратковременно. Племянники, племянницы, сильно нуждающиеся молодые кузены постоянно вливаются в семью, меняя ее ранговые возрастные отношения. В подростковом возрасте девушка оказывается как раз в середине этой ранговой иерархии: ей должны подчиняться ровно столько же людей, скольким должна подчиняться она. При другой организации семьи растущая уверенность в своих силах и растущее самосознание быстро сделали бы ее непокладистой и мятежной. Здесь же у нее богатые возможности для проявления ее крепнущего чувства собственной значимости.
Этот процесс (* Имеется в виду изменение положения в семейной иерархии только с зависимости от относительного возраста члена семьи. - Примеч. пер.) имеет силу строгого закона. Замужество девушки почти ничего не дает ей в этом отношении. Изменится только одно: число милых и послушных подчиненных увеличат самым приятным для нее образом ее собственные дети. Но девушка, не вышедшая замуж даже после двадцати пяти лет, ни в каком отношении не чувствует себя менее уважаемой или более безответственной, чем ее замужние сестры. Эта же тенденция делать основанием классификации возраст, а не брачное состояние подкрепляется и вне дома тем, что жены нетитулованных мужей и все незамужние девушки, достигшие половой зрелости, образуют единую группу в церемониальной структуре деревни.
Родственники, живущие в других семействах, также играют определенную роль в жизни детей. Любой старший по возрасту родственник имеет право требовать личных услуг от своих младших родственников из других семейств, право критиковать их поведение и вмешиваться в их дела. Так, маленькая девочка может сбежать из дома на берег искупаться, но почти наверняка встретит там какую-нибудь свою старшую кузину, которая заставит ее стирать, нянчиться с ребенком или принести кокосовый орех, которым пользуются при стирке вместо щетки. Повседневная жизнь так тесно связана с этой всеобщей подчиненностью, эти признанные родственные отношения, во имя которых можно потребовать услуг от человека, столь многочисленны, что ребенку почти невозможно даже на час избегнуть надзора старших.
Эта не имеющая четких границ, но тем не менее требовательная родственная группа не лишена и своих достоинств. В ее пределах любой трехлетний ребенок может бродить в полной безопасности, будучи уверенным, что всюду ему дадут поесть и попить, уложат поспать, что всюду найдется добрая рука, чтобы утереть ему слезы или перевязать ранку. Маленьких детей, которых вечером не оказывается дома, ищут у родственников, а младенец, мать которого ушла работать на огороды в глубь острова, переходит из рук в руки по всей деревне.
Распределение по рангам в соответствии с возрастом нарушается лишь в очень редких случаях. В каждой деревне один или два высоких вождя имеют наследственное право возводить какую-нибудь девочку из их семейства в сан таупоу - церемониальной принцессы дома. Девушка в возрасте пятнадцати или шестнадцати лет вырывается из ее возрастной группы, а иногда и из круга своих ближайших родственников. Ее окружает ореол престижа. Старшие по возрасту женщины почтительно титулуют ее при обращении. Ее собственная семья часто пользуется высоким положением девушки в личных целях и очень внимательна поэтому к ее просьбам. Но так как на всю деревню всего две или три таупоу, то исключительность их положения скорее подчеркивает, чем опровергает, общий статус молоденьких девушек.
К атому необычайному росту значительности присоединяется и боязнь неосторожно задеть родственные связи, которая выражается в дополнительном уважении к личности девушки. Уже сама численность ее властелинов хорошо ее защищает, ибо, если один из них заходит слишком далеко в своих требованиях, ей нужно только сменить местожительство - перейти жить в дом более покладистого родственника. Дома, открытые для нее, можно классифицировать следующим образом: в этом доме самая тяжелая работа, в этом меньше старух-наставниц, там меньше бранятся, здесь больше или меньше сверстниц, в том доме меньше всего младенцев, а в том - самая хорошая пища и т. д. Очень немногие дети постоянно живут в одном и том же доме. Большинство их постоянно пробуют иные возможные места жительства. И все это можно делать под предлогом хождения в гости, не вызывая при этом никаких упреков в уклонении от семейных обязанностей. В ту минуту, когда дома возникает малейший конфликт, одна только возможность подобного бегства смягчает дисциплину и снимает остроту чувства зависимости у ребенка. Ни один самоанский ребенок, исключая таупоу и закоренелых малолетних преступников, никогда не испытывает чувства, что он загнан в угол. У него всегда есть родственники, к которым можно убежать. К этой возможности неизменно и сводится ответ, который дает самоанец, когда перед ним развертывают картину какого-нибудь семейного тупика: "Но она может перейти жить к другому родственнику". А запас таких родственников теоретически неисчерпаем. Если маленький бродяга не совершил какого-нибудь очень серьезного проступка, например инцеста, то все, что от него требуется при этом,- формально порвать с лоном собственного семейства. Девочку, которую отец утром слишком сильно избил, вечером почти наверняка можно будет найти в двухстах футах от ее собственного дома, в неприступном убежище другого семейства. Эта система родственных убежищ соблюдается настолько свято, что даже нетитулованный человек или же человек меньшего ранга решительно воспротивится своему благородному родственнику, если тот придет к нему требовать возвращения своего сбежавшего ребенка. Очень вежливо и с бесконечным разнообразием примирительных интонаций он попросит своего благородного господина вернуться в свой благородный дом и оставаться там до тех пор, пока не уляжется его благородный гнев против его благородного ребенка.
Наиболее важные родственные отношения в самоанском семействе, сильнее всего влияющие на жизнь молодых людей, - это отношения между мальчиками и девочками, называющими друг друга словами "брат" или "сестра" (безотносительно к тому, идет ли речь о родстве по крови, по браку или по усыновлению)21, и отношения между младшими и старшими родственниками. Усиленное внимание, обращаемое на половые различия среди лиц одной возрастной группы, и большая значимость относительного возраста легко объяснимы самими условиями семейной жизни. Родственники противоположного пола в своем общении друг с другом руководствуются правилами самого жесткого этикета. После того как они достигнут возраста, в котором должны соблюдаться приличия, в данном случае девяти-десяти лет, они не смеют прикоснуться друг к другу, сидеть рядом, есть вместе, запросто обращаться друг к другу, упоминать в присутствии друг друга о каких бы то ни было непристойностях. Они не могут быть вместе ни в каком другом доме, кроме собственного (исключение делается только для некоторых общих для всей деревни церемоний). Им запрещено гулять вместе, пользоваться вещами друг друга, танцевать на одной и той же площадке, принимать участие в делах одной и той же малой группы. Это строгое избегание распространяется па всех индивидуумов противоположного пола в возрастном диапазоне от пяти лет младше собственного возраста до пяти лет старше, с которыми человек воспитывается или же с которыми у него имеются признанные родственные отношения по крови или по браку. Соблюдение этого табу на общение братьев и сестер начинается с момента, когда младший из двух детей чувствует "смущение" от прикосновения старшего, л продолжается до старости, когда дряхлая, беззубая пара вновь может сидеть на одной и той же циновке, не чувствуя при этом никакого стыда.
Теи, слово, обозначающее младшего по возрасту родственника, подчеркивает другую человеческую связь - может быть, одну из самых эмоционально насыщенных. Первые проявления материнских инстинктов девочки никогда не изливаются на ее собственных детей, но на кого-нибудь из ее младших родственников. И именно девушки и женщины чаще всего пользуются этим, словом, продолжая лелеять его и после того, как и они сами, и те, к кому оно относилось, выросли. Младшее поколение, в свою очередь, изливает свое материнское тепло на тех, кто еще младше, не обнаруживая при этом особой привязанности к воспитавшим их взрослым.
Слово аинга охватывает обобщенно все отношения родства - кровного, брачного, родства по усыновлению, но его эмоциональное значение остается одинаковым во всех случаях. Родственные отношения, основанные па браке, сохраняют силу лишь до тех пор, пока фактический брак соединяет оба семейства. Если же брак каким бы то пи было образом разрывается (уход из семьи, развод, смерть), то все родственные отношения между семействами оканчиваются и их члены свободны вступать в брак друг с другом. Если после такого брака остаются дети, то отношения взаимных обязательств продолжают существовать между, обоими семействами в течение всей жизни этих детей, ибо материнское семейство всегда будет обязано снабжать их одним видом материальных благ, а отцовское - другим во всех случаях, когда у ребенка возникает в них необходимость.
Любой родственник рассматривается как человек, к которому может быть предъявлено множество требований. Вместе с тем это человек, по отношению к которому существует столь же большое множество обязательств. От родственника можно потребовать пищу, одежду, кров или же помощь в распре. Отказ в помощи заклеймит отказавшего как человека скаредного, недоброго, а доброта - добродетель, превыше всего ценимая самоанцами. В момент, когда оказывают услуги такого рода, отдача не требуется, если речь не идет о дележе продуктов общесемейного труда. Но тщательный учет стоимости отданной собственности или оказанной услуги ведется, и отдаривания требуют при первом подходящем случае. Тем не менее, согласно местной теории, эти два акта разделены, просто каждый из их участников по очереди становится "нищим", живущим от щедрот другого. В прежние времена "нищий" надевал специальное ожерелье, указывающее па цель его визита. Один старый вождь привел мне красочное описание поведения человека, пришедшего просить что-нибудь у родственника: "Он придет рано утром, войдет потихоньку в дом и усядется на наименее почетное место. Вы скажете ему: ,,Итак, ты пришел, приветствую тебя". И он ответит: "Я действительно пришел, сберегая твое благородное время". Затем вы спросите его: "Хочешь пить? Но, увы, у меня нет ничего подходящего". И он ответит: ,,Не беспокойся, я совсем не хочу ни есть, ни лить". И он будет сидеть, и вы будете сидеть весь день, и не будет сказано пи слова о том, зачем он пришел. Весь день он будет сидеть и будет выгребать пепел из вашего очага, делая с великой тщательностью эту грязную и низкую работу. Если кого-нибудь надо будет послать на огород и принести пищу, то он первый предложит свои услуги. Если надо будет выйти в море за рыбой с другими ловцами в каноэ, то он, конечно, будет в, восторге отправиться туда, даже если печет солнце и он проделал долгий путь. А вы весь день будете сидеть и дивиться: "Зачем он пришел? Может быть, он попросит у меня самую большую свинью или же он прослышал, что моя дочь закончила большой кусок прекрасной тапы? Может быть, эту тапу лучше всего сейчас же отправить в подарок моему оратору, как я и намеревался сделать, чтобы отказать ему с чистым сердцем?" А он будет сидеть и следить за выражением вашего лица, спрашивая себя, откликнитесь ли вы на его просьбу. Он будет играть с детьми, но откажется от гирлянды цветов, которую они сплетут в его честь, и преподнесет ее вашей дочери. Наконец наступит вечер. Время идти спать, а он все еще ничего не сказал. И тогда наконец вы скажете ему: "Послушай, я хочу спать. Пойдешь ли ты спать или же вернешься туда, откуда пришел?" И только тогда он заговорит о желании своего сердца".
Вот почему интриги, нужды, обязательства большой родственной группы, которые постоянными нитями соединяют между собой много домов и много деревень, пронизывают жизнь самоанского семейства. Однажды приедут родственники жены погостить на месяц или позаимствовать парадную циновку; в другой раз навестят родственники мужа; или племянницу, очень ценную работницу по дому, из-за болезни отца отзывают в другую деревню. Очень редко бывает, чтобы все, даже маленькие дети одной биологической семьи, жили в одном доме. Хотя нужды собственного семейства и стоят всегда на первом месте, но в обычной повседневной жизни беда или болезнь близкого родственника в другом семействе призовет отсутствующих домой.
Обязательства прийти на помощь вообще или же оказать требуемую обычаем услугу, как в случае свадьбы или же рождения ребенка, определяются широкими родственными отношениями, а не узкими границами семейного очага. Брак, длящийся много лет, так тесно объединяет группы родственников со стороны мужа и жены, что, по всей видимости, они образуют единое семейство, оказывающее помощь и чутко реагирующее на нужды любого родственника с той и с другой стороны. Только в семьях высокого ранга, где женская линия имеет приоритет при принятии определенных решений и в выборе таупоу - принцессы дома, а мужская - в передаче титулов, действительное кровное родство продолжает иметь большое практическое значение. В более же расплывчатой группе обычного семейства, образованного по принципу кровного родства, брачных связей и усыновления и объединенного общими связями повседневной жизни и взаимной экономической зависимостью, значение кровного родства теряется.
Матаи какого-нибудь семейства в принципе освобожден от выполнения мелких работ по хозяйству. Но на практике так почти не бывает, исключая вождя высокого ранга. Однако ему отводится роль руководителя в любом виде работ. Он разделывает свиную тушу при подготовке какого-нибудь празднества, он раскалывает кокосовые орехи, собранные женщинами и детьми. Пищу готовят и мужчины и женщины, но основные работы здесь выпадают на долю мальчиков и молодых мужчин. Старые мужчины сучат волокна кокосовых орехов и готовят из них бечевки для лесок и рыболовных сетей, сшивают части каноэ, соединяют различные части поставленного дома. Вместе со старыми женщинами, на плечи которых выпадают основные работы по изготовлению материи из луба, они присматривают за маленькими детьми, оставшимися дома. Тяжелый повседневный сельскохозяйственный труд - прополка, пересадка растений, сбор урожая и его транспортировка - удел женщин. Женщины же собирают прутья бумажной шелковицы, с которых потом сдирают кору и делают тапу, кору гибискуса и листья пандануса для плетения циновок. Девушки постарше и женщины обычно ловят на рифах осьминогов, морские яйца, медуз, крабов и другую мелочь. Младшие девочки носят воду, заботятся об освещении (сейчас пользуются керосиновыми лампами и фонарями, к свечному ореху22 и кокосовому маслу прибегают лишь в случаях крайней нужды), подметают пол, прибирают дом. Все работы тщательно распределены по возрастному принципу - по способности человека в данном возрасте их выполнить. Исключая людей очень высокого ранга, взрослый может отвергнуть ту или иную работу лишь потому, что ее могут выполнить люди младшего возраста, а не потому, что она ниже его достоинства.
Статус в деревне и статус в собственном семействе соответствуют друг другу, но деревенский статус отца никак не сказывается на маленьких детях. Если отец девочки - матаи, матаи ее семейства, то это его положение никак на ней не отражается. Но-если другой член семьи - матаи, то он может защитить девочку от чрезмерных требований ее собственного отца. В первом случае ее разногласия с отцом приводят к тому, что она покидает свой собственный дом и уходит жить к родственникам, во втором возникают небольшие семейные трения. В семьях вождей высокого ранга или ораторов также высокого ранга большее внимание обращается на церемониал, на гостеприимство. Дети там лучше воспитаны и работают значительно больше. Но если отвлечься от общей атмосферы дома, зависящей от общественного ранга его главы, обстановка в различных домах деревни может показаться маленьким детям очень сходной. Их, как правило, больше заботит темперамент людей, командующих ими, чем их ранг. Дядя из другой деревни, являющийся высокопоставленным вождем, значительно меньше значит для жизни ребенка, чем какая-нибудь зловредная старуха в его собственном доме.
И тем не менее ранг не по рождению, а по титулу очень важен на Самоа. Статус целой деревни зависит от ранга ее главного вождя, престиж семьи - от титула ее матаи. Титулы эти имеют две градации - вождь и оратор; каждый из них несет с собой много обязанностей и прав помимо обязанности главы семейства. Для самоанцев ранг - предмет самого живого интереса. Они изобрели тщательно разработанный церемониальный язык, на котором следует обращаться к титулованным людям; каждый титул предполагает усложненный этикет обращения. Все, что касается родителей, не может не сказываться косвенным образом на жизни детей. Это в особенности касается отношения, детей друг к другу в семействах, где титулы перейдут к детям. Как эти отдаленные проблемы взрослой жизни влияют на жизнь, детей и молодежи, лучше всего проследить на примерах из жизни некоторых девочек.
В доме высокопоставленного вождя по имени Малаэ жили две маленькие девочки: Мета двенадцати лет и Тиму - одиннадцати. Мета была собранной, способной девочкой. Малаэ забрал ее из дома матери, своей кузины, потому что у нее обнаружился необычный интеллект и раннее развитие. Тиму, с другой стороны, была болезненно застенчивым, отсталым ребенком, по умственному развитию ниже своей группы. Мать Меты была всего лишь дальней родственницей Малаэ. Не случись Малаэ некоторое время прожить в отдаленной деревне, куда мать девочки уехала к своему мужу, Мета осталась бы неизвестной своему благородному родственнику. А Тиму была единственной дочерью умершей сестры Малаэ. Отец Тиму был из местной знати, что выделяло ее и способствовало росту ее самосознания. Однако танцы были смертной мукой для нее. Едва услышав зовущий голос старших, она бежала от них сломя голову. Но именно Тиму должна была унаследовать титул таупоу - принцессы в доме Малаэ. Она была миловидна, главное качество, требующееся от принцессы, и родственницей Малаэ по женской линии - предпочитаемая линия при выборе принцесс. Поэтому Мета, во всех отношениях "более способная, должна была отойти в сторону, а Тиму, становившаяся несчастной от любого внимания, обращенного на нее, усиленно выдвигалась на первый план. Уже сам по себе факт присутствия более одаренного и предприимчивого ребенка, по-видимому, усиливал в ней комплекс неполноценности, а это пребывание на глазах у публики и шумиха делали ее жизнь просто непереносимой. Когда ей приказывали танцевать, а это было часто, она замирала, как только улавливала на себе взгляд зрителя, сжимала руки и с громадным усилием продолжала сноп танец. <.. .>
Так как в деревне редко бывает больше одной-двух таупоу, то влияние расчетов на достижение высокого ранга играет сравнительно скромную роль в жизни девушки, чего нельзя сказать о мальчике, так как в каждой родственной группе, как правило, один или более матаи. <...>
Итак, во многих семействах тень благородного происхождения накладывается на жизнь детей - иногда легко, а иногда мучительно; накладывается еще задолго до того, как они станут достаточно взрослыми, чтобы понять значение этих ценностей.
5. Девочка и ее возрастная группа
До шести-семи лет как минимум девочка очень мало общается со сверстницами. Конечно, братья, сестры, кузены, живущие в одном доме, резвятся и играют вместе, но вне дома каждый ребенок льнет к своей юной няньке и вступает в контакт с другими детьми только тогда, когда их няньки дружны между собой. Но около семи лет начинают образовываться большие группы, своего рода добровольные товарищества, впоследствии распадающиеся. В эти группы входят и дети родственников, и соседские дети. Они строго разделены по половому признаку, и вражда между маленькими девочками и мальчиками - одна из самых заметных черт жизни этих групп. Маленькие девочки в это время уже начинают "смущаться" своих старших братьев, и для них входит в силу запрет появляться когда бы то ни было в обществе группы мальчиков. Различие между половыми группами создается и тем, что мальчики в отличие от девочек, загруженных заботами о своих маленьких подопечных, меньше заняты по дому и могут дальше удаляться от него в поисках приключений. Группы маленьких детей, из которых состоит толпа зевак, наблюдающих какую-нибудь работу взрослых, нередко включают как мальчиков, так и девочек, но здесь основой объединения оказываются возрастные ограничения, устанавливаемые взрослыми, а не добровольные объединения самих детей.
Эти детские компании обычно состоят из детей восьми или десяти соседних домов. Все это - текучие, случайные сообщества, настроенные явно враждебно к своим сверстникам из других деревень или даже к таким же группам в своей собственной. Кровные связи нарушают границы этих образований, построенных по принципу соседства, так что ребенок может быть в хороших отношениях с членами двух или трех различных групп. Чужая девочка из другой группы, прибывшая в новую для нее компанию в своей деревне, всегда может рассчитывать на помощь своей родственницы. Но маленькие девочки из Сиуфанги поглядывают искоса на маленьких девочек из Лумы, ближайшей соседней деревни, и уж совсем подозрительно - на маленьких девочек из Фалеасао, деревни в двадцати минутах ходьбы от их собственной. <...>
Сильные дружеские привязанности никогда не завязываются в этом возрасте. В структуре группы явно доминируют родственные или соседские отношения, личность стоит на втором плане. Наиболее сильные привязанности всегда возникают между близкими родственниками, и пара маленьких сестричек занимает на Самоа место наших закадычных подружек. Когда говорят о глубокой привязанности, то западное: "Да, Мэри и Джулия так хорошо дружат, совсем как сестры" - заменяется на Самоа простым объяснением: "Но ведь она родственница". Старшие девочки защищают младших, балуют их, сплетают для них ожерелья из цветов, дарят им свои самые дорогие раковины. Эти родственные связи - единственный устойчивый элемент в группе, но даже они ставятся под угрозу, если меняется местожительство. Эмоциональный тон в отношении жителей другой деревни приводит к тому, что даже две кузины из разных деревень поглядывают друг на друга искоса. <...>
Дети этого возраста, собираясь в группы, только играют, у них нет никаких других занятий. И в этом отношении пребывание в группе диаметрально противоположно домашней жизни самоанской девочки, где она только работает: нянчится с детьми, выполняет бесчисленное множество простейших хозяйственных
дел, постоянно бегает с какими-то поручениями. Девочки собираются в группки рано вечером, еще до позднего самоанского ужина, а иногда и во время всеобщей послеполуденной сиесты. Лунными ночами они бегают по деревне, то нападая, то спасаясь бегством от ватаг мальчишек, подглядывают, что делается в домах за занавесями-циновками, ловят прибрежных крабов, устраивают засады на неосторожных любовников или же подкрадываются к какому-нибудь отдаленному дому, чтобы посмотреть на роды, а может быть, и на выкидыш. Одержимые страхом перед старейшинами деревни, перед маленькими мальчишками, собственными родственниками, ночными призраками, они не рискнут отправиться в свои ночные похождения, если их не набралось четверо или пятеро. Это группки настоящих маленьких бунтарок, сбежавших от домашней скуки. Из-за сильного родственного чувства, из-за привязанности к дому, осознания того, что они пользуются украденным временем, из-за необходимости незамедлительного осуществления намеченных группой планов, а также из-за опасности наказания, нависшей над головами детей, если они зашли слишком далеко, самоанский ребенок столь же зависим от своего непосредственного взрослого окружения, как и ребенок на нашем сельском Западе. В действительности круг, в котором девочка замкнута, здесь не превышает в диаметре одной восьмой мили. Но палящее солнце, обжигающие пески, вдобавок к количеству родственников, от которых нужно сбежать днем, сонмы призраков, от которых необходимо скрыться по ночам, увеличивают это расстояние, превращая его в барьер для дружбы, равнозначный трем-четырем милям в сельской Америке. Так возникает феномен изолированного ребенка в деревне, полной сверстников. <...>
Но эти прихотливо возникающие сообщества девочек были возможны только в возрасте от восьми до двенадцати лет. По мере приближения периода полового созревания и но мере того как девочка набирает физическую силу и приобретает новые навыки, ее снова поглощают заботы по дому. Она должна разжигать очаг, идти работать на огород, ловить рыбу. Ее дни заполнены долгим трудом и новыми обязанностями.
Вот случай с Фиту. В сентябре она была одной из руководительниц маленькой ватажки - немного выше других, немного худощавее, более шумная и предприимчивая, но всего лишь легкомысленная маленькая девчонка среди других девочек и постоянно с крупным младенцем на коленях. Однако в апреле она передала этого младенца младшей сестре девяти лет. Еще меньший ребенок был передан на попечение пятилетней сестренке, и Фиту стала работать с матерью на огороде. Ее стали брать в длительные походы за корой гибискуса и на рыбную ловлю у рифоз. Она стала стирать белье у моря, а в дни приготовления пищи помогать на кухне. Время от времени она по вечерам убегала поиграть на лужайке со своими прежними подружками, но тяжелый и непривычный дневной труд, как правило, слишком утомлял ее, да к тому же в ней выросла какая-то легкая отчужденность. Она чувствовала, что ее более взрослые занятия отделяют ее от остальной группы, с которой она была так близка прошлой осенью. Несколько раз она пыталась сблизиться со старшими девочками, живущими по соседству. Мать посылала ее ночевать в дом пастора, где много старших девочек, но через три дня она вернулась домой. Эти девочки были слишком взрослыми для нее. "La'itiiti a'u" ("Я еще маленькая"), - сказала она, вернувшись. И все же она была потеряна для своей прежней группы. В трех деревнях было четырнадцать таких девочек, вплотную приблизившихся к возрасту полового созревания, выполнявших непривычную для них работу, девочек, вступивших в новые и более тесные отношения со взрослыми в своих семействах. У них еще не проснулся интерес к мальчикам, поэтому среди них не возникали новые компании, основанные на сексуальных интересах. Они спокойно выполняли свои работы по хозяйству, выбирали наставницей одну из пожилых женщин своего семейства и постепенно привыкали к тому, что эпитет "маленькая" уже больше не применялся к ним. И никогда более они не сольются в те свободные, подвижные группки, как в возрасте до десяти лет. В шестнадцать-семнадцать лет соседские связи все еще господствуют в жизни девушки, и потому в этом возрасте их компании состоят из двух-трех человек, не более. Но чувство соседской солидарности полностью исчезает у девушек после семнадцати лет, и они не обращают ни малейшего внимания на сверстницу, живущую рядом, и ходят в гости к родственнице на другом конце деревни. Решающим фактором складывающейся дружбы теперь оказываются родство и сходные сексуальные интересы. Девушки в это время уже реагируют, хотя и пассивно, на возрастающий интерес к ним юношей. Если милый ее сердцу имеет закадычного друга, неравнодушного к ее кузине, то между этими родственницами возникает пылкая, хотя и преходящая дружба. Иногда дружеские связи такого рода выходят за рамки чисто родственной группы.
Хотя девушки в это время могут довериться только одной или двум своим юным родственницам, их изменившийся сексуальный статус ощущается и другими женщинами в деревне. Он же приводит к тому, что дружеские привязанности постоянно смещаются и меняются: девушка превращается из пугливого подростка, боящегося всех девиц старше себя, в девушку, для которой ее первая или вторая любовная связь все еще представляется очень важным событием, в девушку, начинающую сосредоточивать все свое внимание на одном юноше и строящую брачные планы. Кроме того, незамужние матери выбирают ей друзей женского пола, по возможности находящихся в том же положении, либо же женщин с неопределенным брачным статусом - брошенных или опозоренных молодых жен.
Очень немногие из привязанностей младших девочек к старшим переживают пубертатный период. Двенадцатилетняя девочка может сильно привязаться к своей шестнадцатилетней кузине, быть в восторге от нее, хотя это поклонение не более чем бледная тень школьного "обожания", характерного для пашей цивилизации. Но когда ей будет пятнадцать, а кузине - девятнадцать, картина изменится. Ведь весь мир взрослых или почти взрослых враждебен ей, он шпионит за ее любовными похождениями, проявляя при этом самую изощренную утонченность. Ему нельзя верить ни в коем случае. Можно доверять лишь тем, кто именно сейчас занят столь же рискованными похождениями.
Можно с уверенностью сказать, что, исключая те искусственные условия, которые создаются, когда девушки живут в семье местного пастора или же в большом миссионерском пансионате, они заводят дружбу только среди родственников. (Наряду с большими женскими школами-пансионатами, сеть которых охватывает все Американское Самоа, пастор каждой общины содержит небольшой неофициальный пансионат для девочек и мальчиков. В эти школы посылают девочек, родители которых желают, чтобы впоследствии они поступили в большие государственные пансионаты, а также тех, чьи родители хотят, чтобы их дочери после трех-четырех лет пребывания в пасторском доме приобрели преимущества лучшего образования и воспитания.) Но если учесть, что одна из решающих характеристик семейных связей на Самоа - совместное проживание, то дружба, возникающая между девочками, живущими в пасторском доме, психологически не очень отличается от дружбы кузин или дружбы родственниц, в одной семье. Единственный вид дружбы, где совместное проживание и членство в одной и той же родственной группе не является основой дружеских связей,- это институционализованные взаимоотношения между женами вождей и женами ораторов. Но эти дружеские отношения могут быть поняты только по аналогии с дружбой мальчиков и мужчин.
Маленькие мальчики следуют тому же самому образцу, что и маленькие девочки, образуя ватажки, основанные на двойных узах - соседства и родства. Чувство возрастного превосходства здесь всегда сильнее, чем у девочек, потому что старшие мальчики не поглощены домашней жизнью, как девочки. Мальчики двенадцати лет пользуются той же самой свободой, что и мальчики пятнадцати-шестнадцати лет. Граница между мальчиками младшего и старшего возраста здесь постоянно смещается: подросток то верховодит младшими, то послушно плетется за старшими. Между мальчиками существуют две институционализованные формы отношений, обозначаемые одним и тем же словом, которое, возможно, в свое время определяло одно и то же отношение.
Это соа - товарищ по обрезанию и посланник по любовным делам23. Мальчиков обрезают парами, причем они сами организуют этот обряд, находя старика, славящегося искусством в этом деле. Здесь, по-видимому, мы сталкиваемся с простой логической взаимозависимостью причины и следствия: мальчик выбирает друга (а это обычно его родственник) как товарища по обряду, а опыт, приобретенный ими при этом, теснее привязывает их друг к другу. В деревне, где я жила, имелось несколько пар таких мальчиков, совместно подвергшихся обрезанию; они все еще оставались неразлучными друзьями и часто спали вместе в доме одного из них. Такие связи иногда приводили к гомосексуальным отношениям. Однако когда я проанализировала дружбу между юношами в деревне, то я не смогла обнаружить ее тесной зависимости с подростковыми союзами: мальчики старшего возраста столь же часто образовывали группы из трех-четырех членов, как и парные.
Выбор товарища мальчиком, у которого период полового созревания наступил уже два или три года назад, определяется и обычаем: молодой человек очень редко сам говорит о своей любви и никогда сам не предлагает девушке выйти за него замуж. Соответственно он нуждается в друге приблизительно своего возраста, которому он может доверить пропеть свои мадригалы и продвинуть дело с требуемым пылом и осторожностью. Для этих дел прибегают к помощи родственника, а если предприятие кажется достаточно безнадежным - то и нескольких родственников. Выбор друга молодым человеком определяется тем, что ему нужен посланник не только верный и преданный, но и вкрадчивый, умеющий внушить доверие сводник. Эта дружба, соа, часто, но не обязательно основана и на взаимных услугах. Эксперт по любовным вопросам, когда приходит время, освобождается от услуг посредника, желая в полной мере насладиться сладкими плодами всех стадий ухаживания. В то же самое время на его услуги большой спрос и у других, при условии, конечно, что ему доверяют и надеются на его добропорядочность.
У мальчиков есть и другие дела помимо любовных, где требуется кооперация. Каноэ для ловли бонито нуждается в команде из трех человек; для ловли угрей петлей на рифах нужны два человека; работа на общинных плантациях таро требует усилий всех юношей деревни. Поэтому, хотя мальчики тоже выбирают своих лучших друзей среди родственников, чувство общественной солидарности у них всегда более развито, чем у девочек. Ауалума - организация молодых девушек и жен нетитулованных - чрезвычайно неспаянное товарищество, собирающееся для весьма редких общинных работ и для еще более редких празднеств. В деревнях, теряющих из-за ненадобности старую усложненную социальную организацию, именно ауалума исчезает первой. В то же самое время ауманга - организация молодых людей - занимает слишком большое место в деревенской экономике, чтобы от нее можно было избавиться с такой же легкостью. И действительно, аумаига - наиболее устойчивое социальное образование деревни. Собрания матаи - более формальная организация, так как большую часть времени они проводят в своих семействах. Молодые же люди работают вместе целыми днями, трапезничают до и после работы, прислуживают на всех сборищах матаи, а когда дневные работы окончены, вместе отправляются танцевать и ухаживать за девушками. Многие из этих молодых людей ночуют в домах друзей - привилегия,. с большой неохотой даваемая девушкам, которые, вообще говоря, находятся под большим присмотром. <...>
Можно сказать, что как организационный принцип дружеские связи, основанные на возрасте, кончаются для девушек перед наступлением полового созревания, их домашние обязанности очень индивидуальны и им нужно скрывать свои любовные похождения. У мальчиков дело обстоит наоборот: их большая свобода, более обязательный характер организации их групп, постоянное участие в общественном труде порождают возрастные группы, сохраняющиеся в течение всей жизни. На организацию таких групп определенное, но не решающее влияние оказывает родство. На солидарности же этих группировок отрицательно сказываются различия в рангах их членов, различные притязания молодых людей на будущее положение в обществе, разный возраст людей равного ранга.
7. Принятые формы сексуальных отношений
Первое, чему учится маленькая девочка в своих отношениях с мальчиками,- это стремление их избегать и чувство антагонизма. Ее приучают соблюдать в своем общении с мальчиками ее родственной группы и семейства в целом все запреты, накладываемые табу на отношения братьев и сестер; вместе с другими девочками ее возраста она привыкает рассматривать всех других мальчиков как своих заклятых врагов. После того как ей исполнится восемь-девять лет, она никогда не приблизится к группе старших мальчиков. Это чувство антагонизма, испытываемого девочкой к маленьким мальчикам, и стыдливого отстранения от старших продолжается до тринадцати-четырнадцати лет, то есть до достижения пубертатного периода у девочек и совершения ритуала обрезания у мальчиков. Дети этого возраста перерастают рамки однополых возрастных групп и возрастного полового антагонизма. Тем не менее у них еще нет активного полового сознания. Именно в это время отношения между полами на Самоа менее всего напряжены эмоционально. Самоанская девочка будет так же спокойно смотреть на мальчиков, как и потом, много позднее, когда она станет пожилой замужней женщиной, матерью нескольких детей. Когда подростки собираются вместе, они устраивают веселую возню, не испытывая при этом ни малейшего смущения, добродушно поддразнивают друг друга. Любимый предмет шуток при этом -"страсть", испытываемая какой-нибудь девочкой к дряхлому восьмидесятилетнему старику, или же провозглашение какого-нибудь мальчика отцом восьмого ребенка пухлой матроны. Время от времени начинают поддразнивать и двух сверстников, смеясь над страстью, питаемой ими друг к другу. "Обвинения" такого рода весело и с негодованием отвергаются обоими. Дети этого возраста встречаются на неформальных сборищах - так называемых сива24 - во время более формализованных встреч, на общинном лове рыбы на рифах (когда риф на многие ярды окружается сетью) или же на ночном лове рыбы с факелами. Добродушная возня, шутки, совместная работа - главная тональность сборищ такого рода. К сожалению, однако, они слишком редки и непродолжительны, чтобы научить девочек сотрудничеству, а мальчиков и девочек - ценить в представителе другого пола личность.
Через два или три года все это изменится. Девочки не входят более в сплоченную возрастную группу, и это делает отклонение поведения от общих норм менее заметным. Мальчики же, уже начинающие проявлять активный интерес к девочкам, тоже реже появляются в группе и уделяют больше времени общению с близким товарищем. Девочки теряют свою беззаботность. Они хихикают, краснеют, негодуют, убегают. Мальчики становятся застенчивыми, неловкими, молчаливыми. Они избегают общества девочек в дневные часы и в ясные лунные ночи, обвиняя их в эксгибиционистских наклонностях. Дружеские связи в это время более строго замыкаются на круге непосредственных родственничков. У мальчиков большая потребность в сердечном поверенном, чем у девочек, ибо только самый ловкий среди них и прожженный донжуан ухаживает без посредников. Конечно, бывают и случаи, когда парочка, только что вышедшая из подросткового возраста, боясь насмешек со стороны близких друзей и родственников, сама незаметно скрывается в кустах. Чаще, однако, первым любовником девушки оказывается более взрослый мужчина, вдовец или разведенный. Здесь нет необходимости в посреднике. Взрослый мужчина не робок, не напуган, кроме того, у него пет человека, которому он мог бы доверить посреднические функции: более молодой человек его предаст, а более старый не отнесется с должной серьезностью к его амурным делишкам. По первые самостоятельные любовные эксперименты подростков, равно как и донжуанские похождения взрослых мужчин в среде девушек деревни,- это варианты, находящиеся на самых гранях дозволенных типов сексуального поведения. Сюда же нужно отнести и первые опыты юноши с женщиной более зрелого возраста. Новее это чрезвычайно распространено, так что успеху этих опытов редко мешает взаимная неопытность партнеров. И все же эти формы поведения лежат за пределами признанных сексуальных норм. Товарищи юноши и девушки в таких случаях клеймят их как виновных в "tautala lai titi" (поведении не по возрасту)25, как и тогда, когда юноша любит более зрелую женщину или домогается ее любви. Что же касается приставаний взрослого мужчины к молодой девушке, то они дают пищу сильно развитому у самоанцев чувству юмора. Если же при этом девушка очень юна и неопытна, то эти приставания оскорбляют их чувство приличия. "Она молода, еще так молода, а он такой старый",- скажут они, и вся тяжесть сурового осуждения выпадет на долю мужчины. Так, например, было в случае некоего матаи, отца ребенка Лоту, шестнадцатилетней дурочки из Олесенги. Расхождение в возрасте и опыте любовников всегда действует либо комически, либо трагически - в зависимости от его величины. Теоретически наказание, выпадающее па долю блудной и непослушной дочери, состоит в том, что ее выдают замуж за очень старого мужчину. И я сама слышала, как девятилетняя девочка презрительно хихикала над страстью своей матери к семнадцатилетнему пареньку. Наихудшими же отклонениями от признанных форм сексуальных отношений является, однако, любовь мужчины к какой-нибудь юной и зависящей от него женщине из его собственного семейства, усыновленному им ребенку, младшим сестрам его жены. Все начинают кричать об инцесте, и чувства иногда раскаляются до такой степени, что виновнику приходится покинуть собственный дом.
Кроме официального брака существуют еще только два типа половых отношений, пользующиеся полным одобрением самоанского общества: любовная связь между не состоящими в браке молодыми людьми (включая овдовевших) одного возраста, причем на оценку этой связи не влияет, ведет ли она к браку или же является простым развлечением; полным одобрением пользуется и адюльтер.
У молодежи до брака существуют три формы любовных отношений: тайные свидания "под пальмами", открытое бегство с возлюбленной - аванга - и церемониальное ухаживание, когда "юноша сидит перед девушкой". Вне всего этого стоит любопытная форма насилия исподтишка, называемая моетотоло: юноша, не пользующийся благосклонностью ни одной девушки, подкрадывается ночью к спящим.
Во всех же трех принятых формах любовных связей юноше нужен поверенный и посланник, которого он называет соа. Если эти юноши - близкие друзья, то отношения соа могут распространиться на большое число любовных похождений. Оно может быть и преходящим, относящимся только к одному случаю. Соа ведет себя так же, как и оратор: он требует от своего хозяина определенных материальных благ в обмен на нематериальные услуги, им оказанные. Если его посредничество приводит к браку, то жених обязан вручить ему особенно красивый подарок. Bыбop соа связан со многими трудностями. Если влюбленный; выберет себе в качестве соа спокойного, надежного юношу, какого-нибудь младшего родственника из своего семейства, преданного его интересам, нечестолюбивого в сердечных делах, весьма вероятно, что неопытность и отсутствие такта у посла загубят все дело. А если он выберет красивого и опытного сердцееда, знающего, "как нежно говорить и тихо подкрадываться", то шансы па завоевание сердца девушки послом и его принципалом будут одинаковы. Эту трудность иногда обходят, поручая дело двум или даже трем соа, причем от каждого из них требуют, чтобы он шпионил за другими. Но такое отсутствие доверия у принципала может породить соответствующее отношение и у его агентов. Как печально сказал мне один чрезмерно осторожный и разочарованный влюбленный: "У меня было пять соа, и лишь один из них оказался верным".
Среди возможных кандидатов на должность соа предпочтение чаще всего отдается двум фигурам - брату и какой-нибудь девушке. Брат по самой своей сути должен быть верен. Девушка же более ловка в этих делах, ибо "юноша может подойти к девушке только вечером или когда она одна, а подружка может ходить с нею целый день, гулять, спать на одной циновке, есть с нею из одной тарелки, нашептывая ей между глотками имя юноши, постоянно говоря ей, как он хорош, как ласков, как верен и сколь он достоин любви. Но лучше всего для должности соа подходит женщина-посланник - соафафине". Однако заполучить на эту должность какую-нибудь женщину трудно. Юноша не может: ее выбрать из своих родственниц. Табу запрещает ему даже говорить о делах подобного рода в их присутствии. Только по счастливому стечению обстоятельств может случиться так, что возлюбленная его брата окажется родственницей той, к которой устремлено его сердце. Точно так же лишь другой счастливый случай может свести его с девушкой или женщиной, которая согласится действовать в его интересах. Самая сильная вражда в группах молодых людей существует не между бывшими любовниками, она возникает не из горечи брошенного и не из оскорбительного высокомерия бросившего. Сильнее всего вражда между юношей и предавшим его соа или же между влюбленным и подругой его любимой, каким-то образом помешавшей его ухаживаниям.
При такой любовной связи любовник никогда не показывается в доме своей возлюбленной. Туда может зайти только его соа, зайти либо с какой-то группой, либо же под вымышленным предлогом. Соа вообще может игнорировать дом девушки и найти случай поговорить с нею, когда она рыбачит, идет на огород, возвращается с поля. Его задача - произнести панегирик во славу своего друга, успокоить страхи девушки, опровергнуть ее возражения и, наконец, добиться у нее согласия на свидание. Любовные связи такого рода обычно очень кратковременны, и как у юноши, так и у девушки их может быть несколько в одно и то же время. По общему признанию, одной из самых законных причин ссор оказывается негодование одного юноши на другого, который пришел к его возлюбленной после него в ту же самую ночь: "Он высмеивал меня". Такие любовные свидания назначаются на краю деревни. "Под пальмами" - вот принятое обозначение любовных встреч такого рода. Очень часто в одном месте назначают свидания три или четыре парочки, в особенности тогда, когда юноши или девушки - родственники. Если у девушки во время свидания закружится голова или же ей станет дурно, то обязанность юноши - вскарабкаться на ближайшую кокосовую пальму, сорвать там кокосовый орех и полить его молоком вместо одеколона лицо своей возлюбленной. По туземной теории, бесплодие - наказание за промискуитет; и наоборот, распространено убеждение, что только устойчивая моногамия награждается зачатием. Если пара тайных экспериментаторов, общественный статус которых настолько низок, что их брак не имеет никакого серьезного значения, по-настоящему привязываются друг к другу и их связь длится несколько месяцев, то очень часто она кончается браком. А местные снобы делают различие между искусным любовником, осчастливленным многими мимолетными связями, и простым парнем, не нашедшим иного доказательства своих мужских достоинств, как вступить в длительную связь, завершившуюся зачатием.
Часто девушка боится выйти ночью из дома, ибо ночь полна призраков и дьяволов. Они душат человека, прибывают по ночам из отдаленных деревень, чтобы похищать девушек, они прыгают на вас сзади, и тогда уже от них нельзя освободиться. Или же она может полагать, что благоразумнее оставаться дома и в случае необходимости дать знать домашним, что она здесь, подав голос. Тогда влюбленный отважно прокрадывается в дом. Сняв свою лавалаеу, он натирает все тело кокосовым маслом, чтобы ему легче было ускользнуть из рук преследователей и не оставить никакого следа. Он тихонько приподнимает циновки и прокрадывается в дом. Распространенность таких приключений отражается и в полинезийских народных сказаниях, где часто рассказывается о горькой судьбе, выпавшей на долю какого-нибудь несчастливца, "который проспал до утра и на восходе солнца был найден в доме его обитателями". Так как в это время в доме спит не менее дюжины людей и несколько собак, то абсолютное молчание во время свидания - обязательное условие для его успешного завершения. Но этот же обычай свиданий, устраиваемых в доме девушки, приводит и к особому нарушению принятых сексуальных норм - насилию над спящей - моетотоло.
Моетотоло - единственное среди сексуальных действий, которое представляет собой явное отклонение от обычной картины половых отношений. Насилие в форме грубого нападения на женщину случалось время от времени на Самоа с момента первых контактов островитян с цивилизацией белых. Оно, однако, значительно менее созвучно самоанскому духу, чем моетотоло - кража мужчиной ласк, предназначенных для другого. Необходимость соблюдать абсолютную тишину исключает какой бы то ни было разговор между юношей и девушкой, и подкрадывающийся надеется либо на то, что девушка ждет любовника, либо на то, что она примет каждого, кто придет к ней. Если же девушка заподозрит обман или вознегодует, то она поднимет страшный крик, и все семейство бросится в погоню. Ловля моетотоло считается захватывающим видом спорта. Женщины, остро ощущающие, что их безопасность поставлена под угрозу, даже более активны в этой погоне, чем мужчины. Один злополучный юноша в Луме не снял перед приключением свою лавалаеу. Девушка открыла обман, а ее сестре удалось оторвать кусок от его лавалавы. Она гордо показывала этот кусок на следующее утро, а юноша был глуп и не уничтожил свою одежду. Доказательство его преступности было бесспорным. Он стал предметом насмешек всей деревни. Дети сложили песенку-пляску на его счет и следовали повсюду за ним, распевая ее и пританцовывая. Проблема моетотоло осложняется еще и тем, что оскорбителем может оказаться и юноша из этого же семейства. Тогда ему легко улизнуть от ответственности, приняв участие в погоне, последовавшей за раскрытием преступления. Моетотоло также создает для девушки и возможность превосходного алиби. Для этого ей достаточно только крикнуть "моетотоло", после того как ее возлюбленный обнаружен. "Для семьи и для деревни он моетотоло, но это не так для сердец девушки и ее возлюбленного".
За этим малопривлекательным поведением чаще всего стоят два мотива - гнев и любовная неудача. Самоанская девица, кокетничая с юношами, делает это не без риска. "Она скажет: "Да, мы встретимся сегодня у старой кокосовой пальмы, что рядом с камнем рыбы-дьявола, когда зайдет луна". И юноша будет ждать, ждать и ждать всю ночь. Стемнеет. На него будут падать ящерицы, будут подплывать призраки в каноэ. Ему будет очень, страшно. Но он будет ждать до рассвета, до тех пор, пока утренняя роса не намочит его волосы, а его сердце не переполнится, злобой. Но она не придет. Тогда в отместку он и прибегнет к моетотоло. В особенности же он это сделает, если прослышит, что именно в эту ночь она принимала другого". Есть еще и другое объяснение: иной юноша не может добиться своей возлюбленной никакими законными средствами, а проституция, исключая гостевую, на Самоа отсутствует. Но некоторые из молодых людей, стяжавших дурную славу моетотоло, были самыми очаровательными и красивыми юношами деревни. Понять это достаточно трудно. По-видимому, они, получив отпор в двух или трех попытках поухаживать, воспламененные хвастливыми повествованиями о победах их сотоварищей, задетые насмешками над своей неопытностью, отбросили всякие законные средства ухаживания и испробовали моетотоло. Тот, кто однажды пойман и заклеймен, не может более рассчитывать на внимание ни одной девушки. Он должен ждать до тех пор, пока, повзрослев и добившись положения и титула, он вновь сможет выбирать. Но и здесь его выбор ограничен: это либо потрепанная распутница, либо неприязненно поглядывающая на него юная дочь каких-нибудь честолюбивых и эгоистичных родителей. Однако пройдут годы, прежде чем это станет возможным, и, лишенный любви, которой занимаются все его сверстники, юноша снова и снова будет пускаться на моетотоло, иногда успешно, иногда же лишь для того, чтобы вновь быть схваченным и избитым. Предмет насмешек всей деревни, он будет рыть все более глубокую яму у себя под ногами. В таких случаях зачастую каким-то выходом оказывается гомосексуализм. В деревне, где я жила, была одна такая пара - пользовавшийся самой дурной славой моетотоло и серьезно настроенный юноша, сберегавший свои страсти для политических интриг. Моетотоло, таким образом, усложняют и придают некоторую пряность тайным похождениям на дому, а опасность прождать зря, нежелательность случайных встреч, дождь и страх перед призраками осложняют "любовь под пальмами".
Между этими приключениями sub rosa26 в самом прямом смысле этого слова и формальным предложением руки и сердца имеется и некоторая средняя форма ухаживания, при которой юноша призывает девушку высказать свои чувства. Так как эта форма считается предварительным шагом на пути к браку, то обе родственные группы должны более или менее одобрять этот союз. Юноша в сопровождении своего соа с корзиной рыбы, спрутом или цыплятами появляется в доме девушки до ужина. Если его дар принимают, то это означает, что семья девушки благосклонно относится к его сватовству. Его торжественно приветствует матаи дома, и он сидит с почтительно опущенной головой во время вечерней молитвы. Затем он и его соа остаются на ужин. Но искатель сердца девушки не приближается к своей возлюбленной. Самоанцы говорят: "Если вы хотите знать, кто действительно влюблен, то не глядите на юношу, сидящего рядом с девушкой, на того, кто смело смотрит ей в глаза, играет цветами в ее ожерелье или же крадет цветок гибискуса из ее волос и закладывает его себе за ухо. Не думайте, что влюблен тот, кто нежно шепчет ей на ухо или говорит: "Милая, жди меня сегодня ночью. После захода луны я приду к тебе". Не думайте, что влюблен в нее тот, кто дразнит ее, говоря, что у нее много любовников. Посмотрите вместо этого на юношу, который сидит в стороне, сидит со склоненной головой и не принимает никакого участия в шутливом разговоре. И вы увидите, что его глаза всегда нежно следят за девушкой. Он все время смотрит на нее и не пропускает ни одного движения ее губ. Может быть, она подмигнет ему, может быть, она поднимет брови, может быть, она сделает ему какой-нибудь знак рукой. Он должен быть очень внимательным, чтобы не пропустить его". Соа между тем шумно и искусно ухаживает за девушкой, нашептывая ей в то же самое время хвалебные оды в честь своего друга. Этот тип ухаживания может разнообразиться от нескольких случайных посещений до ежедневных визитов в дом девушки. Поднесение пищи в дар необязательно входит в ритуал каждого такого визита, но для первого оно столь же важно, как формальное представление молодого человека родителям девушки па Западе.
Объяснявшийся в любви рискует вступить на тернистый путь. Девушке не хочется выходить замуж, порывать свои любовные связи во имя официальной помолвки. Возможно, ей не правится ухажер, и он, в свою очередь, может быть лишь жертвой семейных амбиций. Теперь, когда вся деревня знает, что он домогается ее руки, девушка тешит свое тщеславие, пренебрегая им, капризничает. Он приходит вечером, а она ушла в другой дом. Он идет за ней туда, она немедленно возвращается домой. Когда ухаживание такого рода созревает до принятия предложения, юноша начинает спать в ее доме, и часто их союз совершается тайным образом. Официальная же брачная церемония откладывается до тех пор, пока семья юноши не вырастит и не соберет достаточного количества пищи, а семья девушки не наготовит достаточного количества приданого - тапы и циновок.
Так обделываются любовные дела рядовых молодых людей из одной и той же деревни или же молодых людей плебейского происхождения из соседних деревень. Эти свободные и легкие любовные эксперименты не позволены таупоу. Обычай требует, чтобы она была девственницей. Перед всеми собравшимися па ее свадьбе в ярко освещенном доме оратор жениха должен принять доказательства ее девственности. Этот обычай сейчас запрещен законом, но отмирает он медленно. В прежние времена, окажись она не девственницей, ей бы пришлось плохо: собственные родственники напали бы на нее, побили камнями, изуродовали, а может быть, и смертельно ранили ее за то, что она опозорила их дом. Это публичное испытание иногда выводит невесту из строя на целую неделю, хотя обычно девушка оправляется после первого сношения с мужчиной через два-три часа, а роженица редко остается в постели больше чем на несколько часов после рождения ребенка. Хотя эта церемония проверки девственности, теоретически говоря, должна всегда соблюдаться на свадьбах людей всех рангов, ее просто обходят, если жених знает, что это пустая форма, а "умная девушка, если она не девственница, просто расскажет об этом оратору своего супруга и попросит его, чтобы ее не позорили перед всем народом"27.
Отношение к девственности на Самоа довольно забавно. Христианство принесло с собой, конечно, моральное поощрение целомудрия. Самоанцы же относятся к нему уважительно, хотя и с полнейшим скептицизмом, а уж понятие безбрачия для них абсолютно бессмысленно. Девственность, безусловно, что-то прибавляет к привлекательности девушки. Завоевание девственниц считается куда большим подвигом, чем победа над более опытным сердцем, и искушенный донжуан самое большое внимание уделяет их совращению. Один молодой человек двадцати четырех лет, женившийся на девственнице, стал предметом насмешек всей деревни, так как он имел неосторожность рассказать, что в свои двадцать четыре года и при множестве любовных связей в прошлом ему не удавалось до сих пор добиться милостей девственницы.
Престиж жениха и его родственников, невесты и ее родственников возрастает в случае ее девственности, так что девушка высокого ранга, спешащая расстаться со своей девственностью до свадьбы и тем самым избежать мучительного публичного обряда, натолкнулась бы не только на бдительный надзор своих старших родственниц, но и на честолюбие жениха. Некий юный Лотарио похитил девушку высокого ранга из соседней деревни и привел ее в дом своего отца. Но он отказался жить с нею. Он так рассказывал о причинах своего воздержания: "Я думал, что, может быть, я женюсь на этой девушке. Тогда устроят большую малангу28 и большой праздник. Если я подожду, то мне выпадет великая честь жениться на девственнице. Но на следующий день пришел ее отец и сказал, что она не может выйти за меня замуж. Она сильно плакала. Тогда я сказал ей: "Теперь ничего не нужно больше ждать. Бежим в кусты"". Возможно, что сами девушки охотно отказались бы от этой преходящей чести быть девственницей, чтобы избегнуть публичного испытания, но юноши в зависимости от честности их намерений воспротивились бы этому.
Если тайная и случайная "любовь под пальмами" как выражение неупорядоченности половых сношении характерна для людей скромного социального происхождения, то похищение невесты свой прототип находит в любовных историях таупоу и дочерей других вождей. Этих девушек благородного происхождения тщательно охраняют. Не для них тайные свидания по ночам или же встречи украдкой днем. Если родители низкого социального ранга благодушно безразличны к похождениям своих дочерей, то вождь хранит девственность своей дочери так же, как честь своего имени, свое право председательствовать на вечерних церемониальных распитиях кавы, как любую из своих прерогатив, данных ему его высоким положением. Он поручает какой-нибудь старой женщине из своего семейства быть ее постоянной компаньонкой, дуэньей. Таупоу не должна ходить в гости, ее нельзя оставлять одну по ночам. Рядом с нею всегда спит какая-нибудь женщина постарше. Ей категорически запрещено ходить в другую деревню без сопровождения. В ее собственной деревне односельчане ревниво хранят ее неприкосновенность, когда она предается будничным делам - работает на огороде, купается в океане. Риск стать жертвой какого-нибудь моетотоло для нее мал, так как рискнувший покуситься на ее честь в прежние времена был бы просто убит, а сейчас ему пришлось бы бежать из деревни. Престиж деревни самым тесным образом связан с репутацией ее таупоу, и немногие деревенские юноши посмели бы стать ее любовниками. Они не могут и мечтать о том, чтобы взять ее в жены, а случись одному из них вступить с нею в связь, его собственные товарищи не только не позавидовали бы такой сомнительной чести, но и разоблачили бы его как предателя. Иногда юноша очень высокого ранга из той же деревни может похитить ее, но даже и при равенстве рангов такие случаи крайне редки. Традиция требует, чтобы таупоу нашла себе жениха вне собственной деревни - вышла замуж за высокого вождя или манаиа29 другой деревни. Такая свадьба - повод для организации больших празднеств и торжественной церемонии. Сам вождь и все его ораторы должны прийти и просить руки таупоу, прийти лично с подарками для ее ораторов. Если ораторы девушки сочтут этот союз и выгодным и желательным, а ее семья удовлетворится рангом и внешностью искателя руки дочери, то договариваются об условиях брака. Никто при этом не обращает никакого внимания на мнения и чувства самой девушки. Идея брака таупоу как дела, устраиваемого ораторами, настолько укоренилась в сознании самоанцев, что наиболее европеизированные из них на главном острове архипелага отказываются делать из своих дочерей таупоу: миссионеры сказали им, что девушка сама должна выбирать себе жениха, а стань она таупоу, рассуждают они, о самостоятельном выборе не может быть и речи.
После помолвки жених возвращается в свою деревню, чтобы собрать пищу и все необходимое для свадьбы. Деревня жениха выделяет для нее кусок земли, так называемое "место госпожи" которое будет ее собственностью и собственностью ее детей навеки, а деревенские плотники строят на этом участке земли дом для невесты. На все это время сватающийся вождь оставляет вместо себя в доме невесты своего оратора - эквивалент более скромного соа. Перед этим уполномоченным открывается одна из лучших возможностей в его жизни разбогатеть. Он остается здесь в качестве эмиссара своего вождя, чтобы наблюдать за поведением невесты. Он работает в ее семье, и каждую педелю матаи дома должен вознаграждать его хорошим подарком. Как будущая жена вождя, девушка должна вести себя благопристойно. Если прежде она шутила с юношами деревни, то теперь ей этого не полагается делать, иначе оратор, увидев эти отклонения от высоких стандартов поведения, вернется в родную деревню и доложит своему господину, что она недостойна оказанной ей чести. Этот обычай создает для обеих сторон прекрасную возможность на зрелом размышлении пойти на попятную. Если жениху не нравится сделка, он подкупает своего оратора (это обычно молодой человек, а не один из влиятельных ораторов, который сам бы мог извлечь значительные выгоды из брака) и просит его быть сверхпридирчивым к поведению его невесты или же к тому, как его принимают в ее семье. В это же самое время девушка, если ее будущее супружество кажется ей уж слишком непривлекательным, может сбежать. Конечно, ни один из юношей ее деревни не рискнет принять ее опасные милости. Но юноша из другой деревни, сбежав с таупоу соперничающей общины, стяжает самую громкую славу. После ее бегства брачный договор, безусловно, расторгается, хотя рассерженные родственники таупоу могут и не одобрить ее новых брачных планов и в наказание выдать ее замуж за старика.
Честь, выпадающая на долю деревни, одному из юных жителей которой удалось похитить таупоу, так велика, что нередко старания целой маланги сосредоточены на осуществлении такого побега. Девственность украденной таупоу будет цениться в прямой зависимости от того, насколько велики шансы на то, что ее семья и ее деревня в конечном счете согласятся санкционировать брак. А так как ее похититель обычно принадлежит к юношам высокого ранга, то обиженная деревня, хотя и с горечью, идет на компромисс.
Эта модель умыкания, понятная в контексте ограничений, наложенных на жизнь таупоу, и междеревенской вражды, становится совершенно бессмысленной применительно к юношам и девушкам более низкого социального происхождения. Очень редко надзор за девушкой из обычной семьи осуществляется с такой строгостью, чтобы сделать похищение единственным возможным способом завершения любовного приключения. Но само по себе похищение эффектно; юноша не прочь поднять свой престиж преуспевающего донжуана, а девушка желает, чтобы все знали о ее победе, а часто и надеется, что похищение приведет к браку. Сбежавшая парочка мчится к родителям юноши или к какому-нибудь другому его родственнику и ждет, когда родственники девицы потребуют ее назад. Вот как рассказывал один юноша об истории своего похищения девицы: "Мы побежали под дождем, под проливным дождем в деревню Леоне, за девять миль, в дом моего отца. На следующий день ее семья пришла за нею, и отец сказал мне: "Ну, что будем делать? Хочешь ли ты жениться на этой девушке? Просить ли мне ее отца оставить ее у нас?" И я сказал: "Конечно, нет. Я сбежал с нею только для того, чтобы все знали"". Похищения распространены значительно меньше, чем тайные любовные связи, потому что девушка в них подвергается большему риску. Она публично отрекается от своих, часто номинальных притязаний на девственность; она вступает в серьезный конфликт со своей семьей, которая, как это было в прошлом, а иногда бывает и сейчас, сильно избивает ее, сбривает ей волосы. В девяти случаях из десяти единственным мотивом похищения для ее возлюбленного служит тщеславие и поза. Юноши говорят: "Девушки ненавидят моетотоло, но все они любят аванга (похищение)".
Похищение приобретает практический характер тогда, когда одна из семей противится браку, на который решились молодые люди. Парочка находит убежище в той семье, которая благосклонно относится к их союзу. Но до тех пор пока обиженное семейство не смягчится и не легализует их брак обменом имуществом с соблюдением должных форм, старейшины принявшей семьи ничего не могут поделать со статусом парочки. Юная пара может иметь уже несколько детей, но ее будут называть "сбежавшими". И даже если их брак в конце концов после длительной задержки и будет легализован, это клеймо навсегда останется на них. Оно куда более серьезно, чем просто обвинение в половой распущенности: община не одобряет нарушения правил парой юных выскочек.
Два семейства взаимно обмениваются подарками все время, пока длится брак, и даже потом, если от брака остались дети. Рождение каждого ребенка, смерть каждого члена того и другого семейства, посещение женой или мужем родительской семьи - все это отмечается преподнесением даров.
В добрачных отношениях самоанцы строго придерживаются всех условностей ухаживания. Правда, эти условности касаются скорее языка, чем действия. Юноша клянется, что он умрет, если девушка откажет ему в своих милостях, но самоанцы смеются над рассказами о романтической любви, глумятся над верностью долго отсутствующей жене или любовнице, верят вполне серьезно, что одна любовь лечит другую. Верность, за которой следует беременность, принимается как реальное доказательство подлинной привязанности, хотя иметь много любовниц и говорить каждой из них о своем пылком чувстве не считается каким-то противоречием. Содержание страстных любовных песен, длинные и цветистые любовные письма, обращение к звездам, луне, морю в речах, адресованных возлюбленной,- все это придает самоанскому ухаживанию поверхностное сходство с нашим. Но чувство, стоящее за ним, значительно ближе чувствам героя шницлеровских "Любовных похождений Анатоля"30. Романтическая любовь в том ее виде, в каком она встречается в нашей цивилизации, неразрывно связана с идеалами моногамии, однолюбия, ревности, нерушимой верности. Такая любовь незнакома самоанцам. Наше чувство - это некая смесь, конечный продукт многих сходящихся линий развития западной цивилизации: института моногамии, идей эпохи рыцарства, этики христианства. Даже страстная привязанность к одному человеку, которая длится долгое время и сохраняется вопреки всем спадам, но не исключает и других связей, редка среди самоанцев. Брак, с другой стороны, рассматривается как общественная и экономическая сделка, в которой следует принять во внимание обеспеченность, социальное положение и навыки будущих мужа и жены в их отношении друг к другу. На Самоа существует много браков, в которых оба партнера, особенно если им за тридцать, совершенно верны друг другу. Но это следует приписать, с одной стороны, легкости физиологического приспособления партнеров друг к другу и преобладанию, с другой стороны, иных интересов (для мужчин важнее общественное положение, а для женщин - дети) над чисто сексуальными сторонами брака. Эту верность нельзя объяснить страстной привязанностью к супругу или супруге. Так как у самоанцев отсутствуют подавление полового чувства, его сложная индивидуализированность, то есть все то, что делает браки по расчету такими мучительными в нашей цивилизации, то семейное счастье здесь можно строить и на другой основе, а не на преходящей страстной привязанности. Решающим фактором здесь тогда оказывается пригодность партнеров друг другу и целесообразность.
Адюльтер на Самоа необязательно означает разрыв брака. Жену вождя, совершившую прелюбодеяние, осуждают за то, что она обесчестила свое высокое положение, и ее изгоняют. Вождь при этом будет крайне возмущен, если она второй раз выйдет замуж за человека низшего ранга. Если же более виновным сочтут ее любовника, то право общественного возмездия возьмет на себя деревня. В менее заметных случаях адюльтера степень общественного возмущения зависит от разницы в социальном положении обидчика и обиженного или же от индивидуального чувства ревности, возникающего лишь в редких случаях. Если оскорбленный супруг или оскорбленная жена задеты слишком сильно и грозят обидчику физической расправой, то виновник должен прибегнуть к публичной ифонге - церемониальному покаянию перед тем, у кого он просит прощения. Он идет к дому оскорбленного в сопровождении всех членов своего семейства. Каждый из них завертывается в тончайшую циновку - разменную монету этой страны. Просители рассаживаются у дверей дома, покрывают свои головы этими циновками и склоняют их в знак глубочайшего раскаяния и унижения. И если хозяин очень зол, то не скажет ни слова. Весь день он будет заниматься своими делами; он будет очень внимательно плести рыбацкую сеть, разговаривать со своей женой, приветствовать тех, кто проходит мимо его дома, но он не обратит ни малейшего внимания на тех, кто сидит у дверец его дома, не смея ни поднять своих глаз, ни сделать малейшей попытки уйти. В старые времена, если бы его сердце не смягчилось, он и его родственники имели право взять дубины и убить сидящих у порога. Сейчас же он просто заставит их ждать, ждать целый день. Лучи солнца будут палить, польет дождь и промочит их насквозь, и все же он не скажет ни слова. Затем к вечеру он проговорит наконец: "Довольно, входите. Входите в дом и выпьем кавы. Ешьте еду, что я поставлю перед вами, и выбросим наши беды в море". Затем красивые циповки принимаются в компенсацию за обиду, а эта ифонга станет притчей во языцех в деревне. И старые сплетники будут говорить: "О да, Луа! Нет, она не дочь Ионы. Ее отец - вождь из соседней деревни. Он устраивал ифонгу перед домом Ионы до ее рождения". Если ранг обидчика значительно уступает рангу оскорбленного, то унижаться вместо него перед домом обиженного должен его вождь или же его отец (если обидчик - юноша). Если обидчицей оказывается женщина, то точно такое же извинение должны принести она и женщины ее семейства. По здесь у них больше шансов быть избитыми и обруганными последними словами: кроткое учение христианства - может быть, потому, что оно было направлено против настоящих убийств, а не против менее роковых по последствиям стычек женщин, - в меньшей мере изменило здесь воинственную природу женщин, чем мужчин.
Если, с другой стороны, жена действительно устанет от своего супруга или муж - от своей жены, то развод на Самоа очень прост и неформален: один из супругов, проживающий в семье другого, просто возвращается в свой родительский дом, а отношения считаются "прошедшими". Моногамия на Самоа очень хрупка, ее часто нарушают и еще чаще совсем от нее отказываются. Но есть и много таких случаев адюльтера, которые едва ли как-нибудь угрожают продолжающимся брачным связям, к примеру между избегающим брака молодым холостяком и замужней женщиной или между вдовцом и юной девицей. Права на земли своего семейства, которыми обладает женщина, делают ее столь же независимой, как и мужчину. Вот почему на Самоа нет сколько-нибудь длительных браков, в которых одна из сторон действительно несчастна. Небольшая ссора - и женщина уходит к своим родителям, а если супруг не предпринимает примирительных шагов, то каждый из них найдет себе другого партнера.
В теории женщина в семье подчиняется своему мужу и обслуживает его, хотя, конечно, часто встречаются и мужья, находящиеся под каблуком у своих жен. В семьях высокого социального ранга личные услуги вождю выпадают на долю таупоу и оратора, но его жена всегда оставляет за собой право оказывать своему мужу ритуальные, сакральные услуги - подстригать ему волосы, например. Социальный ранг жены никогда не превышает ранга ее мужа, потому что он всегда прямо зависит от ранга мужа. Ее семья может быть и богаче и знатнее, чем его. Ее действительное влияние на деревенские дела, оказываемое ею через своих кровных родственников, может быть значительно больше, чем его, но в кругу ее нынешнего семейства и в деревне она всегда тауси, жена оратора, или же фалетуа, жена вождя. Это иногда приводит к конфликту. <...> Но за подобными конфликтами всегда стоит четко осознаваемый выбор, и во многом их разрешение зависит от фактического местожительства женщины. Если она живет в семействе мужа, да еще в другой деревне, то в основном ее интересы совпадают с интересами супруга; но если она живет в своем собственном семействе и в своей собственной деревне, то скорее всего она склонится на сторону своих кровных родственников, отраженной славой и неформальными привилегиями которых, хотя и не их официальным положением, она пользуется.
8. Роль танца
Танцы - единственный род деятельности, в которой принимают участие почти все возрасты и оба пола, вот почему они дают нам уникальную возможность углубить наши представления о воспитании детей на Самоа.
Здесь нет профессиональных учителей танцев, есть виртуозы. Танцы - очень индивидуальный род деятельности, осуществляемой в рамках какого-нибудь события в общине. События эти могут быть самыми различными - от небольшого танцевального вечера, в котором участвует от двенадцати до двадцати человек, до большого праздника маланги (нанесения визита) или свадьбы, когда самый большой гостевой дом полон внутри и окружен зрителями снаружи. В зависимости от размеров и значимости празднества меняются и особенности организации танцев. Обычный повод устройства даже маленькой сивы (танцевального вечера)- прибытие двух-трех молодых людей из другой деревни. Участники такой сивы делятся на гостей и хозяев, по очереди развлекающих друг друга танцами и музыкой. Это деление сохраняется и тогда, когда маланга (прибывшая компания) состоит всего из двух человек. В этом случае ее пополняет определенное число хозяев.
Именно на таких маленьких непринужденных танцевальных вечеринках дети и учатся танцевать. Молодые люди, эти главные участники и судьи происходящего, садятся перед домом. Шатаи, его жена, иногда и другой маатаи-родственник и все взрослые члены семейства усаживаются за ними в противоположность обычному порядку, согласно которому место молодых людей - сзади. По краям рядов сидящих толпятся женщины и дети. Мальчики и девочки, не участвующие в танце, хотя они и могут быть вовлечены в него в любой момент, стоят в стороне, поглядывая на происходящее. На таких вечерах танцы обычно начинают маленькие дети - как правило, семи-восьми лет. Жена вождя или кто-нибудь из молодых людей называет имена детей, и они образуют группу из трех человек. Иногда эта группа состоит только из мальчиков или из одних девочек, а иногда между двумя мальчиками становится девочка, которая изображает таупоу со своими двумя ораторами. Молодые люди, сидящие группой у самого центра дома, обеспечивают музыку. Один из них, стоя, дирижирует пением под аккомпанемент какого-нибудь привозного струйного инструмента, заменившего грубый бамбуковый барабан прежних времен. Дирижер задает тональность, и вся компания начинает либо петь, либо хлопать в ладоши, либо стучать косточками пальцев по полу. Главными судьями качества музыкального аккомпанемента оказываются сами танцоры: того, кто остановится посреди танца и потребует лучшей музыки, не считают капризным. Число исполняемых песен невелико; молодые люди в деревне редко знают более дюжины мелодий и вдвое больше песенных текстов, которые поются то на один мотив, то на другой. Стих здесь строится на равенстве числа слогов; допускается изменение ударения в слове, рифма не требуется, так что любое новое событие легко укладывается в старый текст песни, и названия деревень и имена людей входят в стих с большой легкостью. Содержание песни может принимать исключительно личный характер и включать в себя множество шуточек в адрес отдельных лиц и их деревень.
Форма участия аудитории в танце зависит от возраста танцоров. Когда танцуют маленькие дети, вовлеченность аудитории проявляется в виде непрерывно следующих одна за другой доброжелательных команд: "Скорей!", "Наклоняйся ниже!", "Еще ниже!", "Повтори!", "Поправь свою лавалаву!". При танцах более опытных юношей и девушек зрители все время бормочут слова, выражающие восхищение: "Спасибо, спасибо за ваши танцы!", "Прекрасно!", "Захватывающе!", "Очаровательно!", "Браво!". Все это напоминает беспорядочные восклицания "Аминь!" в конце какой-нибудь евангелической службы. Но эти звуки вежливого восхищения приобретают почти лирическую тональность, когда танцором оказывается человек с положением, снизошедший до того, чтобы принять участие в танце.
На этих танцевальных праздниках маленьких детей вытаскивают на площадку почти без всякой предварительной подготовки. Еще младенцами, сидя на руках у своих матерей, они привыкают хлопать в ладоши на таких вечерах, и, еще до того как они станут на ноги, ритм неизгладимо запечатлевается в их сознании. Двухлетки, трехлетки стоят на циновках в доме и хлопают в ладоши, когда взрослые поют. Потом от них требуют, чтобы они сами танцевали перед зрителями. С широко открытыми, полными ужаса глазами испуганные малыши становятся рядом с каким-нибудь ребенком немного старше их. В полном отчаянии, умея только хлопать в ладоши, они пытаются обогатить свой арсенал танцевальных движений, подражая своим компаньонам. Каждый их успех в этом деле приветствуется громкими аплодисментами. Ребенка, лучше всех показавшего себя на прошлом празднестве, заставляют танцевать и на следующем, ибо зрители прежде всего заинтересованы в собственном развлечении, а не и том, чтобы дети поровну приобретали навыки. Эта возможность получить большую практику действует так же, как и больший интерес к танцам и большая одаренность,- она помогает некоторым детям быстро опережать других. Эта тенденция давать одаренному ребенку все новые и новые возможности проявить свои таланты несколько ослабляется соперничеством родственников, желающих продвинуть своих собственных детей.
Пока танцуют дети, юноши и девушки украшают свои одежды цветами, ожерельями из раковин, браслетами из листьев. Одна-две девушки могут выскользнуть из дома и вернуться одетыми в хорошенькие юбочки, изготовленные из луба. Из семейного шкафа достается бутыль с кокосовым маслом, и взрослые танцоры смазывают им свои тела. Если на празднестве присутствует человек с положением, который дал согласие участвовать в танце, хозяйка дома приносит свои тончайшие циновки и полотнища тапы, чтобы сделать ему костюм. Иногда это импровизированное переодевание приобретает такой размах, что соседний дом превращается в некое подобие артистической уборной; иногда же оно столь непринужденно по характеру, что зрителям в простых одеждах из пальмовых листьев, собравшимся у дома, достаточно позаимствовать у других зрителей их лавалавы, чтобы принять участие в танцах.
Форма самого танца очень индивидуальна. В нем нет никаких обязательных фигур, исключая полдюжины негромких хлопков в ладоши, открывающих танец, и немногих предписанных его завершений. В танцах самоанцев двадцать пять - тридцать фигур, два или три набора переходных позиций и по меньшей мере три определенных стиля: танец таупоу, танец юношей и танец шутов. Эти три стиля, разумеется, определяют стиль танла, а не статус танцора. Танец таупоу серьезен, сдержан, прекрасен. От таупоу требуется сохранять спокойное, мечтательное, безразличное выражение бесконечного высокомерия и отчужденности. Единственно допустимой альтернативой этому выражению служит ряд гримас, скорее дерзких, чем комичных, по своему характеру и действующих на зрителя главным образом в силу их резкого контраста с серьезным, полным достоинства рисунком танца в целом. От манаиа, когда он исполняет свою роль в танце, требуется, чтобы он придерживался этого же красивого и торжественного стиля. Большинство маленьких девочек и некоторые маленькие мальчики строят свои танцы по этому образцу. Вождь в тех редких случаях, когда он соглашается танцевать, может выбирать между этим стилем и шутовским танцем. Танцы юношей значительно веселее, чем танцы девушек. В них гораздо больше свободы движений, и большое место в них занимает звук, издаваемый ритмическим похлопыванием но обнаженным частям тела, звук, напоминающий сухую дробь барабана. Этот стиль не является ни фривольным, ни томным, тогда как танец таупоу часто обладает обоими этими качествами. Танец юношей атлетичен, задирист, буен, его очарование во многом определяется быстротой и сложностью координации танцевальных движений с ритмическим похлопыванием. Танец шутов - это прежде всего танец тех, кто танцует по обе стороны от таупоу и манаиа. Вышучивая их, они их славят. Эта роль чаще всего выпадает на ораторов и вообще на пожилых мужчин и женщин. С самого начала в идею этого танца был заложен контраст: шут создает комический фон для величавого танца таупоу, и, чем выше ранг таупоу, тем выше должен быть ранг мужчин и женщин, согласившихся быть комическим обрамлением ее достоинств. Танец шутов отличается своей пародийностью, грубыми шутками, утрировкой стереотипных фигур, шумом, издаваемым хлопками ладони по открытому рту, прыжками и ударами по полу. Шуты иногда настолько искусны, что оказываются центром этих праздничных сборищ.
Маленькая девочка, которая учится танцевать, имеет на выбор эти три стиля, двадцать пять - тридцать фигур, из которых она должна уметь составить свой танец, и, наконец, самое главное, у нее есть образцы для подражания - отдельные танцоры. Сначала я объясняла искусство танца у маленьких детей тем, что каждый из них взял себе за образец какого-нибудь старшего мальчика или девочку и прилежно и рабски скопировал весь его или ее танец. Но я не встретила ни одного ребенка, который бы признал, что он копирует другого или же как-то сознательно ему подражает. Не смогла я найти, ближе познакомившись с детьми, и ни одного маленького ребенка, стиль танца которого можно было бы со всей определенностью объяснить подражанием другому танцору. Стиль любого более или менее виртуозного танцора известен всей деревне, и, когда его копируют, подражание сразу же бросается в глаза. Если, например, маленькая девочка Ваитонги складывает руки над головой открытыми ладонями вверх, сгибается и двигается, произнося шипящие звуки, то про нее говорят, что она танцует, "как Сина". Такие подражания не считаются чем-то порочным; автор повторенной фигуры не возмущается и не видит в этом повторении чего-то приносящего ему особую славу. Зрители также не осуждают подражателя. Но стремление к индивидуальности в танце настолько велико, что танцор редко вводит более чем одно заимствованное движение в свое исполнение за весь вечер. Если танец двух девушек похож, это сходство возникло скорее вопреки их усилиям, чем в результате подражания. Естественно, танцы маленьких детей значительно больше напоминают друг друга, чем танцы юношей и девушек, имевших и время и возможности действительно усовершенствовать свой стиль.
Отношение старших к слишком раннему мастерству в пении, дирижировании, танце находится в разительном контрасте с их отношением к любой иной форме раннего созревания. На площадке для танцев вы никогда не услышите грозного: "Много на себя берешь, еще мал". Маленьким мальчикам, которых наверняка отругали бы или даже отхлестали за такое поведение во всех иных случаях, позволено здесь хвастаться, чваниться, становиться центром внимания, и в их адрес не раздается ни единого слова упрека. Родственники сияют от удовольствия, видя раннее мастерство такого рода, хотя они сгорели бы от стыда, проявись оно в любой иной области.
Именно на этих непринужденных вечерах дети и учатся танцевать. Церемониальные танцы таупоу или манаиа с ораторами на свадьбах или во время маланги с тщательно продуманными костюмами, обязательной раздачей подарков, с постоянным вниманием к имевшимся ранее прецедентам и к правам участников не предоставляют возможности участия в них ни любителю, ни ребенку. Дети в таких случаях могут только толпиться вокруг гостевого дома и следить за происходящим. Но конечно, столь тщательно стилизованные, детально отработанные прототипы импровизированных танцевальных вечеров обладают и дополнительной функцией - они придают последним их пыл, служат для них образцом, величественной моделью для подражания.
Значение танца в воспитании и социализации самоанских детей двояко. Во-первых, танец эффективно компенсирует систему строжайшей подчиненности ребенка, в которой он постоянно находится. Здесь команда взрослых: "Сиди и молчи!"- сменяется командой: "Вставай и танцуй!" Дети в танцах - действительный центр группы, а не едва терпимая периферия. Родители в таких случаях щедры на похвалы, в которых подчеркивается превосходство их детей над детьми соседей или же гостей. Универсально действующий принцип власти по возрасту здесь в интересах дела несколько ослабляется. Каждый ребенок - личность, и он, каковы бы ни были его пол и возраст, должен внести свой вклад в общее дело. Это требование внести личный вклад доводится до крайностей, начинающих портить танец как художественное зрелище. Тщательно отработанный танец взрослых - стройные ряды танцующих с таупоу в центре и равным числом танцоров по каждую сторону от нее, танцоров, каждым своим движением подчеркивающих фигуры ее танца,- в исполнении честолюбивых детей теряет и симметрию и единство. Дети в опьянении самоутверждения совершенно забывают друг друга. В их танце нет даже и малейшей видимости координации партнеров, подчинения крыльев группы танцующих ее центру. Не обращая внимания друг на друга, они часто сталкиваются. Все это - подлинная оргия энергичного утверждения личности. Эта тенденция, столь явно демонстрируемая на импровизированных вечеринках, не портит совершенства парадного церемониального танца, когда сама торжественность события умеряет страсть самоутверждения у партнеров. Парадный церемониальный танец имеет личностное значение только для людей с положением или для виртуозов, видящих в нем удобный случаи для демонстрации своих способностей.
Во-вторых, само участие в танцах снижает порог застенчивости. У самоанских детей, как и у наших, существуют большие различия по степени застенчивости. Но если наш очень застенчивый ребенок вообще избегает огней рампы, то ребенок на Самоа, страдая и мучась, все же танцует. Выход на сцену для него здесь неизбежен, и каждый ребенок здесь должен сделать усилие, подняться и принять участие хотя бы в нескольких фигурах танца. Благотворные результаты этой воспитываемой с раннего детства привычки к аудитории и навыков владения собственным телом больше проявляются у мальчиков, чем у девочек. В танцах пятнадцати-шестнадцатилетних мальчиков - очарование и полная самозабвенность, смотреть на них - наслаждение. Девочка-подросток, застенчивая и неуклюжая, с плохо скоординированными движениями, на которые неприятно смотреть, становится грациозной, прекрасно владеет собой во время танца. Однако это ее изящество и самообладание не распространяются па повседневную жизнь с той же легкостью, как у мальчиков.
В одном отношении эти неформальные танцевальные вечера более близки к нашим педагогическим методам, чем все остальные стороны самоанской педагогики: именно в танцах развитого не по годам ребенка постоянно поощряют, создавая ему все новые и новые возможности показать свое искусство. В то же время отстающий осыпается упреками, на него не обращают внимания, отодвигают его на задний план. Эти различия в объеме предоставляемой ребенку практики приводят и к различиям в умениях детей, по мере того как они становятся старше. Чувство неполноценности в его классической форме, столь распространенное в нашем обществе, редко можно встретить на Самоа. В основе комплекса неполноценности там два источника: неловкость в половых отношениях, затрагивающая молодых мужчин и порождающая моетотоло, и неуклюжесть в танце. <...>
Интересно отметить, что именно эта единственная сторона жизни, где взрослые активно осуществляют дискриминацию менее способных детей, и является одной из наиболее сильных причин чувства неполноценности у детей. <...>
Танцующий ребенок почти всегда очень сильно отличается от того, чем он является в будничной жизни. После долгого знакомства с девочкой иногда можно угадать, какой тип танца она исполнит. Это легко сделать в случае девочек с мальчишескими ухватками. Но какая-нибудь мечтательная, вялая девочка или задиристая маленькая шалунья почти наверняка обманут вас, продемонстрировав в танце глубины утонченности или же томную грацию.
Официальные танцевальные представления - признанный вид общественных увеселений. Высший знак вежливости вождя по отношению к своему гостю - это заставить таупоу танцевать для него. Точно так же мальчики танцуют после того, как их татуируют, манаиа - перед тем, как идти свататься, а невеста - на своей свадьбе. На полуночных сборищах маланги танцы часто приобретают откровенно непристойный, возбуждающий характер. Но эти особые разновидности танца менее значимы в развитии личности ребенка, в меньшей степени компенсируют подавление личности в других сферах жизни, чем повседневные танцевальные сборища.
9. Отношение к личности
Легкость, с которой могут быть устранены напряжения, возникающие в межличностных отношениях,- простая смена местожительства - исключает у самоанцев саму возможность очень сильного угнетения одного человека другим. Их оценки личности человека представляют собой любопытную смесь предусмотрительности поведения и фатализма. В их языке существует одно слово - мусу, означающее нерасположенность и неуступчивость человека, будь то любовница, отказывающаяся принять до сих пор желанного любовника, или вождь, не желающий передать кому-нибудь свой кубок с кавой, ребенок, отказывающийся идти спать, или, наконец, оратор, не желающий участвовать в малаиге. К проявлениям мусу в человеке относятся с почти суеверным почтением. Влюбленный в своем отношении к любимой руководствуется формулой "чтобы она не стала мусу", и поведение искателя самым продуманным образом сориентировано на то, чтобы избежать появления этого таинственного и нежелательного гостя - мусу. Причем, для того чтобы добиться желаемого исхода личных отношений, самоанец не подходит к своему партнеру как к человеку, мысли которого заняты какой-то одной преобладающей страстью, апеллируя то к его тщеславию, то к страху, то к стремлению к власти. Скорее он прибегнет то к одному, то к другому приему из целого набора мощных психологических средств, предотвращающих само возникновение этого таинственного и широко распространенного явления - мусу. Но коль скоро оно появилось, самоанец обычно сдается, не пускаясь в длительные объяснения, сводя к минимуму свои сетования. Это фаталистическое принятие необъяснимого отношения способствует появлению у него странного безразличия к мотивам поведения. Самоанцы ни в коем случае не глухи к различиям между людьми. Но полноте их оценки этих различии мешает теория некоей общей упрямой нерасположенности, тенденция принимать и обиду, и раздраженность, и несговорчивость, и какие-то частные пристрастия всего лишь за многочисленные формы проявления одной и той же установки - мусу.
Этому отсутствию интереса к мотивам поведения способствует и то, что на любой личный вопрос принято отвечать совершенно неопределенно. Как правило, на любой вопрос о мотивах поведения человека вы услышите: "Та Но" ("Кто его знает"). Иногда этот ответ дополняется уточняющим: "Я не знаю". Этот ответ считается вполне достаточным и приемлемым в любом разговоре, хотя его резкость и исключает его применение в торжественных церемониальных случаях. Привычка пользоваться этой отповедью настолько распространена, что я была вынуждена запретить детям употреблять эту формулу. В противном случае я не смогла бы получить прямого ответа на самый простой вопрос. Когда это неопределенное "Та По" говорящий соединяет со словом мусу, в итоге мы получаем мало о чем говорящее заявление: "Кто его знает, не хочу - и все!" Люди отказываются от своих планов, дети уходят из дома, рушатся браки. Деревенские сплетники просто сообщают сам факт, но на вопрос о его причинах они пожимают плечами.
Имеется одно довольно интересное исключение из этого общего правила. Если человек заболевает, то объяснение его болезни ищут в отношении к нему его родственников. Гнев против него в сердце кого-нибудь из них31, в особенности сестры, самая сильная причина возникновения зла. Поэтому собирают все семейство, устраивается церемониальное распитие кавы, и каждый родственник должен торжественно объявить о гневе его сердца против больного человека. По требованиям церемониала каждый либо должен торжественно заявить, что в его сердце пет гнева против больного, либо же прямо признать, за что он гневается: "На прошлой неделе мой брат пришел домой и съел всю пищу. Я сердился на него весь день". Или же: "Мы с братом поссорились, а отец встал на его сторону. Я был сердит на отца за то, что брат - его любимчик". Но эта специальная церемония выяснения отношений только сильнее подчеркивает господствующее безразличие к мотивам поведения. Однажды я была свидетельницей того, как девушка, только что прибывшая с группой молодежи на рыбалку, немедленно захотела отправиться в дневной зной обратно в деревню, за шесть миль от места рыбалки. Но никто из присутствующих даже не попытался как-то объяснить ее поведение: ее отношение к этой компании было мусу.
Как защищает индивидуума такое отношение, легко понять, если мы вспомним, сколь мало здесь каждый предоставлен самому себе. Вождь он или ребенок, он, как правило, живет в доме, где рядом живет по крайней мере еще с полдюжины других людей. Лично ему принадлежащее имущество просто завертывается в циновку, укладывается на стропила под потолок или же запихивается в корзину или ящик. Еще можно ожидать должного уважения по отношению к личным вещам вождя, по крайней мере со стороны женщин его дома. Никто другой, однако, не может быть уверен в неприкосновенности своего личного имущества. Тапа, на изготовление которой женщина затратила три неделя, может быть подарена гостю, пока ее владелицы не было дома. В любой момент у нее могут выпросить ее кольца. Неприкосновенность личной собственности фактически отсутствует. Незамеченной может пройти случайная любовная связь, незамеченным может уйти и удачливый моетотоло. Но в целом вся деревня хорошо знает, что делает каждый ее житель. Я никогда не забуду крайнего возмущения на лице моего собеседника, который говорил мне, что никто, только представьте себе, никто не знает, кто отец ребенка Фаамоаны. Их всех окружает удушливая атмосфера маленького городка: через час после самого тайного и интимного дела дети будут рассказывать о нем в танцах и песнях всей деревне. Именно эта вопиющая публичность любого поступка компенсируется ожесточенным и мрачным молчанием о внутренней жизни. Там, где западная женщина сказала бы: "Да, я люблю его, но никто не может сказать, как далеко это зайдет", самоанка скажет: "Да, конечно, я живу с ним, но вы никогда не узнаете, люблю я его или ненавижу".
Самоанский язык не имеет специальных грамматических форм образования сравнительной степени. Существует несколько неуклюжих способов выражения сравнения с помощью контрастов: "Это хорошо, а это плохо" или же с помощью пространственной локализации: "А рядом с ним находится..." и т. д. Сравнение у самоанцев непривычно, хотя в жесткой социальной структуре общины соблюдению рангов уделяется большое внимание. Но относительное качество, относительная красота, относительная мудрость - все это им незнакомо. Я постоянно пыталась выяснить, кто же самый мудрый или самый хороший человек в общине, но первой реакцией собеседника всегда был ответ: "Все они хорошие" или же: "Много мудрых людей". Достаточно любопытно, однако, что они испытывают меньше трудностей в разграничении степеней дурного, чем хорошего. По-видимому, это объясняется влиянием миссионеров, которые хотя и не дали им понятия о грехе, но тем не менее снабдили их перечнем грехов. И здесь первой реакцией собеседницы было: "Очень много плохих мальчиков", но сейчас же по собственной инициативе она добавила: "А такой-то хуже всех, потому что..." Безобразив и порочность - более живо воспринимаемые и необычные свойства личности; красота, мудрость и доброта были чем-то само-собой разумеющимся.
При описании другого человека последовательность упоминаемых характеристик всегда укладывалась в одну и ту же объективную систему: пол, возраст, ранг, родственные связи, дефекты, род занятий. Как правило, по своей инициативе мои собеседницы не давали никаких оценок личности или характера описываемого человека. Одна девочка так описывала мне свою бабушку: "Лауули? О, она старая женщина, очень старая. Она мать моего отца. Она вдова, и у нее один глаз. Она слишком стара, чтобы работать в поле, и она сидит дома целый день. Она делает тапу". Такое совершенно неаналитическое описание человека видоизменяется только в том случае, если вашим собеседником будет очень умный взрослый. Да и его надо специально просить дать оценку.
В соответствии с местной классификацией психологические характеристики личности делятся по четырем признакам, образующим пары: "хороший - плохой" и "легкий - трудный". Хороший ребенок - это ребенок послушный, хорошо себя ведущий, плохой - непослушный или плохо себя ведущий. "Легкий" и "трудный"- свойства характера, "хороший" и "плохой"- поведения. Хорошее или плохое поведение, объясняемое через легкий или трудный характер, становится врожденным задатком индивидуума. Как мы говорим о человеке, что ему легко петь или же что он плавает без всяких усилий, так самоанец скажет, что он легко слушается, ведет себя почтительно "с легкостью". Характеристики же "хорошо" и "плохо" он сохранит для объективной стороны дела. Так, один вождь, оценивая плохое поведение дочери своего брата, заметил: "Но дети Туа всегда с трудом, слушались старших". В этих словах он как бы мимоходом констатировал некий неустранимый дефект. Это прозвучало так, как если бы он сказал: "Но у Джона всегда было плохое зрение".
Такое отношение к поведению находит свою аналогию в равно необычном отношении к выражению эмоциональных состояний человека. Выражения эмоций квалифицируются как "вызванные чем-то" или же "беспричинные". Эмоционального, легковозбудимого человека, человека настроения описывают как смеющегося без причины, плачущего без причины, без причины гневающегося и лезущего в драку. Слова "быть очень сердитым, беспричинно" не означают, что у этого человека очень импульсивный темперамент - о таком сказали бы "легко гневается"; но несут они в себе и косвенного значения непропорциональной реакции на законный повод. Нет, их надо понимать в буквальном смысла слова - человек гневается без причины - или же, более свободно передавая их значение, как констатацию некоего эмоционального состояния, не имеющего под собой никакого видимого повода. Такое толкование ближе всего подходит к самоанским способам оценки темперамента в отличие от характера. Хорошо адаптировавшийся к условиям индивидуум, достаточно полно усвоивший мнения, эмоции и установки своей возрастной и половой группы, никогда не будет обвинен в том, что он смеется, плачет или гневается без причин. Без всякого специального расследования будут предполагать, что для его поведения имеются хорошие и типические причины. Иначе будет дело обстоять, если человек отклоняется от нормы в темпераменте: его поведение будет подвергаться самому тщательному анализу и вызывать презрение. Здесь всегда отвергают чрезмерные эмоции, страстные предпочтения, сильные привязанности. Самоанцы предпочитают золотую середину, осторожное выражение разумных и уравновешенных установок. Те люди, чувства которых очень сильны, всегда считаются чувствующими без особых причин.
Одна из самых нелюбимых черт в сверстнике выражается словом "fiasili" - буквально "хочет быть выше всех", или, более кратко, "заносчивый". Старшие в таких случаях скажут неодобрительно: "Tautala laititi"-"He по возрасту много себе позволяет". "Fiasili" - это возмущенная реакция тех, кого игнорируют, кем пренебрегают, кого оставляют за собой люди превосходящие, обгоняющие и презирающие их. Это выражение осуждения не является таким сильным и таким негодующим, как "Tautala laititi", ибо в нем определенную роль играет зависть.
В обычных разговорах место пустых спекуляций о мотивах поведения занимают объяснения его с точки зрения физического недостатка или же реально происшедшего несчастья. "Сила кричит в том доме. Да, она глухая"; "Тулипа сердится на своего маленького брата. Мать Тулипы отправилась на Тутуилу на прошлой неделе". Хотя высказывания такого рода и кажутся на первый взгляд попытками объяснить поведение, на самом деле они не более чем привычки речи. Физический недостаток или же недавнее событие фигурируют здесь не в качестве объяснения, а лишь упоминаются несколько более подчеркнуто, с элементом осуждения. В человеке интересуются прежде всего его деяниями, не стремясь никак проникнуть в глубины мотивов его поведения.
Оценка человека всегда дается в категориях возрастной группы - как возрастной группы говорящего, так и возраста оцениваемого. Мальчик не рассматривается здесь как личность, как человек умный или глупый, привлекательный или непривлекательный, неуклюжий или умелый. Это смышленый маленький мальчик, хорошо выполняющий разные поручения и достаточна разумный, чтобы придержать язык в присутствии старших; либо же это многообещающий юноша, который может произносить великолепные речи в своей ауманге, умело руководит рыбаками в море и относится к вождям со всем должным почтением; либо же, наконец, этот человек - мудрый матаи, говорящий немного, но веско, мастер по плетению сетей для угрей. Достоинства ребенка у самоанцев отличаются от достоинств взрослых. И на оценки говорящего влияет его возраст, так что оценки достоинств и недостатков человека меняются с возрастом оценивающих. Маленькие мальчики и девочки будут самым решительным образом утверждать, что самые плохие дети - это драчуны, спорщики, грубияны. Молодые люди в возрасте от шестнадцати до двадцати лет смещают свои оценки отрицательных качеств характера от драчливости и грубости к половой распущенности. Для них самые плохие люди - моетотоло и пользующиеся самой дурной репутацией за крайнюю неразборчивость своих половых связей девушки. Взрослые же обращают очень мало внимания на половую распущенность и считают главными недостатками молодого человека бездарность, дерзость, непослушание. В то же время главные недостатки взрослых для них - лень, глупость, сварливость и ненадежность. В оценках взрослых нормы поведения соотнесены с возрастами следующим образом: маленькие дети должны быть тихими, рано вставать, слушаться, много и радостно работать, играть с детьми того же самого пола; молодые люди должны быть трудолюбивыми и умелыми в работе, не быть выскочками, проявлять осмотрительность в браке, преданность своей родне, не сплетничать, не хулиганить; взрослые же должны быть мудрыми, миролюбивыми, безмятежными, щедрыми, заботящимися о добром имени своей деревни, они должны вести свою жизнь с соблюдением всех правил благопристойности. Никогда в оценках человека на первый план не выдвигаются более тонкие свойства интеллекта и темперамента. Предпочтение в любви отдается не наглому, дерзкому и смелому, а спокойному, скромному юноше или же девушке, которая "говорит нежно и ходит плавно".
13. Наши педагогические проблемы в свете самоанских антитез
На протяжении многих глав мы внимательно следили за жизнью самоанских девочек. Мы наблюдали за тем, как из младенцев на руках они сами превращались в нянек, учились разжигать очаг и плести красивые циновки, как они уходили из своих детских компаний и становились активными членами большой семьи, как они, довольствуясь годами случайных половых связей, откладывали свое замужество на возможно более долгий срок, как, наконец, они выходили замуж и рожали детей, повторяющих их жизненный цикл. В той мере, в какой нам позволил наш материал, мы провели своего рода эксперимент, ставящий своей задачей выяснить, как будет развиваться человек в обществе, весьма далеком от нашего. Ни продолжительность человеческой жизни, ни сложность нашего общества не позволяют нам проводить такие эксперименты здесь: мы не можем отобрать группу младенцев женского пола и довести их до зрелости в условиях, специально созданных для этого эксперимента. Вот почему оказалось необходимым отправиться в другую страну, где сама история позаботилась о том, чтобы показать нам то, что мы ищем. Там мы встретили девочек, проходящих через тот же процесс физиологического развития, что и наши: у них прорезались, а затем и выпадали молочные зубы, потом у них прорезались коренные зубы, они вытягивались и делались неуклюжими, с первой менструацией они достигали половой зрелости, постепенно созревали физически и становились готовыми к тому, чтобы произвести на свет новое поколение. Вот почему здесь можно было сказать: "Вот самые подходящие условия для нашего эксперимента". Развивающаяся девочка - постоянный фактор и в Америке и на Самоа; цивилизации Америки и Самоа отличаются друг от друга. Верно ли, что процесс взросления, в ходе которого маленькая девочка становится взрослой женщиной, с его внезапными и бросающимися в глаза физическими изменениями, приводящими к половой зрелости, сопровождается спазматическим, эмоционально отягченным развитием, пробуждением религиозного чувства, расцветом идеализма, большой жаждой самоутверждения перед лицом авторитета? Является ли юность для растущей девушки столь же неизбежным периодом умственного и эмоционального дискомфорта, как время, когда у ребенка режутся зубы, время его страданий? Можем ли мы считать, что юность - это такое время в жизни каждой девочки, которое столь же обязательно связано с синдромами конфликта и стресса, как и с физическими изменениями ее тела?
Наблюдая самоанских девушек во всех проявлениях их жизни, мы старались ответить на все эти вопросы и пришли к выводу, что ответ может быть только отрицательным. Юная девушка на Самоа отличается от своей сестры, еще не достигшей подовой зрелости, в одном существенном отношении: у нее произошли определенные физиологические изменения, которые отсутствуют у ее младшей сестры. За этим исключением мы не нашли никаких других существенных различий, которые позволили бы отграничить группу девушек, проходящих через пубертатный период, от группы, которая созреет через два года, или от группы, которая прошла через этот период два года назад.
И если какая-нибудь девушка, прошедшая пубертатный период, малоросла, а ее кузина высока и способна делать более тяжелую работу, то между ними будут различия, связанные с их разными физическими задатками. Сам факт полового созревания мало скажется на жизни обеих девушек. Высокая, сильная девушка будет изолирована от своих подруг, принуждена выполнять более взрослую и более долгую работу, стыдиться менять платье. В то же самое время ее кузина, растущая медленнее, все еще будет считаться ребенком и жить в мире детей, решая только детские проблемы. Рецепт педагогов, рекомендующих специальную педагогическую тактику обращения с девушками-подростками, в применении к самоанским условиям гласил бы: высокие девочки отличаются от малорослых девочек того же самого возраста, и в их воспитании мы должны применять другие методы.
Но, ответив на вопрос, поставленный нами, мы еще не решили проблемы. Возникает другой вопрос. Если доказано, что период полового созревания необязательно привносит с собою особые трудности в жизнь девушки (а это можно считать доказанным, если находится общество, где дело обстоит именно так), то с чем тогда связаны бури и стрессы у американских подростков? На этот вопрос сразу же можно было бы дать совсем простой ответ: в этих двух цивилизациях должно быть заложено нечто такое, что и объясняет существование этого различия. Если один и тот же процесс принимает различные формы в двух разных социальных средах, объяснить это различие, основываясь на категориях самого процесса, невозможно. Ведь он один и тот же в обоих случаях. Отличается здесь только социальное окружение, и именно в нем мы должны искать объяснений. Что же тогда есть на Самоа, чего нет в Америке, и что есть в Америке, чего нет на Самоа, основываясь на чем можно было бы объяснить это различие?
Сам по себе такой вопрос очень многопланов, и, отвечая на него, мы рискуем впасть в многочисленные ошибки. Но если мы его сузим и спросим себя, чем определенные стороны самоанской жизни, оставляющие неизгладимый след в душе девушки-подростка, отличаются от сил, влияющих на нашу подрастающую девушку, то можно попытаться ответить на него.
Причины этих различий глубоки и включают в себя два основных компонента. Первый из них связан со специфически самоанскими условиями, второй - с условиями жизни примитивного общества вообще.
Самоанский фон, делающий рост детей таким легким и таким простым делом,- это общий стихийный характер всего общества. Самоа - это место, где никто не делает очень больших ставок и не платит очень больших цен. Здесь никто не страдает за свои убеждения и не бьется насмерть во имя определенных целей. Конфликт между родителями и ребенком здесь решается тем, что ребенок переселяется жить на другую сторону улицы, между деревней и взрослым - тем, что взрослый уезжает в соседнюю деревню, между супругом и соблазнителем его жены - несколькими парами циновок тонкой работы. Ни бедность, ни крупные несчастья не угрожают этим людям, и потому они пе борются так судорожно за жизнь и не трепещут от страха перед будущим. Никакие безжалостные боги, быстрые в гневе и суровые в отмщении, не нарушают ровного течения их жизни. Войны и каннибализм давным-давно отошли в прошлое, и сейчас самой большой причиной для слез, если не брать саму смерть, оказывается поездка к родственникам на другой остров. Здесь никто не спешит в жизни и никого не наказывают за отставание. Наоборот, здесь сдерживают одаренных, развитых не по возрасту, чтобы самые медленные могли сравняться с ними. И в личных отношениях самоанцев мы не видим сильных привязанностей. Любовь и ненависть, ревность и месть, печаль и переживание тяжелой утраты - все это лишь на недели. С первого месяца своей жизни ребенок, передаваемый из одних случайных женских рук в другие, усваивает урок: не привязывайся очень сильно к одному человеку, не связывай очень больших ожиданий ни с одним из родственников.
Если Запад наказывает тех несчастных, которые, будучи: рождены в его цивилизации, проявляют склонность к созерцанию и испытывают полнейшее отвращение к деятельности, то Самоа, можно сказать, благосклонно к людям, хорошо усвоившим урок стихийной жизни, и сурово к тем, кто ей не обучился. <...>
В этом своем спонтанном отношении к жизни, в стремлении избежать конфликтов и острых ситуаций Самоа резко отличается не только от Америки, но и от большинства других примитивных цивилизаций. И сколь бы предосудительными нам ни казались такие установки и сколько бы мы ни утверждали, что такое неглубокое общество не может порождать ни значительных личностей, ни великого искусства, мы все же должны признать, что именно здесь и заложена главная причина безболезненного превращения самоанской девочки в женщину. Там, где никто не испытывает глубоких чувств, подростка не будут мучить трагические ситуации. Там нет мучительного выбора, как тот, что стоял перед молодыми людьми в средние века, когда считалось, что служба богу требует полного отречения от мира. От самоанца не требуется отсечения в ритуальной жертве собственного пальца, как от индейца прерий. Вот почему в перечень факторов, объясняющих найденное нами различие, мы должны поставить отсутствие глубоких чувств, которое здесь культивируется как жизненная привычка, до тех пор пока оно не превратится в самую сердцевину всех их жизненных установок.
К этому надо сразу добавить и другое. Все изолированные примитивные цивилизации и многие цивилизации нового времени разительнейшим образом отличаются от нашей по числу возможных выборов, дозволенных каждому индивидууму. Наши дети, подрастая, сталкиваются с целым миром возможностей, из которых им предстоит выбирать, и этот мир слепит их непривычные глаза. В религии они могут быть католиками, протестантами, последователями секты "Христианская наука"32, спиритуалистами, агностиками, атеистами и даже вообще безразлично относиться к любой религии. Такая ситуация немыслима в любом примитивном обществе, не подверженном чуждым влияниям. Там одна совокупность богов, один обязательный ритуал, а если человек не верит, то единственная возможность неверия, открытая для него,- верить меньше, чем его собратья. Он может глумиться над их верой, но в его распоряжении нет другой, к которой бы он мог обратиться. Острова Мануа в наши дни великолепно иллюстрируют это положение. Здесь все христиане одной и той же секты. Религиозных конфликтов, по существу, нет, хотя имеются различия между членами и нечленами церкви. Мы заметили, что для некоторых подрастающих девочек необходимость выбора отношения к религии со временем могла привести к конфликту. Но пока церковь еще очень мало стремится вовлечь в свое лоно молодых неженатых людей, и потому подростки не стоят перед необходимостью принятия каких бы то ни было решений по этому вопросу.
Наши дети сталкиваются и с полудюжиной противоречащих друг другу моральных стандартов: здесь и разные половые морали для мужчин и для женщин, и требование единых норм в этом вопросе; одни группы признают полную свободу половых отношений, другие - абсолютную моногамию. Пробный брак, брак-товарищество, брак-сделка - все это возможные решения, выходы из семейного тупика, которые громко заявляют о себе нашим подрастающим детям. А реальная жизнь в окружении ребенка, кинофильмы и журналы рассказывают ему о массовых нарушениях любого кодекса правил, нарушениях, не притязающих ни на какую социальную реформу.
Самоанский ребенок не сталкивается ни с какими дилеммами подобного рода. Здесь секс - естественное, несущее удовольствие явление. Его полная свобода ограничена только одним фактором - социальным статусом. Дочери и жены вождя не должны пускаться во внебрачные приключения. У серьезных людей, у глав и матерей семейств должно быть слишком много важных дел и забот, чтобы у них оставалось время на случайные амурные похождения. С этим половым кодексом согласна вся община. Немногочисленные инакомыслящие, вносящие диссонанс в это единство,- миссионеры. Но их протесты - глас, вопиющий в пустыне. Если же их взгляды на брак с их европейскими стандартами сексуального поведения найдут достаточный отклик у самоанцев, в самоанское общество вступит необходимость выбора, этот предвестник конфликта.
Наши молодые люди видят перед собой целый ряд различных групп, верящих в разные вещи и пропагандирующих разные способы поведения. К каждой из этих групп могут принадлежать их близкие друзья или родственники. Так, отец девочки может быть пресвитерианцем, империалистом, вегетарианцем, активным членом Лиги трезвости. В литературе ему больше всего нравится Эдмунд Берк, в экономике он сторонник "открытого цеха"33 и высоких тарифов. Он считает, что место женщины дома, что девушки должны носить корсеты, им не следует закатывать чулки и кататься по вечерам с молодыми людьми. Ее же дед по матери может принадлежать к сторонникам Низкой епископальной церкви, верить в высокие идеалы, быть рьяным защитником прав государства и доктрины Монро, читать Рабле, ходить на музыкальные вечера и посещать скачки. Ее тетка - агностик, страстная феминистка и интернационалистка, возлагающая все свои упования на эсперанто, поклонница Бернарда Шоу и противница вивисекции, тратящая на защиту животных все свое свободное время. Ее старший брат, предмет ее преклонения, только что провел два года в Оксфорде. Он англокатолик, пылкий поклонник всего средневекового, пишет мистические стихи, читает Честертона и намерен посвятить всю свою жизнь поиску утерянного секрета красок средневековых витражей. Младший брат ее матери - инженер, убежденный материалист, так и не сумевший оправиться после чтения Геккеля в юности, он презирает искусство, верит в то, что наука спасет мир, высмеивает все, что было сказано и придумано до девятнадцатого века, и разрушает свое здоровье в научных экспериментах по устранению сна из жизни человека. У ее матери квиетистский склад ума, ее чрезвычайно интересует индийская философия, она пацифистка, принципиальная созерцательница в жизни, и, несмотря на пылкую привязанность к ней дочери, она не сделает ни одного шага ради того, чтобы заручиться ее детским энтузиазмом в поддержку своих взглядов. И все это может иметь место в собственном семействе девочки. Прибавьте к этому различные группы, представленные, пропагандируемые, защищаемые ее подругами, учителями и книгами, которые она случайно прочтет, и вы получите чудовищный список областей возможного приложения энтузиазма, идей, ищущих преданных сторонников и несовместимых друг с другом.
Возможности выбора у самоанской девочки совсем иные. Ее отец - член церковного прихода, в нем состоит и ее дядя. Ее отец живет в деревне, где хорошо ловится рыба, а дядя - в деревне, где много кокосовых пальм. Ее отец - хороший рыбак, и в его доме всегда много еды, ее дядя - оратор и часто дарит ей материю из луба, великолепный наряд для танцев. Ее бабушка по отцу, живущая с дядей, может научить ее многим секретам врачевания; ее бабушка по матери, живущая вместе с нею, мастерски делает опахала. Мальчики в деревне ее дяди принимаются в аумангу в более раннем возрасте, чем в ее собственной, и, когда они приглашают ее, с ними скучновато. В ее же собственной деревне есть три мальчика, которые ей очень нравятся. И великая дилемма, встающая перед ней,- оставаться ли жить с отцом или уйти к своему дяде - оказывается очень четкой конкретной проблемой, не создающей никаких этических затруднений, не связанной ни с какой абстрактной логикой. Не будет оценен ее выбор и в плане личностных отношений, как у американской девушки: у той выбор какой-нибудь идеи может быть оценен родственниками как выбор точки зрения одного из них. Самоанцы будут уверены, что она предпочла одно местожительство другому по вполне основательным причинам: там лучше пища, у нее в той деревне любовник, она поссорилась с любовником в этой. В любом случае она делает конкретный выбор в рамках вполне понятной схемы поведения. Она никогда не встает перед необходимостью сделать такой выбор, который означал бы отказ от стандартов поведения своей социальной группы, как в нашем обществе, где дочь пуританских родителей стоит перед вопросом, разрешить или нет слишком смелые ласки.
Наши подрастающие дети сталкиваются не только со множеством групп, пропагандирующих различные и взаимоисключающие стандарты поведения. Перед ними стоит и более трудная проблема. Ткань нашей цивилизации состоит из такого числа нитей, что идеи, принимаемые одной группой, обязательно будут содержать в себе многочисленные противоречия. Поэтому, если даже девочка всем сердцем приняла идеи одной группы и поверила ее торжественным клятвам, что всякая иная философия жизни идет от антихриста и подлежит анафеме, ее проблемы этим не кончаются. Если одним детям нанесет самый тяжелый удар открытие того, что мнение отца о хорошем полностью расходится с мнением деда, а вещи, разрешаемые дома, запрещаются в школе, то для более глубоко мыслящих детей припасены трудности более тонкого порядка. Девочка, с философским спокойствием принявшая факт, что ей предстоит выбрать из целого ряда стандартов поведения, все еще может сохранять детскую веру в последовательность выбранной ею философии. Она надеется, что после такого сложного и мучительного выбора, выбора, который может ранить сердце ее родителей и отвратить от нее ее друзей, ее ожидает мир. Но она не учитывает простого обстоятельства: каждая из философий жизни, противостоящих ей, сама всего лишь плод полусозревшего компромисса. Пусть она примет христианство. Тогда как ей быть с учением Писания о мире и ценности человеческой жизни и полным одобрением церковью войны? Компромисс между римской философией войны и господства и раннехристианскими доктринами мира и смирения, достигнутый семнадцать веков назад, все еще живет и в наше время, запутывая современного ребенка. Если она примет философские предпосылки, на которых была основана Декларация независимости Соединенных Штатов, то перед ней возникнет проблема, как примирить веру в равенство людей, институционализованные гарантии равенства возможностей и наше обращение с неграми и азиатами. Противоречия норм в современном обществе так бросаются в глаза, что даже самый глупый, самый беззаботный человек не может их не заметить. И эти противоречия так стары, так глубоко вошли в самую плоть тех полурешений или компромиссов, которые мы называем христианством, демократией, гуманизмом, что они запутают самый сильный, самый живой, самый аналитический ум.
Итак, объясняя, почему проблема выбора, стоящая перед самоанской девушкой, не носит мучительного характера, мы должны обратиться к темпераменту самоанской цивилизации, которая обесценивает сильные чувства. Объясняя же отсутствие конфликтов в ней, мы должны главным образом обратиться к различию между простой, однородной, примитивной цивилизацией, которая изменяется так медленно, что каждому поколению она кажется статичной, и пестрой, разнообразной, гетерогенной цивилизацией.
А производя это сравнение, мы должны обратить внимание и на третье обстоятельство - отсутствие неврозов среди самоанцев и распространенность неврозов у нас. Мы должны исследовать те факторы в раннем воспитании самоанских детей, которые и обеспечивают их последующее нормальное, не невротическое развитие. Данные бихевиористов и психоаналитиков в равной мере свидетельствуют о громадном значении среды, в которой находится ребенок в первые годы своей жизни, для его последующего развития. Дети, взявшие плохой старт, часто плохо функционируют и позднее, когда они оказываются перед лицом важного выбора. И мы знаем, что, чем более суровым оказывается этот выбор, тем интенсивнее конфликт, чем острее и мучительнее требования, предъявляемые к индивидууму, тем больше неврозов. История в последнюю войну исчерпывающе проиллюстрировала справедливость сказанного громадным числом искалеченных и изувеченных людей, дефекты которых проявились только в условиях особого и страшного стресса. Не будь войны, есть все основания считать, что многие из этих изувеченных людей прожили бы незамеченными всю свою жизнь; плохой старт, страхи, комплексы, дурные рефлексы раннего детства никогда бы не дали таких явных результатов, которые привлекли к этим людям внимание всего общества.
Из этого наблюдения следуют выводы двоякого рода. Отсутствие на Самоа трудных ситуаций, проблемы выбора, чреватого конфликтом, ситуаций, в которых страх, или боль, или тревога обострены до крайности, по-видимому, в значительной мере объясняет и отсутствие психической неадаптированности у самоанцев. Даже последний идиот не был бы безнадежно потерян в самоанской жизни, хотя в большом американском городе он должен был бы находиться под медицинским присмотром. А индивидуумы с легкой невротической неуравновешенностью обладали бы значительно более благоприятными шансами в жизни на Самоа, чем в Америке. Кроме того, степень индивидуализации, диапазон вариативности на Самоа значительно меньше. В границах нашего более широкого диапазона отклонений от нормы неизбежно находятся и слабые, неустойчивые темпераменты. И в той же мере, в какой для нашего общества характерно большее развитие личности, в нем можно выявить и большую долю индивидуумов, сломленных усложненными требованиями современной жизни.
Тем не менее, возможно, что в раннем окружении самоанского ребенка имеются факторы, особо благоприятствующие развитию нервной устойчивости. Мы справедливо считаем, что ребенок, воспитавшийся в лучших домашних условиях, в нашей цивилизации при всех обстоятельствах будет обладать лучшими шансами на успех в жизни. Но точно так же мы вправе предполагать, что самоанская культура не только более мягко обращается с ребенком, но и лучше готовит его к предстоящим встречам с жизненными трудностями.
Справедливость этого предположения подкрепляется одним наблюдением: самоанские дети, по-видимому, безболезненно проходят через те переживания, которые чреваты самыми серьезными последствиями для развития личности в нашей цивилизации. Биографии людей в нашей цивилизации полны страданий, корни которых восходят к детским психическим травмам, вызванным столкновением с сексом, родами или смертью. Но самоап-ские дети с раннего детства и без каких бы то ни было вредных последствий для себя знакомятся и с тем, и с другим, и с третьим. Очень возможно поэтому, что в жизни маленького ребенка на Самоа имеются какие-то стороны, которые делают его особенно приспособленным к встрече с будущими жизненными трудностями.
Основываясь на этой гипотезе, целесообразно более детально рассмотреть те стороны повседневного окружения самоанского ребенка, которые сильнее всего отличаются от наших. Большинство из них связано с ситуацией в семье, то есть с тем непосредственным окружением ребенка, которое ранее всего и самым сильным образом действует на его сознание. Уже одна организация самоанской семьи радикально устраняет многие из тех ситуаций, которые, как полагают, приводят к нежелательным эмоциональным установкам. Младший, старший, единственный ребенок - всего этого здесь почти никогда нет, так как в доме много детей, с каждым из которых обращаются одинаково. Здесь очень мало детей, подавленных своей ответственностью, детей, командующих другими, подчеркивающих свое превосходство, как это слишком часто бывает у нас со старшими детьми. Здесь нет и изолированных детей, осужденных на то, чтобы постоянно находиться в обществе взрослых, и лишенных товарищеских контактов с другими детьми, как это бывает с нашим единственным ребенком. Здесь никто не балует и не портит ребенка до такой степени, что его мнение о своих собственных достоинствах окажется безнадежно испорченным, как столь часто бывает с нашими младшими детьми. В тех же немногих случаях, когда условия самоанской семейной жизни приближаются к нашим, появляется и тенденция к возникновению тех же самых особых установок, связанных с порядком рождения, сильными аффективными связями с родителями, что и у нас.
Нельзя на Самоа найти и тесных связей между родителем и ребенком, которые оказывают столь решающее влияние на многих людей в нашей культуре, так что подчинение родительской воле или же восстание против нее становится доминирующей чертой всей их жизни. Дети воспитываются в доме, где всегда есть пять-шесть взрослых женщин, чтобы позаботиться о них, вытереть их слезы, и пять-шесть взрослых мужчин, каждый из которых - авторитет для ребенка. Все это не позволяет ему так резко различать между своими родителями и остальными взрослыми, как это делают наши дети. Образ заботливой, нежной матери или вызывающего восхищение отца, столь важный фактор в определении аффективной жизни человека в последующие годы, у самоанского ребенка сложен - он составлен из представлений о нескольких тетках, кузинах, старших сестрах, бабушках, из представлений о вожде, дядях, братьях и кузенах. Если наш ребенок прежде всего усваивает, что у него есть нежная мать, особая и главная задача которой в жизни - забота о его благоденствии, и отец, на авторитет которого надо полагаться, то самоанский ребенок узнает в самом начало жизни, что его мир состоит из иерархии взрослых мужчин и женщин, иерархии, где он может рассчитывать на заботу каждого и должен считаться с авторитетом каждого.
Отсутствие сильных чувств, направленных на одного человека, вытекающее из расплывчатости эмоциональных связей в семье, еще более усиливается отделением мальчиков от девочек, так что ребенок рассматривает детей противоположного пола как родственников, контакт с которыми находится под знаком табу, безотносительно к их индивидуальностям, или же как врагов в настоящем и любовников в будущем, и опять же безотносительно к их индивидуальности. А замена родственными связями связей, основанных на предпочтении, при возникновении дружбы завершает картину. К моменту достижения половой зрелости самоанская девушка твердо усваивает, что выбор друзей и любовников необходимо делать, руководствуясь определенными правилами. Друзьями должны быть родственники ее собственного пола, любовниками - неродственники. Всякие личные влечения или чувство духовной близости, испытываемое к родственнику противоположного пола, должны быть с презрением отброшены. Все это означает, что случайные половые связи не несут с собой никакой личной привязанности, что брак по расчету, продиктованный экономическими и социальными соображениями, легко переносится и легко, без сильных эмоций разрывается.
Эта картина самоанского дома находится в самом резком противоречии с той, которую дает нам обычная американская семья с малым числом детей, близкими и, теоретически говоря, постоянными связями между родителями, драмой прихода в мир каждого нового ребенка, отнимающего у предыдущего большую долю родительского внимания. Подрастающая девочка в таком доме привыкает зависеть от немногих и ожидать наград в жизни от определенных типов личностей. С этой первой установкой на предпочтение в своих личных отношениях она и растет, играет как с мальчиками, так и с девочками, близко знакомится с братьями, кузенами, школьными товарищами. Она думает о мальчиках не как о классе существ, по как об индивидуумах, милых, как брат, которого она нежно любит, или же неприятных, старающихся командовать ею, как брат, с которым она всегда в плохих отношениях. В ней развивается система предпочтений определенных типов внешности, темперамента, характера, создающая основы для совсем иных установок взрослой женщины, в которых уже важную роль играет выбор. Самоанская девушка никогда не испытывала счастья романтической любви, как мы его понимаем, но она и не страдала, как старая дева, которая либо не понравилась никому, либо не нашла никого, кто поправился бы ей. Не страдала она и как разочарованная жена от брака, который не ответил ее высоким запросам.
Научившись немного дисциплинировать наше половое чувство, связывать влечение к определенному человеку со всей его личностью, мы, может быть, склонны были бы считать наше решение половой проблемы лучшим, чем самоанское. Но для того чтобы добиться более высоких, как мы считаем, стандартов межличностных отношений в браке, мы готовы расплачиваться фригидностью в брачных отношениях и массой бесплодных незамужних женщин, ведущих безрадостную жизнь в американском и английском обществе. И, даже допуская желательность развития в нас этой обостренной избирательной реакции на личность в наших сексуальных отношениях как более достойной человека в сравнении с автоматической недифференцированной реакцией полового влечения, мы все же в свете самоанского опыта должны счесть наши методы чрезмерно дорогостоящими.
Строгое отделение мальчиков и девочек, родственных по крови; возведенная в некий общественный институт враждебность между детьми противоположного пола в допубертатный период - все это черты самоанской культуры, к которым мы но питаем ни малейшей симпатии. Мы стремимся устранить из нашей жизни пережитки подобных установок, например школы раздельного обучения, вводя совместное обучение мальчиков и девочек. Мы хотим познакомить один пол с другим так полно, чтобы была утрачена острота восприятия половых различий на фоне более ярких и более важных различий индивидуальностей. В самоанской системе табу и сегрегации, в воспитании у человека реакции скорее на группу, чем на индивидуума, нет очевидных преимуществ. Но если мы посмотрим на другую сторону этой черты самоанской культуры, то наш вывод уже но будет столь категоричным. В чем преимущества маленькой замкнутой биологической семьи, противопоставляющей свой замкнутый круг привязанностей враждебному миру, круг интенсивных аффективных связей между родителями и детьми, связей, предполагающих активные личностные отношения от рождения до смерти? В углублении и обогащении чувств, конечно, но в углублении, покупаемом ценою того, что многие на протяжении всей своей жизни остаются зависимыми детьми. Это углубление аффективных связей между родителями и детьми весьма сильно препятствует детям идти своими путями, делает подчас ненужно мучительным необходимый выбор, превращает его в проблему, пронизанную сильными эмоциями. Не слишком ли все это высокая цена за обогащение эмоциональной жизни, которого можно было бы добиться и иным путем, например совместным обучением? Решая этот вопрос, интересно отметить, что культуры с большими семьями, семьями, включающими несколько взрослых мужчин и женщин, по-видимому, предотвращают появление у ребенка болезненных установок, получающих различные ярлыки: эдипов комплекс, комплекс Электры и т.д.
Картина жизни на Самоа показывает нам, что не нужно так полно направлять чувства ребенка па родителей. И, отвергая ту часть самоанской системы воспитания чувств, которая основывается на сегрегации полов до пубертатного периода, как бесполезную для нас, мы можем многому научиться у культуры, в которой дом не доминирует над жизнью ребенка и не искажает ее.
Наличие в нашей культуре многочисленных страстно защищаемых и противоречащих друг другу идей и громадное слияние родителей на жизнь своих детей дополняют друг друга и создают положения, насыщенные аффектами и страданиями. На Самоа же то обстоятельство, что отец какой-нибудь девочки - властный догматик, отец ее кузины - ласковый, рассудительный человек, а отец ее другой кузины - блестящая эксцентричная личность, повлияет на этих трех девочек только в одном отношении: на выбор ими места жительства, если каждый из перечисленных отцов к тому же является и главой семейства. На разные темпераменты этих трех мужчин не окажут никакого воздействия на отношение этих трех девочек к сексу или религии, ибо отцы играют слишком малую роль в их жизни. Их воспитывает не отдельное лицо, а армия родственников, воспитывает в соответствии с общепринятыми стандартами, и личность их родителей очень слабо сказывается на этом процессе. Бесконечная цепь взаимодействий, причин и следствий сглаживает индивидуальные различия в стандартах поведения, эти различия не увековечиваются и передачей ребенку установок родителей. Можно было бы попытаться ослабить, хотя бы слегка, сильное влияние, оказываемое родителями па жизнь своих детей как раз в тех областях нашей культуры, которые насыщены ситуациями выбора. Тем самым мы бы устранили один из самых действенных случайных факторов, определяющих выбор жизненного пути каждым человеком.
Самоанские родители сочли бы непристойными и отвратительными любые моральные увещевания, взывающие к чувству личной привязанности ребенка: "Веди себя хорошо - пожалей мать", "Хотя бы ради отца сходил в церковь", "Оставь в покое сестру, ты видишь, как отец переживает". Там, где существует один, и только один стандарт поведения, такое недостойное смешение этики и чувства, слава богу, устранено. Но там, где много стандартов, и там, где все взрослые изо всех сил стремятся склонить своих детей выбрать то, что они сами выбрали в свое время, именно там и прибегают к этим нечестным и неприличным средствам. Верования, ритуалы, типы поведения навязываются ребенку во имя родственных чувств. С идеальной картиной свободы индивидуума и достоинства личностных взаимоотношений не очень вяжется то неприятное обстоятельство, что мы выработали форму семейной организации, которая часто калечит нашу эмоциональную жизнь и препятствует развитию очень многих способностей личности, развитию, ищущему собственных путей.
Третьим элементом самоанской модели эмоциональной жизни, основывающейся на устранении личных привязанностей и чувств, сконцентрированных на одном человеке, является дружба. И именно здесь личность прежде всего и подводится под общие категории и воспитывается реакция не па нее, а па эту общую категорию: "родственник", "жена оратора моего мужа", "сын оратора моего отца" или же "дочь оратора моего отца". Соображения родственности душ, единомыслия безжалостно подавляются во имя регламентированного коллективизма. Мы бы, безусловно, категорически отвергли подобные установки.
Подводя итоги всему сказанному, мы можем сказать, что самоанское общество резко отличается от нашего неиндивидуализированностью чувства, в особенности полового. Частично это и объясняет легкую приспособляемость на Самоа брачных пар друг к другу в браках по расчету, отсутствие у них фригидности или психической импотенции. Неиндивидуализированность чувства, в свою очередь, может быть объяснена существованием больших гетерогенных семей, сегрегацией полов до достижения половой зрелости и регламентацией дружбы, формированием дружеских связей на основе родственных. Но, сожалея о цене, которую приходится платить за индивидуализацию полового чувства, сожалея о неприспособившихся людях, о неудавшихся жизнях, мы тем не менее голосуем за развитие глубоких личностных чувств в отношениях мужчин и женщин как за благо, от которого мы никогда не откажемся. Однако наше исследование трех факторов, создающих в самоанском обществе эту деперсонализацию чувств, показывает нам, что желаемое нами развитие личностного сознания может быть достигнуто и через совместное обучение, и через свободную, нерегламентированную дружбу, и, возможно, через устранение пороков, присущих слишком интимной организации семьи. Тем самым мы смогли бы уменьшить тяжесть той платы, которую в лице неприспособленных мы должны платить за нашу систему воспитания, не жертвуя ни одним из ее столь дорого купленных завоеваний.
Следующее большое различие между самоанской культурой и нашей, различие, объясняющее меньшее число невротиков на Самоа,- это различие в отношении к сексу и подготовка детей к вопросам, связанным с рождением и смертью человека. Ни секс, ни рождение не считаются здесь чем-то, о чем дети не должны знать. Самоанский ребенок не должен ни скрывать свои знания из страха быть наказанным, ни мучительно думать над плохо понятными ему вещами. Таинственность, невежество, знание, смешанное с чувством вины, болезненные фантазии, приводящие к уродливым представлениям с возможными последствиями в весьма отдаленном будущем, знание чисто физической стороны секса без знания о сопровождающих его удовольствиях, знание факта рождения без представления о сопровождающих его муках, знание факта смерти без знания сопутствующего ей разложения - вот главные пороки нашей фатальной философии предохранения детей от знакомства с отвратительными истинами. Всего этого нет на Самоа. Кроме того, самоанский ребенок, тесно связанный с жизнью множества родственников, приобретает большой и многообразный опыт, на котором и будут основываться его эмоциональные установки. Наши дети, общение которых ограничивается пределами узкого, интимного круга одной семьи (а это ограничение делается все более распространенным с ростом городов и заменой многоквартирных домов со сменяющимися жителями кварталами коттеджей), свои переживания факта рождения ребенка или смерти взрослого часто связывают только с рождением младшего брата или сестры или же смертью одного из родителей или своих бабушек и дедушек. Их знание половой сферы, если не считать детских пересудов, основывается на случайно увиденных половых сношениях их родителей. Все это имеет целый ряд совершенно очевидных недостатков. В первую очередь дети обязаны познаниями рождениям и смертям, случившимся в их собственных семьях. Младший ребенок в семье, где длительное время не было смертей, становится взрослым, так и не получив каких-то личных впечатлений, связанных с беременностью, опыта общения с маленькими детьми, никогда не вступив в контакт со смертью.
Невежественный, неопытный ум явится плодородной почвой для множества плохо усвоенных, фрагментарных представлений о жизни и смерти, плодородной почвой для роста таких мнений и чувств, которые не принесут их владельцу в будущем ничего, кроме несчастий. Далее, дети в этом случае приобретают опыт рождения и смерти из чрезмерно эмоциональных источников. Рождение ребенка в их собственной семье может оказаться единственным фактом рождения, с которым они непосредственно столкнутся в течение первых двадцати лет своей жизни. Но все их отношение к родам будет основываться на случайных обстоятельствах именно этого события. Если это было рождением младшего ребенка в семье, которому предстояло узурпировать место старшего, если мать умерла при родах, если ребенок родился деформированным, то и рождение, как таковое, может показаться чем-то ужасным, чем-то связанным только с неприятными последствиями. Если единственной смертью, увиденной нами в жизни, будет смертное ложе пашей собственной матери, то и факт смерти самой по себе может оказаться навсегда связанным со всеми теми переживаниями, которые вызвала в нас эта тяжелая утрата. Именно поэтому отношение к смерти у такого человека в будущем при столкновении с другими смертями может навсегда утратить чувство меры. И половые сношения, увиденные ребенком раз или два в жизни, да еще к тому же между близкими родственниками, людьми, к которым ребенок испытывает сложные чувства, могут привести к возникновению в его сознании целого ряда ложных представлений. Истории болезни невротических детей полны случаев, когда в основе этиологии невроза лежало неправильное понимание детьми увиденного ими сексуального акта: они увидели в нем борьбу, сопровождаемую гневом и наказанием, и отшатнулись от этого эмоционально напряженного зрелища. Итак, опыт наших детей в вопросах, относящихся к жизни и смерти, зависит от случая, да и этот опыт им позволено приобретать только в условиях тесного семейного круга, то есть в самом неподходящем месте для усвоения некоторых общих фактов, тех фактов, в отношении которых чрезвычайно важно не иметь никаких особых искаженных установок. Одна смерть, два рождения, один половой акт - вот тот еще щедрый материал приобретения опыта в этих вопросах для ребенка, воспитанного в условиях, отвечающих нашим представлениям об американском образе жизни. И если сравнить с этим число примеров, которые мы считаем нужным дать ребенку, чтобы научить его рассчитывать количество кусков обоев, требующихся для оклейки комнаты площадью 8x12 футов, или разбирать английское предложение, то станет ясно, что здесь мы руководствуемся очень низкими стандартами наглядности. Можно возразить: впечатления этого рода обладают такой эмоциональной интенсивностью, что их повторение излишне. Но тогда ведь можно было бы утверждать, что ребенок, избитый перед уроком, где ему придется решать задачу об обоях, а после урока увидевший, как отец ударил кочергой его мать, навсегда запомнит этот урок арифметики. Но сомнительно, будет ли он знать что-нибудь о расчетах, действительно производящихся при ремонте. Одна-две увиденные картины не дают никакой перспективы ребенку, никакой возможности поставить гротескные и непривычные физические детали жизни па принадлежащее им место. Из единичного знакомства с некоторыми фактами жизни, знакомства, происходящего в условиях интенсивного эмоционального стресса, в атмосфере, неблагоприятной для того, чтобы ребенок мог их действительно понять, возникают ложные, односторонние впечатления, идиосинкразии, отвращения, страхи.
Некое правило молчания, запрещающее детям говорить что бы то ни было об их переживаниях, вызванных всем этим, содействует укреплению ложных впечатлении, порочных эмоциональных установок. Вопросы вроде "Почему у бабушки такие синие губы?" быстро пресекаются. На Самоа, где разложение наступает почти немедленно после смерти, откровенное наивное отвращение к трупным запахам у всех участников похорон отнимает у физических сторон смерти какое бы то ни было особое значение. По нашим же нормам ребенку не позволено воспроизводить свои впечатления, ему не разрешается их обсуждать и тем самым исправлять ошибочное в них.
С самоанским ребенком дело обстоит совсем иначе. Половой: акт, беременность, роды, смерть - знакомые для него события. В цивилизации, где уединенность подозрительна, соседские дети всегда будут непрошеными и невозмутимыми свидетелями событий в доме, где умирает глава семейства или же у какой-нибудь женщины происходит выкидыш. Им столь же хороню известна патология жизненных процессов, как и их норма. Одно впечатление корректирует более раннее, и это происходит до тех пор, пока подростки не смогут думать о жизни, о смерти, о чувстве, не обращая особого внимания на чисто физические детали. Не следует, однако, предполагать, что простое видение детьми сцен рождения и смерти явится достаточной гарантией против развития нежелательных установок. По-видимому, в большей мере, чем сами факты, столь часто наблюдаемые детьми, на них влияет отношение взрослых к этим фактам. Для последних роды, секс, смерть - естественная, неизбежная структура существования, в котором они ожидают и участия своих детей. Наша столь часто повторяемая пропись - "неестественно" позволять детям присутствовать при смерти - показалась бы им столь же нелепой, как если бы мы сказали, что неестественно позволять детям видеть, как другие люди едят или спят. И спокойное принятие присутствия детей при этих сценах как чего-то совершенно естественного окутывает ребенка защитной атмосферой, спасает его от шока и с большей силой вовлекает его в атмосферу общего чувства, в которой ему таким достойным образом разрешено участвовать.
Как всегда, здесь невозможно отделить сознательную установку родителей от фактической практики и сказать, что из них первично. Это разграничение имеет смысл только для нас, живущих в другой цивилизации. Некоторые американские родители верят в нечто похожее на самоанскую практику воспитания и позволяют своим детям видеть тела взрослых и тем самым приобретать более широкие познания о работе человеческого тела, чем это принято в нашей культуре. Но они строят на песке. Такой ребенок, как только он покидает защитный кров своего дома, сталкивается с губительным для пего общественным мнением, считающим такие познания у детей отвратительными и противоестественными. Поэтому существует очень большая вероятность того, что эти родители принесут своему ребенку больше вреда, чем пользы, ибо их усилия здесь не поддерживаются необходимым общественным мнением. Это еще один пример возможного источника неврозов в обществе, где каждый дом отличается от другого, ибо источником стресса оказывается тут скорее сам факт существования этих различий, чем их природа.
Именно па этом спокойном принятии физических фактов жизни самоанцы, вырастая, и строят свое отношение к сексу. И здесь опять необходимо отделить те стороны их сексуальных отношений, которые, как кажется, приносят плоды, безусловно отвергаемые нами, и те, которые приводят к желательным для нас результатам. Возможно проанализировать самоанскую практику сексуальных отношений с двух точек зрения: во-первых, с точки зрения развития личностных отношений между полами и, во-вторых, с точки зрения устранения специфических трудностей в этих отношениях.
Мы уже познакомились с низкой оценкой самоанцами индивидуальности человека, с их обедненными представлениями о личностных отношениях. Распространенный промискуитет, несомненно, содействует такому отношению к личности. Одновременное пребывание в нескольких половых связях, их кратковременность, совершенно явное стремление избежать каких бы то ни было сильных эффектных привязанностей в половых отношениях, жизнерадостное использование для них любых предоставившихся возможностей, которые дает случай, как, например, в предположительной неверности жены, муж которой долго отсутствует, - все это делает секс на Самоа самоцелью, а по сродством, чем-то таким, что ценится само по себе и вызывает энергичный протест, как только он начинает привязывать одного индивидуума к другому. Сомнительно, чтобы недооценка личностных отношений полностью определялась сексуальными привычками этого народа. Скорее она представляет собой отраженно более общей установки культуры, систематически игнорирующей личность. Но в этой же самой практике сексуальных отношений есть и один аспект, делающий возможным и такое признание личности, в котором отказано очень многим в нашей цивилизации: полное познание самоанцами секса, его возможностей, благ, которые он несет с собою, делает их способными познать подлинную природу секса. Они не склонны относить половые отношения к числу важных межличностных отношений и определяют их значимость только половым удовлетворением, доставляемым ими. Самоанская девушка, которая пожимает плечами по поводу великолепной половой техники некоего юного Лотарио, ближе к пониманию секса как некой безличностной силы, не имеющей в себе никакого внутреннего обоснования, чем американская девушка, влюбляющаяся в первого же мужчину, который ее поцеловал. Они знакомы с вибрациями тела в ответ на половое возбуждение юноши, и так возникает их понимание сущностной безличности полового влечения, понимание, которому мы можем только позавидовать. Из их же слишком легкой, слишком случайной половой практики и возникает то игнорирование личностного в сексе, которое нам кажется таким неприятным.
До сих пор мы рассматривали вопрос, каким образом половая практика самоанцев уменьшает возможность возникновения у них неврозов. Игнорируя же наши представления об извращенности в этой сфере, употребляя это понятие лишь для обозначения редких случаев психической извращенности, они тем самым отнимают жизнь у целой сферы, рождающей неврозы. Онанизм, гомосексуализм, статистически редкие формы гетеросексуальной активности не запрещаются и не возводятся в норму. Расширение диапазона форм половой активности, связанное с этим, предотвращает возникновение навязчивой идеи вины, которая столь часто лежит в основе наших невротических заболеваний. Большее разнообразие разрешенных форм гетеросексуальных половых отношений делает любого индивидуума ненаказуемым за особые формы полового рефлекса. Более широкий диапазон того, что считается "нормальным" в сексе, создает такую атмосферу в культуре, при которой не возникает фригидность и психическая импотентность и всегда может быть создана удовлетворенность брачными отношениями. Принятие нашей культурой подобного отношения к сексу без какого бы то ни было промискуитета внесло бы значительный: вклад в решение многих наших брачных тупиков, освободило бы от клиентов наши дома терпимости и скамьи в парках.
Организация семьи и отношение к сексу, безусловно, должны быть отнесены к числу наиболее важных факторов, благодаря которым самоанский образ жизни порождает устойчивых, хорошо сбалансированных, крепких индивидуумов. Но в этой связи также необходимо отметить и общую педагогическую максиму самоанской культуры, максиму, не одобряющую скороспелость и снисходительно относящуюся к медлительным, неуклюжим, неспособным. В обществе, где темп жизни быстрее, награды весомее, а количество затрачиваемой энергии больше, у одаренных детей могли бы при этом возникнуть симптомы апатии. По замедленный темп жизни, определяемый климатом, ее благодушие и спокойствие, компенсация в танце с его вызывающе невозрастными демонстрациями зрелости создают всем детям возможность но слишком скучать. Здесь не подхлестывают неспособных, не задают им темпа, превышающего их данные, темпа, в котором они, измученные бесполезными усилиями, капитулируют навсегда. Эта педагогическая политика имеет тенденцию затушевывать индивидуальные различия и тем самым сводит к минимуму ревность, соперничество, соревнование - все те социальные установки, которые вырастают из различия способностей и имеют столь далеко идущие последствия для личности взрослого.
Этот способ решения проблемы различий между индивидуальностями поразительно созвучен требовательному миру взрослых. Чем больше держат ребенка в подчиненном, несамостоятельном состоянии, тем с большей силой он впитывает общие установки культуры, тем меньше у него шансов стать ее мятежным элементом. Кроме того, при условии достаточного времени неспособные усвоят все необходимое, чтобы образовать прочный консервативный костяк, на котором и будет надежно покоиться бремя цивилизации. Награждать титулами молодого человека значило бы давать приз исключительному, давать же титулы сорокалетнему, человеку, уже приобретшему умение нести их,- это гарантия продолжения привычного. Но эта же политика и обескураживает одаренных, и тем самым их вклад в культуру Самоа меньше, чем он мог бы быть.
Сейчас мы с трудом нащупываем наш путь к решению этой проблемы, но крайней мере для системы организованного обучения. До очень недавнего времени паша образовательная система предлагала только два весьма половинчатых решения трудных проблем, связанных с различиями в способностях детей и разными темпами их развития. Одно решение - это достаточно долгие сроки прохождения каждой образовательной ступени, чтобы все учащиеся, кроме умственно отсталых, могли бы их пройти,- метод, аналогичный самоанскому, но без его компенсаторной танцевальной площадки. В этом случае одаренный человек, развитие которого преднамеренно сдерживается, страдает над невыносимо скучными задачами, до тех пор пока ему не посчастливится найти какую-нибудь другую отдушину для своей неизрасходованной умственной энергии. И очень вероятно, что этой отдушиной окажутся либо пренебрежение школой, либо детская преступность. Другой и единственной альтернативой этого решения оказывается "перепрыгивание" ребенка через классы, основывающееся на способности ученика, одаренного большим интеллектом, заполнить образовавшиеся пробелы. Последнее решение было в высшей степени созвучно американским восторгам перед головокружительными карьерами - от лодочника или из хижины дровосека в Белый дом. Недостатки этого метода, при котором отсутствует система в подготовке, ребенок изолируется от своей возрастной группы, описывались слишком часто, чтобы нужно было их воспроизводить. Но следовало бы отметить, что при совершенно иной оценке индивидуальных способностей по сравнению с той, с которой мы сталкиваемся в самоанском обществе, мы уже в течение многих лет в наших системах организованного обучения практикуем один способ решения этой проблемы, способ похожий, хотя и менее удовлетворительный, чем их.
Методы, которыми педагоги-экспериментаторы заменяют названные выше неудовлетворительные решения, проекты, подобные Дальтон-плану34, или же ускоренных классов, в соответствии с которыми группы одаренных детей могут двигаться вперед ровным высоким темпом, не вредя ни самим себе, ни своим белее тупым одноклассникам,- это поразительный пример эффективности применения разума к институтам нашего общества. Старое краснокирпичное школьное здание - столь же случайное и причудливое явление, как и самоанская танцевальная площадка. Школа была институтом, выросшим в ответ на смутно чувствуемые, непроанализированные нужды. Ее методы были аналогичны методам, применяемым примитивными народами - нерационализированными решениями насущных проблем. Но узаконение различных методов обучения для детей разных способностей и разных темпов развития не похожи ни на что, с чем мы сталкиваемся на Самоа или в любом ином примитивном обществе. Это - сознательное, разумное изменение человеческого института в ответ на осознанные человеческие потребности.
Еще одним фактором в самоанской педагогике, приводящим к появлению иных культурных установок, являются место труда и игры в жизни самоанских детей. Самоанские дети не учатся работать, учась играть, как это бывает у многих примитивных народов. Не существует у них и санкционированного периода отсутствия обязанностей, как у наших детей. С возраста четырех-пяти лет они выполняют определенные работы, посильные для них как в физическом, так и в умственном отношении. Но все же это работы, имеющие значение для жизни всего общества. Все это не значит, что у самоанских детей меньше времени на игру, чем у американских, запертых с девяти до трех часов в школе каждый день. До введения школ, усложнивших налаженный порядок жизни, время, затрачиваемое самоанским ребенком на то, чтобы сходить куда-нибудь с поручением, подмести пол, принести воду, присмотреть за маленькими, по-видимому, было меньшим, чем время, проводимое американской школьницей на занятиях.
Различие здесь состоит не столько в количестве часов, отведенных на деятельность, управляемую взрослыми, и па свободное время, сколько в принципиально иных подходах к этой деятельности. Превращение педагогики в такую сферу деятельности, которой занимаются профессионалы, и специализация производственных процессов привели к тому, что индивидуальное домашнее хозяйство лишилось многих своих прежних функций. Наши дети не чувствуют поэтому, что деятельность, осуществляемая под чьим-то руководством, функционально близка миру взрослых дел. Хотя это отсутствие связи является чем-то скорее кажущимся, чем действительным, оно тем не менее достаточно заметно, чтобы сильно влиять на отношение детей к деятельности, где ими управляют. Самоанская девочка, нянчащая ребенка, несущая воду, подметающая пол, или же маленький мальчик, роющий землю в поисках червей, собирающий кокосовые орехи, не стоят перед проблемами такого рода. Полезность их работы для них очевидна. И эта практика поручать детям работу, которую они могут выполнить хорошо, и никогда не разрешать им неуклюже, неэффективно возиться с инструментами взрослых, как делаем мы (когда они, например, бессмысленно портя вещь, стучат по клавишам отцовской пишущей машинки), приводит к совершенно иному отношению к труду. Американские дети проводят долгие часы в школах, решая задачи, явным образом никак не связанные с деятельностью их отцов и матерей. Их участие в труде взрослых осуществляется либо в игровой форме - игрушечные чайные сервизы, куклы, игрушечные автомобили, либо же в виде бессмысленной и опасной возни с осветительными приборами. (Следует помнить, что здесь, как и в остальных случаях, когда я употребляю прилагательное "американский", я не имею в виду американцев, недавно прибывших из Европы, где все еще существует другая традиция воспитания. Например, эмигранты с юга Италии все еще ждут производительного труда от своих детей.)
Так у наших детей вырабатывается набор ложных категорий - школа, работа, игра: работа - для взрослых, игра - для удовольствия детей, а школа - совершенно необъяснимая неприятность, за которую, правда, можно получить какие-то компенсации. Во всех этих ложных разграничениях заложена большая вероятность возникновения отрицательных установок самого разного типа: апатическое отношение к школе, никак явным образом но связанной с жизнью; ложная дихотомия между трудом и игрой, которая может привести либо к страху перед работой, несущей в себе утомительную ответственность, либо же к последующему отношению к игре как к чему-то детскому.
Дихотомия самоанского ребенка совершенно отлична по своему характеру. Работа на Самоа - выполнение обязанностей, поддерживающих жизнь общины: посадка и уборка урожая, приготовление пищи, рыбная ловля, строительство жилищ, плетение циновок, уход за детьми, приготовление подарков для свадьбы, для будущего ребенка, для унаследования титула, удовлетворение гостя. Все это - необходимые для жизни виды деятельности, в которых принимает участие каждый член общины, вплоть до самого маленького ребенка. Работа на Самоа - это не способ приобрести право на свободное время. Там, где каждая семья производит для себя и пищу, и одежду, и мебель, где нет больших недвижимых капиталов и домашнее хозяйство более высокого ранга отличается от более скромного всего лишь большей прилежностью в выполнении большего числа обязанностей, там вся ваша концепция сбережений, капиталовложений, отложенного удовольствия просто отпадает. (На Самоа нет даже четко определенных сезонов сбора урожая с их следствием - периодами обильной пищи и последующей скудости. Пища здесь всегда в изобилии, за исключением случаев, когда в отдельных деревнях несколько недель нехватки могут наступить после изобильного празднества.) На Самоа работа - это скорее что-то такое, что длится все время для каждого человека; никто от нее но освобожден; лишь немногие переутомлены. Там существует и общественное поощрение для трудолюбивых, и социальная терпимость к людям, едва зарабатывающим на жизнь. И там всегда есть досуг, досуг, заметьте, не являющийся результатом тяжелого труда или какого бы то ни было накопления капитала. Этот досуг - простой плод благоприятного климата, малой населенности, хорошо слаженной социальной системы и отсутствия социального спроса на показные траты. Игра же здесь то, что делают в свободное время,- способ заполнения больших интервалов свободного времени в структуре неутомительной трудовой деятельности.
Игра - это танцы, пение, охота, плетение венков, флирт, шутки, все виды сексуальной активности. Сюда надо включить и обрядовые посещения жителями одной деревни другой - обычай, в котором работа тесно переплетается с игрой. На Самоа поражает отсутствие каких бы то ни было различий между работой, которую необходимо делать и нельзя любить, и игрой как чем-то таким, что делают охотно, работой как главным делом взрослых и игрой как главным делом детей. Игры детей напоминают игры взрослых по своему характеру, интересу, ими вызываемому, и по их взаимоотношению с трудом. У самоанского ребенка поэтому нет никакого желания превратить деятельность взрослых в игру, перевести одну сферу в другую. Со мною была коробка глиняных трубочек для пускания мыльных пузырей. Самоанские дети умели пускать эти пузыри, но с помощью глиняных трубочек это можно было делать значительно лучше. Однако после нескольких минут восторга, вызванного необычными размерами и красотой мыльных шариков, маленькие девочки наперебой стали просить меня разрешить им отнести эти трубки домой маме, так как трубки делают для того, чтобы курить, а не играть. Чужеземные куклы их не интересовали, а своих кукол у них не было. На других островах дети плетут куклы из пальмовых листьев, на Самоа же они из них делают мячи. Они никогда не делают игрушечных домов, не пускают игрушечных корабликов. Маленькие мальчишки взбираются на настоящее каноэ и учатся управлять им в безопасных водах лагуны. Такое отношение к игре и труду в целом придает жизни самоанских детей большую цельность в сравнении с нашими.
Разумность жизни ребенка у нас определяется только путем сопоставления с поведением других детей. Если все другие дети ходят в школу, то ребенок, который туда не ходит, чувствует себя среди них неуютно. Если соседская девочка берет уроки музыки, то почему этого не может делать Мэри. Или же зачем Мэри учится музыке, если другая девочка этого не делает? Но наше ощущение различия между заботами детей и заботами взрослых настолько обострено, что ребенка не учат оценивать себя и свое поведение сопоставлением с жизнью взрослых. Так детей часто приучают рассматривать игру как нечто недостойное само по себе, как то, чему взрослые с сожалением посвящают немногие минуты своего досуга. Самоанский же ребенок каждый свой шаг в работе или в игре соизмеряет со всей жизнью общины; каждый элемент его поведения оправдан с точки зрения его ясно понятой связи с единственной нормой, известной ребенку, - жизнью самоанской деревни. Столь сложное и расслоенное общество, как наше, не может рассчитывать на стихийное возникновение такой простой схемы воспитания. И здесь нам будет трудно найти способы участия детей в жизни в целом, способы соединения их школьной жизни со всей остальной жизнью вне школы. Но только это и придало бы им то же самое достоинство, которым самоанцы наделяют своих детей.
Последним отличием самоанской культуры от нашей, отличием, которое может сказываться определенным образом на эмоциональной устойчивости их детей, является то, что на детей здесь не оказывают давления с целью заставить их сделать важный выбор. От детей требуют, чтобы они учились, вели себя правильно, трудились, но их не заставляют спешить с выбором, который они должны сделать сами. Самое первое в чем проявляется эта установка,- это табуирование отношений между братом и сестрой, главная норма скромности и приличий. И тем не менее точное время, когда это табу начинает соблюдаться, всегда предоставляется решению младшего из детей. Когда девочка достигнет сознательного возраста, возраста понимания, она сама почувствует "стыд" и установит те формальные барьеры, которые просуществуют до старости. Точно так же молодым людям никогда не навязываются и сексуальные отношения, не требуют от них и вступления в брак в нежном возрасте. Там, где возможность отклонения от принятых стандартов поведения мала, несколько лишних лет свободы действия не несут в себе никакой угрозы обществу. Ребенок, который позже начнет соблюдать табу отношений сестры и брата, фактически никому не угрожает.
Этот принцип "laissez faire"35 был привнесен и в самоанскую христианскую церковь. Самоанец не видит никаких разумных оснований для того, чтобы принуждать молодежь принимать важные решения, которые частично испортят их веселую жизнь. У них будет достаточно времени для таких серьезных вещей и после того, как они вступят в брак, или даже позднее, когда они полностью осознают последствия предпринятого шага и будут в меньшей опасности гневить бога каждый месяц или даже чаще. Миссионерские власти поняли преимущества, заложенные в этой медлительности, Стремясь, хотя и не без внутренней досады, примирить самоанскую половую этику с западноевропейским кодексом нравов, они усмотрели крупные недостатки в практике вовлечения незамужних девушек, девушек, не запертых в церковных школах, в христианскую общину. Вот почему местный пастор никогда не потребует от девушки-подростка подумать о своей душе, но посоветует ей подождать, пока она не вырастет. Что она и сделает с большой радостью.
В нас, в особенности среди протестантов, заложена сильная склонность именно к таким формам общения с молодежью. Реформация с ее повышенным вниманием к индивидуальному выбору была не склонна примириться лишь с формальной принадлежностью к церковной общине, принадлежностью по привычке. Последнее было католической моделью, а само вступление в общину там знаменовалось лишь дополнительными священными дарами и само по себе не требовало ни внезапного обращения, ни возрождения религиозного чувства. Но протестантское решение вопроса о приобщении молодого человека к церкви состоит только в откладывании выбора на необходимое время - до момента, когда ребенок достигнет "возраста самостоятельности". После же этого к нему обращаются с самым настоятельным и драматическим призывом. Этот призыв подкрепляется родительским и социальным давлением, от ребенка требуют незамедлительного и мудрого выбора. Хотя такая практика в церквах, выросших в зоне Реформации, с их сильным упором на выбор как личное дело, исторически неизбежна, все же достойно сожаления, что условность подобного рода длится столь долго. Она даже была перенята нецерковными реформистскими группами, рассматривающими подростка в качестве законнейшего объекта своей пропаганды.
Во всех этих сопоставлениях самоанской и американской культуры многие выводы полезны для пас лишь в ограниченном смысле: они проливают дополнительный свет на нашу собственную практику. В некоторых же из них, однако, можно найти и указания на то, в каких направлениях следует ее изменять. Безотносительно к тому, одобряем или не одобряем мы решения человеческих проблем, предлагаемые другими народами, наше отношение к собственным решениям должно значительно обогатиться и углубиться сопоставлением их с теми же самыми решениями у других. Поняв, что наши собственные методы не суть ни необходимые условия человеческой природы вообще, ни предустановления бога, но плод долгой и бурной истории, мы сможем хорошо проанализировать каждый из наших институтов. На фоне других цивилизаций они будут выглядеть рельефнее, и, спокойно оценив их, мы не побоимся найти и их недостатки.
III. Как растут на Новой Гвинее
"Как растут на Новой Гвинее" (Mead M. Growing Up in New Guinea. A Comparative Study of Primitive Education. Laurel, N. Y., 1973).
Книга "Как растут на Новой Гвинее" явилась плодом второй экспедиции М.Мид в Океанию. Книга написана в 1929 г. и появилась в свет в 1930 г. С тех пор она неоднократно переиздавалась и переведена на многие языки мира. Настоящий перевод отдельных глав этой работы М. Мид осуществлен с седьмого издания в США. В перевод включены: "Введение", главы III, IV, VII, XIV и приложение "Этнологический подход к социальной психологии". Выбирая для перевода эти главы, переводчик и составитель считали, что именно в них в наиболее концентрированной форме выражен принцип этнопсихологических концепций исследовательницы - культурно-исторический детерминизм всех проявлений психической жизни человека, включая наиболее интимные, например родительские чувства. Особое значение в этом плане имеет глава "Мир ребенка", в которой автор категорически отвергает концепцию врожденности анимизма - тема, неоднократно поднимаемая ею и в ряде других работ.
1. Введение
Как ребенок превращается в оформившегося взрослого, в своеобразное отражение своей страны и своего века - вот одна из самых волнующих проблем, стоящих перед пытливыми умами. Хотим ли мы проследить извилистые пути превращения неоформившихся младенцев, которыми мы некогда были сами, в личности, предсказать будущее какому-нибудь малышу в нагрудничке, руководить школой или философствовать насчет будущего Соединенных Штатов - мы постоянно будем наталкиваться на одну и ту же проблему. С каким уже готовым снаряжением ребенок появляется на свет? В какой мере его развитие подчиняется строгим законам? Сильно или же, наоборот, слабо влияют на это развитие обучение в раннем детстве, личности его родителей, учителей, товарищей по играм, время, когда он был рожден? Не слишком ли жёсток костяк человеческой природы, не сломается ли он, подвергнувшись излишне суровым испытаниям? В каких пределах он может гибко приспосабливаться? Возможно ли перестроить конфликт между молодостью и старостью так, чтобы он потерял свою остроту или стал бы более плодотворным?
Вопросы такого рода стоят почти за любым решением, касающимся людей,- за решением матери кормить ребенка с ложечки, а не заставлять его пить из ненавистной бутылки, за решением выделить миллион долларов на строительство новой школы второй ступени с производственным обучением, за пропагандой Лиги трезвости1 или политической партии. И тем не менее это предмет, о котором мы знаем мало, а методы его научного исследования стали разрабатываться только сейчас.
Но с того времени, когда в человеческой истории произошел перелом (символически представленный в библейском рассказе о смешении языков и рассеянии народов после вавилонского столпотворения), в распоряжении исследователя человеческой природы оказалась своего рода лаборатория. Во всех частях мира, в непроходимых джунглях и на маленьких островках океана группы людей, отличающиеся по языку и обычаям от своих соседей, экспериментировали, над тем, что можно сделать с человеческой природой. Необузданное воображение многих людей шло по разным путям истории, изобретая новые орудия труда, новые формы правления, новые и отличающиеся друг от друга решения проблемы добра и зла, новые воззрения на место человека во вселенной. Один народ испытал возможности, заложенные в делении на ранги, со всеми сопутствующими ему искусственными образованиями и условностями, другой - социальные последствия гигантских человеческих жертвоприношений, третий же - результаты рыхлых, не имеющих четких организационных форм демократий. Если один народ доходил до пределов в ритуальной свободе половых отношений, то другой требовал от всех своих членов воздержания, длящегося сезонами или годами. В то время как один народ обожествлял своих мертвых, другой вместо этого предпочитал забывать их и создавал философию жизни, учившую, что человек - это трава, произрастающая утром и скашиваемая навсегда в сумерки.
В пределах расплывчатых контуров, набросанных предшествующими структурами мысли и поведения и, по-видимому, составляющих наше общее человеческое наследие, бесчисленные поколения людей экспериментировали с возможностями, заложенными в человеческом духе. Пытливым умом, ясно понимающим ценность всех этих древних экспериментов, остается только прочесть их итоги, запечатленные в форме образа жизни различных народов. К сожалению, мы были расточительны и безрассудны в нашем отношении к этим бесценным документам. Мы позволили, чтобы единственный в мире отчет об эксперименте, длившемся тысячелетия, уничтожили огнестрельное оружие, спирт, евангелизм или туберкулез. С лица земли исчезает один примитивный народ за другим, не оставляя после себя никаких следов.
Если бы поколения биологов-энтузиастов выводили какую-нибудь породу морских свинок или мух-дрозофил и тщательно регистрировали результаты опытов в течение ста лет, а затем какой-нибудь легкомысленный вандал сжег бы отчеты об этом и убил живых особей этой породы, мы бы стали гневно кричать об ущербе, причиненном науке. Однако, когда история непреднамеренно знакомит нас с результатами даже не столетних опытов над морскими свинками, а тысячелетних экспериментов над человеком, мы позволяем уничтожать отчеты о них, не протестуя.
Хотя большинство этих хрупких культур, обязанных своим сохранением не письменным документам, а памяти нескольких сотен человек, и утеряны для нас, некоторые из них все же сохранились. На маленьких островках Тихого океана, в чащах африканских джунглей, в азиатских пустынях все еще можно найти изолированные от остального мира, нетронутые общества, выбравшие иные, отличные от наших решения человеческих проблем. Здесь мы можем получить драгоценные свидетельства адаптируемости, податливости человеческой природы.
Именно таким нетронутым народом и являются коричневые представители племени манус, живущие на островах Адмиралтейства, к северу от Новой Гвинеи. Под сводчатыми тростниковыми крышами своих жилищ, которые установлены на сваях, уходящих в оливково-зеленые воды широкой лагуны, они и сейчас живут так, как жили неизвестно сколько тысяч лет назад. Ни один миссионер не приходил к ним, чтобы научить их незнакомой вере, ни один торговец но отнимал у них землю, обрекая на нищету. Болезни белого человека, которые были завезены к ним, немногочисленны и потому укладываются в их собственную теорию болезни как наказания за содеянное зло. Они покупают железо, ткани и бусы у заезжих торговцев, они научились курить табак белого человека, пользоваться его деньгами, решать время от времени свои тяжбы в судах окружного управления. С 1912 г. войны между племенами были практически запрещены, и эта навязанная им реформа только приветствовалась странствующим торговым народом. Их молодые люди уходят на два-три года на заработки на плантации белого человека, но возвращаются они домой в свои деревни почти неизменившимися. В своей основе здесь мы имеем примитивной общество, общество без письменности, без экономической зависимости от культуры белых, сохраняющее свои собственные каноны и собственный образ жизни.
Каким образом младенцы, родившиеся в этих деревнях, стоящих на воде, постепенно усваивают традиции, запреты, ценности взрослых и, в свою очередь, становятся носителями культуры народа манус - весьма поучительный для педагогики вопрос. Наше собственное общество так усложнено, так разветвлено, что самый серьезный исследователь может в лучшем случае надеяться лишь на то, что он охватит часть педагогического процесса. Сосредоточивая свое внимание на том, как наш ребенок решает одну группу возникающих перед ним проблем, он по необходимости забывает о других. В простых же обществах, обществах без разделения труда, малочисленных, но имеющих письменности, вся культурная традиция сужается до размеров памяти у нескольких индивидуумов. С помощью записей и аналитического подхода исследователь может в течение нескольких месяцев овладеть основным в этой традиции, сделать то, на что человеку, рожденному в ней, нужны годы.
Основываясь же на детальном знании культурно-исторических предпосылок, мы сможем исследовать педагогический процесс, предложить такие решения педагогических проблем, для проверки которых мы никогда не посмели бы поставить эксперимент на наших собственных детях. Но народ манус провел этот эксперимент за нас. Нам остается только познакомиться с его результатами.
Я предприняла это исследование педагогики у манус не для того, чтобы доказать какое-нибудь положение, подтвердить какую-то уже имевшуюся у меня теорию. Многие из сделанных мною выводов удивили и меня. Описание того, как простой народ, живущий в мелководных лагунах островов южной части Тихого океана, готовит своих детей к жизни, предлагается мною читателю как миниатюрная картина воспитания человека вообще. Значимость педагогики манус для решения современных проблем воспитания состоит, во-первых, в том, что она представляет собой упрощенную картину, все элементы которой легко могут быть выявлены и поняты. Сложные процессы, кажущиеся нам слишком громоздкими для того, чтобы их можно было охватить сразу, становятся обозримыми, как под уменьшительным стеклом. Далее, некоторые тенденции в воспитании послушания, а вместе с тем свобода поступков детей, некоторые родительские установки доведены у манус до тех пределов, с которыми мы никогда не встречаемся в нашем обществе. И наконец, народ манус интересен для нас потому, что цели и средства достижения цели здесь хотя и примитивны, но не несходны с целями и средствами, которые мы можем встретить в нашем собственном, обозримом для нас историческом прошлом.
Мы увидим, насколько успешно манус внушают самым маленьким детям чувство уважения к собственности; как велико лепно решена у них проблема воспитания физической выносли вости даже у малых детей. Суровая дисциплина в соединении с постоянной заботой о детях лежит в основе этих двух замечательных успехов педагогики манус. И это равным образом противоречит как теории, по которой ребенка надо защищать и укрывать, так и теории, что его следует бросить прямо в волны жизни, предоставив ему "выплыть или утонуть". Мир малус - хрупкие конструкции узких площадок, воздвигнутых над прибоями лагун,- слишком опасное место, чтобы в нем можно было делать серьезные ошибки. Успешное решение задачи приспособления каждого младенца к этому опасному образу жизни делает педагогику манус значимой и для решения тех проблем, с которыми сталкиваются родители по мере того как наш собственный образ жизни становится все более чреватым опасностью несчастного случая.
Может быть, в равной мере поучительны и ошибки педагогики манус, ибо их успехам в деле воспитания ловких маленьких атлетов, привития им священного отношения к собственности противостоят неудачи в других областях педагогики: детям позволяют совершенно свободно проявлять свои чувства, их не учат сдерживать ни свой язык, ни свой темперамент. Их не учат уважать родителей, им не прививают гордости за их культурную традицию. Бросается в глаза отсутствие здесь каких бы то ни было форм воспитания детей, которые помогли бы им с благоговением принять на себя бремя культурной традиции, с гордостью занять место взрослых. Им позволяют резвиться на превосходных игровых площадках, откуда изгнано всякое чувство ответственности и одновременно чувство благодарности и почтения к тем, чьи неусыпные труды сделали возможными эти долгие годы игры.
Те, кто полагает, что ребенок по натуре творец, наделен внутренне присущей ему силой воображения, те, кто учит, что нужно только предоставить свободу детям, чтобы они сами создали богатый и очаровательный образ жизни, не нашли бы в поведении ребенка манус подкрепления для своей уверенности. Вот перед нами дети какой-нибудь деревни, свободные от всяких забот, получившие самое элементарное воспитание от общества, заботящегося только об их физической выносливости, их уважении к собственности и соблюдении ими немногих табу. Это здоровые дети, пятидесятипроцентная детская смертность обеспечивает это здоровье. Выживают самые приспособленные. Это умные дети, среди них можно встретить лишь немногих тупиц. Движения их тел превосходно скоординированы, их чувства остры, их восприятие быстро и точно. Отношения родителей и детей таковы, что у детей чувство неполноценности или неуверенности вряд ли может возникнуть. Этой группе детей позволяют играть весь день. Но увы, к вящему сожалению теоретиков детской свободы, их игры напоминают игры щенят или котят. Не обращаясь в своих играх к богатому материалу, который дети других обществ черпают в своем преклонении перед традициями взрослых, дети манус ведут скучную, неинтересную жизнь, добродушно возятся до изнеможения, затем валяются в прострации, до тех пор, пока не отдохнут достаточно, чтобы снова начать возиться.
Картина семейной жизни у манус также странна и свидетельствует о многом. В семье главную роль играет отец,- нежный, заботливый, терпеливый защитник. В привязанностях ребенка матери отводится меньшее место. Нам, привыкшим к семье, в которой отец - суровый и несколько отделенный диктатор, а мать ребенка - его защитница и адвокат, интересно будет найти общество, в котором отец и мать поменялись местами. Психиатры работали над психологическими проблемами мальчика, вырастающего в семье, где отец играет роль патриарха, а мать - мадонны. Семья манус показывает, какую творческую роль может играть в положительном формировании личности сына любящий, нежный отец. Отсюда напрашивается вывод, что разрешение семейных проблем кроется, может быть, не в отказе отца и матери от своих ролей, как считают некоторые энтузиасты, а в том, чтобы они дополняли друг друга.
Помимо этих особых проблем педагогической практики манус имеется еще и любопытная аналогия между обществом манус и американским. Как и американцы, манус еще не обратились от главного дела - зарабатывать на жизнь - к менее непосредственной потребности - искусству жить. У них, как и в Америке, уважают трудолюбие, а прилежность и экономический успех - показатели значимости человека. Мечтателя, который увиливает от ловли рыбы и торговли, а потому на очередном празднике выглядит бедно, презирают как слабое существо. У них нет художников, но они, как и американцы, будучи богаче своих соседей, покупают их художественные изделия. Искусству отдыха, беседы, рассказа, музыки, танца, дружбы и любви они уделяют мало внимания. Их речь всегда целенаправленна, рассказы лаконичны и обработаны лишь в очень малой мере. Пению отводятся минуты скуки, танцами отмечают завершение финансовых сделок, дружба связана с интересами торговли, а любовь в сколько-нибудь развитом смысле им практически неизвестна. Идеальный человек в этом народе вообще не отдыхает, он всегда трудится, занимаясь своим делом превращения пяти нитей раковинных денег в десять.
Отношение к морали у манус вполне созвучно этой подчеркнутой роли труда: накопление собственности во все больших и больших размерах, создание все более прочных коммерческих связей, строительство все более крупных каноэ и домов. В той же мере, в какой они восхищаются трудолюбием, они ценят и честность в торговых сделках. Их ненависть к долгам, их беспокойство в связи с невыполнением экономических обязательств носят острый, болезненный характер. Они весьма невысоко ценят дипломатичность и такт: несдержанная правдивость считается большим достоинством человека. Двойной стандарт половой морали допускал у них очень грубую проституцию в прежние дни и вместе с тем предъявляет самые строгие требования к целомудрию женщин. И наконец, их религия этична в подлинном смысле этого слова. Это культ недавно умерших предков, пристально наблюдающих за хозяйственной и половой жизнью своих потомков, благословляющих тех, кто воздерживается от греха и трудится, чтобы стать богаче. Они насылают болезнь и несчастье на нарушителей сексуального кодекса и на тех, кто пренебрегает обязанностью мудро распорядиться капиталом, нажитым семьей. Во многих отношениях идеал манус очень сходен с нашим историческим пуританским идеалом, требовавшим от человека трудолюбия, благоразумия, бережливости и воздержания от мирских удовольствий, идеалом, обещавшим, что бог даст процветание добродетельному человеку.
В этом суровом трудовом мире взрослых детям совершенно не предлагают участвовать. Напротив, родители предоставляют им годы ничем не ограниченной свободы. Дети же часто благодарят их за этот щедрый дар презрением и дерзостями. Мы нередко сталкиваемся с этим и у наших детей. Мы, живущие в обществе, где именно дети носят шелк, а матери трудятся в ситце, можем отыскать нечто небезынтересное в развитии молодежи у этого примитивного народа - в мире, так часто напоминающем причудливую карикатуру на наш собственный, в мире, где валютой служат раковины и собачьи зубы, где вкладывают капиталы в браки, а не в корпорации, в мире, ведущем свою заморскую торговлю на каноэ с балансиром. Но в этом мире богатство, моральность и безопасность следующих поколений - главная забота людей, его населяющих.
<...>
3. Воспитание в раннем детстве
Младенец у манус привыкает к воде с первых лет своей жизни. Лежа на решетчатом полу, он следит за солнечными бликами, играющими на поверхности лагуны, за волнами приливов и отливов, которые сменяют друг друга под ого домом. Когда ему исполнится девять или десять месяцев, отец или мать усаживаются с ним отдохнуть в прохладе вечера на маленькой веранде, и его глаза привыкают к виду проплывающих мимо дома каноэ и деревни, стоящей в море. Когда ему около года, его учат крепко хвататься за шею матери, так чтобы он в полной безопасности мог сидеть у нее на спине. Она же носится с ним по длинному дому, сгибается под низко навешенными полками, карабкается по зыбким лестницам, соединяющим пол с верандой-причалом. Решительный, сердитый жест, с которым его вновь усаживают на спину матери, как только хватка его рук ослабнет, учит его быть настороже и крепко держаться за шею матери. Наконец наступает время, когда мать без особого риска может взять его с собой в каноэ; она будет толкать каноэ шестом или грести, в то время как младенец сидит у нее на спине. Если внезапный порыв ветра нарушит спокойствие лагуны или ее шест зацепится за скалу, каноэ может резко сбиться с хода и опрокинуть мать и ребенка в море. Вода в нем холодная, темная, едкая и жгуче-соленая. Падение в нее внезапно, но сказывается тренировка, полученная ребенком дома, - ребенок не ослабляет своей хватки, пока его мать выправляет каноэ и выкарабкивается из воды.
Иногда случается и так, что знакомство ребенка с водой происходит в еще более раннем возрасте. Пол дома сделан из планок, соединенных в решетку. Эти дощечки ломаются, гнутся, сдвигаются со своего места, образуя подчас большие щели. Неосторожный ребенок у какого-нибудь ленивого отца может подползти к одной из этих щелей и провалиться в холодную, отвратительную воду под домом. Но мать всегда рядом, никакое дело не может заставить ее полностью забыть о ребенке. Она выскакивает из дверей, слетает вниз по лестнице, и через мгновение она уже в воде: младенца подхватывают, согревают и успокаивают у огня. Хотя дети часто проваливаются сквозь пол, я не слышала ни об одном утонувшем ребенке, а позднее подлинное знакомство с водой, по-видимому, снимает все следы шока, так как среди манус нет никого, кто боялся бы воды. Несмотря на эти младенческие ныряния, море так же неотразимо влечет ребенка манус, зовя его исследовать и открывать, как зеленая лужайка наших детей.
В течение первых нескольких месяцев после того, как мать начнет брать его с собой в свои походы по деревне, младенец сидит спокойно у нее на спине или же на носу каноэ, а мать в это время толкает лодку с кормы в десяти футах от него. Ребенок сидит спокойно, обученный опасностями, которым он подвергался ранее. Его не привязывают к месту никакими ремнями, никакой детской "упряжью". Да и нет никакой трагедии, если он свалится за борт. Падение в воду безболезненно. Отец или мать всегда здесь, чтобы подхватить его в воде. Детей до двух с половиной - трех лет никогда не вверяют старшим детям или даже молодым людям. Родители требуют от ребенка очень ранней физической приспособленности, но не подвергают его никакому излишнему риску. Ему никогда не позволяют бродить одному вне границ безопасного места и бдительной опеки взрослых.
Таким образом, ребенок может падать, погружаться в холодную воду, он может запутываться в скользких водорослях, но ему никогда не грозит такой несчастный случай, который заставил бы его сомневаться в неколебимой безопасности его мира. Хотя сам он может еще и не овладеть физическими навыками, необходимыми для того, чтобы чувствовать себя вполне уверенно в воде, эти навыки есть у его родителей. Жизнь, проведенная на воде, сделала для них воду родным домом. Они устойчивы, у них острые, внимательные глаза, а движения точны и быстры. Ребенка никогда не роняют, мать никогда не допустит, чтобы он выскользнул из ее рук или же ударился головой о дверной косяк или полку. Всю свою жизнь она сохраняла равновесие на планширах каноэ шириною не более дюйма, точно оценивала расстояние между сваями дома, когда ей надо было причалить свое каноэ, не повредив аутригер2, она поднимала огромные хрупкие горшки с водой от причала дома, карабкаясь по неустойчивым, колеблющимся лестницам. В присмотре за ребенком она не допускала никаких неловкостей. И каждое ее движение несет ребенку новые подтверждения безопасности его мира, подтверждения, снимающие любые сомнения, которые может породить у него его меньшая физическая тренированность. Дети манус настолько полно доверяют своим родителям, что ребенок прыгнет с любой высоты в расставленные руки взрослого, прыгнет слепо, нимало не сомневаясь, что его благополучно подхватят.
Родительская бдительность и опека сопровождаются вместе с тем и требованием к ребенку, чтобы он сам прилагал максимальные усилия, вырабатывал у себя максимально возможную физическую ловкость. Здесь отмечается каждое достижение ребенка, и от ребенка неумолимо требуют, чтобы он шел дальше. Среди манус нет таких детей, которые, сделав два-три первых неуверенных шага, упали бы, разбили себе нос, а потом отказывались бы ходить в течение трех последующих месяцев. Суровый образ жизни требует, чтобы дети становились самостоятельными как можно раньше. До тех пор пока ребенок не научится управлять своим телом, он в опасности и дома, и в каноэ, и на маленьких островах. Мать или тетка становятся его рабами, не смеющими оставить его даже на минуту, вынужденными непрерывно следить за его неуверенными шагами. Вот почему каждое новое умение поощряется и настойчиво воспитывается в ребенке. Когда он делает первый шаг, взрослые оставляют свою работу и собираются вокруг него. Однако он не найдет такой сочувствующей аудитории, которая бы погоревала вместе с ним над его первым падением. Его ласково, но твердо поставят на ноги и скажут, чтобы он попытался идти снова. И единственный способ для пего сохранить интерес к себе у обожающего его окружения - это попытаться идти снова. Так душится жалость к себе и делается второй шаг.
Как только младенец начинает делать свои первые неуверенные шаги, его ставят на дно лагуны во время отлива. Тогда некоторые ее части обнажены, а другие покрыты водою всего лишь па несколько дюймов. Здесь ребенок сидит и играет в воде или делает несколько неуверенных шагов по упругой, губкообразной грязи. Мать не оставляет его и не дает долго быть в лагуне, чтобы он не утомился. Когда он становится старше, ему позволяют бродить по дну во время отливов. Пока он не научится плавать, старшие внимательно следят за тем, чтобы он не попал в глубокую воду. Но этот надзор ненавязчив. Мать оказывается всегда рядом с ним, когда он попадает в трудное положение, но его не изводят и не мучат бесконечными "не смей!". Весь мир его игры устроен таким образом, что ему позволено делать маленькие ошибки, которые учат его более верным оценкам и большей осторожности. Но ему никогда не позволят сделать ошибку, которая достаточно серьезна, чтобы надолго запугать его или затормозить его активность. Он - канатоходец, обучающийся трюкам, которые мы бы сочли невыносимо тяжелыми для маленьких детей, но его канат протянут над сеткой умелой родительской заботы. Если мы приходим в ужас, видя младенца, который сидит на носу каноэ и которому ничто не мешает упасть в воду, то манус в равной мере пришли бы в ужас от американской матери, которая должна наставлять своего десятилетнего сына не подсовывать пальцы под обод кресла-качалки или не высовывать голову из автомобиля. В такой же мере отталкивающей показалась бы им и наша манера учить детей плавать, бросая их на глубокое место. Картина взрослого, по своей воле ввергающего ребенка в мучительную ситуацию, пользующегося своей силой, чтобы побудить ребенка примириться с необходимостью, вызвала бы у них справедливое негодование. Требовать от детей, чтобы они плавали в три года, могли карабкаться, как молодые обезьяны, даже до трех лет,- все это представляется нам каким-то насилием над природой ребенка. На самом же деле за этим стоит спокойная настойчивость родителей, требующих, чтобы дети пускали в дело каждую частицу энергии и сил, которыми они наделены.
Плаванию не учат: маленькие кулики подражают здесь своим ненамного более старшим братьям и сестрам и после барахтанья в воде по пояс начинают делать нужные движения сами. Уверенность движений на земле и в воде приходит почти одновременно, так что заклинание, читаемое над только что разродившейся женщиной, гласит: "Да не родится у тебя другой ребенок до тех пор, пока этот не пойдет и не поплывет". Как только ребенок начинает плавать, резко и отрывисто выбрасывая руки, без всякого стиля, но с большой скоростью, ему дается маленькое собственное каноэ. Эти маленькие каноэ имеют пять или шесть футов в длину. По большей части они лишены аутригера и представляют собой нечто вроде простых полых корыт, трудноуправляемых и легко опрокидывающихся. В компании детей годом или двумя старше малыши начинают играть с этим каноэ на мелководье целые дни. Они гребут, отталкиваются шестом, затевают гонки, устраивают тандемы из своих маленьких суденышек, опрокидывают и вновь переворачивают их. Все это сопровождается криками восторга и воодушевления. Самое жаркое солнце не может разогнать их по домам; самый проливной дождь лишь придает их игровой площадке новый чарующий вид. Около половины времени бодрствования дети проводят в воде, с радостью усваивая искусство быть как дома в своем водном мире.
Научившись немного плавать, они взбираются па большие каноэ, ныряют с их носов, карабкаются на них с кормы или же, цепляясь за аутригер, плывут вместе с каноэ, положив одну руку на его податливый поплавок. Как бы ни спешили родители, они никогда не помешают такой полезной игре.
Следующий шаг в овладении морскими навыками делается тогда, когда ребенок начинает править большим каноэ. Рано утром вид деревни оживляется плывущими каноэ, в которых взрослые спокойно сидят на средних скамьях, а малыши трех лет управляют каноэ, в три-четыре раза большими, чем они. На первый взгляд эта процессия выглядит либо как грубейшая разновидность демонстрации родительской власти, либо как особо возмутительная форма эксплуатации детского труда. Отец, мужчина пяти футов девяти-десяти дюймов, весящий сто пятьдесят фунтов, сидит в расслабленной позе. Каноэ - длинная и тяжелая лодка, выдолбленная из твердого ствола; неуклюжий аутригер затрудняет управление ею. И в конце этого длинного судна, вскарабкавшись своими худенькими ножками на его узкие планширы и напряженно балансируя, стоит коричневый малыш, мужественно сражаясь с шестифутовым рулевым шестом. Он так мал, что скорее напоминает малоприметный орнамент кормы, чем лоцмана неуклюже двигающегося судна. Медленно, являя миру картину скорее энергичных действий, чем реального движения к цели, каноэ плывет через деревню, плывет среди других каноэ, в команде которых точно так же состоят такие же малыши. Но это не эксплуатация детского труда и не праздный парад родительского престижа. Это часть целой системы, поощряющей ребенка максимально напрягать свои силы. Отец спешит. В этот день у него много работы. Может быть, он собрался в далекое плавание или же хочет устроить важное празднество. Управлять каноэ в лагуне - совсем привычное дело для него, для него это легче, чем ходить. Но для того чтобы маленький ребенок почувствовал себя и нужным, и пригодным для условий сложной морской жизни, отец отсаживается на среднюю скамейку, а маленький лоцман ведет каноэ. И здесь снова вы не услышите резких слов, когда ребенок правит лодкой неуклюже. Отец только не обращает никакого внимания. Зато при первом удачном ударе шеста, направляющем лодку на нужный курс, обязательно последует одобрение.
Этот тип обучения можно оценить до его результатам. Дети манус чувствуют себя в воде, как дома. Они не боятся ее и не смотрят на нее как на что-то сложное и опасное. Требования, предъявляемые к ним, сделали их глаза острыми, реакции быстрыми, а тела умелыми, как у их родителей. Среди них нет пятилетнего ребенка, который не умел бы хорошо плавать. Ребенок манус, который не умел бы плавать, был бы таким же отклонением от нормы, насколько патологичным был бы американский ребенок пяти лет, не умеющий ходить. До того как я поехала к манус, меня мучила проблема, как я смогу собрать маленьких детей в одно место. В моем воображении вставало специальное каноэ, каждое утро подплывающее к домам и берущее детей на борт. У меня не было никаких оснований для беспокойств. Для ребенка манус перейти из дома в дом не проблема. Он сделает это либо в большом каноэ, либо в своем маленьком или же проплывая нужное расстояние с ножом в зубах. И другие проблемы приспособления детей к внешнему миру решаются тем же самым методом. Каждый успех ребенка, каждая его честолюбивая попытка получают одобрение; слишком амбициозные проекты мягко отстраняются; на небольшие неудачи просто не обращают внимания, а серьезные ошибки наказываются. Так, если ребенок, уже научившись ходить, спотыкается и набивает себе шишку на лбу, он не будет подхвачен сострадательными руками матери. Мать не будет осушать своими. поцелуями его слезы, создавая тем самым роковую связь между физическим страданием и дополнительной лаской. Вместо этого маленького неумеху поругают за его неловкость, а если он к тому же очень глуп, то и звонко отшлепают в придачу. В следующий раз, когда ребенок оступится, он не будет искать глазами сочувствующую его страданиям аудиторию, как это очень часто делают паши дети; скорее он очень будет хотеть, чтобы никто не заметил его faux pas3. Эта педагогическая установка, сколь бы суровой и несострадательной она ни казалась, заставляет ребенка вырабатывать у себя совершенную моторную координацию. Среди четырнадцатилетних детей невозможно выделить ребенка, отличающегося от других меньшим развитием моторных навыков. Это можно сделать, только давая им специальные упражнения, например по метанию копья, где выделяются некоторые. Но в повседневных видах деятельности - в плавании, гребле, управлении лодкой, лазании - у всех очень высокий ypoвень развития навыков. А неуклюжесть, физическая неуверенность и потеря самообладания у взрослых вообще не встречаются. Манус очень чувствительны к индивидуальным различиям в навыках, познаниях и быстро клеймят глупого, плохо обучаемого человека, мужчину или женщину с плохой памятью. Но у них нет слова, которое обозначало бы неловкость. Меньшее умение ребёнка сделать что-либо описывается просто: "еще не понимает". Что он в недалеком будущем не усвоит искусства владеть своим телом, управлять каноэ, считается чем-то немыслимым. Во многих обществах момент, когда ребенок начинает ходить, знаменует и начало больших трудностей для взрослых. Ходящие дети - постоянная угроза собственности, они разбивают тарелки, проливают суп, рвут книги, запутывают пряжу. Но у манус, у которых собственность священна и ее потеря оплакивается так же, как смерть, уважение к собственности прививается детям с самых первых лет. Еще прежде чем они начнут ходить, их бранят и наказывают, если они дотронутся до чего-либо им не принадлежащего. Иногда было очень утомительно слушать, как какая-нибудь мать монотонно увещевает своего ребенка, ковыляющего среди пантах странных для него и незнакомых вещей: "Это не твое. Положи. Это принадлежит Пияп. Это тоже. Это тоже. Положи сейчас же". Но мы пожали плоды этой неусыпной бдительности: все наше имущество - завораживающие красные и желтые банки консервов, фотоматериалы, книги - находилось в полной безопасности от двух-трехлетних детей, которые в большинстве других обществ стали бы неукротимыми вандалами, лесными грабителями. Как и в случае с воспитанием физической ловкости, никогда не делалась попытка облегчить ребенку задачу, потребовать от него меньше, чем он может дать. Вещи не убирают от ребенка, чтобы он не мог их достать. Мать рассыпает свои маленькие, ярко окрашенные бусины на циновку или же в мелкую тарелку и ставит ее на пол, так что ее ползающий ребенок вполне может схватить их. И ребенка учат не прикасаться к ним; там, где даже собаки надрессированы настолько, что рыбу можно положить на пол на несколько часов без всякого риска, там и для маленьких человеческих существ не делают никаких поблажек. Хороший младенец - это младенец, который ни к чему не прикасается, хороший ребенок - это ребенок, который ни к чему не прикасается и никогда не попросит ничего ему не принадлежащего. Это единственные заповеди пристойного поведения, соблюдение которых требуется от детей. И как их физическая подготовленность позволяет без всякого риска оставлять их одних дома, так и тщательно воспитанное в них уважение к собственности позволяет без всякого риска оставлять толпу шумных ребятишек в доме, полном вещей. Они не притронутся ни к одному горшку, не стянут ни одну копченую рыбу с полки, ни одна нить раковинных денег не будет разорвана в пылу борьбы, и раковины не будут брошены в море. Малейшее нарушение беспощадно карается. Однажды каноэ из другой деревни пристало к маленькому островку. Три восьмилетние девочки забрались на оставленное каноэ и спихнули один горшочек в море, где он ударился о камни и разбился. Всю ночь в деревне раздавались призывы тамтамов и сердитые голоса, обвиняющие, осуждающие или извиняющиеся за причиненный ущерб и поносящие беспечных детей. Отцы в своих речах, полных гнева и стыда, описывали, как они не оставили живого места на юных преступницах. Подружки провинившихся не только не восхищались дерзким преступлением, но и отделились от них в высокомерном неодобрении и высмеивали их хором.
Любая поломка, любая беззаботность наказываются. Родители не смотрят снисходительно на поломку старого, уже треснувшего горшка, приходя в ярость лишь тогда, когда разбитый горшок оказался новым, как это делают американские родители. Те позволяют ребенку рвать сначала календарь, потом телефонную книгу, а затем удивляются его горькому изумлению, когда его бьют за вырванные листы семейной Библии. Наказание за кражу хвоста рыбы, маленького кусочка таро, полусгнившего ореха бетеля будет не меньшим, чем за кражу чаши с едой с праздничного стола. С не меньшей неумолимостью мы сталкиваемся и в расследовании воровства. Я знала маленькую девочку двенадцати лет по имени Ментун, которая слыла воровкой. Дети издевались над ней. Почему? Потому что однажды она выловила в воде плывущие предметы - кусок пищи и банан, которые, очевидно, упали в воду из одного из соседних домов. Присвоить эту добычу, предварительно не поискав возможного владельца, означало украсть. Ментун была бы более осмотрительной в будущем, если бы ей не вменяли в вину любое исчезновение собственности в течение всех последующих лет. Я не переставала удивляться детям, которые, найдя клочок вожделенной бумаги, упавший с веранды или же заброшенный на маленький островок вблизи дома, всегда приносили его мне, спрашивая: "Пияп, это хороший или плохой?" - прежде чем унести к себе скомканный листок.
Области знания, которыми должны овладеть маленькие дети, именуются "понимание дома", "понимание огня", "понимание каноэ", "понимание моря".
"Понимание дома" включает следующее: надо осторожно двигаться по ненадежному полу, уметь карабкаться по лестнице или же сваям с зарубками, надо не забывать отодвинуть планку в полу, когда плюешь, мочишься или выбрасываешь мусор в море, надо уважать любую собственность, лежащую на полу, нельзя карабкаться на полки или на любое место дома, прогибающееся под весом, нельзя приносить грязь и мусор в дом.
Огонь поддерживается в одном или во всех четырех очагах, расположенных попарно вдоль боковых стен дома, ближе к середине. Очаг представляет собой толстый слой золы на плотных циновках, окруженных прочными бревнами твердого дерева. Площадь такого очага - около трех квадратных футов. В центре очага три или четыре булыжника, служащие опорами для горшков. При варке пользуются маленькими кусками дерева, огонь же поддерживается поленьями покрупнее. Тщательно уложенные поленницы дров располагаются на низких полках сбоку от очагов. Прямо над очагами нависают полки для копчения, где хранится копченая рыба. "Понимание огня" означает понимание того, что огонь обжигает кожу, воспламеняет щепки, солому, легко загорающееся дерево, что тлеющие угли вспыхивают, если на них дуть, что их, взяв из очага, нужно нести с очень большой осторожностью, не оступаться, не соединять с другими предметами. Оно означает также понимание того, что вода гасит огонь. "Понимание огня" не означает умения его разводить, этим искусством мальчики овладевают много позже - в тринадцать-четырнадцать лет. (Женщины никогда не разводят огонь, хотя они могут и помогать при этом, держа тлеющий пепел в ладонях.)
"Понимание каноэ и моря" приходит немногим позже, чем "понимание дома и огня", этого непосредственного окружения ребенка. Навыки обращения ребенка с каноэ считаются достаточными, если он может удерживать равновесие, стоя на двух узких планширах его бортов, точно направлять его шестом, достаточно хорошо грести, чтобы управлять им при умеренном ветре, точно вводить его под дом, не повредив аутригер, выводить каноэ из флотилии других лодок, скопившихся вокруг причала дома или у края островка, и выпрыгивать из каноэ, делая ловкое движение назад и вперед, движение, заставляющее погружаться вначале нос, а затем корму лодки. "Понимание моря" включает умение плавать, нырять, плыть под водой, способность удалять воду из носа и горла наклоном головы вперед и ударом сзади по шее. Дети между пятью и шестью годами овладевают этими обязательными навыками.
Дети учатся говорить потому, что мужчины и старшие мальчики любят играть с ними. Манус не считают, что детей необходимо тщательно учить этому. Они учатся говорить, играя со взрослыми. Большую помощь здесь оказывает любовь к повторам. Меланезийские языки очень часто используют прием повтора для усиления речи. <...> Хотя, строго говоря, этот прием повтора должен служить для выражения длительности или интенсивности действия, очень часто простая привычка к повтору овладевает рассказчиком, и вскоре его речь будет звучать так: "Теперь он встретил женщину. Ее имя было Саин, Caин, Саин". Иногда повторяют даже предлоги или частицы. Слушатели также обладают склонностью подхватывать фразу, повторять ее или же превращать в длинную, монотонную песню. Это особенно часто случается тогда, когда говорящий произносит фразу в напевном тоне, выговаривает ее в ключе, выделяющем ее из тональности беседы, или бормочет ее себе под нос. Самые случайные и обыденные фразы, такие, как "Я не понимаю" или "Где мое каноэ?" будут подхвачены группой и превращены в напев, который будет повторяться с полным самоудовлетворением в течение нескольких минут. Особенности произношения и акцент подхватываются и имитируются точно таким же образом.
Эта не подчиняющаяся никаким законам страсть к повторам4 создает превосходную атмосферу для овладения ребенком навыками речи. Взрослые не скучают, когда имеют дело с несколькими словами, которые может пролепетать младенец. Наоборот, именно эти с трудом усваиваемые им слова служат великолепным предлогом для взрослого отдаться своей собственной страсти к повторам. Так, младенец говорит "я", и взрослый говорит "я", младенец говорит "я", и взрослый говорит "я" и т.д., и т.д., в той же самой тональности. Я насчитывала до шестидесяти повторов одного и того же слова либо просто слога, лишенного смысла. II в конце шестидесятого повтора ни младенцу, пи взрослому не было скучно. Ребенок со словарным запасом в десять слов ассоциирует такое слово, как "я" или "дом", с кем-нибудь из взрослых, с которым он был занят этой игрой в слова, и, когда его дядя или тетка проплывают мимо его дома в каноэ, он с надеждою кричит им "я", "дом". Он не будет разочарован: обязательный взрослый, столь же довольный, как и ребенок, крикнет в ответ "я" или "дом". И эта перекличка будет длиться до тех пор, пока каноэ не отплывет за пределы слышимости голоса. Маленьких девочек взрослые обычно зовут "Ина", маленьких мальчиков - "Ина" или "Папу", и ребенок отвечает "Ина" или "Папу", создавая тем два взаимоотношения, не предусмотренные формальной системой родства.
Все сказанное о речи в равной мере относится и к жесту. Взрослые играют с детьми в игры - подражания жестам до тех пор, пока ребенок не выработает у себя привычку к подражанию, которая на первый взгляд кажется почти навязчивой. Это в особенности касается мимики - зевания, закрытых глаз, надутых губ. Дети переносили эту привычку подражать выражениям лица, реагируя и на мой карандаш с резной человеческой полуфигурой на конце. Фигурка на конце, казалось, выпятила грудь. Тонкие губы на лице казались сжатыми всем туземцам и почти всем их детям. И все они, глядя на карандаш, сжимали губы и выпячивали грудь. Я показывала детям одну из тех танцующих бумажных марионеток, которые дергаются с невероятной развязностью, свисая со шнурка. Еще до того как дети поймут, что за игрушка перед ними, их ноги и руки колеблются самым прихотливым образом в подражание марионеткам.
Эта привычка к имитации, однако, не навязчива, так как она немедленно исчезает, будучи осознанной. Если кто-нибудь скажет ребенку, рабски подражающему его движениям: "Делай так, как я", то ребенок остановится, обдумает свои действия и чаще всего откажется от подражания. Имитация у него - просто привычка, естественная человеческая склонность, получившая "чрезвычайное развитие в раннем детстве и сохранившаяся в более стереотипных формах в речи и песнях взрослых. Она наиболее зримо выражена у детей от одного до четырех лет, и ее ранняя утрата может быть соотносима с ранним развитием в других отношениях. <...>
Трудовым навыкам маленьких мальчиков обучают мало. Они умеют отбеливать борта своих каноэ соком водорослей, делать крепкие веревки из ротанга, у них есть начальные навыки обтесывания дерева, но они не умеют вырезать из него. Они знают, как укрепить балансир каноэ, как ошкурить его борта пучками кокосовых листьев и сделать грубые факелы из бамбука для ночных выходов в море. Но они ничего не знают о плотницком искусстве, за исключением того, что сохранилось в их памяти со времени раннего детства, когда они были тесно связаны с отцом.
Итак, дети усвоили все физические навыки, которые им понадобятся в дальнейшей жизни. Они умеют точно оценивать расстояния, метко бросать, ловить брошенное, верно определять расстояния при прыжках и нырянии, сохранять равновесие на самых узких и ненадежных опорах, вести себя уравновешенно, умело и спокойно и на земле и на море. Их тела натренированы для танцев взрослых, их глаза и руки - для ловли рыбы копьем, их голоса привыкли к ритмам песен, их кисти гибки, и они могут выбивать дробь на барабане, их руки натренированы для гребли и управления лодкой. Система обучения, осуществляемая уверенно, с неуклонной настойчивостью и вниманием, дает маленькому ребенку необходимые физические навыки, на основе которых он в последующие годы будет все строить сам, подражая старшим детям и взрослым. Самая тяжелая часть его физического воспитания завершается к трем годам. Все остальное приобретается в играх, для которых у него имеется все - безопасные и удобные площадки, веселые товарищи всех возрастов и обоих полов.
Но представление манус об общественной дисциплине настолько же туманно, насколько строги их нормативы физического воспитания. От детей не требуется ничего, что выходило бы за пределы физической ловкости и уважения к собственности. Исключением здесь являются только правила элементарного приличия. Как только ребенок начинает ходить, его учат отправлять свои потребности не на глазах у других; отношение к этому как к чему-то постыдному, вызывающему сильное смущение должно войти в его плоть и кровь. И это отношение передается не суровостью или наказаниями от случая к случаю, а проявлением родительских эмоций. Ужас, отвращение, брезгливость родителей передаются провинившемуся ребенку. Отношение родителей к нарушению приличий такого рода настолько сильно, что его так же легко внушить ребенку, как вызвать чувство паники. Об интенсивности этого чувства стыдливости можно судить хотя бы по тому, что мужчины находят постыдным раздеваться в присутствии друг друга, а взрослую девочку учат, что, если она снимет свою травяную юбочку в присутствии другой женщины, духи накажут ее. Стыдливость никогда не приносится в жертву удобствам; в морских переходах, длящихся много часов, соблюдаются самые строгие правила приличия, если присутствует лицо другого пола.
Этим правилам приличия, чувству стыда детей учат очень рано. Их обертывают в жаркие колючие одежды, и они ходят в них на глазах у взрослых. Но как только дети начинают чувствовать себя в безопасной дали от смущающего их надзора, дисциплина кончается. Детей не учили ни повиновению, ни уважению к желаниям родителей. Двухлетнему ребенку позволено издеваться над матерью, которая всего лишь просит его пойти домой. С наступлением темноты дети должны быть дома, но это совсем но означает, что они идут домой, если их позовут. Если голод не загонит их в дом, то родители должны идти искать их и возвращать домой, часто силой. Запрет идти играть на другой конец деревни часто длится не дольше, чем бдительность запретившего. Достаточно ему только отвернуться, чтобы ребенок сбежал и поплыл под водой до тех пор, пока не будет на безопасном расстоянии.
Приготовление пищи у манус - трудоемкий процесс, требующий многих усилий. Саго готовят без воды в мелких плошках над огнем, постоянно его мешая. Оно годно к употреблению в течение приблизительно двадцати минут после снятия с очага. И тем не менее от детей нельзя ожидать, что они придут домой ко времени принятия пищи семьей. Они убегают утром до завтрака и возвращаются домой спустя час или два после пего, требуя еды. Десятилетний ребенок будет стоять посредине дома и монотонно кричать до тех пор, пока кто-нибудь не оставит свои дела, чтобы приготовить для него еду. Женщину, которая ушла в дом какого-нибудь родственника, чтобы помочь ему в чем-нибудь или составить план будущего праздника, непременно атакует ее шестилетний ребенок, который будет вопить, тянуть ее за руку, пинаться, царапаться до тех пор, пока она не пойдет домой и не покормит его.
Родители, которые были столь тверды, обучая ребенка делать первые шаги, становятся мягким воском в руках юного мятежника, когда речь заходит о каких-нибудь правилах общественной дисциплины. Дети едят, когда хотят, играют, где хотят, спят тогда, когда они сочтут это нужным. Они не обращаются уважительно к родителям, более того, им дозволяется большая распущенность в языке, чем взрослым. Самый маленький сорванец сможет с вызовом и презрением кричать на самого древнего старца деревни. Детей не учат отдавать что-нибудь старшим: лакомый кусок по священному праву принадлежит им. Они могут криком собрать преданных им взрослых и склонить их делать все, что им захочется. Они не работают. Девочки после одиннадцати или двенадцати лет выполняют кое-какие работы но дому, мальчики же ничего не делают вплоть до женитьбы. Община ничего не требует от них, кроме уважения к собственности и соблюдения элементарных правил приличия.
Несомненно, эта поразительная свобода укрепляет их физически. Развитые моторные навыки рождают в них полную уверенность в себе. Ребенок у манус - это повелитель вселенной, недисциплинированный, не сдерживаемый никаким почтением или уважением к старшим, живущий в состоянии почти полной свободы, которую ограничивает лишь некоторые правила приличия. Других правил - правил самоконтроля и самопожертвования - он не знает. У него типичная психология набалованного ребёнка. Дети у манус всегда только требуют и никогда ничего не дают. Единственная маленькая девочка в деревне, которая из-за слепоты своего отца должна была помогать ему, была поэтому ласковым, великодушным ребенком. От всех других детей ничего не требовалось, но и ничего нельзя было получить.
К своим же родителям, их преданным слугам, дети испытывают собственнические чувства, находятся от них почти в младенческой зависимости, но почти не заботятся о них. Их эгоцентризм - естественное дополнение тревожной, вседозволяющей любви родителей, любви, допускаемой ограниченными идеалами этой культуры.
4. Семейная жизнь
Жизнь в семье ребенка манус резко отличается от семейной жизни американского ребенка. Правда, его семья состоит из тех же самых членов - отца, матери, одного-двух братьев или сестер, иногда бабушки, реже дедушки. Вечером вход в дом тщательно баррикадируется, и родичи требуют, чтобы все дети были дома после захода солнца. Исключение делается только для лунных ночей. После ужина дети укладываются спать на циновке или же засыпают на руках у старших, а те бережно переносят их на место. Тлеющие связки листьев кокосовых пальм освещают мерцающим светом темные углы дома. На первый взгляд перед нами картина счастливой, дружной семьи, семьи, вполне соответствующей нашему идеалу. В ней нет чужаков, и люди, любящие друг друга больше всего на свете, объединились у домашнего очага.
Но более близкое знакомство с семейной жизнью манус позволяет выявить большие различия. У молодых мужчин нет собственных домов, и они вынуждены жить на задних половинах домов старших братьев или молодых дядей. Когда две такие семьи живут вместе, жена младшего должна избегать старшего. Она никогда не вступает на его половину, отделенную висящей циновкой, когда он там. Детям, однако, позволено перебегать из одной половины на другую. Но постоянное стремление избежать встречи со старшим, запрет на употребление личных имен при обращении к старшему, а также зависимость младшего от старшего ведут к напряженности в отношениях между двумя семьями. У манус господствует отцовское право: мужчина, как правило, наследует своему отцу или брату, жена почти всегда идет жить в дом мужа.
Хотя семейная группа мала, а связи между родителями и детьми тесные, отношения между мужем и женой натянуты и холодны. Отец и мать кажутся ребенку двумя совершенно различными людьми, борющимися за него. Кровные связи его родителей сильнее, чем их отношения друг с другом, и существует больше факторов разъединяющих, чем объединяющих их. Короткое знакомство с некоторыми из семей в Пере5 покажет преобладающую эмоциональную тональность супружеских отношений.
Возьмем, например, семью Ндросаля. Ндросаль - кудрявый, миловидный бездельник, скорый на похвальбу и медлительный в действиях. Его первая жена принесла ему двух мальчиков и умерла. Супруг его сестры усыновил старшего, младший остался с ним на попечении его второй жены - высокой, худощавой женщины из отдаленной деревни. Новая жена сразу же родила ему девочку. Девочка оказалась очень болезненной. Месяц за месяцем она страдала и плакала в своей подвесной колыбельке, которую отец оборудовал для нее. Если ребенок так болен, то его нельзя взять с собой из дому, что бы ни случилось, нельзя его и оставить ни на минуту. Поэтому мать в течение долгих месяцев не выходила из дома, бледнела и таяла. Пища не была слишком изобильной. Ндросаль был очень привязан к своей старшей сестре - женщине определенного и решительного характера, средних лет, деловой, всегда занятой и всегда нуждавшейся в помощи брата. Когда девочка у брата заболела, она взяла к себе второго сына Ндросаля, и так оба малыша Ндросаля оказались в ее доме. Он любил таскать их па спине, любил валяться и возиться с ними, брать их с собою на рыбную ловлю и проводил большую часть времени в доме сестры, расположенном рядом с его собственным. А когда у пего был хороший улов, большая часть рыбы попадала в горшок его сестры. У жены Ндросаля не было близких родственников в деревне, но однажды младшая сестра ее мужа принесла ей пойманных крабов. Ловля крабов - женское дело, поэтому в доме не ели крабьего мяса уже в течение долгих месяцев. Она быстро приготовила их, не обращая внимания на то, что одна из их разновидностей была табу для всех членов семьи мужа. Супруг вернулся домой поздно, с пустыми руками и потребовал еды. Жена подала ему крабов и в ответ на его вопрос, нет ли среди них запрещенного вида, обманула его. В вареном виде крабы не отличались друг от друга. Ндросаль начал ужинать, ворча, что жена не проявляет должного внимания к его табу. Почти тотчас же ребенок стал кричать. Младшая сестра со своим мужем в это время проживали на задней половине его дома. Жена подошла к колыбельке и занялась ребенком, но он продолжал кричать. Ндросаль строго посмотрел на жену: "Дай ей грудь".- "Я уже хорошо накормила ее. Она не голодна, она больна",- ответила та. "Накорми ее, разве ты не слышала, что я сказал, ты, негодница! Ты лгунья и дура, не заботящаяся ни о табу своего мужа, ни о своей дочери!" Поднявшись от стола, он излил поток проклятий на нее. Но она застыла над своим ребенком, мрачная, в слезах, но убежденная, что девочка не голодна. Тогда разъяренный супруг схватил бутыль с негашеной известью и швырнул горсть известкового порошка прямо ей в глаза. Известь, смешавшись со слезами, дала реакцию и сильно обожгла ей глаза. Ослепленная, спотыкаясь, она выбралась из дома, завывая. Одна из толпы женщин, собравшихся на крики, увела ее к себе в дом, забрав и ребенка. Ндросаль ушел опять в дом к своей сестре, а когда его младший сын улегся вместе с ним и спросил, почему плакала его мачеха, отец ответил угрюмо, что она плохая женщина и не хочет кормить его маленькую сестру. <...>
Для того чтобы понять все эти раздоры, необходимо взглянуть на предысторию браков, начиная с обручения, и проследить путь девушки манус от помолвки до материнства.
Нгален восемнадцать лет, вот уже семь лет она помолвлена с Манои, имени которого она даже произнести не смеет. Она видела его однажды, будучи очень маленьким ребенком, когда ее мать взяла с собой детей в Пере, и помнит, что у него смешной нос, а один глаз косит, что он носит старый, грязный лаплап6. Но она старается не думать о таких вещах, мать сказала ей, что думать о собственном муже как о знакомом ей человеке стыдно. Она может нырять за раковинами лаилаи, из которых сделают крылообразные украшения на спину. Ей приходится целый день склоняться над рамой для изготовления бус, готовя подарок для сестры своего мужа. Она может думать о тысячах собачьих зубов, ярдах раковинных денег, которые были уплачены за празднество ее помолвки, или кормить свиней, которыми возместили все эти расходы. Но о муже она думать не смеет. Ей запрещено бывать в Пере, родной деревне ее матери, за редким исключением, связанным с каким-нибудь важным событием, например смертью близкого родственника. В этом случае она должна быть крайне осторожной, завернуться в тканевую накидку, так чтобы при встрече ее не могли увидеть отец или братья жениха. Если каноэ из Пере встречается в море с каноэ ее отца, то ей следует спрятаться под навесом или сжаться в комок. Когда она бывала очень весела, то подчас забывала, что ей не следует произносить некоторые слова, включающие в себя слоги, которые напоминают имена родственников ее будущего супруга. Гнев ее родственников заставлял ее стыдливо умолкать. Однажды духи во время общения с ними напомнили ей, насколько беззаботной она была, не укрывшись подобающим образом перед отдаленным кузеном своего будущего мужа, мальчиком, товарищем ее игр с детства. Но это было несколько лет назад. Сейчас же, уже два или три года подряд, она очень осторожна. Ее деревня полна мальчиков, которые вернулись, поработав на белых людей, и кто знает, какой вредоносной магической силой они располагают. Один привез с собой странную бутыль, которую он носит в своем мешке для бетеля. Он говорит, что это только лекарство от стригущего лишая, но все знают, что это - приворотное зелье. Ее народ не делает таких колдовских вещей, принуждающих девушку забыть о помолвке и впасть в грех. Но люди с большого острова обладают колдовскими средствами. Они могут заговорить листья табака, нашептать на орехи для бетеля7 или же заколдовать похищенную свинью.
Они продают эти злые чары юношам ее племени, юношам, которые сидят по ночам в общественной хижине деревни, смеются, бьют в барабаны и строят дурные планы. Много лет тому назад такие молодые люди шли в военный поход, добывали себе девушку из чужой деревни и обладали ею в свое удовольствие. Но с самого раннего детства Нгален в той деревне, где она живет, проститутки вывелись. Вот почему сейчас юноши очень опасны.
Когда она выходит из дому, она следит за тем, чтобы ветер со стороны этих молодых людей не дул на нее. Есть чары, которые можно наслать на человека с ветром.
Есть несколько мальчиков в деревне, с которыми она дружна: ее братья, ее отдаленные родственники, младшие кузены ее жениха. Для последних она "мать", и ей нужно следить лишь за тем, чтобы не есть в их присутствии.
Целыми днями она делает бусы для сестер и матери жениха. После свадьбы она тоже получит от них бусы и отдаст их своим братьям. В доме ее мужа она будет много работать и чувствовать себя в безопасности. Ее научат понимать сложные финансовые сделки. Она сможет стряпать большие квадратные блины для праздничных пиршеств и вырезать из мякоти кокосового ореха лилии, украшающие праздничные блюда. Ей предстоит стать матерью детей ее супруга. Став матерью, она потеряет свою привлекательность, желанность, ибо манус считают рождение ребенка, а не потерю девственности пограничной чертой, отделяющей юность от зрелости. Десять раз Плеяды пересекут небо, и она состарится.
Она уже знает, каким будет ее свадебный наряд, ибо дважды ее уже наряжали в тяжелый передник из раковинных денег и обвешивали ее руки и ноги собачьими зубами. Но завтра ее настоящая свадьба с мужчиной, имя которого она не смеет произ. нести и о косых глазах которого грешно думать. Она будет жить в чужой деревне. Правда, это деревня, где живут родственник и ее матери, но некоторые из них, так как они ближе по крови ее супругу, окажутся табу для нее. Всю свою жизнь она не посмеет назвать их по имени. Они с мужем должны будут жить в дом в его дяди по отцу. Он станет ее тестем. Она должна говорить о нем всегда во множественном числе "они" и никогда не смеет назвать его "он". Когда он будет входить в дом, ей нужно будет прятаться за занавеской и не говорить громко, чтобы он не услышал ее голос. Она никогда не посмеет взглянуть ему в лицо, до тех пор пока он, состарившись, лысый, с трясущимися руками, не решит снять табу, готовя большой пир в ее честь.
Все мужчины в той деревне будут судачить о ней. С тяжелым сердцем она ощупывает свои длинные, висящие груди, груди старой женщины. К счастью, тяжелые повязки из собачьих зубов приподнимают их, придают им подобие грудей юной девушки.
Будет ли ее супруг ненавидеть ее за эти груди? Она слышала разговоры мужчин из своей деревни, и она знает, как они ценят л женщинах девичий облик. Будет ли она достаточно проворной, чтобы угодить сестрам мужа, крепки ли у нее руки для того, чтобы сплести прочную тростниковую крышу, сможет ли она делать красивые бусы, хорошо готовить?
Она думает обо всем этом, сидя согнувшись под навесом каноэ, завернутая в скрывающее ее одеяло. Ее родственники плывут с нею в Пере. Вокруг нее все оживленно болтают о собачьих зубах и раковинных деньгах, свиньях и масле, неоплаченных долгах, возможных кредиторах, будущих торговых сделках. Ее отец вполне доволен выкупом за нее. За нее будет заплачено десять тысяч собачьих зубов, которыми он сможет хорошо распорядиться, заплатив за жену для сына своего брата. Тому ужа пятнадцать, а он еще не обручен. Разговор переходит па финансовое положение его племянника, будущего жениха.
Она смотрит на свою мать, держащую ее маленькую сестру на коленях, на свою старшую сестру, угрюмо смотрящую в воду. Уже месяц, как она ушла из дома своего мужа, а он все не посылает гонца с просьбой вернуться. Сестра не сказала им, что произошло, сказала только, что муж бьет ее. Резкий приказ заставляет Нгален вздрогнуть, приближается чужое каноэ, и она плотнее заворачивается в свое покрывало.
Наконец они прибывают в деревню. Завернутая с ног до головы, она поспешно карабкается в дом бабушки. Ее бабушка очень стара, кожа на ее шее висит складками. Она проводила трех мужей в могилу. Скрипучим, утомленным голосом она просит побыстрее одеть невесту, так как гости скоро будут здесь, для того чтобы отправиться с нею в "путешествие груди". Из каноэ приносят шкатулки из кедра8, и тяжелые украшения раскладываются на полу. Отец и братья уходят, и невеста остается с женщинами. Они красят ее волосы в красный цвет, накладывают оранжевую краску на ее лицо, руки, спину, наматывают длинные нити раковин вокруг ее рук и ног. К поясу из собачьих зубов подвешиваются два тяжелых передника; ракушечный полумесяц вставляется в нагрудную повязку. За браслеты на руках засовывают фарфоровые трубки, ножи, вилки, гребни, маленькие зеркальца - все это заморские вещи, которыми пользуются только для украшения невесты. На лоб ей накладывают колючую тиару из собачьих зубов. За нее закладывают дюжину маленьких гребней из перьев. За наручные браслеты eще закладывают много ярдов покупной ткани и перья райских птиц, К вытянутым мочкам ее ушей привешивают новые связки собачьих зубов. И наконец, в отверстие носовой перегородки вкладывают тонкую косточку, к которой прикрепляют длинную, восемнадцатидюймовую подвеску из раковин, костей и собачьих зубов.
Как марионетка, она терпеливо сносит весь этот обряд одевания, послушно поворачиваясь и наклоняясь, когда требуется. Между тем снаружи раздаются звуки многих голосов. За нею прибыли женщины из дома ее мужа. Она еще ниже опускает свою тяжелую голову. Но те не входят. Между ними вспыхивает ссора, они решают, достаточно ли велико каноэ, чтобы вместить всех. Женщины продолжают прибывать на маленьких яликах, но все они должны вернуться в каноэ невесты. После оживленной перепалки две женщины отправляются за новым каноэ. Остальные ждут на веранде. Нгален различает среди голосов голос тетки мужа. Она слывет за медиума и ее дух-помощник - собака; все остальные голоса неизвестны ей. Она знает, что среди этих женщин нет молодых девушек, все они замужем. Она уже раньше видела такие выезды на каноэ для "путешествия груди" и знает, кто в них участвует.
Наконец причаливает более вместительное каноэ. Мать и тетка ставят невесту на ноги. Она немного сутулится под тяжестью богатств, навешанных на нее. Торопливо, с опущенной головой спускается по лестнице к помосту каноэ. Она ни на кого не смотрит, и ее никто не приветствует. Надвигается шторм, и переполненное, осевшее каноэ отправляется в опасное плавание по неспокойным водам. Она смотрит на быстрое движение шестов в привычных, мускулистых руках, отмечает про себя новые, неизвестные для нее узоры бус на запястьях, но не смеет оторвать свои глаза от них и посмотреть в лицо.
Это - короткое плавание через лагуну к дому жениха, куда ему нельзя являться в эту ночь По приглашению свекрови она карабкается по лестнице и, жалкая, сконфуженная, усаживается в углу. Немедленно все тетки и кузины жениха с отцовской стороны набрасываются на нее; они выхватывают гребни из ее волос, с жадностью копаются под ее браслетами, чтобы найти трубки, гребни, зеркала. В спешке одну трубку разбивают. Острые края фарфора режут руку девушки. Этого никто не замечает, зато следуют сетования по поводу случайно разбитой трубки, едкие реплики о жадности ее родственников, посылающих битые трубки. Какая-то старуха ядовито замечает, что не следует завтра рассчитывать на хороший показ приданого невесты: горшки совсем маленькие и битые, и ей сказали, что у невесты всего десять кусков ткани. Другая старуха враждебно бормочет, что мужчины этого рода вообще немногого стоят: старший брат невесты все еще не заплатил за свою жену, а ее младший брат даже не помолвлен. Опозоренная, разъяренная, девушка сидит в углу, ее колючая тиара из собачьих зубов съехала ей на глаза. А в это время женщины оставляют ее, как хищные птицы бросают обглоданные кости, и переходят к следующему делу - разделу связок зеленого саго, которым родственники невесты загрузили каноэ. Происходит яростная перепалка, кому руководить разделом, потому что эта женщина будет следить за тем, чтобы всем досталось по справедливости, даже если при этом сама пострадает. Все женщины толпятся вокруг связок саго. Невеста забыта в углу, ее украшения расхватаны, она одна среди враждебных, алчных незнакомок. Наконец некоторые из них пойдут домой, большинство же будет спать с нею. Они предложат ей еду, но она откажется, огни медленно погаснут, и они заснут. Ни одна из них не поговорит с нею, и она не скажет ни слова никому, если же одна из них проснется среди ночи помешать угли в очаге и увидит, что невеста не спит, ну что же, это понятно: "ей стыдно".
Рано утром ее родственники заберут ее тайком домой. Ее снова оденут, смажут маслом. Над ней прочтут заклинания, чтобы быть ей сильной и богатой женщиной, деятельной в накоплении и обменах богатствами. На сей раз на каноэ грузится ее высокая резная кровать. Одна ножка у нее треснула и выпадает. Родственники ее мужа припомнят это со временем. Каноэ медленно плывет по деревне мимо веранд, усеянных любопытными, к дому жениха. Его тетка спускается с веранды и почти силком тащит ее вверх по лестнице в дом. Невеста уже мельком увидела разряженного юношу, сидящего сейчас за нею с вытянутыми ногами. На момент воцаряется молчание, затем слышится шум поспешных шагов. Жених оставляет дом и вновь появится здесь только к ночи. Все вздыхают свободно, и детям снова позволяют бегать по дому. Каноэ с ее родственниками опять пристает к дому, невеста вновь спешит на помост, и компания отправляется; на маленькие островки. Там весь день будет проведен в речах и дележе имущества. Будут бить барабаны, мужчины будут танцевать. Но невеста сидит, прикрытая покрывалом, в своем каноэ.
Поздно вечером жених вернется в деревню и овладеет своей невестой. Он не испытывает ни нежности, ни привязанности к этой девушке, которую он никогда не видел. Она боится своего первого сексуального опыта, как боятся и ненавидят его все женщины ее народа. В эту ночь не закладывается никаких основ для будущего счастья, ничего, кроме стыда и враждебности. На следующий день невеста вместе со свекровью отправляется через деревню за дровами и водой. Она еще не обмолвилась ни одним словом со своим супругом. Все глаза обращены на нее, и повсюду она слышит: "Груди! Груди старухи! Их вчера держала нагрудная повязка!" Вечером она прерывает свое молчание, чтобы сердито накричать на мальчика, последовавшего за ней на ее, заднюю половину дома. Это также отметят к деревне, где она отныне живет, но к которой никоим образом не принадлежит.
И это убеждение, что муж и жена принадлежат к разным группам, длится в течение всего ее замужества, лишь немного, ослабевая к концу многолетнего брака, но никогда не исчезает совсем. Отец, мать и дети здесь не теплая, соединенная интимными связями клеточка, противостоящая миру. В большинстве случаев мужчина живет в своей деревне, в своей собственной части деревни, рядом со своими братьями и дядями. Иногда рядом живут некоторые его сестры и тетки. Это люди, с которыми его соединяют самые близкие связи, от кого с детства он привык ожидать всего самого лучшего. Эти люди кормили его, когда он был голоден, нянчили его, когда он болел, платили за него, когда он грешил, брали на себя его долги. Их духи - его духи, их табу - его табу. Он принадлежит им всеми своими чувствами.
Что же касается его жены, то она чужая. Не он выбрал ее; он никогда не думал о ней до брака без чувства стыда. По ее милости ему много раз приходилось лежать, простершись под циновкой на дне каноэ, когда оно проплывало мимо ее деревни или домов ее родственников. С лицом, горевшим от смущения, он легкая иногда по часу, боясь даже поднять голос. До женитьбы он был свободен, по крайней мере в своей деревне. Он мог часами сидеть в доме для мужчин, играя на музыкальных инструментах и распевая песни. Теперь же, когда он женился, ему не принадлежит и его собственная душа. Целыми днями он должен работать на тех, кто оплатил его свадьбу. Пристыженный, он проходит мимо них, ибо он и не подозревал, сколь многим он им обязан. У него есть все основания ненавидеть свою запуганную, смущенную жену, которая с проклятиями отшатывается от его грубых, неумелых объятий и никогда не скажет ему ни одного ласкового слова. Они стыдятся есть в присутствии друг друга. Им предписано спать в разных частях дома. В течение первых двух лет брака они никуда не ходят вместе.
Возмущение девушки ее новым положением не проходит со временем. Эти люди чужие для нее. Для них близкий человек - ее супруг, связанный с ними самими тесными из всех человеческих связей, признаваемых их обществом. Если она вдали от своих родственников, живет в другой деревне, она старается изо всех сил, куда больше, чем ее супруг, создать что-нибудь из их брака. Когда он оставляет ее, чтобы пойти к своей сестре, она раздражается и бранится, а иногда даже совершает смертный грех, обвиняя его в сожительстве с сестрою. Тогда духи не медлит наказать ее дом, и разрыв между супругом и ею усугубляется. Если она вышла замуж за парня из собственной деревни, то она часто гостит у своих родственников и прилагает меньше усилий наладить отношения с мужем. Перед свадьбой ее лицо было покрыто татуировкой, а кудрявые волосы выкрашены красной краской, но теперь ее голова выбрита и ей запрещено носить украшения. Если она ослушается, то духи ее супруга заподозрят ее в желании нравиться мужчинам и нашлют болезнь на ее дом. Ей не позволено даже немного посплетничать со своей родственницей о родственниках мужа. Духи, живущие в черепах, услышат ее и накажут9. Она чужая среди чужих духов, по это не мешает им шпионить за каждым ее шагом.
Все это ожесточает молодую женщину, и день ото дня она становится угрюмее, сидя среди чужих, готовя пиры или работая на саговых полях. Если она быстро не забеременеет, то скорее всего убежит. Ее родня может убедить ее вернуться, и она будет метаться между двумя домами несколько лет до рождения ребенка. Когда же она зачнет, это сблизит ее не с отцом ребенка, а с ее собственной родней. Она может даже не сказать супругу о своей беременности. Откровенность такого рода устыдит их обоих. Она расскажет об этом своей матери и отцу, сестрам и братьям, кузинам. Ее родственники начнут готовить пир в честь ее беременности. Но об этом ничего не будет сказано мужу. Жена будет отвергать его домогательства с еще большей холодностью, чем когда бы то ни было, а его неприязнь и недоверие к ней только увеличатся. Наконец до его ушей дойдут какие-то случайно оброненные слова, какой-то слух о хлопотах в доме его шурина. У него будет ребенок, говорят соседи. И все же он ничего не скажет об этом своей жене, но будет ждать, когда капоэ, нагруженное саго, пристанет к его дому. Проходят месяцы, отмечаемые регулярно устраиваемыми пиршествами, в которые он должен вносить свой пай, родственники помогают ему, но от него ожидают, что большую часть расходов он возьмет на себя. Он должен ходить к своим сестрам и просить у них бусы, вымаливать подарки для родственников жены у матери и теток. Там, где он раньше требовал, теперь ему приходится просить. Его постоянно будет мучить мысль, что его ответные дары недостаточны или даны не тому, кому бы следовало. А в это время его беременная жена сидит дома, готовя ярды бус для своих братьев, работая на своих братьев, в то время как он вынужден упрашивать и ублажать своих сестер. Пропасть между ними углубляется.
За несколько дней до рождения ребенка брат, или кузен, или же дядя будущей матери гадает о месте, где должен появиться на свет ребенок. Если он сам не умеет пользоваться гадальными костями, его родственник сделает это. Гадание определит, предстоит ли ребенку родиться в доме отца или же в доме брата матери. Если предсказано первое, то супруг должен покинуть свой дом и уйти жить к сестре. Последнее обычно происходит, когда у пары собственный дом - случай очень редкий при рождении первенца. В его дом переселяются брат жены со своей женой. В другом случае его жену увозят из дома, иногда в другую деревню. С момента родов мужу не разрешается ее видеть. Самое большее, что он может позволить себе сделать для дома, где живет сейчас его жена, - положить рыбу на причал. Целый месяц он бесцельно слоняется, ночуя то у одной сестры, то у другой. Только после того как его шурин соберет достаточно саго, тонну или две, чтобы отметить праздник возвращения, его жена сможет вернуться к нему, и он увидит ребенка.
В это время мать очень занята новорожденным. Целый месяц она должна оставаться дома за занавеской. Пищу для нее готовят на особом огне, в особой посуде. Только с наступлением темноты она может поспешно выбраться из дома и покупаться в море. Сейчас жизнь для нее стала более приятной, чем когда бы то ни было за все время их брака. Все ее родственницы заглядывают к ней поболтать, а те из них, у кого есть молоко, иногда кормят ребенка. Жены ее братьев готовят ей пищу, приносят ей орех и листья перца для приготовления бетеля, развлекают ее, как больную. Она не скучает по супругу, которого она так и не научилась любить. Она подносит ребенка к груди, покрывает его маленькие ручки поцелуями и счастлива.
За день до большого пиршества с саго и напитками устраивается маленький пир. Ее братья, их жены, сестры готовят специальные блюда - разные виды моллюсков, таро, саго, белый плод, называемый унг, и два вида пудинга из листьев. Один из них называют чучу - квадратный пирог шириною в девять-десять дюймов, толщиною в дюйм. После того как пища готова, ее раскладывают в резные деревянные чаши и ставят на полки, ожидая, когда молодая мать нарядится. Ее волосы за время беременности подросли, и их окрашивают в красный цвет. Она надевает ножные браслеты из бус, нити из собачьих зубов. Все это лишь украшения, а не тяжелые деньги для родни мужа. Пища расставляется на помосте каноэ, и вся компания женщин и деточек направляется на один из маленьких островов близ деревни, принадлежащий ее предкам. Здесь тетка или бабушка по отцовской линии торжественно хлопает ее но спине одним из пирогов чучу, призывая семейных духов дать ей сил и здоровья и предохранить ее от нового ребенка до тех пор, пока этот но пойдет и не поплывет. Затем вся компания пирует; мать возвращается к ребенку, а другие разъезжают по деревне, оставляя чаши с пищей в домах родственников. В последний раз мать спит одна со своим ребенком.
На следующий день - утомительная вереница церемоний. Утро проводится в приготовлениях к большому пиру. Повсюду в деревне грузят саго на каноэ, ловят свиней, готовя их для перевозки. Молодая мать снова наряжается, но на сей раз в тяжелый костюм из денег, тот, что она надевала, когда была невестой. Волосы ее красятся в последний раз. Завтра ее побреют, как и полагается добродетельной жене.
Длинная процессия каноэ, иногда до пятнадцати или двадцати, выстраивается перед домом. Владелец самого нагруженного из них без устали бьет в колокол. Тяжело одетая мать садится в последнее каноэ, и, пока флотилия медленно и торжественно плывет по деревне, она переходит из одного каноэ в другое.
Она должна пройти от одного до другого конца флотилии, осматривая саго, собранное в ее честь. Тяжелые юбки из денег тянут и утомляют ее. Этот праздник возвращения к мужу не несет ей никакой радости. Очень часто под предлогом болезни или плача ребенка она оставляет процессию и возвращается домой. Но веселый праздник продолжается. Ее отсутствие никого не волнует. Она только пешка в игре финансовых сделок.
Наконец после заката приходит время и для "путешествия груди" - возврата к супругу. Это выгодное дело для женщин, которые будут сопровождать ее, и среди женщин ее дома вспыхивает перепалка, кто из них будет править каноэ. Ссора может длиться часами, а юная мать в это время будет сидеть угрюмая, скучная. Праздничный дом сейчас темен, его освещают только язычки вспыхивающего в очагах пламени. На полу стоят чаши с едой, дети спят между ними. Резкие звуки голосов алчных женщин звучат в удушливом, дымном воздухе. Наконец находят компромиссное решение, и группа женщин сводит ее вниз по лестнице, усаживает в каноэ и закутывает. На море штормит, каноэ раскачиваются и бьются друг о друга у причала. Не видно ни одного дома. Опытные женщины направляют каноэ к дому сестры мужа, где ее супруг жил с момента ее отъезда. Жена взбирается на причал и тихо сидит там. Ее муж может быть у сестры, но это необязательно. Он никак не дает знать о себе. Подождав немного, она вновь садится в каноэ и возвращается к своему ребенку, в переполненный дом, к новым ссорам по поводу уплат саго, связанных с такого рода плаванием. Лишь после того как будут урегулированы все претензии, гости расходятся. Последней уходит жена ее брата, ворча, что ее собственные дети заболели среди духов разных чужаков. Молодая мать устало укладыватся спать, и только поздно ночью возвращается муж.
Начинается новая жизнь. Отец проявляет к новорожденному живейший интерес собственника. Это его ребенок, он принадлежит его роду, пребывает под защитой его духов. С ревнивым вниманием он присматривает за женой, бранит ее, если она выходит из дома, кричит на нее, если ребенок плачет. Теперь он может стать еще грубее. Предупредительность ему сейчас не нужна: жена не убежит из дома, где о ее ребенке хорошо заботятся. Целый год мать и ребенок заперты в доме. В этот год ребенок все еще принадлежит своей матери. Отец лишь изредка берет его на руки и боится выносить его из дома. Но как только ноги ребенка начинают достаточно твердо стоять на полу, а руки его привыкают хвататься за шею, отец начинает забирать его у матери. Теперь, когда ребенка не нужно так часто кормить грудью, он ждет от жены участия в работах по дому, на болотистых полях саго, требует, чтобы она ездила к рифам на ловлю крабов и других панцирных. Она ведь давно уже ничего не делала. Разве не говорят мужчины: "Женщина с новорожденным не нужна мужу, она не может работать"? Протесты, что она нужна ребенку, ей не помогут. Отец с восторгом играет с малышом, подбрасывает его, щекочет под мышками, нежно дует на его гладкую, голую кожу. Он поднялся в три часа утра, чтобы порыбачить, работал вплоть до холодного рассвета, проплыл скучной и привычной дорогой до рынка, хорошо обменял часть улова на таро, бетелевый орех и листья таро. Сейчас для него наступает лучшая половина дня: он устал, и у него как раз настроение поиграть со своим ребенком.
Ее брат также имеет свои виды на нее. Он хорошо поработал для сестры во время ее беременности. Теперь наступило время мужа выполнить свои обязательства перед ее родственниками. Сестра должна помочь своему брату. Со всех сторон от молодой матери требуют, чтобы она оставила ребенка обожающему его отцу и занялась другими делами. С ранних лет ребенок привыкает к выгодам ситуации подобного рода. Отец, очевидно, самый главный человек в доме, он приказывает матери и бьет её, если "она не слушается". Он также и более снисходителен, чем мать. Нередко можно наблюдать маленькую трехлетнюю нахалку, выскальзывающую из объятий своего отца, для того чтобы приложиться к груди матери, утоляя жажду, а затем убегающую к отцу, дерзко ухмыляясь в сторону матери. Мать видит, что ребенок все более и более отдаляется от нее. Ночью малышка спит с отцом, днем ездит у него, на спине. Он берет ее с собой на тенистый остров, в тот мужской клуб, где делают каноэ и плетут большие сети. Ее матери позволено ездить на этот остров только для того, чтобы покормить свиней в отсутствие мужчин. Матери там бывать неприлично, а она свободно топает там среди строящихся каноэ. Когда в доме большой праздник, мать должна сидеть на задней половине дома, за занавеской, а дочурка может подбежать к отцу, когда подают суп и бетель. Отец всегда в центре интересных дел, и у него всегда есть время поиграть с нею. Мать же постоянно занята. Она должна находиться в дымном помещении. Ей запрещены поездки на остров, где мужчины чинят каноэ. Неудивительно поэтому, что в соперничестве за ее любовь всегда выигрывает отец: игральные кости были фальшивыми с самого начала.
А затем мать снова беременеет и ждет другого ребенка, который станет ее собственностью на год. Она еще более отдаляется от борьбы за ребенка и начинает отучать его от груди. Это делается медленно. Ребенок избалован, и, хотя он уже привык к другой пище, ему дают грудь всякий раз, как только он этого захочет. Женщина привязывает пучки волос к соскам, чтобы отучить ребенка от груди. Отучение длится долго, до последних месяцев ее беременности. Ребенок оскорблен поведением матери и еще больше привязывается к отцу. И так накануне рождения нового младенца зависимость ребенка от отца становится почти полной. Обычаи, которыми обставляется рождение, еще более углубляют эту зависимость. Пока мать занята своим новым ребенком, старшие дети находятся на попечении отца. Он кормит их, купает, играет с ними целыми днями. У него мало работы или обязанностей в этот период и, следовательно, больше времени, чтобы закрепить свои позиции. И все это повторяется при рождении каждого нового ребенка. Мать радуется беременности: у нее снова будет младенец, хотя бы всего лишь на несколько месяцев. Но очень рано отец заберет и этого ребенка себе. Иногда отец проявляет повышенный интерес к старшему, в особенности если это сын, а младший ребенок - дочь, но, как правило, в его каноэ хватает места и для двух и трех малышей. И старших, пяти-шестилетних детей не летают каноэ: им достаются собственные маленькие каноэ, которые сам отец сделал для них. При первой неудаче, при первом столкновении они всегда могут приплыть в убежище всепрощающей любви отца к детям.
Насколько у манус подчеркивается связь отца со своими детьми, настолько же матери постоянно напоминают о ее меньших правах па них. Если у нее заболел отец в другой деревне и в ее услугах нуждаются там, то муж не может задержать ее, но он оставит с собой ее двухлетнего сына. Какая-нибудь женщина из его рода покормит его грудью, если он плачет, а отец будет нежно заботиться о нем. Женщина же отправляется в тяжелое путешествие, разрываемая чувствами любви к своей кровной родне и к своему ребенку. Но все это в случае вполне нормальных отношений между супругами. В случае же ссоры она заберет ребенка с собой, убегая от мужа. Но даже и здесь пяти-шести-летние дети выбирают между родителями и часто решают остаться с отцом.
Или же женщина со своим супругом и детьми едет в гости в родную деревню на празднества. Муж категорически запрещает ей останавливаться в доме отца: один из детей заболел там раньше, духи этого дома враждебны им, никто из детей никогда не переступит порог этого дома вновь. Вся семья поэтому должна остановиться у его родственников, на другом конце деревни. Дед с бабушкой должны идти туда, чтобы посмотреть на своих внуков. Мать может жить со своими, говорит супруг, но его ребенок - нет.
Отношение мужчин к детям всегда одинаково, безотносительно к тому, идет ли речь о родных детях или же об усыновленных. Четверть детей в Пере усыновлена, в половине случаев из-за смерти родителей. Во всех случаях настоящие родители теряют все нрава па ребенка, если усыновление произошло в младенческом возрасте. Сын старшего брата, усыновленный младшим, называет последнего "папа", а своего настоящего отца - "дед". Маленькие девочки, удочеренные своей старшей сестрой, зовут ту "мама", а свою мать - "бабушка". В одном очень типичной случае приемный отец умер, и настоящие родители забрали назад своего сына. Но они всегда называли его "ребенок, отец которого умер" - особое выражение соболезнования. Дети, усыновленные старшими членами семьи, называют своих родителей по имени. Усыновленный ребенок принадлежит к клану приемного отца; табу и духи этого клана делаются его собственными. Но у него нет связей с приемной матерью, за исключением того, что именно она его кормит. В этом отказе воздать женщине должное за то, что она предоставила свой дом усыновленному ребенку, мы сталкиваемся с интересным смещением акцентов.
Много писалось о естественности материнского права, так как сам факт материнства не подлежит сомнению. Отцовство всегда может быть поставлено под вопрос, и потому это менее надежная основа для определения происхождения человека. По этому поводу цитировалось много высказываний различных туземцев.
Манус, однако, дают нам пример, никак не укладывающийся в рамки этой теории, поддерживаемой многими современными авторами. Они понимают физиологическую роль отца в рождении ребенка; они считают ребенка продуктом семени и сгущенной менструальной крови. Но физиологическое отцовство их интересует меньше всего. Приемный ребенок считается куда более близким приемному отцу, чем родному. Разве он не принадлежит духам его приемного отца? Мужчины женятся на беременных, овдовевших или разведенных женщинах и, когда рождаются дети, радуются им, как своим собственным. Настоящий отец не имеет никаких прав на ребенка, рожденного его сбежавшей ареной. Хотя вся деревня может знать, кто настоящий отец, никто никогда не упомянет его имени, разве только что под нажимом, и никогда не скажет ребенку, если тот сам не знает, что у него приемный отец.
Материнство - другое дело. Права отца, блага, которые несет отцовство, будут одни и те же, имеем ли мы дело с усыновленным ребенком или родным. Но права матери на ее дитя очень малы, исключая право кровного родства. У манус мы сталкиваемся со спорами не о правах отцовства, а о правах материнства. Женщина, пылко прижимая ребенка к своей груди, будет кричать: "Это мое дитя. Я родила его, он вырос в моем теле. Я кормила его этими грудями. Он мой, мой, мой!" Тем не менее всякий в деревне скажет ей, что она лжет, и укажет настоящую мать ребенка, усыновленного в раннем детстве. Сомнение в материнстве вызывает у них точно такую же защитную ярость, как и сомнение в отцовстве у нас.
Это страстное отношение к материнству может быть объяснено и связью между ним и миром духов. Только та женщина, у которой умерли дети мужского пола, может быть медиумом, а быть медиумом - единственное средство для женщины иметь какое-то влияние на ход дел в семействе мужа. Там, где она в конечном счете определяет волю духов, женщина, не впадая в большой грех, может прочесть по странным, свистящим звукам, издаваемым духами через ее губы, пожелания и советы, выгодные для нее. Но дух ребенка не будет говорить устами своей приемной матери. В равной мере возможно и то, что эта вера в связь реального материнства и способности быть медиумом вытекает из отношения к материнству но крови.
Но даже эта кровная связь между матерью и детьми может разрываться. Саликон и Нгасу были самыми одаренными и нарядными девочками в деревне. Саликон было около четырнадцати, и она уже была столь близка к половой зрелости, что ее приемный отец начал готовить кокосовые орехи для праздника первой менструации. Нгасу было одиннадцать: кудрявая, ясноглазая, быстрая девочка, она плавала так же хорошо, как мальчики, и почти так же много дралась. Их матерью была вдова, пышная, полногрудая женщина, все еще привлекательная и весьма искусная во всех видах местного промысла. Ее супруг Нанау в свое время был богат и влиятелен в общине. Он только что собрался сделать значительные выплаты за жену по поводу их серебряной свадьбы, как внезапно умер. Человек, умерший в расцвете лет, обязательно будет сердит, и страх перед духом Панау был силен в деревне. Его дом достался по наследству младшему брату, Палеао, унаследовал он и заботы о вдове, которую он называл матерью, равно как и опекунство над его дочерьми. Саликон была помолвлена, и на долю Палеао выпало собирать свиней и масло в уплату на ее помолвку. В деревне вдову уважали, а она питала сильную привязанность к дочерям. Она воспитала их лучше, чем другие матери, и одевала их наряднее. Их травяные юбочки были всегда очень красивы, на руках и запястьях они носили браслеты из бус, которые "сделала мама". Вдова была настолько искусна, что ее требовали повсюду, и она жила то в доме Палеао, то в доме одного или другого брата. Куда бы она ни шла, две девочки повсюду следовали за нею, вместо того чтобы постоянно жить в доме своих приемных родителей. Это была трогательная картина привязанности дочерей к матери.
Но настал день, когда все рухнуло. Вдова Папау была еще молода. Многие искали ее руки, хотя и тайно, так как ее родня не смела даже подумать о новом браке из страха перед яростью духа умершего супруга, да к тому же не хотела терять такую умелую работницу. Наконец вдова нашла себе милого но сердцу и тайно убежала с ним в другую деревню. Вся расположенность к ней ее собственных родственников и родственников мужа была забыта. В ярости от ее измены, в жутком страхе перед духом Панау изощрялись они друг перед другом в громогласных проклятиях по адресу сбежавшей. И громче всех звучали голоса ее дочерей, отказывавшихся видеть свою мать и говоривших о ней лишь с самой черной горечью. Да, теперь их отец рассердится на них. Когда она erne только замышляла бегство, Нгасу чуть не умерла от лихорадки. Теперь же одна из них обязательно умрет. О, их распутная, распутная мать, думающая только о своем счастье, а не о них! Они поселились в доме брата своего отца и выбросили образ матери из своих сердец.
7. Мир ребенка
Главные проблемы мира взрослых не касаются детей. У них нет собственности, и они ничего не приобретают. У них отсутствуют коллекции раковин, камешков странной формы, рыбьих скелетов, семян и т. п., которые наполняют тайнички наших детей и порождают теории особой, "коллекционной стадии" детского развития. Ни один ребенок в возрасте до тринадцати-четырнадцати лет ничем не владеет, (кроме) каноэ или же лука и стрел, подаренных ему взрослыми. Ребенок затрачивает массу труда, делая волчок из семян какого-нибудь растения, и забрасывает его, поиграв с ним часок-другой. Короткая палка в его руках становится шестом для каноэ, игрушечной пикой, дротиком, но, попользовавшись ею некоторое время, он ее бросает. Ручные и ножные браслеты делают его родители. Они надевают их на ребенка и снимают с него, когда им заблагорассудится. Он не огорчается. Дети не коллекционировали даже новые и незнакомые им вещи, принесенные нами в деревню. Они дрались за кусочек цветной ленты или фольги, обертку фотокассеты, за проявленную и выброшенную нами ненужную пленку, но они никогда не сохраняли их. В ходе работы я выбросила около сотни деревянных катушек для пленки, но однажды мне понадобилась запасная катушка для одного фотоаппарата. Я попросила детей вернуть мне одну из катушек, подобранных ими в свое время. Через час четырнадцатилетний мальчик обнаружил ее в рабочей коробке своей матери, куда он в свое время положил ее. Все остальные исчезли.
По это разбазаривание собственности, с такой жадностью хватаемой и очень легко отбрасываемой, было связано не с разрушительным инстинктом в детях. Предметы значительно чаще терялись, чем ломались. Более того, дети тщательно заботились об игрушке, пока она их интересовала; они обнаруживали куда большее уважение к собственности, чем наши дети. Я никогда не забуду, как Науна, восьмилетний мальчик, терпеливо чинил лопнувший воздушный шарик, который я ему подарила. Он соединял края отверстия в пучок и кропотливо, с большим искусством связывал их гибким стебельком травы. Заделав дыру таким образом, он вновь надувал шарик, который через минуту лопался в этом же самом месте. Починка начиналась снова. Он провел три часа за этим делом с любовью, не проявляя никаких признаков нетерпения, спокойно перевязывая жестким стеблем тонкий, рвущийся материал. Все его поведение было типичным примером уважения к вещам, уважения, привитого с детства. Но старшие не позаботились о том, чтобы научить их собирать или хранить свои маленькие сокровища.
Точно так же социальная организация манус не дает детям никаких захватывающих примеров для подражания. Их не учат сложным отношениям и обязательствам родственников в принятой системе родства, а сама по себе эта система слишком сложна, чтобы они могли ее усвоить самостоятельно. Характерное для них пренебрежение жизнью взрослых удерживает их и от привлечения ее в свои игры. Изредка, не чаще раза в месяц, я наблюдала игры детей, подражающих каким-то церемониям взрослых - сцене уплаты брачного выкупа, погребальному обряду с его расплатой табаком за траурное пиршество. Только один раз я видела маленьких девочек, играющих в домашнее хозяйство. Дважды четырнадцатилетние мальчики, запасаясь травяными юбочками и ситцевыми платочками, переодевались в девочек и носились сломя голову, весело подражая обрученным девицам, избегающим родственников, ставших для них табу. Четыре раза шестилетние дети строили дома из топких прутиков. Если сопоставить эту скудость игр, построенных на подражании взрослым, с большими свободными игровыми группами у наших детей, представляющих юных пиратов, индейцев, контрабандистов, "враждующие партии", клубы, секретные общества, пароли, коды, ордены, посвящения, то контраст будет разительным.
Здесь, на Манусе, группа детей, иногда насчитывающая до сорока человек, свободна от каких бы то ни было обязанностей и может развлекаться весь день. Природные условия идеальны - безопасная мелкая лагуна с монотонностью ее жизни, прерываемой лишь сменами приливов и отливов, проливными дождями и страшными порывами ураганного ветра. Им разрешено играть в любом доме деревни, даже в парадных частях домов часто висят детские качели. Под руками у них множество предметов - пальмовые листья, рафия, ротанг, кора, крупные семена (взрослые делают из них крохотные очаровательные коробочки), красные цветы гибискуса, скорлупа кокосовых орехов, листья нандануса, ароматические травы, гибкие стебли тростника. Играя с ними, они могли бы воспроизвести любую среду жизни взрослых - торговлю, обмен пли же лавки белого человека - некоторые из них их видели и все о них слышали. У них собственные каноэ - маленькие, полностью принадлежащие им, и большие - их родителей, в которых ям никогда не возбраняется играть. Но разве они организуют флотилии лодок, выбирают капитана, лоцмана, механика, рулевого, для того чтобы представить команду шхун белого человека, о которых они так много слышали от мальчиков, вернувшихся с заработков? Ни разу за шесть месяцев, что я провела в тесном контакте с ними, я этого не видела. Разве они делают себе копья из веток крупного кустарника, натирают свои тела известью, выстраивают свои каноэ в военные флотилии и плывут к деревне, как это делают взрослые во время больших церемониальных праздников? Ловят ли они маленьких черепах и бьют в свои маленькие барабаны, ликуя над добычей? Строят ли они маленькие танцевальные площадки на сваях, как взрослые? Они ничего этого не делают. Они украшают себя семенами, а не раковинами и играют с маленькими тупыми копьями, сделанными для них старшими. Они бьют в свои игрушечные барабаны, подражая молодым мужчинам, собирающим деревню на танцы, но сами не танцуют.
У них нет никаких сложившихся организаций - клубов, партий, языка, понятного лишь посвященным, тайных обществ. Если устраиваются соревнования, старшие мальчики просто делят детей на приблизительно равные группы или пары, соответствующие друг другу по физическим данным. Но в этих группах нет ничего постоянного, нет и устойчивого соперничества детей друг с другом. В их среде появляются предводители, но появляются стихийно, спокойно, благодаря преимуществам интеллекта или инициативности. Очень текучие возрастные группы, никогда не имеющие замкнутого характера, как правило, образуются вокруг особых родов деятельности - рыбалок в послеполуденное время неподалеку от деревни, игр типа чехарды, длящихся несколько минут и требующих соединения детей разных возрастов: юноши, двух двенадцатилетних мальчиков, семилетнего мальчика, может быть, его маленького брата. Эти группы частично образуются по принципу соседства или же родства, но тем не менее очень неустойчивы, так как у младших детей нет никаких постоянных обязательств по отношению к старшим.
Их игры по большей части очень прозаичны, грубы и бурны, лишены всякой фантазии: футбол, борьба, несколько игр в кружок, бег наперегонки, соревнование на каноэ, фигурное плавание; они любят играть в тени. При свете луны они придают своим теням странные очертания, и водящий должен отгадать, чья тень перед ним. Когда они устанут, то усаживаются в группы и поют одну и ту же монотонную песню:
Я мужчина,
У меня нет жены.
Я мужчина,
У меня нет жены.
У меня будет жена из Бунеи,
От родственников моего отца,
От родственников моего отца.
Я мужчина,
Я мужчина,
У меня нет жены.
Либо же они играют в веревочку на пальцах или выжигают друг другу горящими ветками декоративные шрамы.
Их беседы всегда вращаются вокруг одних и тех же тем: кто из них самый старший, самый высокий, у кого на коже выжжено больше красивых шрамов; когда Нане поймал черепаху - вчера или сегодня; когда вернется каноэ из Мока; какую драку устроили Санау и Кемаи из-за свиньи; как испугался Помаса на поврежденном каноэ. Когда они обсуждают события жизни взрослых, то всегда рассуждают очень практично. Так, Кава, которому было четыре года, заметил: "Килипак дал мне бумаги".- "Что же ты хочешь с нею делать?" - "Сигареты". - "А откуда ты возьмешь табак?" - "О, с поминок". - "Чьих?" - "Алупу". - "Но она еще не умерла" - "Нет, но она скоро умрет".
Очень часто споры кончаются потасовками. У них необычайно развита страсть к точности, страсть, унаследованная от старших. Те могут не давать целой деревне спать, шумно споря, был ли ребенок, умерший десять лет назад, моложе или старше какой-нибудь ныне здравствующей особы. В спорах о размерах и числе стараются проверять утверждения спорящих, а однажды я была свидетелем попытки эксперимента. В течение нескольких тревожных дней, связанных со смертью в деревне, у меня было мало времени на еду. Вот почему банку персикового компота, обычно съедаемого мною за раз, я делила на две части. Помат, маленький мальчик, прислуживавший нам за столом, что-то высказал в этой связи, но Килипак, наш четырнадцатилетний повар, возразил ему: я-де никогда не делила содержимое банки на два приема пищи. В спор были вовлечены все другие мальчишки, часто бывавшие в нашем доме, женатая пара, временно жившая у меня, две девочки-подростка. Спор длился сорок пять минут. Наконец Килипак торжествующе воскликнул: "Хорошо, давайте проверим. Мы завтра дадим ей банку персикового компота. Если она съест ее всю, то прав я; если она оставит что-нибудь, то правы вы".
Эта заинтересованность в истине обнаруживается в жизни взрослых в разных формах. Покенау однажды выронил челюсть рыбы из своего мешка с бетелем. На последовавший вопрос он ответил, что держит ее там, чтобы показать кому-то в Бунеи. Тот говорил, что у этой породы рыб нет зубов. Другой мужчина, вернувшийся в деревню после работы по найму у какого-то просвещенного немца, заявил своим изумленным товарищам, что, как сказал его хозяин, ранее Австралия соединялась с Новой Гвинеей. Мнения по этому вопросу в деревне резко разошлись, а два молодых человека даже подрались. Эта острая заинтересованность в истине проявляется в самых крайних формах, когда речь идет о сверхъестественном; не веря пророчествам какого-нибудь спиритического сеанса, люди делают как раз то, что поставило бы в опасность их жизнь, окажись медиум прав.
Итак, форма бесед детей очень напоминает форму разговоров взрослых: от них они заимствовали вкус к поучительным и монотонным играм, их склонность хвастаться и обвинять, ожесточенные споры по поводу фактов. Но в то время как разговоры взрослых вращаются вокруг тем, связанных с празднествами и финансами, духами, колдовством, грехом и покаянием, разговоры детей, не ведающих обо всем этом, бессодержательны и скучны и сохраняют лишь форму бесед взрослых, но лишены всякого интересного содержания.
У манус есть и виды отрывочных формальных разговоров, напоминающих наши беседы о погоде. Этикет у них не разработан, поэтому в их речи нет набора шутливых штампов, помогаю щих сгладить любую неприятную ситуацию. Они заменяют их в случае надобности бессодержательной, бездумной болтовней. Я присутствовала при беседе такого рода в доме Чанана, где на шла себе приют жена, убежавшая от Мучина. Мучин сломал ей руку, и она оставила его дом, укрывшись у тетки. Дважды он посылал женщин из своего семейства за ней, и дважды она отказывалась вернуться к нему. В данном случае я сопровождала его сестру. Члены семейства тетки приняли нас. Беглянка осталась в глубине дома, готовя пищу на очаге. В течение целого часа все сидели и говорили о ценах на рынке в глубине острова, о рыбной ловле, о каких-то готовящихся праздниках, о том, когда вернутся родственники из Мока. Ни разу никто не заговорил о цели нашего визита. Наконец какой-то молодой мужчина искусно коснулся в разговоре вопроса о физической силе. Другой добавил, насколько мужчины сильнее женщин. Затем разговор перешел к теме о мужских и женских костях, насколько хрупки они у женщин и как мужчина, совсем того не желая и преисполненный самых благих намерений, может сломать хрупкую женскую кость. После этого сестра брошенного супруга встала. Жена не сказала ни слова, но, после того как мы спустились в каноэ, она медленно сошла с лестницы и уселась на корме. Этот иносказательный стиль разговора свойствен некоторым детям, когда они беседуют со взрослыми. Они вставляют свои маленькие, не относящиеся к делу замечания по любому обсуждаемому вопросу. Так, Маса, когда ее мать упомянула о какой-то беременной женщине в Патуси, заметила: "Беременная женщина, что была у нас, уехала к себе домой". Затем она снова замолчала, до тех пор, пока другая тема, возникшая в разговоре, не дала ей, возможности сделать отрывистое замечание.
Взрослые не рассказывают детям сказок, им неизвестны загадки, головоломки. Сама идея, что детям могут нравиться легенды, представляется совершенно фантастичной взрослому манус. "Нет, легенды - это для старых людей. Дети не знают легенд. Дети их не слушают. Дети не любят легенд". И восприимчивые дети манус приемлют эту теорию, в корне противоречащую одному из самых прочных наших убеждений - о любви детей к сказкам.
Простые повествования о чем-то увиденном или пережитом принимаются ими, но полеты фантазии неумолимо опровергаются самими детьми. "А затем поднялся сильный ветер, и каноэ почти опрокинулось". - "Опрокинулось?" - "Да, был очень сильный ветер" - "Но ты же не оказался в воде, не так ли?" - "Н-нет". Требования строгой фактичности изложения, его обстоятельности, точности в малейших деталях - все это сдерживает воображение. Вот почему из жизни детей полностью исчезли сказки, от них они не получают никакого удовольствия. Они никогда не пытаются представить себе, что происходит по другую сторону горы, о чем беседуют рыбы. В разговорах детей со взрослыми вопрос "почему?" вытеснен вопросами "что?" и "где?".
И тем не менее из этого нельзя было бы сделать вывод о недостатке интеллекта у этих детей. Картинки, реклама, иллюстрации вызывают у них интерес и восторг. Они проводили часы над истрепанным экземпляром "Естественной истории", обсуждая ее, восхищаясь, поражаясь. Они старательно припоминали при этом псе мои пояснения, вплетая их в собственные толкования. У них был живой, незаторможенный, непритупленный ум. Они усваивали новые игры, новые картинки, новые занятия с большим рвением, чем маленькие самоанцы, подавленные и поглощенные своей собственной культурой. Их всех охватила страсть к рисованию. Неутомимо они покрывали лист за листом изображениями мужчин и женщин, крокодилов и каноэ. Но содержание рисунков этих детей, не приученных к сказкам, с неразвитым воображением, было очень простым: два дерущихся мальчика; пара мальчишек, пинающих мяч; муж и жена; группа людей, охотящихся за черепахой; шхуна с лоцманом. Сюжетных рисунков у них не было. Точно так же дело обстояло и тогда, когда я показала им пятна Роршаха10 и попросила истолковать их. Ответы были кратки: "это облако", "это птица". Только один или два юноши, ум которых был возбужден мыслями о других местах, куда им предстоит уйти на заработки, дали иные толкования пятен: "казуар" (никогда им не виденный), "телефон", "автомобиль". Но у детей в этой культуре совершенно отсутствовала способность, интерпретируя пятна неопределенной формы, создавать цельные сюжеты.
У них превосходная память. Приученные к вниманию к деталям, умеющие проводить самые тонкие отличия, они научились различать мои пивные бутылки, где я хранила медикаменты, по таким мелким признакам, как величина этикетки, число букв на каждой из них. Они могли сказать, кто сделал рисунок спустя четыре месяца. Иными словами, их ни в коем случае нельзя было считать глупыми. Это были энергичные, умные, пытливые, обладавшие великолепной памятью и восприимчивым умом дети.
Скучные прозаические игры - показатель не столько их ума, сколько манеры воспитания. Они оказались вне сферы жизни взрослых; никто никогда не просил их принять участие в ней. Дети не участвуют в празднествах и церемониях. Взрослые не привили им формы проявления преданности клану или вождю - того, что они смогли бы использовать в организации своих групп. Сложные взаимоотношения взрослого мира, взаимоотношения между родственниками с их шутками, благословениями, проклятиями, военные церемонии, обряды общения с духами - все это дало бы детям интереснейший материал для подражания, если бы взрослые показали им это, пробудили бы их интерес и энтузиазм. Жизнь индейцев прерий с охотой на бизонов, кочевками, военными обычаями отнюдь не дает маленьким индейцам больше живого материала для игр, чем жизнь манус. Но мать в племени чейенн11 делает своему ребенку типа, небольшую палатку, чтобы играть в дом. Индейское семейство ликует, видя птицу, убитую маленьким охотником, как если бы он добавил что-то очень весомое в общий семейный котел. Вот почему детский лагерь у индейцев прерий, воспроизводящий в миниатюре жизнь взрослых,- центр всех детских игр.
Если бы, с другой стороны, манус последовательно и злобно изгоняли детей из жизни взрослых, закрыли все двери перед ними, постоянно прогоняли их со своих церемоний, то дети сплотились бы в самозащите. Именно так и произошло с детьми кафров12 в Южной Африке, где взрослые всегда относятся к детям как к досадной помехе, лгут, отправляют караулить поля, запрещают им есть птиц, даже пойманных ими самими. Здесь игровая группа детей, вынужденная собрать все свое мужество перед лицом враждебного поведения взрослых, организуется в настоящую детскую республику, со своими лазутчиками и стражей, тайным языком, карательным кодексом, республику, напоминающую уличные банды подростков в наших городах. Представляется, что и активное вовлечение детей в жизнь взрослых, как у индейцев прерии, и активное изгнание их из нее, как у кафров, дают детям более разнообразную и богатую жизнь. Даже на Самоа, где не делают ни того, ни другого, но заставляют каждого ребенка нести носильные для него обязанности, детская жизнь приобретает содержание и значимость в силу ответственности, возложенной на него, в силу того, что дети - составная часть всякого реального жизненного плана.
У манус же нет ничего подобного. Детей великолепно научили заботиться о самих себе. Любое чувство физической неполноценности им чуждо. Они получили свои каноэ, весла, качели, лук и стрелы. Их не делят по возрастным группам, не подгоняют ни под какие законы соответствующего возрастного или полового поведения. Перед ними открыты двери любого дома. Они резвятся под ногами у взрослых в разгар самых важных церемоний.
К ним относятся как к властелинам вселенной; родители ведут себя в отношении их как усердные и терпеливые рабы. Но какой господин проявит большой интерес к утомительным занятиям своих рабов?
Сказанное об общественной жизни в полной мере относится и к жизни религиозной. Она - закрытая часть мира взрослых, дети не принимают в ней никакого участия. Ее невидимые персонажи передаются детям, передаются скопом, целым генеалогическим древом, никак не взывая к их воображению, не требуя работы фантазии.
В мыслях и играх детей манус, связанных с обыденной жизнью, более стихийных, чем их механически усваиваемое отношение к религии, мы также обнаруживаем контрасты, сопоставляя их с мыслями и играми наших собственных детей. Привычка одушевлять неживые вещи - пинать дверь, ругать нож, взывать к стулу, обвинять луну в подсматривании и т. п.- совершенно отсутствует у манус. Если мы наполняем души наших детей богатством фольклора - песнями, одушевляющими луну, солнце, звезды, загадками, сказками, мапус не делают ничего подобного. Ребенок манус никогда ничего не слышал о "лунном человеке" или что-нибудь вроде стишка Джин Инглоу:
О луна, почему бог тебя закрыл? Ты плохо себя вела? Да иль нет? Если да, то скорее бы он простил, Чтобы к нам вернулся твой свет.
Он не слышал и песенку, под которую танцует его старшая сестра:
Погаси свой свет, госпожа Луна,
Скройся за облака,
Всюду парочки, им хорошо,
И третья здесь не нужна.
Если юная леди и паренек
Нашли укромный уголок,
Время тебе попрощаться.
Если хотите поцеловаться,
Скажите Луне:
"Леди, будьте добры,
Извольте убираться".
Ни родители, ни деды не дали уму ребенка богатой пищи для размышлений, и ему нечем разукрашивать свои представления о луне. Для него луна - это просто свет, перемещающийся но небу. Он не думает о луне как об одушевленном существе. Он не считает, что она может видеть, ведь у нее нет глаз. Его представления о луне трезвы, естественны, хотя, конечно, и далеки от научных. Он и его родители считают, что и солнце и луна действительно движутся по небу. Фольклор не помогает его воображению, а язык манус холодец и скуп, лишен образности, непоэтичен. Это язык, который не питает фантазию детей, не рождает поэзию у взрослых. Это строгий язык фактов, наши же языки полны образов и метафор.
В то время как мы приписываем луне пол и называем ее "она", язык манус не различает родов: он, она, оно - все это "третье лицо единственного числа". Язык не помогает воображению. Глаголы, относящиеся к человеку, не применяются, когда говорят о луне. Она "светит", но она никогда не улыбается, не прячется, не шествует, не кокетничает, не подглядывает, не одобряет; она никогда но "смотрит на нас с грустью", не "скрывает свой лик". В языке манус нет никаких импульсов к одушевлению мира, которых так много в ваших образных языках.
Мне никогда не удавалось убедить детей поругать неодушевленные предметы. На мою реплику "О, это плохое каноэ, оно уплыло", они всегда отвечали: "Но Пополи забыл его привязать" или же: "Бопау очень плохо его привязал". Это показывает, что, так сказать, "естественная" тенденция наших детей одушевлять неживое фактически прививается им их родителями.
Отношение детей манус к любому виду выдумки, любой игре в реальность хорошо выражено в ответе маленькой девочки. Я опрашивала единственную увиденную мною группу детей, игравших в домашнее хозяйство. Они делали вид, что чистят кокосовые орехи. Девочка сказала "grease e joja" - "это наша ложь". Слово "grease" в пиджин-инглиш обозначает "лесть, обман". Оно вошло в местный язык для обозначения обмана или лжи. В ответе маленькой девочки скрывалось осуждение этой игры в реальность.
Из всего этого можно сделать вывод, что одушевление вселенной внутренне не присуще сознанию ребенка. Это тенденция, которую он наследует от общества. Неспособность младенца различать людей и вещи или же по крайней мере по-разному реагировать на них сама по себе не имеет творческого характера. Но она, как таковая, приводит к тому, что дети старшего возраста думают о солнце, луне, лодках и т.п. как о существах, наделенных волей и эмоциями. Эти более сложные тенденции в сознании ребенка возникают не стихийно, а формируются под влиянием языка, фольклора, песен, отношения взрослых к детям. Все это - плод поэтического воображения взрослых, а но путаного мышления малых детей.
Найдут или не найдут философские системы религиозного или научного мышления отклик в душе ребенка, зависит не от его собственного сознания, а от того, как он был воспитан. На трезвые, практические увещевания родителей, напоминающих ему о его маленьком росте, возрасте, физической слабости, ребенок может ответить фантазиями о сапогах-скороходах или добрых помощниках-великанах. Но эти фантазии родились не у него в голове, а были позаимствованы из фольклора, с которым его познакомили. Если же, воспитывая ребенка, родители прибегнут к ненаучным аргументам, если, например, взрослый скажет ему: "Не срывай обложку этой книжки. Бедная книжка! Как бы ты себя почувствовал, если бы с тебя срывали кожу?" - то ребенок того же самого возраста может ответить ему поучающе: "Фу, разве ты не знаешь, что книги ничего не чувствуют?! Ты можешь рвать у нее страницу за страницей, а она ничего не почувствует. Я тоже ничего не чувствую, когда у меня немеет кожа". Это натуралистическое мировоззрение не в большей мере присуще ребенку, чем сверхъестественное. Принятие им одного или другого будет зависеть только от того, как они были преподаны ему, от конкретных случаев их применения.
По природе дети нерелигиозны, невосприимчивы к фетишам, колдовству, амулетам и ритуалам. Они по природе не творцы сказочных повествований; предоставленные самим себе, они не строят фантастических замков. В них не заложена склонность считать солнце одушевленным существом и рисовать его с человеческим лицом (* В собранных мною тридцати тысячах рисунков я не нашла ни одного, персонифицирующего природное явление или неодушевленный предмет.). Их умственное развитие в этом отношении определяется не некоторой внутренней необходимостью, но формой той культуры, в которой они были воспитаны.
Игры детей манус воспитывают в них свободу, представляют собой превосходные упражнения для их тел, прививают им быстроту реакции, ловкость, физическую инициативность. Но они не несут в себе никакого материала для мысли, никаких моделей поведения взрослых, вызывающих восхищение, и никаких форм такого поведения, которые порождали бы острое презрение у детей. У них нет богатого, образного языка, сокровищ легенд и преданий, нет поэзии. И дети, предоставленные самим себе, борются и катаются по земле (даже и это стимулируется мимолетным интересом взрослых к ним), кувыркаются и дерутся, не формируя в себе ничего ценного, кроме хорошего настроения и сообразительности. Не получая духовной пищи, не испытывая потребности компенсировать одиночество или же физические недостатки в фантазии, они просто бурно расходуют свою бьющую через край энергию, а устав, играют в тени в веревочку на пальцах, скучая самым жестоким образом.
14. Воспитание и личность
Хотя воспитание и не может изменить тот факт, что личность ребенка в самых ее существенных чертах всегда отражает культуру, в которой он был воспитан, все же методы воспитания могут иметь далеко идущие последствия для развития той совокупности темперамента, мировоззрения, устойчивых предпочтений, которые мы и называем личностью. Несмотря на то что народ манус скован узкими рамками одной культурной традиции, он смог дать ярчайшие формы развития личности. Вот почему анализ того, как каждый младенец у этого народа становится отличным от всех других, пролил бы яркий свет на всю проблему формирования личности. Внутри гомогенной культуры проблема формирования личности выступает рельефнее. Ее не затемпяют искусственные наслоения, которые сложная культура обязательно привнесет в развитие каждого индивидуума, рожденного в лоне ее гибридных традиций. Мы часто принимаем за личностные различия плоды этих вторичных образований, хотя на самом деле они не имеют с ними ничего общего. Давайте сравним на минуту возможные вариации культурных форм, дозволенных взрослому мужчине у манус, с теми же вариациями, представляющими часть индивидуальности каждого мужчины в нашем обществе. Возьмем сначала второстепенный вопрос, касающийся внешнего вида. Мужчина манус может иметь длинные волосы, волосы, завязанные в узел, может их коротко стричь. Он может носить кольца в ушах или не носить их. Точно так же в носу у пего может быть тонкое полукольцо из жемчужной раковины или же вырезанная кость, но их может и не быть. Но в любом случае как уши, так и нос будут проколоты для этих украшений. Ткань на его штанах - это либо коричневый луб хлебного дерева, либо же джутовая, купленная у торговца. Его драгоценности - собачьи зубы, раковины, служащие деньгами, бусы. Собачьи 8убы могут быть нанизаны на нитку вперемешку с бусинами, они могут быть обвиты вокруг шеи в одну нить или в две. В раковинах могут помещаться красные бусины или же красные и черные. В лучшем случае перед нами очень небольшой диапазон возможных вариантов. Сравните с ним варианты одежды у нас - от комбинезонов рабочего до утонченных моделей, описываемых в рекламных проспектах под заголовком "Что носят хорошо одетые люди". А когда речь заходит о возможных вкусах, верованиях, мнениях, контраст становится ошеломляющим. Вот самый экстравагантный человек в Пере: он еще молод, заявил о своем отличии от своих сотоварищей еще юношей, позесив па спину своей кузины, соблазненной им, амулет, который должен был предохранять ее от возмездия духов. Впоследствии он украсил свою речь всеми бранными словами, тщательно собранными у стариков в разных деревнях, и громко смеялся на похоронах сестры. Во всем остальном он был вполне сходен со своими товарищами. Он женился, жена ушла от него, он снова женился. Он занимался рыбной ловлей, обменивал рыбу на фрукты, участвовал в торговых сделках, соблюдал табу имен всех близких родственников, как и все жители Пере. Другой мужчина в Пере отличился по-иному: он искренне и долго плакал после смерти своей жены, сохранил у себя ее череп и иногда говорил с ним. Все это сделало его заметной личностью, уникальных явлением среди его родственников и соседей. Но в большинстве других своих верований и привычек он ничем не отличался от всех остальных мужчин деревни.
А теперь давайте рассмотрим небольшую подборку индивидуумов, с которыми мы можем встретиться у нас. Из двух мужчин с одинаковыми чертами характера, то есть оба могут быть властными, агрессивными, предприимчивыми, уверенными в себе, один может верить в святую троицу и первородный грех, другой - быть убежденным агностиком; один - верить в свободную торговлю, права штатов, решение на местах, другой - в тарифы, большой флот, федеральные законы по социальным вопросам; один может коллекционировать гравюры с видами Нью-Йорка раннего периода, другой - бабочек; один может обставить свой: дом мебелью, сделанной в эпоху королевы Анны, дом другого обставлен мебелью пяти стилей; один обучен так, что он может разбирать самые сложные фуги, другой так знает Пикассо, что может датировать любую его картину; одному нравится Кабелл13, другому - Пруст. И так можно было бы пойти дальше, воспроизводя весь диапазон различных вкусов у этих людей, а кончить наше описание - сравнением любого из них с молодым клерком из маленького городка. Его единственные развлечения - сидеть за рулем "форда", ходить в кино и почитывать комиксы; его дом обставлен стандартно безобразной мебелью, купленной в кредит, и он республиканец, потому что республиканцем был его отец. У нас мы сталкиваемся с диаметрально противоположными вкусами, сложными и простыми, и oни-то и образуют тот фон, на котором индивидуум выделяется значительно более рельефно, чем это возможно у представителя простой культуры. У манус любовь к музыке выражается в умении более или менее хорошо играть на свирели или деревянной флейте, интерес к пластическим искусствам - в умении более или менее успешно вырезать традиционные формы, созданные соседними народами. Но в пределах этого очень узкого диапазона предпочтений и возможностей, определяемых культурой, дети манус обнаруживают столь же резкие различия в существенных чертах личности, как и американские. Среди них четко выделяются покорные и властные, расчетливые и порывистые, инициативные и подражательные. И как раз потому, что сложные различия в традициях образования, круге чтения не затемняют здесь картины, народ манус - благодарный объект для изучения путей формирования этих фундаментальных свойств личности у ребенка. Эта проблема столь же значима для нас, как и для любого примитивного народа. Как вырабатывается в подрастающем индивидууме свойственная ему тенденция выбирать то-то, а не то-то? Даже при беглом взгляде на современные цивилизации мы обнаруживаем прямую связь между культурой и темпераментом.
Созерцательный человек, углубленный в проблемы потустороннего мира, полностью девальвирован в Америке, где даже священник должен быть предприимчивым и энергичность поощряется. Напротив, человек с активным, деятельным умом, не очаровывающийся мыслью, как таковой, и презирающий философские тонкости, был бы в невыгодном положении в таком обществе, как древнеиндийское. Среди индейцев зуньи14 откровенно инициативный человек, наделенный большей силой внушения, чем его соплеменники, рисковал бы прослыть колдуном и быть повешенным за большие пальцы. Человек, который всю свою жизнь любой ценой стремился бы к мистическому озарению и так и не обрел его, оказался бы совершенно беспомощен среди тех фундаменталистов из индейцев прерий, которые до сих пор не переняли умения продавать и покупать религиозный опыт. Идеалом каждого общества служит один из многих типов возможного поведения (* Теоретический анализ этой точки зрения см. у Рут Бенедикт: Psychological Types in the Culture of the South West.- Proceedings of the XXIIIth International Congress of Americanists.). Те индивидуумы, которые воплощают в себе этот тип личности, становятся его вождями и святыми. Те, у кого этот господствующий тип личности менее развит, становятся их последователями. Тех же, кто в своей извращенности подхватил совершенно чуждую точку зрения на личность, иногда заключают в сумасшедшие дома, иногда бросают в тюрьмы как опасных агитаторов или сжигают как еретиков, а иногда позволяют им влачить полуголодное существование как художникам. Человек, о котором говорят, что "он родился в свое время", "в своем веке", - это просто человек, личность которого созвучна господствующему тону его общества, обладающий к тому же необходимым интеллектом. Общества функционируют, развиваются и расширяются теми, чьи души родственны его душе. Их подрывают и преодолевают новые верования и новые программы - плоды страданий и мятежа тех, кто не нашел духовного отечества в культуре, где был рожден. На первой группе людей лежит бремя сохранения их общества и, может быть, даже бремя придания ему более определенной формы. На плечи одаренных людей из числа изгоев общества ложится бремя создания новых миров. Очевидно, что от соотношения этих трех типов людей частично зависят судьбы культуры. Без творцов-энтузиастов, поставивших себя на службу существующему режиму или новым формам того же самого режима, общество или же какая-то область социальной жизни оказались бы без лидеров, погрязли бы в скуке и посредственности. Примером тому может служить современная американская политическая жизнь. Во главе ее стоят не лучшие типы американцев, то есть не люди, наилучшим образом воплощающие в себе американскую идею. Появление на политической сцене сильных личностей, темперамент которых не созвучен верно понятым американским идеалам, не придает нашей политической жизни энергии и здоровья. Судьба любого общества зависит от той духовной пищи, которой питаются его изгои,- от того, строят ли они свою философию перемен из идей, достаточно родственных своей культуре, закладывая основы реальных перемен, либо же обращаются к источникам, настолько чуждым их культуре, что остаются бесплодными интеллектуалами-мечтателями.
Всякое общество поэтому, даже если оно полностью изолировано и не общается с другими культурами, зависит в любой момент своего существования от тех свойств личности, которые со временем разовьются у новорожденного. Что же касается немногих действительно одаренных людей, рождающихся в каждом поколении, чрезвычайно важно, горят ли они энтузиазмом сохранить существующий порядок или же тратят свою жизнь, на неустанные, страстные поиски чего-либо нового. Можно сказать, что судьба каждой культуры зависит от калибра людей. И не в смысле интеллектуальных отличий одних от других. Судьбы культуры определяются тем, насколько ее идеалы привлекательны для одаренных людей в каждом поколении, ослепляют ли они их своим блеском, побуждая служить им, либо зажигают в них пылкую страсть к обновлению.
Тем не менее, о механизмах процесса, в результате которого один ребенок становится восторженным поклонником системы, другой реагирует на нее апатично, а третий начинает испытывать к ней нескрываемое отвращение, мы знаем очень мало. Может быть, наиболее плодотворные попытки решения этой проблемы исходили от психоаналитиков, неутолимое желание которых подвести всю жизнь под одну категорию побудило их попытаться решить и те проблемы, которые ортодоксальные психологи рассматривали вне рамок какой-либо единой теории. Одна из наиболее мощных психоаналитических теорий - теория идентификации, анализ того, каким образом индивидуум настолько полно отождествляет себя с другой личностью (известной ему непосредственно, или о которой он прочел, или которую вообразил), что делает ее склонности и установки своими. Психоаналитики использовали это понятие, для того чтобы объяснить десятки различных ситуаций - от идентификации с героями пьесы или книги до процесса, в ходе которого идентификация с родителем противоположного пола может привести к извращенным сексуальным склонностям.
В нашем обществе вариационные возможности, заложенные в механизме идентификации, многочисленны и противоречивы. Любой из родителей, учителей, прославленный киноактер, игрок в бейсбол, герой книги или пьесы, историческая личность, любимый товарищ или же сам бог могут послужить идеалом. Сумасшедшие дома полны теми, кто вывел свои идентификации за пределы здравого рассудка и непоколебимо уверовал, что он Наполеон или Иисус Христос, преследуемый слепым и враждебным миром. То, что крайние формы идентификации присущи не только нашему обществу, доказывает самоанское общество, где я встретилась с человеком, твердо веровавшим, что он Туфеле, верховный вождь острова, и требовавшим, чтобы к нему, бедняку, обращались не иначе, как со словами, предназначенными для верховных вождей. В менее патологических формах тенденцию идентифицировать себя с кем-то можно встретить в каждой шутке пылкого поклонника какого-нибудь вождя, у всякого, кто стремится тщательно воспроизвести, хотя бы и в малом, поведение какого-нибудь бесконечно обожаемого человека.
У ребенка манус нет такого диапазона выбора. Не видя перед собой больших различий в рангах людей, лишенный религиозных вождей, не имея представления о великих личностях истории или мифов, этот ребенок не обладает галереей образов, сколько-нибудь сравнимой с той, из которой паши дети могут черпать свои идеалы. Кроме того, способность и готовность, даже, ложно сказать, склонность ребенка выбирать себе образец для подражания у минус более жестко ограничивается рамками отношения отец-сын. Читатель должен припомнить, как тесно узы товарищества связывают отца и маленького сына, как ребенок следует за отцом на всех стадиях его повседневной, будничной деятельности, наблюдает за ним, когда тот строит планы, ссорится, работает, отдыхает, убеждает духов своих предков, разглагольствует перед женой. Мы видели, что детей более пожилых и преуспевших отцов можно отличить от детей более молодых и менее процветающих. И самое главное, мы видели, что соответствие личностей отца и приемного сына столь же велико, как и у отца с его собственным сыном, и оказывается большим, чем сходство характеров у отца и его родного сына, если последнего усыновил мужчина другого темперамента или положения в общине. Все это позволяет предположить, что, каково бы пи было влияние наследственности - фактор, воздействие которого в настоящее время не поддается точному измерению,- формирование личности ребенка в очень большой мере определяется тесными связями со взрослой личностью. В родительских заботах взрослых мужчин о своих детях манус обрели великолепный социальный механизм переноса их личностных характеристик на следующее поколение.
И это не просто способ сохранения в следующем поколении того соотношения между решительными и нерешительными, агрессивными и мягкими характерами, которое сложилось в предыдущем. Если у сильного человека пять сыновей, они у него родятся па разных этапах его жизненной карьеры. Ребенок, родившийся у него в молодости, будет обладать более мягким темпераментом, чем другой ребенок, плод уверенной в себе зрелости.
Это может быть одной из причин, почему первородство практически мало значит у манус, почему младшие братья так часто откровенно властвуют над старшими. (Различие интеллекта также может быть одной из причин этого явления.) Доля каждого темперамента может слегка меняться от поколения к поколению в соответствии со случайностями рождений и усыновлений. Палеао, человек агрессивный, имел только одного сына. У Мучина, его брата, мягкого, неагрессивного, консервативного, их было четверо. Затем Палеао усыновил одного из сыновей Myчина, но сделал это слишком поздно, чтобы осязаемо повлиять на характер ребенка. Там, где только десять или пятнадцать мужчин решают судьбы общины, очень важно, будет ли среди них тремя-четырьмя агрессивными и инициативными людьми больше или меньше. Интересно сравнить методы воспитания у манус не только с нашими, но и с методами, применяемыми другим народом Океании - самоанцами (* Этот вопрос рассмотрен в книге "Взросление па Самоа"). На Самоа идея титула служит стимулом для детей, но она не связана с образом какой-то конкретной личности, потому что значительные люди никогда не позволяют детям приближаться к ним. Детей выгоняют из общества взрослых, передают их в руки старых женщин или заставляют нянчиться с малышами. Здесь нет никаких гарантий, что сын сильного человека станет личностью, в каком бы то ни было отношении подобной отцу. Но идея ранга оказывает определенное воздействие на формирование личности ребенка. Если он сын или племянник вождя, для него устанавливаются более высокие стандарты поведения и он отвечает на это несколько большими усилиями, чем: его сверстники. Но "ты - сын вождя"- это побуждение к усилию, а не наше фатальное подчеркивание успехов отца, пугающее сына, задерживающее его развитие. Влияние этого стимула на личность самоанского ребенка относительно мало; маленькие мальчики отличаются там друг от друга значительно меньше, чем дети у манус. Когда они становятся молодыми людьми, вожди проявляют большой интерес к своим вероятным преемникам. Но к этому времени, когда у молодых людей появляются большие возможности для подражания, их характер уже достаточно сформирован. В течение же первых шестнадцати-семнадцати лет жизни главным социальным детерминантом поведения молодого самоанца оказываются нормативы его возрастной группы, а не личность взрослого. Традиция подчинения стандартам своей возрастной группы так сильна, что идея ранга, связь со взрослым человеком в поздние годы, складывающиеся привычки повелевать здесь мало что могут изменить. Мужчины на Самоа значительно более похожи друг на друга, чем мужчины манус. Заботливо воспитанные привычки благоразумного стандартизирования поведения, соответствующего скорее социальному статусу человека, чем eго естественным склонностям или личностным особенностям, делают самоанцев значительно более однородной массой, гораздо более пригодными для стрижки под одну гребенку.
У детей манус роль возрастной группы незначительна. Как индивидуумы они усваивают отличительные особенности своих отцов, особенности, непосредственно выражающие их возраст, экономическое положение и успех в обществе. Последний же в известной мере зависит от интеллекта, но в основном от таких черт характера, как агрессивная инициативность и энергия. У манус мы находим три главных типа личности. Агрессивный, склонный к насилию, властный тип, распространенный среди более пожилых и богатых людей и у детей, которых они воспитывали. Вполне уверенный в себе, но с менее выраженной агрессивностью, встречающийся среди молодых мужчин, еще не добившихся прочного экономического положения, но взявших хороший: старт в детстве, равно как и у подрастающих детей этих мужчин. Мягкий, неагрессивный, слабый тип - у пожилых неудачников, по-видимому плохо начавших свой жизненный путь, либо у малоодаренных природою и у их детей. Так как более чем в половине случаев наследники преуспевших мужчин сами имеют сыновей или же по крайней мере кровных родственников, эта система создает аристократизм личностей, аристократизм, надежно увековечивающий себя. Она приводит к резким индивидуальным различиям между мужчинами даже в очень маленьких деревнях, приводит к появлению динамической атмосферы жизни, начисто отсутствующей на Самоа, хотя там развитие личности стимулируется ранговой системой. Эти живые, беспокойные люди восприимчивы к культурам, с которыми они входят в соприкосновение, быстро пользуются преимуществами идей белого человека, обращая их себе па пользу. Но самоанское обращение к цивилизации белых основывается не на деяниях конкретных: индивидуумов, а на гибкости всего образа жизни, в котором пет сильных страстей и не приходится расплачиваться слишком, дорогой ценой. У манус, с другой стороны, много конфликтов, много трений между разными типами личностей, их эмоции куда более сильны. Самоанская система - это очень приятный способ сглаживания грубых, непристойных сторон человеческой природы до приятной безвредности. Система манус - это один из приемов вложения капиталов в личность и использования ее обществом.
В Америке мы не придерживаемся пи той, ни другой системы. Низведение роли отца до роли усталого, часто смущенного ночного гостя сделало очень многое для того, чтобы исключить саму возможность плодотворной идентификации сына с ним. Когда же ребенок действительно пытается отождествить себя со своим отцом, то обычно он вынужден обращаться к тем отцовским качествам, которые более бросаются в глаза и присущи мужчине вообще,- к одежде, к физической силе, низкому голосу, то есть как раз к тем его качествам, в подражании которым пятилетний ребенок сталкивается с наибольшими трудностями. Как со скорбью в голосе сказал мне однажды маленький мальчик: "Я никогда не стану таким же большим, как мой папа, потому что я не могу так же сильно шуметь своим маленьким носом, как он". Отец - это мужчина, который может поднять ребенка на руке, который приходит домой вечером, отдыхает с семьей по воскресеньям, водит автомобиль, зарабатывает деньги, должен бриться каждый день, говорит басом. Все эти признаки никак не выделяют его из сотни других мужчин в данной общине. Ребенок должен идентифицировать себя с неопределенной фигурой в брюках. Ему недозволен более близкий контакт с ним, который позволил бы понять своего отца как индивидуума, а не как представителя определенного пола.
Условности нашего общества таковы, что воспитание детей в угрожающих размерах стало женским делом. Свидетельством тому служит то, что вопросами педагогики и гигиены интересуются почти исключительно женщины, у мужчин же интерес к ним почти совершенно отсутствует. Мальчик состоит при матери до шести-семи лет, и это создает трудности в его последующей адаптации, аналогичные тем, которые переживает девочка у манус. Идентификация с представителями противоположного пола опасна в гетеросексуальном мире. В шесть или семь лет мальчик передается в руки других женщин. Мать, кормилица, учительница, руководительница детской игровой группы - вот та долгая процессия женщин, проходящая между ним и любым сколь-нибудь реальным контактом с мужчинами. Их влияние - это закопченное стекло, пропускающее к нему искаженный, преувеличенный, фиктивный образ отца. И ребенок, реакции которого на властного отца всегда сильны, реагирует на этот образ не положительно и остро эмоционально, как у манус, а чувством своей неполноценности, ощущением своей неизбежной неудачи. Манус посмотрел бы с сожалением на вереницы неудачников, отцы которых были знамениты, часто неудачников именно потому, что их отцы были знамениты. Стоять ли на точке зрения наследования врожденных способностей или же на точке зрения решающего влияния привычек, приобретенных в раннем детство, ясно одно, что сыновья сильного мужчины должны быть сильными, любое завоевание, сделанное индивидуумом, должно сохраняться в последующих поколениях, не разбазариваться, а тем более, сколь это ни парадоксально, не портить жизнь его несчастным потомкам. В нашей же действительности, где нет ни традиции обучения мальчиков отцами, как у манус, ни самоанского обращения к социальному рангу как средству воспитания, мы сталкиваемся с весьма печальной картиной потери завоеваний одного поколения другим.
Неудачи детей в идентификации со своим отцом обостряются в нашей стране быстро сменяющимися нормативами поведения и различием во взглядах на жизнь у родителей и детей. Факты, приведенные в "Мидлтауне"15, подтверждают это, показывая, что очень мало детей желает унаследовать профессии своих отцов. Ребенок представляет себе своего отца как некую непопятную силу, действие которой трудно предвидеть, как своенравного добытчика пропитания, отказывающего иногда в карманных деньгах, почти всегда безразличного члена семейства, старого ворчуна, со смешными для нового поколения идеями. Но для того чтобы ребенок мужского пола смог успешно приспособиться к жизни, он должен как-то отождествлять себя со своим отцом или с другим взрослым мужчиной. Как бы ни была близка ему мать, какие бы теплые чувства ни существовали между ними, какого бы ни заслуживала она восхищения и преданности, она не является для ребенка мужского пола моделью жизни. Если его привязанность к ней слишком сильна, это затормозит его эмоциональное развитие; если он отождествит себя с нею, то он рискует оказаться сексуально извращенным или же в лучшем случае сформирует в себе некоторые фантастические и мучительные установки. Самую тяжелую расплату готовит семейная жизнь как раз тем мальчикам, которые воспитаны в антагонизме к отцу и в чрезвычайной зависимости от матери. У девочек наоборот. Система воспитания у манус заставляет маленькую девочку нести эту кару - девочку, которая отождествляет себя с отцом за счет привязанности к матери и которой суждено сделать горько" открытие в семь или восемь лет, что она сделала ошибку и мужские пути не для нее.
Мы же строим плохую систему воспитания для мальчиков - ошибка тем более серьезная, что основное бремя развития культуры выпадает на долю полноценных мужчин. Мы окутываем их женскими привязанностями и создаем у них образ отца как какого-то одушевленного хлыста, стоящего на службе любящей повелительницы-матери. В годы максимальной восприимчивости мальчик постоянно связан с женщинами, которые не могут служить для него моделями жизни, сколь бы интересными и привлекательными они часто ни были сами по себе. Раз это так, то, будучи не в состоянии отождествить себя с единственными известными ему взрослыми, лишенный стимулирующего его мужского общества, мальчик обращается к своей возрастной группе, к ее стандартизирующему, уравнивающему влиянию, к группе, где все личностное подчинено типическому, групповому. Во все большей мере у нас в стране молодые люди зависят от одобрения своих сверстников, презрительно относятся к оценкам тех, кто более зрел, чем они, чувствуют все меньшую ответственность за младших. Тонко разработанный механизм передачи достижений одного поколения другому потерян. Взрослые мужчины, обнаруживая полнейшую незаинтересованность в детях, не только не заботятся о самих детях, но и порождают безразличие старших детей к младшим. Каждая возрастная группа становится маленькой самоудовлетворенной ячейкой, бесконечно и скучно вращающейся вокруг своих собственных проблем.
Что эта система возрастных групп действенна, показывает Самоа. Вполне возможна полная победа возрастной нормы поведения над личностью, над индивидуальной одаренностью, различиями в темпераменте; вполне возможно, что убогая картина человеческой жизни, построенная по возрастным срезам, заменит полноценную, составленную из личностей и охватывающую всех - от новорожденного до старика на краю могилы. Но за этот возрастной стандарт поведения платят потерей индивидуальности. Эта норма поведения более всего распространена, ее легче всего принять, и она менее всего ведет к инициативности и оригинальности человека. Нормативы поведения взрослых, выкристаллизовывавшиеся годами сознательной, напряженной жизни, могут быть переданы от отца к сыну, от учителя к ученику, но их едва ли можно сбывать оптом, через кино, радио, газеты. Призыв, затрагивающий ответные струнки у тысяч читателей или слушателей, редко обладает такой силой, чтобы чувствительно задеть некоторые стороны личности ребенка, формировать их, связывать их в единое целое. Личный контакт со зрелыми индивидуумами, которые по-настоящему заботятся о том, чтобы молодые люди стали личностями, воспитали в себе инициативность, по-видимому, и является единственной силой, способной преградить путь этим волнам конформизма, предписывающим: "Что должны чувствовать девятнадцатилетние" или "Как мыслит выпускник средней школы".
Таким образом, наша педагогическая система вбирает в себя недостатки как самоанской системы, так и системы манус, не включая преимуществ пи одной из них. На Самоа ребенок не питает эмоциональной привязанности ни к своему отцу, пи к своей матери. Их личности поглощены большой семейной группой, воспитывающей ребенка. Ребенок, не скованный эмоциональными связями с ними, находит достаточное удовлетворение в спокойном тепле, являющемся эмоциональной тональностью возрастной группы. Тем самым самоанский ребенок не получает ни благ, ни кар интимной семейной жизни. Дети манус, с другой стороны, так тесно опутаны семейными связями, что приспособления к внешнему миру и не требуется от них и может даже оказаться невозможным. Но взамен мальчик получает лучшее, что может дать такая тесная связь, - живое ощущение отцовской личности.
Американские мальчики не похожи на самоанских детей, от которых не требуется никаких сильных чувств, ищущих удовлетворения в расслабленно-дружественной атмосфере товарищества возрастной группы. Не выпадает на их долю, как у детей манус, награда близости с отцом, возможность счастливой идентификации с ним. Они связаны с семейной группой, где мать сосредоточивает на себе все их чувства и тем не менее не в состоянии дать им полезную модель жизни и где мать предъявляет слишком сильные требования к ним, чтобы они были совсем счастливы в своей возрастной группе. И тень отца достаточно вездесуща, чтобы отравить им удовольствие от игр.
У наших девочек детство часто лучше. Если различия взглядов матери и дочери, вызываемые изменениями социальных норм, не слишком велики, то первой идентификацией дочери может быть ее собственная мать, которая воплощает в себе вполне приемлемый для нее идеал жизни. Антагонизм с отцом необязательно ведет ее к той же самой растерянности, что и ее брата. Очень часто антагонизм дочери с отцом оказывается менее сильным, так как по отношению к ней он необязательно выступает в роли отсутствующего римского отца, далекого от домочадцев. Поэтому может случиться, что эмоциональная жизнь дочери будет протекать свободнее, чем у ее брата; там, где мать является для дочери идеалом будущей жизни, для сына она выступает лишь помехой эмоциональному развитию, помехой, которую он должен преодолеть.
И в школе, как дома, девочки вновь счастливее своих братьев. Показательно, что интерес к искусству, обдуманному проведению досуга и развитию личности у нас можно найти только среди женщин. Показательно, что курсы английской литературы, как правило, привлекают преуспевающих женщин и неудачливых мужчин. История других стран не свидетельствует о какой-то особой одаренности женщин в искусстве, более того, защитники теорий женской неполноценности могут найти здесь множество подтверждений своим выводам. Но в нашей стране искусство как сфера мужских занятий дискредитировано, и вполне может быть, что одной из главных причин столь плохого его состояния оказывается школа: его преподают представители того пола, с которым студенты-мужчины никак не могут отождествить себя.
Ни одно общество не может позволить себе так пренебрегать закономерностями формирования своих детей, отказывать полу, располагающему большей свободой, в праве внести вклад к его культуру, в стимулах развития, которые могут проявиться только при близком личном общении. Представления американского мальчика о том, что значит быть мужчиной, неопределенны, стандартизированы, расплывчаты. Решения, принимаемые им, столь же общи и неконкретны, как и его представления. Он принимает решение делать деньги, добиться успехов, но он не берет на себя каких-то личностных обязательств. Контраст между тем, что мы можем сделать из наших мальчиков, и тем, что мы фактически из них делаем, подобен контрасту между группой прекрасных предметов, сделанных влюбленными руками мастера, и серией вещей, проштампованных машиной. Что бы ни говорилось об экономии труда и обогащении жизни машинами, рассуждения такого рода вряд ли можно применить к человеческим существам на тех же основаниях, что и к мебели. Но те, кто доказывает, что именно машинный век привел к стандартизации личности у нас в стране, по-видимому, злоупотребляют аналогией и видят полное объяснение в том, что лишь частично объясняет дело. Обедненные личностные контакты американского мальчика могут быть столь же серьезным препятствием на пути его личностного развития, как и вездесущая машина.
Хотя и появились некоторые тенденции отхода от этой сильнейшей феминизированности педагогики (большее число школ для мальчиков с учителями-мужчинами, более решительные заявления работников социальных служб и психиатров о необходимости отца детям), большинство наших мальчиков по-прежнему бьется в той же сети. Их несчастье в том, что идеалом для них служит скучная родовая идея маскулинности вообще, а не интересные и лично известные им мужчины.
Приложение 1. Этнологический подход к социальной психологии
Наше исследование строилось на определенной гипотезе: невозможно изучать первозданную природу человека прямо. Исключение в этом отношении могут представить только очень простые и неспецифические ее свойства вроде тех, которые изучал в своих основополагающих экспериментах Уотсон. Мы исходили: из предположения, что первозданная природа ребенка подвержена влияниям окружения и получить известное представление о ней можно, только изучая ее видоизменения, обусловленные окружением. Накопление наблюдений такого рода со временем даст нам несравненно лучшую основу для обобщений, чем та, которую можно было бы получить, наблюдая индивидуумов в узких пределах социального окружения одного типа. Можно собрать данные о тысячах детей в нашей собственной культуре, проверять и перепроверять их в нашем обществе, и они могут оказаться истинными, но, как только мы выходим за эти пределы, они очень часто оказываются несостоятельными.
Вполне понятно, что, перенося предмет изучения за пределы нашего общества, где мы полностью контролируем все инструменты исследования, в особенности язык, в примитивное общество, где практически невозможно контролировать условия сбора данных и надо освоить новый язык, мы в какой-то мере по необходимости жертвуем методологической строгостью. Но можно быть уверенным, что все эти недостатки методологии исследования с лихвой окупятся теми преимуществами, которые даст нам гомогенность изучаемых культур. В нашем обществе мы можем изучить очень большое число индивидуумов определенного возраста, но при этом мы постоянно должны принимать в расчет то обстоятельство, что их культурная предыстория настолько разнообразна, что ни один исследователь не может надеяться когда-либо выровнять их. В примитивном обществе исследователь располагает меньшим числом индивидуальных случаев: их хронологический возраст, возраст родителей в момент их рождения, порядок их рождения в семье, как протекают роды и т. п. трудно установить с точностью. Но обычаи и нравы, верования, страхи, неприязнь, восторги их родителей - все это очень тесно увязано с нормами культуры. Для исследований личности, социальной адаптации и т. п., то есть для всех тех исследований, в которых наиболее существенным фактором оказывается социальное окружение, примитивное общество как предмет изучения очень плодотворно. Религиозные представления, сексуальные привычки, методы воспитания дисциплины, общественные цели всех тех, кто составляет семью ребенка, могут быть выведены из анализа самой культуры. Индивидуумы одного возраста и пола в таких культурах в этом плане существенно не различаются. Здесь следовало бы вспомнить, что в культуре манус и подобных ей, где мы имеем только половое разделение труда (естественно, имеет место и территориальное разделение), где нет жречества с разветвленными канонами эзотерического знания, где нет сколько-нибудь развернутой системы фиксации прошлого, культурная традиция достаточно проста и потому может быть охвачена памятью среднего взрослого представителя данного общества. Исследователь, прибывший в это общество с этнологической подготовкой, позволяющей включать явления культуры манус в систему удобных для применения и хорошо осмысленных категорий, исследователь, обладающий по сравнению с туземцами громадным преимуществом письменной регистрации каждого аспекта изучаемой культуры, располагает великолепными возможностями сравнительно быстрого решения поставленной проблемы. То обстоятельство, что мой супруг уже работал в области этнологии манус, позволило мне еще более сократить предварительные стадии исследования. Благодаря всему этому примитивная культура в качестве социальной среды менее сложна и запутанна, чем даже самые изолированные и глухие деревни в нашем обществе, ибо в последних мы неизбежно сталкиваемся с отзвуками и фрагментами культур сотен различных типов.
Исследование развития человека в примитивном обществе дает два преимущества: во-первых, оно выявляет контрасты с нашим собственным социальным окружением, контрасты, делающие наглядными различные аспекты человеческой природы и часто демонстрирующие, что поведение, почти неизменное у индивидуумов в нашем собственном обществе, не является врожденным, а вызвано социальным окружением; во-вторых, здесь мы имеем однородную и простую, легко осваиваемую социальную среду, на фоне которой и можно изучать развитие личности.
Антрополог подвергает выводы психолога, работающего в нашем обществе, проверке наблюдениями, полученными в других. Он никогда не стремится опровергнуть выводы психолога. Он скорее в свете более широкого культурного материала подвергает проверке интерпретации, сделанные психологом из его наблюдений. Антрополог обладает особыми методами быстрого анализа примитивного общества. Для того чтобы овладеть ими, он уделил много времени изучению различных примитивных обществ, анализу наиболее характерных для них социальных форм. Он изучал неиндоевропейские языки, так что ему легко приспособиться к языковым категориям, чуждым европейцам. Он изучал фонетику, и потому он в состоянии распознать и зафиксировать типы звуков, трудные нам для распознания слухом и еще более трудные для произнесения нам, привыкшим к иным фонетическим структурам. Он исследовал различные системы родства и научился быстро оперировать их категориями, так что система манус, приводящая, например, к тому, что люди, принадлежащие к одному и тому же поколению, обращаются друг к другу, используя слова, принятые в обращении к детям, не вызывает у него затруднений, а легко укладывается в ясную и вполне понятную систему. К тому же он готов отказаться от прелестей цивилизованной жизни и подвергнуться на месяцы всем неудобствам и неприятностям жизни среди людей, манеры, методы санитарии и образ мышления которых ему чужды. Он готов изучать их язык, погрузиться в их нравы, проникнуть в их культуру всей душой, так, чтобы сопереживать их антипатиям и радоваться их триумфам. У манус, например, надо было научиться испытывать неподдельный ужас от встречи двух родственников, на отношения которых наложено табу, придерживаться системы словесных табу, испытывать смущение, если кто-нибудь совершал неловкость. Надо было научиться встречать каждое известие о несчастье или болезни вопросом, а чей дух здесь замешан. Исследования такого рода связаны с весьма радикальной перестройкой образа мысли и повседневных привычек. Владение специальными методами, необходимыми этнологу, и готовность их применить - вот тот инструментарий, которым он пользуется для решения психологических проблем. Он говорит психологу, долго и тщательно исследовавшему что-нибудь в нашем обществе, пришедшему или не пришедшему к определенным, по его мнению, окончательным выводам: "Давайте-ка мне ваши результаты, и я подвергну их новой проверке. Вы сделали такие-то и такие-то обобщения о том, что думают дети, о взаимоотношении физического и умственного развития, о связи определенного типа семейной жизни с возможностями удачного приспособления супругов друг к другу, о факторах, определяющих развитие личности, и т. п. Эти выводы кажутся мне и значительными и важными. Позвольте же поэтому мне проверить их действенность в других социальных условиях и в свете полученных данных, на основе нашего совместного исследования, на основе вашей постановки проблемы и наблюдений, сделанных вами в нашем обществе, и моих контрольных наблюдений в другом обществе, прийти к выводам, успешно опровергающим обвинение в том, что вы недоучитываете влияния социального окружения. Тогда вы будете в состоянии разделить ваши наблюдения над индивидуумом в нашем обществе на две части: во-первых, на данные о поведении людей, модифицируемом современной культурой, данные, которые будут обладать чрезвычайно важным значением для решения педагогических и психологических проблем индивидуумов одного и того же культурного происхождения; во-вторых, на теории первозданной природы, возможностей человека вообще, теории, основывающиеся на ваших и моих наблюдениях".
У психолога, подлинно заинтересованного в разрешении фундаментальных теоретических проблем, такое предложение не может не вызвать горячее одобрение. Но психиатр, работник социальной службы муниципалитета, педагог, возможно, ответят на него с полным основанием: "Я согласен с вашим утверждением, что многие из проявлений человеческой природы в нашем обществе, которые мы считаем биологически детерминированными, на самом деле детерминированы социально. Теоретически рассуждая, я считаю, что вы правы. Но у меня сейчас на руках пять случаев неадекватного поведения, которыми я должен заняться сегодня. Накопленные данные о поведении этого типа, к которому принадлежат и мои случаи, собраны на людях из нашего общества. Но как раз потому, что они так точно локализованы во времени и пространстве, я в них именно и нуждаюсь. Мой первый случай неадаптированности связан с эксгибиционизмом. Мне очень интересно знать, что на Самоа, где наши поведенческие табу не имеют силы, эксгибиционизм вряд ли может развиться у кого бы то ни было. Но между тем Джон - эксгибиционист, и подходить к нему нужно в свете других данных, связанных с эксгибиционистскими детьми в нашем обществе". Это возражение практического работника, находящегося в гуще повседневных дел, заслуживает самого глубокого уважения. Но это уважение не распространяется на тех, кто стоит за ним, на тех, кто разрабатывает теории, служащие фундаментом педагогической стратегии и различных направлений в психологии.
Чрезвычайно важно, чтобы психологи полностью осознали возможности, заложенные в исследованиях других культур, чтобы они вступили в самый тесный контакт с современными этнологами-исследователями. Это важно потому, что этнология находится в особом положении.
Во многих науках пренебрежение каким-нибудь поколением исследователей одной из областей научных изысканий не имеет рокового значения. Область, которой пренебрегло одно поколение, может быть с равным или даже большим успехом исследована следующим поколением. Так, например, дело обстоит с экспериментами в зоопсихологии, экспериментами с белыми мышами, выращенными в лабораторных условиях. Предположительно количество белых мышей, находящихся в распоряжении исследователя в следующем поколении ученых, будет таким же большим, как и сейчас, а их быстрое размножение сделает их столь же хорошим объектом экспериментов. Но если зоопсихолог обнаружит, что эксперименты над приматами в естественных условиях очень плодотворны, и в то же самое время констатирует, что прогрессирующее вторжение цивилизации в дикую природу уменьшает их поголовье и вообще грозит их полностью уничтожить, то у него будут все основания для того, чтобы забить тревогу. У него будут все основания потребовать от других психологов и научных институтов срочно предпринять исследование приматов в диком состоянии, до того как будет слишком поздно. Но и при этом он не будет в таком же затруднительном положении, как социальный психолог, ибо от одной пары человекообразных обезьян можно снова получить дикое стадо.
Не так обстоит дело с социальной психологией. В силу того что предметом нашего исследования являются не просто человеческие существа, а человеческие существа, модифицируемые средой, чрезвычайно важно, чтобы мы располагали большим разнообразием контрольных социальных сред. Быстрое распространение западной цивилизации по планете приводит к тому, что различные общества все более и более приближаются к одному и тому же культурному типу либо же, если они слишком резко расходятся с этим господствующим типом, полностью вымирают. Хорошие тестовые полигоны исчезают с лица земли каждую неделю, так как западная цивилизация с ее христианской идеологией и индустриальной системой проникает в Японию и Китай, в бездорожные глубины Афганистана. С другой стороны, мы свидетели того, как умирают последние мориори16 или же жители острова Лорд-Хау17, единственные представители в свое время живых культур, умирают потому, что не вынесли потрясения контактов с белыми. Конечно, было бы праздным времяпрепровождением предполагать, что стандартизация человечества зайдет настолько далеко, что она уничтожит всякие различия между локальными группами. Но вполне может быть, что улучшение техники связи и передвижения приведет к полному уничтожению сравнительно изолированных обществ. Ни одной малой группе людей никогда не будет снова дано выработать уникальную культуру, мало или вообще не контактирующую с внешним миром в течение целых столетий, как было в прошлом. Ни одному континенту не будет позволено решать свои собственные проблемы приспособления к среде без постороннего вмешательства, как решали американские аборигены проблемы выращивания кукурузы. Кумулятивная природа нашей традиции материальной культуры такова, что мы, вполне возможно, являемся свидетелями конца целой эры, которая никогда не будет повторена. Между тем на Новой Гвинее, в Индонезии, Африке, Южной Америке и в некоторых частях Азии все еще существуют группы, которые могут послужить нам драгоценным материалом для проверки всех попыток нашей науки понять человеческую природу. Социальный психолог через пятьсот лет после нас должен будет с горечью сказать: "Если бы мы могли подвергнуть этот вывод проверке, исследуя людей, воспитанных в совершенно ином социальном окружении, мы бы пришли к иным результатам. Но у нас нет обществ, где можно было бы изучить эту проблему, мы не можем, даже если бы мы этого захотели, создать пробное общество, экспериментально воспроизвести те нужные нам контрастные условия. Наши руки связаны". Но мы-то уж никак не находимся в таком невыгодном положении. Различные общества с контрастными характеристиками ждут исследователей. У нас растет число этнологов, вооруженных необходимыми методами для их исследования. Успех любого такого начинания зависит от сотрудничества психолога и этнолога. Если мы хотим в полной мере использовать подготовку этнолога, ему следует дать возможность проводить большую часть своего времени, по крайней мере в молодости, в поле, собирая с максимально возможной скоростью быстро исчезающие драгоценные свидетельства адаптируемости человека, заложенных в нем возможностей. Психолог же в лаборатории и библиотеке должен ставить проблемы, для решения которых будет важным вклад этнолога.
Взгляд исследователя человеческого общества сегодня безнадежно обращен назад, к истокам культуры, при этом он понимает, что такие проблемы, как происхождение языка, никогда не могут быть решены, что здесь одна догадка столь же правомерна, как и другая, ибо все они принадлежат области спекуляций. Человек любознательный переживает это как нашу явную ограниченность, но не считает, что за это следовало бы бранить наших предшественников - изобретателей каменного века. Мы исходим из неопровержимого положения, что они не могли фиксировать результаты тех важных и интересных экспериментов в речи, которые отделили первых людей от их менее совершенных прародителей. Но у нас нет такого алиби. В наши дни существуют социальные эксперименты, которые нам нужно только изучить и сохранить. У нас есть лаборатории для исследований, которых не будет у наших потомков. Только совместными усилиями психолога, психиатра, генетика можно поставить проблемы, для которых эти общества предоставят в наше распоряжение лабораторные методы их решения. Без стимуляции психолога работа этнолога куда менее ценна, чем она могла бы быть. Если психолог учтет этнологические данные, если он настолько познакомится с этнологическим материалом, чтобы понять заложенные в нем возможности, если он будет разрабатывать свои теории, обращая должное внимание на влияние культурной среды, то задача этнолога упростится до чрезвычайности. Он не желает ограничиваться критической деятельностью, подрывая теории, сформулированные на материале нашего общества и обнаруживающие свою несостоятельность при проверке на другом обществе. У него нет ни времени, ни должной подготовки, позволяющих уединиться в библиотеке и лаборатории, для того чтобы самому разработать новую психологическую теорию. Кроме того, он не может это сделать, не изменяя своей науке. Первая обязанность этнолога - использовать свою подготовку для регистрации данных о примитивных обществах, до того как они исчезнут. Полевая работа трудна и требовательна. Этнолог должен заниматься полевой работой в молодости, а теоретизировать - лишь после того, как его способность активно работать уменьшится. Психолог же должен предлагать гипотезы для исследования. Многие экспедиции, имеющие громадную научную ценность, потому что они увеличивают наши знания об обществе и его влиянии на человеческое поведение, представляют собой одни лишь исторические изыскания. Их ценность удвоилась бы, если бы в них одновременно ставились и решались психологические проблемы.
Я описываю в моей книге один из типов условий, существующих в примитивном обществе, и высказываю некоторые предположения об их влиянии на проблемы воспитания и формирования личности. Я значительно больше стремлюсь к тому, чтобы продуктивные мыслители из других областей знания проанализировали этот материал с точки зрения его применимости для решения их проблем, чем к тому, чтобы они согласились с какими-то моими конкретными выводами. Социальная психология все еще в пеленках. И очень важно, чтобы любая возможность исследования ее проблем, в особенности возможность преходящая, использовалась в полной мере.
IV. Горные арапеши
(главы из книги "Пол и темперамент в трех примитивных обществах")
"Горные арапеши" - первая часть книги "Пол и темперамент в трех примитивных обществах" (Sex and Temperament in Three Primitive Societies. Morrow. N. Y., 1935).
В этой книге исследовательница обобщила результаты своей самой Длительной этнографической экспедиции - 1933-1935 гг. В этой экспедиции Маргарет Мид и Рео Форчун исследовали племена и этнические группировки северо-восточной части Новой Гвинеи. Книга посвящена одной сравнительно узкой проблеме - дифференциально-психологическому анализу темпераментов мужчин и женщин у обследованных Мид народов, социокультурной детерминации так называемых "мужских" и "женских" черт темперамента.
Книга "Пол и темперамент в трех примитивных обществах" - одна из наиболее читаемых книг М. Мид. Она неоднократно переиздавалась в США и переведена па многие языки мира. Настоящий перевод, осуществлен по шестому изданию книги Мид, со специальным предисловием, написанным для него автором: Mead M. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. A Mentor book. N. Y., 1955.
Переведены главы 1-4, 6 и 8 первой части книги.
1. Жизнь в горах
Народ, говорящий на языке арапеш1, населяет клинообразную по форме территорию, протянувшуюся от морского побережья через три ряда горных хребтов до травянистых равнин бассейна Сепика на западе. Люди, поселившиеся на побережье, остались по духу жителями кустарниковых зарослей. На соседних островках они позаимствовали искусство строить каноэ, но чувствуют себя значительно увереннее, занимаясь рыбацким промыслом не в открытом море, а во внутренних озерах, разбросанных между болотистыми полями саго. Они ненавидят морской песок и строят из пальмовых листьев маленькие защитные стенки, препятствуя его вторжению. Мешки с ношей подвешиваются на раздвоенные шесты, чтобы не дать им коснуться песка. Не желая сидеть на песке, они делают множество маленьких циновок. Песок здесь слывет чем-то очень грязным. Горные арапеши не придерживаются гигиенических предосторожностей такого рода. Они спокойно усаживаются на землю, не испытывая при этом никаких неприятных чувств. Арапеши, живущие на побережье, строят большие дома на сваях в пятьдесят-шестьдесят футов длиной. К домам пристраиваются крытые веранды, коньки крыш богато украшены. Прибрежные арапеши селятся большими деревнями и каждое утро уходят работать на огороды или же на саговые поля, расположенные недалеко от деревни. Это полные, хорошо упитанные люди. У них медленный и спокойный ритм жизни, пища в изобилии, а горшки и корзины, украшения из раковин, новые формы танца всегда можно купить у представителей прибрежных торговых племен, проплывающих мимо них в своих каноэ.
Но как только мы начинаем подниматься по узким, скользким тропам, сеть которых покрывает крутые горы, весь стиль жизни резко меняется. Мы уже не встречаем больших поселений. Здесь только крохотные деревни, объединяющие три-четыре семейства и состоящие из десяти-двенадцати домов. Дома иногда строятся на сваях, иногда же - прямо на земле и в этом случае представляют собой настолько хрупкие конструкции, что едва ли заслуживают названия дома. Почва здесь неплодородна. Саго мало, и его надо специально выращивать, так как здесь нет больших естественных болот, где оно росло бы в диком виде. В горных потоках нет почти ничего, кроме креветок, и улов их в очень редких случаях окупает затраченный труд. Встречаются большие пространства, поросшие диким кустарником. Здесь нет огородов, это места охоты за древесными кенгуру, валлаби, опоссумами и казуарами2. Но многие поколения предков нынешних арапешей уже охотились здесь, и сейчас дичь редка, и на большую добычу рассчитывать не приходится. Огороды лепятся по склонам крутых холмов, ставя арапешей перед почти неразрешимой проблемой ограждения. Местные жители даже и не пытались когда-либо всерьез заняться ею. Они стоически сносят опустошительные набеги одичавших свиней из соседних зарослей.
Домашние свиньи в отличие от свиней прибрежных арапешей тощие, с торчащими хребтами, и их так плохо кормят, что они очень часто дохнут. Когда свинья подыхает, то кормившую ее женщину бранят за жадность: она съедала-де не только клубень таро, но и кожуру, не делясь ею со свиньей. Огороды, маленькие поля саго, охотничьи угодья отстоят от деревни дальше, чем на побережье, и это неудобство лишь усиливается привычкой работать небольшими объединенными группами сегодня в огороде одного владельца, завтра - другого. Большие расстояния до места работы приводят к бесконечным передвижениям по скользким, обрывистым тропинкам и к постоянным перекличкам между работающими: это один член семейства передает что-то с вершины горы другому, работающему на соседней.
Ровной земли здесь так мало, что почти невозможно найти площадь даже для устройства маленькой деревни. Самой большой деревней в этом горном районе была Алитоа, где мы прожили много месяцев. В деревне было двадцать четыре дома, правом на жительство в них обладало восемьдесят семь человек. Но этим нравом они пользовались лишь от случая к случаю, и лишь три семьи избрали Алитоа своим главным местом жительства. Даже при таком небольшом числе домов в деревнях некоторым из них приходится лепиться по склонам, со всех сторон окружающим деревню. Если в деревне устраивается праздник, то прибывающие гости переполняют ее. Собаки и дети уходят на задворки, а взрослые должны спать на мокрой земле под домами, так как в домах нет места. Когда арапеш описывает такой поход и гости, он говорит: "Нас палило солнце и омывал дождь. Мы мерзли и голодали. Но мы пришли увидеть вас".
Набрать достаточное количество пищи и топлива для людей, живущих в одном месте,- тоже проблема. Поколения арапешей прочесали холмы, окружающие деревню, в поисках топлива. Огороды далеко от деревни, и женщины должны трудиться не покладая рук, целыми днями, чтобы создать запасы для одного дня праздничного пиршества. Мужчины на эти праздники несут только свиные туши и тяжелые поленья для костров, которые в день праздника разводят в центре деревни. У этих костров проводится церемония курения. Переноска свиней осуществляется несколькими группами мужчин, сменяющими друг друга, так как шесты натирают их не привыкшие к труду плечи. Но женщины снуют вверх и вниз по горным тропинкам с грузами в шестьдесят-семьдесят фунтов, свисающими с их головы. Иногда при этом женщина еще несет и младенца, расположившегося на лыковой привязи у груди. Ремни, с помощью которых крепится груз, закрепляются под подбородком, сжимая челюсти, что придает женским лицам суровое, неприступное выражение, совсем не свойственное им в другое время. Напротив, мужчины, несущие свиней, веселы и праздничны, они шествуют через заросли, улюлюкая и распевая песни. Но арапеши считают вполне естественным то, что женщины должны нести более тяжелый груз: их головы, говорят они, куда более крепки и сильны, чем мужские.
Привычки этого горного народа сами по себе являются ярким свидетельством того, что здесь не боятся набегов охотников за черепами. Женщины ходят без сопровождения, парочки крошечных детей со своими миниатюрными луками и стрелами бродят по тропинкам, охотясь за ящерицами; молодые девушки спят одни в заброшенных деревнях. Группа людей, прибывшая из другой местности, прежде всего просит огня у хозяев, им его сразу же дают. Затем завязывается негромкая заинтересованная беседа. Мужчины собираются возле костра; женщины варят пищу по соседству, часто тоже на кострах, ставя свои высокие черные горшки па огромные камни. Сонные дети, усевшиеся вокруг, сосут пальцы, теребят губы или же пытаются засунуть острые колени себе в рот. Кто-то рассказывает о маленьком приключении, и все радостно и оглушительно хохочут; здесь охотно смеются по малейшему поводу. Когда спускается ночь и прохлада влажного горного вечера заставляет всех теснее придвинуться к костру, они усаживаются у тлеющих углей и поют песни, заимствованные у других народов; где-то вдалеке звучит гонг, и люди безмятежно и праздно думают о значении послания, отправленного в ночь: кто-то убил свинью или казуара, пришли гости, и гонг зовет отсутствующего хозяина; кто-то умирает, умер, погребен. Любое толкование обсуждается как равно вероятное, и никто не пытается взвесить его относительную достоверность. Вскоре после заката хозяева и гости отправляются спать в маленькие дома. Те, кто посчастливее, укладываются рядом с огнем, а неудачники спят "просто так". Очень холодно, и люди так близко придвигаются к тлеющим поленьям, что наутро просыпаются с прожженными одеждами или видят своих младенцев покрытыми точками ожогов от искр Утром гостей всегда просят остаться, даже если это означает, что хозяева в это утро будут голодными, так как запасы пищи всегда скудны, а до ближайшего огорода - половина дневного перехода. Если гости все-таки уходят, то хозяева провожают их до конца деревни, со смехом и шутками обещая им нанести ответный визит как можно скорее.
В этой гористой, покрытой ущельями местности, где две точки, расположенные на расстоянии слышимости человеческого голоса, зачастую отделены друг от друга крутыми многометровыми спусками и подъемами, любой кусок ровной земли называется "хорошим местом", а все крутые, обрывистые, каменистые места - "плохими". Эти плохие места окружают каждую деревню. На них располагаются хлева для свиней, уборные. Здесь ставят хижины, куда удаляются женщины во время менструаций и родов. Опасная кровь этих женщин может принести вред деревне, стоящей на ровном, "хорошем" месте, ассоциирующемся с пищей. В центре деревни, а иногда и в двух ее центрах, если она несколько разбросана, находится агеху - место деревенских празднеств и церемоний. Вокруг агеху стоит несколько камней, имеющих смутное отношение к предкам, названия которых - мужского рода, как и все слова, относящиеся к мужчинам (* Арапеши говорят на языке, содержащем тринадцать классов существительных, или родов, каждый из которых отличается от других своим собственным набором местоименных и адъективных суффиксов и префиксов, В их языке имеется мужской род, женский род, род, относящийся к предметам неопределенным, или смешанный род, и еще десять других классов имен, характеристики которых не могут быть описаны с такой точностью). Когда здесь зажигают костер для прорицателя, который должен обнаружить, где скрывается колдун, причинивший вред кому-нибудь, один из этих камней ставится на огонь. Но агеху - скорее "хорошее", чем священное, место. Здесь играют и возятся дети, здесь свои первые шаги делают младенцы. Здесь мужчина или женщина делают ожерелье из зубов опоссума, здесь плетут браслеты. Иногда мужчины строят здесь маленькие шалаши из пальмовых листьев и сидят в них во время ливней. Здесь люди, у которых болит голова (об их печальном состоянии можно судить по повязке, крепко завязанной у них на лбу), гордо шествуют взад и вперед, утешая себя сочувствием окружающих. Здесь складываются кучи ямса для готовящихся пиров, выстраиваются ряды больших черных праздничных тарелок и маленьких, пестро раскрашенных глиняных чаш для превосходного белого печенья из кокосовых орехов. Искусство готовить это блюдо лишь недавно было заимствовано, и горные арапеши очень им гордятся.
Все изысканные предметы роскоши, песни и танцы, новые блюда, иные формы причесок, новая мода на травяные юбочки медленно проникают сюда от прибрежных жителей. Те же покупают их у племен, ведущих морскую торговлю. Побережье в умах жителей гор - символ моды и легкости жизни. Сама идея носить одежду пришла с побережья и все еще не проникла в самые глубинные поселения горных арапешей. Там все еще можно встретить мужчин, надевающих свои повязки из луба с такою небрежностью и отсутствием понятия об их назначении, которые смущают более утонченных жителей побережья. Женщины заимствуют свои моды случайно, отдельными частями. Их травяные переднички свободно свисают с веревки, охватывающей самую широкую часть их бедер, а узкий, ничего не держащий пояс просто украшает их талию. Мужчины заимствовали формы причесок у береговых арапешей - длинный узел волос, зачесанных со лба назад и пропущенных через плетеное кольцо. Эта прическа очень малопригодна для охоты в густых зарослях. Потому от нее отказываются или снова возвращаются к ней в зависимости от того, растет или гаснет страсть к охоте. Охота - это занятие, которому мужчина может предаваться или нет, по своему желанию. Те же, кто делает ее своим главным делом, стригут волосы коротко.
Все эти заимствования с берега, объединенные в танцевальный комплекс, продаются одной деревней другой. Каждая деревня или группка маленьких деревень организует в течение определенного времени сбор нужного числа свиней, табака, перьев и раковин, служащих арапешам деньгами, чтобы купить один из этих танцев в деревнях, расположенных ближе к берегу, где ими уже пресытились. Вместе с танцем приобретаются новая мода на одежду, новые колдовские обряды, новые песни и новые приемы гадания. Как и песни, которые поет этот народ, песни, пережившие танцы, которые они когда-то сопровождали,- все эти заимствования мало связаны друг с другом. Каждые несколько лет заимствуются новые приемы гадания, прически или же браслеты нового стиля. Их с энтузиазмом подхватывают на несколько месяцев, а затем забывают, и только какой-нибудь предмет, лежащий в пыли на полке, может напомнить о них. За этими заимствованиями кроется вера, что все приходящее с берега лучше, утонченнее, красивее и что когда-нибудь горные племена, несмотря на всю скудость их земель, жалкий вид их свиней, сравняются с жителями побережья, приобщатся к их радостной и сложной ритуальной жизни. Но здесь им всегда далеко до прибрежных племен. Люди с берега только пожимают плечами, когда горцы заимствуют новый танец, и посмеиваются, говоря, что некоторые принадлежности этого танцевального комплекса, например прекрасная черепаховая пластинка, накладываемая на лоб танцующего, никогда не покинут берег, потому что жалкие горцы никогда не смогут заплатить за них. И все же поколение за поколением горцы экономят, чтобы купить эти великолепные предметы, купить не отдельным лицам, а всем сразу, так чтобы каждый житель деревни мог петь новые песни и носить одежду нового стиля.
Для горных арапешей местности у моря - источник комфорта и счастья. Существует, конечно, и традиционная вражда между ними и более воинственными жителями побережья, восходящая к тем дням, когда горцы спускались к морю за морской водой, из которой они выпаривали соль. Но сейчас особое значение придается танцам, и о прибрежных деревнях говорят как о "матерях", именуя цепочки горных поселений "дочерями". "Матери" и "дочери" связаны прихотливо вьющимися тропинками, образующими три основные системы дорог, называемых "дорога дюгоня"3, "дорога гадюки" и "дорога заходящего солнца". По этим дорогам и ввозятся танцевальные комплексы, а по тропам, из которых складываются эти дороги, в безопасности шествуют путники, переходя из дома в дом своих торговых партнеров, связи с которыми передаются по наследству. Между этими товарищами по торговле принято обмениваться дарами. Так горцы получают каменные топоры, луки и стрелы, корзины и украшения из раковин, люди же с побережья - табак, птичьи перья, горшки, сети. Весь этот обмен, хотя в нем идет речь об орудиях труда и предметах, абсолютно необходимых для жизни, считается добровольным дароприношением. Не ведется никакого точного учета, ни к кому не пристают с требованиями уплаты или же упреками. В течение всего времени, что я провела среди арапешей, я и сама не присутствовала при каком-нибудь споре по поводу этого обмена дарами и не слышала о нем от других. Так как сами горцы не располагают ни избытком табака, ни избытком каких-нибудь собственных изделий, если не считать деревянных тарелок, самых обычных сетчатых мешков4, грубых ложек из скорлупы кокосовых орехов и деревянных подушек, неудобных даже для собственного употребления, то уплату за предметы с побережья они производят табаком и изделиями, изготовленными арапешами, живущими по ту сторону гор, на равнине. Теоретически рассуждая, в этих сделках горные арапеши получают доход - необходимые им предметы - за переноску. Горец тратит день на то, чтобы спуститься на равнину за мешком к своему другу, и потратит еще два дня, чтобы вручить этот мешок, приобретший теперь ценность редкой вещи, своему другу на побережье. Это арапеши называют "походами за кольцами" - занятие, интерес к которому у горцев различен. Но сложившаяся система настолько случайна, неформальна и основывается на дружеских началах, что очень часто само понятие "доход" теряет смысл: житель побережья может сам подняться в горы, чтобы получить сетку для переноски тяжестей, а не ждать, когда ее принесет друг.
Точно так же как побережье воплощает в глазах горцев радость жизни, новые и красочные вещи, так и равнина за последней горной цепью имеет для них особое значение. Здесь живут люди, говорящие на их собственном языке, но люди совершенно иного характера и внешнего вида. Если горцы худощавы, имеют маленькие головы и редкую растительность, то мужчины с равнины более коренасты. У них большие головы, густые бородки, охватывающие скобкой их решительные, гладко выбритые подбородки. Они сражаются копьями, а не луком и стрелами, как горцы или люди с побережья. Мужчины у них ходят обнаженными, а женщины, за которыми они ревниво следят, не носят никакой одежды до брака и надевают только маленькие переднички после него. Если горцы черпают свое вдохновение и новинки с побережья, то равнинные арапеши ищут их у соседнего племени абелам5 - у веселых, художественно одаренных охотников за головами, населяющих безлесные травянистые равнины бассейна Сепика. От абеламов арапеши равнины заимствовали стиль своих высоких треугольных храмов, возвышающихся на семьдесят или восемьдесят футов над квадратными площадями их больших деревень, храмов с круто падающими балками кровель и великолепно расписанными фасадами. Они разделяют с абеламами и другими племенами равнин колдовские приемы, наводящие ужас на их соседей-горцев и жителей побережья.
Равнинные арапеши отрезаны от моря, окружены врагами и зависят в своем обмене с абеламами от урожаев табака и от колец, которые они вырезают из раковин гигантской венерки. От абеламов они получают плетеные сетки, зазубренные кинжалы из кости казуара, копья, маски и аксессуары для танцев. Раковины гигантской венерки им поставляет побережье. Поэтому для жителей равнин очень важна безопасность прохода через горы. Горы они проходят надменно, вызывающе, бесстрашно, уповая на силу колдовства. Считается, что, завладев выпавшим волосом, объедком, обрывком полусношенной одежды, а лучше всего небольшим количеством половых выделений, колдун с равнины может вызвать болезнь и смерть своей жертвы. Коль скоро горец или житель побережья рассердится на соседа, украдет кусочек такой "грязи" и передаст его в руки колдуна, жертва навсегда переходит под его власть. Ссора, которая вызвала кражу этой "грязи", может завершиться примирением, но "грязь" останется в руках колдуна. Вот почему он, владеющий жизнями столь многих горцев, может бесстрашно ходить среди них, и не только он, по его братья, кузены, его сыновья. Время от времени он прибегает к маленькому шантажу, и его жертва должна откупиться. В противном случае тот бросит кусочек его "грязи" в волшебный огонь. Проходят годы после начальной ссоры, но когда какой-нибудь горный арапеш умирает, то его смерть приписывается злому действию колдуна с равнины, недовольного выкупом, или же козням какого-то неизвестного врага, доставившего колдуну новый кусочек "грязи". Так горный арапеш живет всегда в постоянном страхе перед внешним врагом, как-то умудряясь забыть, что именно близкий родственник или сосед отдал его во власть колдовской силы. Поскольку существует колдовство, если так легко подобрать полуобглоданную кость опоссума и спрятать ее в мешочек, поскольку соседи и родственники по временам ведут себя так, что вызывают страх и гнев,- "грязь" переходит в руки колдунов. Не будь колдунов, говорят арапеши, не шныряй они постоянно туда и сюда, созывая барабанами народ и а торг, раздувая небольшие ссоры, намекая, как легко для них возмездие, то разве были бы в мире смерти, вызываемые черной магией? Как они могли бы происходить, спрашивают они, если пи людям гор, ни людям побережья неизвестны заклинания, вызывающие смерть?
Не только болезнь и смерть, но беда, несчастный случай на охоте, сгоревший дом, бегство чьей-нибудь жены - все это козни колдунов с равнины. Для того чтобы сотворить все эти меньшие злодейства, колдуну не нужно владеть "грязью" его жертвы; ему достаточно только покоптить над огнем "грязь" кого-нибудь еще, живущего в том же самом месте, и пробормотать над нею свои злокозненные пожелания.
Не будь людей с побережья, не было бы у горных арапешей: и новых радостей, свежих, приятных ощущений, не было бы затрат их скромных средств на безделушки, необходимые им для увеселений; не будь арапешей на равнинах, не было бы и страха, люди доживали бы до старости и умирали, беззубые и трясущиеся, прожив спокойную и достойную жизнь. Если бы не воздействие побережья и равнин, то осталась бы только спокойная рутина повседневной жизни в горах, настолько неплодородных, что ни один сосед не покушается на их владения, настолько негостеприимных, что никакая армия не могла бы вторгнуться в них и найти там пропитание для себя, таких коварных, что жизнь здесь может быть только опасной и напряженной.
Горные арапеши, сознавая, что их главные радости и главные тяготы в жизни исходят от других, тем не менее не ощущают себя загнанными в угол, преследуемыми, жертвами плохого положения и плохой природной среды. Вместо этого они рассматривают всю жизнь как попытку что-то вырастить - детей, свиней, ямс и таро, кокосы и саго, вырастить упорно, тщательно соблюдая все правила выращивания. Арапеш спокойно отстраняется от дел в среднем возрасте, после того как провел годы в воспитании детей и посадке должного числа пальм, для того чтобы снабдить их пищею на всю жизнь. Законы, управляющие ростом, очень просты. В мире существует два ряда несовместимых ценностей - ценности, связанные с полом и репродуктивной функцией женщин, и ценности, связанные с пищей, ростом, охотой, работой мужчин на огородах. Преуспеть здесь мужчина может только с помощью сверхъестественных сил и чистоты мужской крови, способствующей росту. Необходимо, чтобы эти два ряда ценностей не вступили в слишком близкий контакт друг с другом. Дело каждого ребенка - расти, дело каждого мужчины и каждой-женщины - соблюдать правила так, чтобы росли дети и пища, от которой зависит рост детей. Мужчины столь же преданы этой деятельности кормления и заботливого выращивания, как и женщины. Можно сказать, что здесь роль мужчин, как и роль женщин, материнская.
2. Совместный труд в обществе
Жизнь у арапешей сорганизована вокруг одного главного стержня: мужчины и женщины, несмотря на физиологическое различие, объединены в общем деле, материнском по своей природе, - деле воспитания. Их основные ценностные ориентации направлены не на себя, а на нужды подрастающего поколения. В этой культуре мужчины и женщины занимаются разными делами, но во имя одной и той же цели. В ней не предполагается, что мотивы поведения мужчин будут отличаться от мотивов поведения женщин. Если мужчина в этой культуре обладает большей властью, то лишь потому, что она - необходимое зло, которое должен нести более свободный член семейной пары. Если женщина в этой культуре не участвует в церемониях, то это делается во имя самой женщины, а не для того, чтобы удовлетворить гордость мужчины. Мужчины делают все от них зависящее чтобы сохранить опасные тайны этих церемоний, тайны, которые могли бы повредить их женам, их еще не рожденным детям. Перед нами общество, в котором мужчина рассматривает ответственность, власть, общественное положение с его личиной высокомерия как обременительные обязанности, от которых он с готовностью откажется, как только его старший сын достигнет возраста половой зрелости. Для того чтобы понять социальную систему, в которой агрессивность, инициативность, конкуренция и стяжательство (самые распространенные мотивы поведения в нашей культуре) заменены на чуткость и внимание к нуждам других, необходимо детальнее проанализировать общественную организацию арапешей.
У них нет политических объединений. Группы деревень объединяются в территориальные единицы, каждая из которых, равно как и жители, ее населяющие, получает свое наименование. Этими наименованиями иногда риторически пользуются на празднествах или же при упоминании какой-нибудь местности, но сами эти единицы не представляют собой какой-то политической организации. Браки, совместные празднества и периодические, не очень серьезные стычки соседних групп происходят между отдельными поселениями или группами поселков, но территориальные границы районов здесь не играют никакой роли. Каждое поселение теоретически принадлежит одной патрилинейной семье, имеющей собственное имя. Патрилинейные семьи или же небольшие территориальные кланы владеют огородами, землями и охотничьими угодьями. Где-то на этих охотничьих угодьях располагаются карстовый колодец, зыбучие пески или же отвесный водопад, в котором обитает их марсалаи - сверхъестественное существо, являющееся в виде мифической, пестро окрашенной змеи или ящерицы, а иногда и в виде более крупного животного. Там, где обитает марсалаи, и на границах земли предков живут и духи мертвых этого клана. Среди них и жены мужчин клана, продолжающие после смерти жить со своими супругами, вместо того чтобы вернуться на земли своего клана.
Арапеши не считают себя владельцами земель предков, скорее они сами принадлежат землям. В их отношении к земле нет ничего от гордого собственничества лендлорда, энергично защищающего свои права на нее от всех пришельцев. Сама земля, дичь, стволы деревьев, саго и для духов плодами - все это принадлежит духам. Чувства и поведение духов сфокусированы в марсалаи. Это существо - не предок и не непредок (безразличие арапешей не позволяет ответить на этот вопрос). Марсалаи особо щепетилен в отношении некоторых сторон ритуала: он не любит женщин во время менструации и беременных, не любит мужчин, приходящих к нему сразу же после сношений с женой. Такие нарушения табу наказываются болезнью и смертью провинившихся женщин или же детей в утробе. Этого можно избежать, только особо умилостивив их символическим жертвоприношением свиного клыка, скорлупы бетеля6, сосуда из-под саго и листа таро. Предполагается, что одна из душ предков сядет на них, как птица или бабочка, и поглотит дух жертвы. Духи предков являются подлинными владельцами земель, и арапеш, вступающий на свою собственную наследственную землю, обязательно представится им, назовет свое имя и укажет па свое родство с ними: "Это я, ваш внук из рода Канехойбис. Я пришел сюда, чтобы нарубить жердей для моего дома. Не сердитесь на меня за то, что я здесь и рублю деревья. Когда я буду возвращаться, уберите колючки с моего пути и раздвиньте ветки, так чтобы мне было легко идти". Эти заклинания произносятся в том случае, когда он приходит па землю своих предков один. Но чаще всего он идет туда в сопровождении кого-нибудь, кто не столь прямо связан с его предками,- с каким-нибудь родственником или братом жены, который собрался поохотиться или же разбить огород на земле предков вместе с ним. Тогда ему следует представить своего спутника. "Взгляните, деды, это мой шурин. Он пришел поработать в огороде вместе со мной. Отнеситесь к нему, как к внуку, не сердитесь на то, что он здесь. Это хороший человек". Если не соблюсти этих предосторожностей, то ураган повалит дом беспечного человека или же оползень уничтожит его огород. Марсалаи насылают ветры, дожди, оползни, для того чтобы привести в чувство беззаботных людей, забывающих проявить должное уважение к земле. Во всем этом нет ни грана чувства собственничества на землю, чувства, с которым человек у нас приглашает кого-нибудь вступить на его землю или же гордо рубит свое дерево.
Деревня Алипинагле, расположенная на соседнем холме, сильно обезлюдела. В следующем поколении ей будет не хватать людей, чтобы обрабатывать землю. Люди в Алитоа вздыхали: "О, бедная Алипинагле, когда ее жители умрут, кто будет заботиться о земле, кто будет там жить под деревьями? Мы должны дать им детей, чтобы они усыновили их, чтобы у этой земли и деревьев были люди, когда мы умрем". У этого великодушия, безусловно, был и свой практический расчет - добиться выгодного положения для ребенка или для детей. Но это желание никогда не формулировалось таким образом, а сетовавшие никогда бы не согласились с любой формулой собственности на землю. Во всей округе была только одна семья, наделенная собственническими инстинктами, и ее установки были никому не понятны. Геруд, известный молодой прорицатель, старший отпрыск этой семьи, однажды во время общения с духами сказал, что мотивом для пресловутой кражи "грязи" была злоба обвиняемого: он сердился на детей человека, переселившегося в деревню, за то, что в свое время они потребуют доли в охотничьих угодьях. Остальная часть общины отнеслась к этому обвинению как к чему-то граничащему с безумием. И в самом деле, ведь люди принадлежат земле, а не земля людям. Простым следствием этого отношения оказывается тот факт, что никто здесь особенно не заботится о месте жительства. Член какого-нибудь клана может проживать как в поселке своих прямых предков, так и в поселке своих кузенов или же шуринов. При отсутствии какой бы то ни было политической организации, каких бы то ни было жестких и деспотических социальных норм людям достаточно легко жить там, где им хочется.
Точно так же как с местом жительства, дело обстоит и с огородами. Огородничество у арапешей двух типов. При выращивании таро и бананов мужчины производят первичную расчистку участка, обрезку деревьев и делают изгороди, а женщины сажают растения, пропалывают, убирают урожай. Разведение же ямса - исключительно мужское занятие, женщины лишь немного помогают в прополке и переноске собранного урожая. У многих новогвинейских племен каждая женатая пара расчищает и огораживает кусок земли на унаследованном участке кустарниковых зарослей. Обработку этого участка она производит своими силами с помощью своих детей, иногда пользуясь услугами других родственников при сборе урожая. Таким образом, на Новой Гвинее огород становится почти таким же приватным местом, как и дом, и им часто пользуются для половых сношений. Это - семейное место. Муж или жена могут ходить в него каждый день, заделывать любую дыру в изгороди, чтобы защитить его от вторжения диких животных. Казалось бы, что все внешние обстоятельства жизни арапешей делают эту семейную форму огородничества исключительно практичной. Расстояния от деревни до огородов велики, а дороги трудны. Люди часто должны спать на своих огородах, потому что они далеки от любых других укрытий. Для этого здесь строятся маленькие, неудобные, плохо крытые хижины. Настоящий дом на сваях строить на один год было бы непрактично. Крутые склоны делают изгороди неустойчивыми, а дикие свиньи всегда прорываются в огороды. Пища скудна и плоха; казалось бы, что в этих условиях лишений и бедности люди должны были бы быть исключительно внимательными к собственности, к своим насаждениям. Вместо этого у арапешей возникла другая, крайне своеобразная система огородничества, требующая больших затрат времени и усилий, но ведущая к дружеской взаимопомощи, к развитию духа коллективизма. Их-то они и считают куда более важными.
Каждый человек разводит здесь не один огород, а несколько с помощью разных групп своих родственников. В одном из них он хозяин, в другом - гость. В любом из огородов работает от трех до шести мужчин с одной или двумя женами каждый, а иногда с одной или несколькими дочерьми. Они работают вместе, вместе строят изгородь, расчищают почву, делают прополку, собирают урожай и, если объем работы велик, спят вместе, сгрудившись в маленьких, плохо оборудованных хижинах, где дождь заливает почти всех спящих. Эти группки неустойчивы. Некоторые их члены не в состоянии перенести тяготы, связанные с плохим урожаем, винят в этом своих товарищей и ищут новую группу на следующий год. Для огородов выбирают то один участок плоской земли, то другой, и часто оказывается, что участок, выбранный на этот год, расположен слишком далеко для некоторых из членов прошлогодней группы. Каждый год арапеш получает урожай не только из огорода, непосредственно принадлежащего ему, но и из огородов, разбросанных по округе, находящихся на землях его родственников под покровительством их предков. Эти огороды могут находиться на расстоянии нескольких миль друг от друга.
Такая организация работ имеет несколько последствий. Нет двух огородов, засаживаемых в одно и то же время, и потому у арапешей нет и "голодного времени", столь характерного для племен, выращивающих ямс, где все огородные работы проводятся одновременно. Если несколько людей работают вместе, расчищая и огораживая один участок, а потом переходят на другие, урожаи созревают не одновременно, а друг за другом. Для такой системы кооперации в проведении огородных работ нет ни малейших физических оснований. Большие деревья не выкорчевываются, на них только обдирают кору и обрубают ветки, чтобы дать доступ свету, так что огород напоминает сборище призраков, белеющих на фоне темной зелени кустов. Изгороди делают из молодых деревцев, которые может нарубить и подросток. Но люди очень хотят работать маленькими радостными группками, в которых один человек - хозяин и может угостить своих гостей-помощников мясом, если ему посчастливится его раздобыть. Вот почему люди ходят вверх и вниз по горным склонам, удаляя сорняки там, расставляя шесты здесь, убирая урожай в третьем месте, ходят, призываемые то туда, то сюда нуждами огородов, созревающих в разное время.
С тем же самым отсутствием индивидуализма мы сталкиваемся и при посадках кокосовых пальм. Отец сажает их для своих маленьких сыновей, но не на своей собственной земле. Вместо этого он идет за четыре-пять миль, неся проросший орех, чтобы посадить его у порога дома своего деда или шурина. Перепись кокосовых пальм в какой-нибудь деревне выявила бы громадное число их владельцев, проживающих где-то вдали и не имеющих никаких связей с ее жителями. Аналогичным образом друзья вместе сажают саговые пальмы, и в следующем поколении их сыновья образуют кооперативную группу.
И охотой мужчина занимается не один, а с компаньоном, иногда с братом либо же с кузеном или шурином. Заросли кустарника, духи и марсалаи принадлежат одному из этой пары или тройки. Дичь принадлежит тому, кто ее увидел первым, при этом безразлично, является ли он хозяином или гостем. Однако здесь нужно соблюдать такт и не замечать дичь чаще, чем другие. Человеку, который бы постоянно заявлял, что он увидел дичь первым, в конечном счете пришлось бы охотиться одному. При этом он бы стал лучшим охотником, чем другие, но антиобщественные стороны его характера постоянно усиливались бы. Именно таков и был Сумали, мой самозваный отец. Несмотря на всю свою ловкость, он пользовался незавидной репутацией во всех совместных начинаниях. Его сын во время общения с духами предсказал, что скаредность владельцев охотничьих угодий приведет к тому, что они прибегнут к колдовству. Когда же дом Сумали от случайной искры сгорел дотла, Сумали приписал это их зависти. Его ловушки приносили ему больше добычи, чем ловушки кого бы то ни было в округе, он лучше выслеживал зверя и метче стрелял, но охотился всегда один или со своими маленькими сыновьями. Дарил же добычу своим родственникам он так же холодно, как кому-нибудь постороннему.
Точно так же дело обстоит и со строительством домов. Дома арапешей настолько малы, что фактически их строительство почти не нуждается в кооперации. Материалы, взятые из одного дома или нескольких обветшалых домов, служат для сборки другого дома. Люди разбирают дом и воссоздают его, придавая ему другую пространственную ориентацию. Никто не пытается нарубить балки одинаковой длины или отпилить кусок конькового бревна, если оно слишком длинно. Если оно не подходит к этому дому, то оно, несомненно, подойдет к следующему. Но никто, исключая тех, кто сам в свое время отказался помочь кому-нибудь строить дом, не строит в одиночку. Человек заявляет о своем намерении поставить дом и, может быть, устраивает небольшой праздник подъема конькового бревна. После этого его братья, кузены, дядя во время своих походов в заросли по разным делам набирают попутно и груды лиан для связывания бревен, и связки листьев саговых пальм для изготовления кровли. Проходя мимо строящегося дома, они оставляют там свой вклад, и таким образом постепенно, от случая к случаю, небольшими частями возникает дом, возникает из неучитываемого труда многих людей.
Однако такая свободная кооперация в организации труда, даже будничного, вроде огородничества или же охоты приводит к тому, что ни один мужчина не может последовательно проводить в жизнь свои планы или же располагать собственным временем. В этом отношении женщины находятся в значительна лучшем положении: они по крайней мере знают, что еда, дрова и вода должны быть обеспечены каждый день. Мужчины же проводят девять десятых своего времени, участвуя в выполнении планов других, копаясь на чужих огородах, участвуя в охотах, организованных другими. Лишь изредка и робко они смеют предложить какие-то свои собственные планы.
Это стремление к совместному труду во всем является и одним из факторов, объясняющих отсутствие политической организации. Где все воспитаны в духе полной отзывчивости на нужды других, а самого мягкого остракизма достаточно, чтобы принудить эгоиста к сотрудничеству, проблема власти выглядит совершенно иначе, чем в обществе, где агрессивность каждого противостоит агрессивности всех других. Если нужно решить важное дело, относящееся ко всему поселению или его части (общественный скандал, обвинение в колдовстве), то решение принимается спокойно, часто не сразу и весьма специфическим способом. Предположим, что какой-нибудь молодой человек обнаружил, что свинья из дальней деревни застряла у него в огороде. Свинья совершила потраву, мясо - вещь редкая, и он не прочь бы убить ее. Но разумно ли это? Решение надо принять с учетом всех связей владельца свиньи. Предстоит ли общий праздник? Решены ли все вопросы с помолвкой? Нуждаются ли члены его собственной группы в помощи владельца свиньи в осуществлении каких-то своих церемониальных планов? Все это молодой человек не обязан решать по собственному разумению. Он идет к своему старшему брату. Если тот также не прочь убить ее, оба они пойдут за советом к какому-нибудь старшему родственнику, пока, наконец, один из самых старых и самых уважаемых людей общины не выскажет своего мнения. Каждая округа с населением в сто пятьдесят - двести человек имеет одного или двух таких патриархов. Если тот выскажется одобрительно, свинью убьют и съедят, и никакое обвинение со стороны старших не надет на голову молодого человека. Все будут держаться вместе и защищать свое право на этот акт узаконенного грабежа.
Войны практически неизвестны арапешам. Здесь нет традиции охоты за головами, они не считают, что смелость и мужественность связаны с убийством. Более того, на тех, кто убивал людей, смотрят с некоторой неловкостью, как на людей, едва ли имеющих к ним отношение. Именно им поручается совершать очистительные церемонии над новым убийцей. Отношение к простому убийце и человеку, убившему на войне, в существенных чертах одно и то же. У арапешей нет знаков отличия за храбрость. Над уходящими на сражение совершают обряд защитной магии: они стирают пыль с костей отцов и съедают ее с орехом арековой пальмы и магическими травами. Хотя у них и отсутствуют действительные войны - организованные походы с целью грабежа, завоевания, убийства, приобретения славы,- ссоры и стычки между деревнями имеются, главным образом из-за женщин. Брачная система у них такова, что даже самое откровенное бегство чьей-нибудь невесты или жены может считаться похищением, а последнее, будучи недружественным актом, требует возмездия. Потребность же восстановить справедливость - отплатить злом за зло, отплатить в точном соответствии с причиненным ущербом - очень развита у арапешей. Начало вражды они связывают с несчастным случаем. Похищение женщин в действительности результат семейных разногласий или же возникновения новых личных привязанностей, а не недружественный акт со стороны соседней общины. Точно так же дело обстоит и со свиньями, так как владельцы стараются их держать дома. Если свинья заблудилась, то это несчастный случай, если же свинью убили, то это требует возмездия.
Все стычки подобного рода между деревнями начинаются с сердитых объяснений. В деревню обидчика прибывает оскорбленная сторона, прибывает вооруженная, но не для того чтобы обязательно сражаться. Затем следует словесная перепалка. Обидчик может оправдывать свое поведение, утверждая, что он ничего не знает о похищении или же не имеет понятия о том, чья это свинья, ведь у нее хвост не обрублен, откуда вы знаете, что свинья не была дикой? И т. п. Если оскорбленная партия протестует, скорее для формы, а не в силу действительно испытываемого гнева, то встреча может завершиться обменом резкостями. В противном случае от упреков переходят к оскорблениям, пока самый пылкий и скорый в гневе участник не бросит копье. Но это не сигнал для общей схватки. Вместо этого все: члены потерпевшей партии внимательно осматривают место на теле, куда ударило копье (его никогда не бросают для того, чтобы убить). Затем другой наиболее пылкий представитель противоположной партии бросает копье в человека, нанесшего удар. Последствия этого броска, в свою очередь, внимательно инспектируются, и снова летит ответное копье. Каждый акт мести тщательно обдумывается. "Затем Ябиниги бросил копье. Оно ударило моего кузена в грудь. Я рассердился, что они его ранили, и бросил копье в Ябиниги. Копье ударило ему в лодыжку. Затем брат матери Ябиниги, разъяренный тем, что сын его сестры ранен, бросил копье в меня, но промахнулся". И т. д. Этот последовательный и тщательно регистрируемый обмен ударами копий, обмен, цель которого - легко ранить, а не убить, продолжается до тех пор, пока кого-нибудь не ранят серьезно, и тогда члены атакующей партии обращаются в бегство. После этого мир восстанавливается обменом кольцами, причем каждый преподносит кольцо человеку, которого он ранил.
Когда же, как иногда бывает, человека убивают в одной из таких стычек, делается все возможное, чтобы отречься от любого сознательного намерения убить: убийца просто просчитался, во всем виноваты колдуны с равнины. Почти всегда взывают к родственным чувствам противоположной стороны и заявляют, что никто по своей воле не убивает родственника. Если убитый был близким родственником убившего - дядей, двоюродным братом, то непреднамеренность убийства считается установленной и его приписывают колдунам с равнин, а убийца приносит свои соболезнования и чистосердечно оплакивает смерть вместе со всеми остальными. Если родство более отдаленно, а непреднамеренность более спорна, то убийца может сбежать в другую общину. За убийством не следует никакой кровной мести, хотя оно и может породить попытки нанять колдуна с равнины, чтобы свести счеты. Как правило, за смерти, вызванные колдуном, мстят такими же смертями. Все другие убийства, совершенные в пределах определенной местности или на территории, охваченной неким правом мести, считаются у арапешей настолько противоестественными, неожиданными и необъяснимыми, что община отказывается иметь с ними дело. Каждый же раненный в схватке несет и еще один ущерб: он должен возместить пролитие собственной крови братьям своей матери и их сыновьям. Вся кровь ребенка приходит к нему от его матери, вот почему она - собственность материнской группы. Брат матери имеет право пролить кровь сына своей сестры, на нем лежит обязанность вскрывать нарывы и производить скарификацию7 девушки-подростка. Каким бы образом ни был ранен человек, причинен ущерб не только ему, но и тому запасу ценностей, который содержится в нем. Поэтому он должен уплатить за свое участие в событии, в котором он был ранен. Это наказание распространяется и на ранения, полученные на охоте и при участии в чем-нибудь постыдном.
Общий принцип общественной жизни у арапешей таков: наказанию подлежат все те, кто оказался достаточно неблагоразумным и дал вовлечь себя в опасные или постыдные события любого рода, кто был настолько беззаботен, что получил рану на охоте, или же настолько глуп, чтобы стать жертвой публичного поношения со стороны своих жен. В этом не привыкшем к насилию обществе, требующем от всех людей кротости и взаимопомощи, в обществе, где противоположное поведение вызывает удивление, не существует санкций против насильника. Но здесь считают, что те, кто своей глупостью или беззаботностью вызвал насилие, должны быть призваны к порядку. В случае небольших ранений, если человек был членом сражающейся группы, только брат его матери требует компенсации за пролитую семейную кровь. Разве бедный сын его сестры уже не пострадал, получив рану и потеряв кровь? Но если же он оказался вовлеченным в недостойную публичную перебранку со своей женой или молодым родственником, оскорбившими его в присутствии других, то в действие может вступить вся группа мужчин деревни или соседних деревень. И в этом случае инициаторами также будут братья матери, официальные исполнители обвинительных приговоров. Мужчины возьмут священные флейты, голосом которых говорит тамберан (сверхъестественное чудовище, покровитель мужского культа), придут ночью к дому нарушителя, вызовут флейтами его жену и его самого наружу, ворвутся в дом и засыплют пол листьями и мусором и, может быть, срубят арековую пальму. Затем они уйдут. Если же авторитет человека в общине неуклонно падал, если он был неуслужлив, прибегал к колдовству, имел дурной характер, то мужчины могут вынести из дома его домашний очаг и выбросить его на свалку. Практически это означает, что они не прочь обойтись без его присутствия по крайней мере на месяц. Жертва, глубоко пристыженная этой процедурой, бежит к отдаленным родственникам и не возвращается до тех пор, пока не обзаведется свиньей, чтобы устроить пир для общины и тем самым смыть обиду.
Но против настоящего насильника у общины нет никаких средств. Такие люди внушают арапешам нечто вроде изумленного благоговения. Если им перечат, то они угрожают, что сами сожгут свои собственные дома, поломают все свои горшки и кольца и покинут эту местность навсегда. Их родственники и соседи, придя в ужас от перспективы такого расставания, умоляют насильника не покидать их, не уничтожать свою собственность и задабривают его, давая ему то, что он требует. Только потому, что все воспитание у арапешей направлено на уменьшение насилия в жизни, на то, чтобы удушить в зародыше мотивацию насильственного поведения, общество в состоянии функционировать, призывая к порядку жертвы насилия, а не тех, кто его совершает. Когда труд основывается на дружеской взаимопомощи, а незначительные военные схватки почти стихийны, единственная деятельность в общине, еще нуждающаяся в руководстве,- это проведение больших церемониальных празднеств. Это общество без какого бы то ни было руководства, общество, где вознаграждение сведено к минимуму - удовольствию от ежедневного принятия скудной пищи да от нескольких песен, пропетых вместе с товарищами,- могло бы существовать вполне благополучно, если бы не эти церемониальные действа. Проблема руководства обществом ставится арапешами не как проблема ограничения агрессивности и стяжательства у некоторых его членов. Суть их политической проблемы состоит в том, как заставить нескольких способных и одаренных людей взять на себя против их воли ответственность и руководство так, чтобы каждые три-четыре года, а иногда и реже состоялся бы действительно захватывающий праздник. При этом предполагается, что никто не хочет быть лидером, "большим человеком". "Большие люди" должны планировать, руководить обменом, важно шествовать, говорить громким голосом, они должны хвастаться тем, что было совершено ими в прошлом, и тем, что предстоит сделать в будущем. Все это арапеши считают самым неестественным и трудным поведением, от которого уклонится любой нормальный человек, если только сможет. Именно эту роль общество и навязывает некоторым людям, навязывает определенными, принятыми способами.
Вскоре после того как мальчикам исполняется десять лет, взрослые начинают классифицировать их по способностям стать "большим человеком". По прирожденным способностям люди делятся арапешами, грубо говоря, на три класса. Первый класс - "те, чьи уши открыты и горла открыты", или наиболее одаренные, люди, понимающие свою культуру и способные выразить словами свое понимание. Второй класс - "те, чьи уши открыты, но горла закрыты", или же полезные, спокойные люди, люди мудрые, скромные и неразговорчивые. Третий класс - это группа людей наименее полезных типов: "те, чьи уши закрыты, но горла открыты". Мальчику, принадлежащему к первому классу, дается особая подготовка: из молодых мужчин какого-нибудь другого клана, связанного родством по мужской линии с его кланом, ему подбирается партнер - буаньин. Эта связь молодых мужчин из различных кланов строится на основе взаимных обязательств по устройству праздников и в какой-то мере имеет наследственный характер. Социальный институт буаньинов воспитывает агрессивность и поощряет столь редкий у арапешей дух конкуренции. Обязанность буаньинов задирать друг друга при всякой встрече, осведомляться насмешливо, собирается ли партнер что-нибудь сделать из своей жизни: что, у него нет свиней, нет ямса? Что, он плохой охотник? Что, у него нет партнеров по торговле или нет родственников? Почему же он не устраивает праздника, не организует церемонии? Родился ли он головой вперед, как все нормальные люди, или, может быть, он выпал из чрева матери вперед ногами? Отношения буаньинов тем самым тренировочное поле для того рода трудностей, с которыми должен будет столкнуться "большой человек" и которые обыкновенные арапеши рассматривает как нежелательные.
Функцию этого института буаньинов следует понимать в контексте отношения арапешей к обмену пищей. Для народа, у которого вся торговля скрывается под маской добровольного и случайного преподнесения даров, ведение точного учета обмениваемых стоимостей немыслимо. Это касается не только торговли между деревнями, но и всех обменов между родственниками. Идеальным распределением пищи для них было бы такое распределение, при котором каждый ел бы пищу, выращенную другим, ел дичь, убитую другим, ел мясо свиней не только не его собственных, но выращенных так далеко, что даже имена людей, вскормивших их, были бы ему неизвестны. Под влиянием этого идеала арапеш охотится только для того, чтобы послать большую часть своей добычи брату матери, своему кузену, тестю. Самый низкий человек в общине, человек настолько безнравственный, что с ним даже говорить бесполезно, для арапешей тот, кто сам съедает дичь, убитую им, будь это даже крошечная птаха.
У арапешей не поощряется создание избытка ямса, сильной, надежной культуры, хорошо сохраняющейся, прирост урожая которой зависит только от сохранения семян. Всякому, у кого урожай ямса оказывается значительно большим, чем у соседей, благосклонно разрешают устроить абуллу - праздник, на котором он передает весь свой предварительно раскрашенный яркими красками ямс на семена своим гостям. Родственники и соседи приходят па этот праздник с дарами по собственному выбору, и каждый уносит с собою мешок семян. Этот запас семян нельзя есть, его употребляют только для посева. За этим тщательно следят. Вот почему удача или более искусное ведение хозяйства не оборачивается личной выгодой для человека, они обобществляются, и запас семян ямса у общины растет.
На фоне всего этого социализированного отношения к пище и собственности, этого отсутствия соперничества, нерасчетливости, легкости взятия и отдачи и выделяются отношения буаньинов. В них совершенно явно поощряются все ценности конкурентной, расчетливой социальной системы. Буаньин не ожидает оскорбления со стороны другого, он оскорбляет своего буапьина по долгу службы. Он не просто делится с ним избытком своего добра, по специально выращивает свиней, охотится для того, чтобы публично вручить своему партнеру плоды своего труда, преднамеренно сопровождая свои дары несколькими хорошо рассчитанными оскорблениями по поводу неспособности своего партнера отплатить ему тем же. Здесь ведется тщательный учет каждого куска свинины, каждого бедра кенгуру, и пучок жилок листьев кокосовых пальм используется как учетная книга в публичных схватках, когда буаньины задирают друг друга. Самое поразительное во всем этом то, что буаньинам предписывается определенная скаредность. Щедрый буаньин специально сбережет на пиру корзину с потрохами, а его жена передаст ее втайне жене буаньина-гостя. после праздника. За этот дар возврата не ожидают. Но если щедрость ожидается во всех иных проявлениях социальной жизни, со скаредностью своего буаньина в его отношениях с партнером арапеши мирятся охотно.
Таким образом, в обществе, где норма поведения для людей - быть добрыми, нестяжателями, приходить друг другу на помощь, где никто не считает долги других, где мужчины охотятся для того, чтобы другие могли есть их добычу, существует обучение и принципиально иному типу поведения, такому, который должен быть присущ "большому человеку". Молодой человек на своем пути к "большому человеку" подвергается постоянному давлению как со стороны старших, так и со стороны своих буаньинов. От него требуется организовать какие-то подготовительные празднества, которые в конечном счете выльются в большую инициационную церемонию или же в приобретение нового танцевального комплекса с побережья. Некоторые уступают такому давлению; они учатся топать ногами и считать своих свиней, разбивать специальные огороды и организовывать охотничьи группы, планировать на несколько лет вперед - срок, необходимый для того, чтобы устроить церемонию, длящуюся один-два дня. Но когда старший мальчик "большого человека" достигнет зрелости, отец может уйти в отставку. Ему больше ненужно топать ногами и кричать, ему больше не нужно шествовать по пирам, выискивая возможность оскорбить своего буаньина; он может спокойно жить дома, воспитывая своих детей. Он может устраниться от деятельной жизни, полной соперничества, жизни, которая, как обычно правильно предполагает его общество, внутренне несвойственна и неприятна ему.
3. Рождение ребенка у арапешей
Роль отца в оплодотворении, по мнению арапешей, не кончается вместе с зачатием. Арапеши и понятия не имеют о том, что после зачатия, физиологического отцовства, муж может уехать и, вернувшись девять месяцев спустя, узнать, что его жена родила ему ребенка. Такое отцовство они сочли бы невозможным и, более того, отталкивающим. Ребенок для них не продукт минутной страсти, но нечто со всей тщательностью создаваемое отцом и матерью в течение определенного времени. Арапеши разграничивают два вида сексуального поведения человека: игру, все то в сексуальной активности человека, что не ведет к формированию ребенка, и работу, целенаправленную сексуальную активность, задача которой - создать ребенка, накормить его и придать ему форму в течение первых недель, когда он находится в чреве матери. В этой работе роль отца равна роли матери; ребенок для арапешей - продукт отцовского семени и материнской крови. Когда груди матери обнаруживают характерные для беременности набухание и изменение цвета сосков, считается, что создание ребенка завершено. Как оплодотворенное яйцо, он покоится теперь в теле, матери. С этого времени все половые сношения запрещены, ибо ребенок должен спокойна спать, безмятежно усваивая полезную для него пищу. Нужда ребенка в спокойном окружении подчеркивается во всем. Женщина, желающая зачать, должна быть максимально пассивной. Ставши хранительницей растущего ребенка, она должна соблюдать некоторые предосторожности: она не должна есть бандикутов8, в противном случае она умрет при родах, ибо бандикуты слишком глубоко зарываются в землю; ей не следует есть лягушек и угрей, так как в этом случае ребенок родится недоношенным; ей не следует есть саго из места, где живет марсалаи, или кокосовых орехов с деревьев, на которые наложил табу тамберан - сверхъестественный покровитель мужского культа. Если беременная хочет мальчика, то ей посоветуют ничего не резать пополам, так как в этом случае родится девочка.
Интоксикация во время беременности здесь неизвестна. В течение всех девяти месяцев неродившийся ребенок спит. Считается, что он растет, как цыпленок в яйце: сначала имеются только кровь и семя; затем у него возникают руки и ноги и, наконец, голова. Как только сформирована голова, ребенок появляется на свет. Никто здесь не считает, что ребенок может подавать какие-то признаки жизни до момента родов, когда он переворачивается, вызывая первые родовые схватки.
При самих родах отец присутствовать не должен. Это запрещают делать представления арапешей о вредоносном характере физиологических функций женщин для магических функций мужчин, добывателей пищи. Кровь при родах, равно как и менструальная кровь, опасна, вот почему роды должны проходить вне деревни. Но выражение "вынашивать ребенка" применяется кал в отношении женщин, так и в отношении мужчин. Беременность считается такой же тяжелой нагрузкой для мужчины, как и для женщины, в частности потому, что после прекращения месячных в течение нескольких недель от отца требуется напряженная сексуальная активность.
Отец ожидает поблизости, пока повивальная бабка не крикнет ему о поле новорожденного. На это известие он отвечает лаконично: "Вымой его" или же: "Не мой его". Если команда "Вымой", ребенок остается жить. Но иногда раздается и вторая команда, если ребенок - девочка, а девочек в этой семье уже "избыток. Ребенка оставляют невымытым, с неперевязанной пуповиной на месте его рождения и обрекают на смерть. Арапеши предпочитают мальчиков; мальчик остается с родителями и будет их утешением и радостью в старости. Если же после рождения одной или двух девочек следующий ребенок также окажется девочкой, то шансы родить и воспитать мальчика уменьшаются, и, не имея противозачаточных средств, арапеши иногда прибегают к убийству младенцев. Иногда, если новорожденный появляется на свет в голодное время, или в семье уже много детей, или же "если отец ребенка умер, младенцу также не сохраняют жизнь, считая, что шансы его на здоровье и нормальный рост малы.
После того как ребенка вымоют, а послед и пуповину подвесят на высокое дерево (потому что, если они достанутся свинье, она станет грабителем огородов), мать и ребенка переносят в деревню и помещают в маленьком доме, сооруженном прямо на земле. Земляной пол в таком доме - нечто среднее между "плохим местом" и нормальным полом жилого дома. На последний не могут вступать люди, находящиеся в особом состоянии: родители новорожденного, люди в трауре, человек, потерявший кровь, и т. д. Отец начинает теперь делить с матерью заботы о новорожденном. Он приносит ей связку мягких бархатистых листьев. Она выстилает ими маленькую сетку, подвешенную к потолку. Ребенок лежит там в дородовой позе, свернувшись, большую часть своих часов бодрствования, В сосудах из скорлупы кокосового ореха отец приносит воду для купания ребенка и особые, остро пахнущие травы, чтобы отогнать злых духов от хижины. Он приносит маленькую деревянную подушечку, на которой спят тогда, когда хотят сберечь сложную прическу, и укладывается рядом с женой. По местному выражению, он теперь "в колыбели". Новая жизнь теперь столь же тесно связана с ним, как и с матерью. "Живая душа", нежно колышущаяся в грудной клетке ребенка, душа, которая будет пребывать там до старости, если черная магия или же заклятия какого-нибудь марсалаи не заставят ее подняться и в конвульсиях покинуть тело, может прийти к нему как от отца, так и от матери. Позднее люди будут смотреть на лицо ребенка, сравнивать его с родительскими и решать, кто же дал ему эту живую душу - отец или мать. Но, в сущности, это не важно. С одинаковой легкостью душа может прийти как с той стороны, так и с другой. То, на кого похож ребенок, показывает лишь, какой путь она выбрала.
Отец спокойно лежит рядом с новорожденным, лишь время от времени давая советы матери. В течение первого дня родители постятся. Им нельзя курить или пить воду. Время от времени они совершают небольшие магические обряды, которые призваны обеспечить ребенку будущее благополучие и сохранить им способность заботиться о нем. Официальные няньки - жены брата отца. Они приносят все нужное для заклинаний. Прежде всего это длинная ветка со снятой корой. Отец зовет кого-нибудь из детей, слоняющихся вокруг хижины в надежде взглянуть на новорожденного. Он трет веткой по их маленьким крепким спинам. Затем этой же веткой он трет по спине новорожденного" причитая заклинания:
Я дал тебе позвонки:
один от свиньи,
один от змеи,
один от человека,
один от древесной змеи,
один от удава,
один от гадюки,
один от ребенка.
Затем отец разламывает ветку на шесть маленьких кусочков и подвешивает их в доме. Раздави он теперь своими ногами даже маленькую веточку, идя куда-нибудь, спина ребенка не пострадает. Далее он берет большой батат и разрезает его на маленькие куски. Каждый кусочек он называет именем какого-нибудь маленького мальчика в деревне: Добомугау, Сегенамойя, Миджуламон, Нигимариб. Обряд подхватывает его жена и называет каждый кусочек именем маленькой девочки: Амус, Ябиок, Анъюай, Мидуайн, Кумати. После этого отец разбрасывает кусочки батата. Теперь ребенок будет вежлив и добр с другими людьми. Вот почему в ритуале используются имена детей соседей. Если для женщины все эти церемонии остаются одними и теми же, родись у нее первый или пятый ребенок, мальчик или девочка, то отец первого ребенка оказывается в деликатном положении. Мужчина, у которого родился первый ребенок, в таком же опасном положении, как мальчик, только что прошедший обряд посвящения, или воин, в первый раз убивший врага в битве. Из этого состояния его должен вывести человек, уже имеющий детей. Этот человек становится его покровителем и совершает над ним все нужные обряды. После пяти дней, в течение которых он остается только со своей женой, когда он не прикасается к табаку руками, пользуется палкой, чтобы почесаться, ест все только ложкой, его ведут к воде. Там уже построен шалаш, пестро разукрашенный красными цветами и травами, требующимися для колдовства на ямсе. Этот шалаш строится у пруда, а на дно пруда кладется большое белое кольцо, называемое в этом ритуале "угрем". Отец новорожденного вместе со своим покровителем спускается к пруду и ритуально очищает свой рот кольцом, которое ему вручает его опекун. Затем отец пьет из пруда, в который бросают ароматические травы, и омывает его водой все тело. Затем он спускается в воду, достает "угря" и вручает его своему покровителю. Этот "угорь" символически тесно связывается с фаллосом и находится под особо строгим табу для мальчиков во время их роста и в период инициации. Можно считать, что эта церемония символизирует возвращение мужчине его мужской природы после ее опасного соприкосновения с женскими физиологическими функциями. Но если таковым и было ее первоначальное значение, сейчас арапеши не вкладывают в нее прямо именно этого смысла. Возвращение знака фаллоса на берег считается просто необходимой ритуальной деталью всей церемонии. Покровитель затем мажет голову молодого отца особой белой краской, которой покрывает и лоб подростка. После этого молодой отец причисляется к тем, кто успешно произвел на свет ребенка.
Но с этим его материнские обязанности не кончаются. В течение следующих нескольких дней он и его жена совершают обряды, освобождающие их от действия всех табу, за исключением запрета на употребление мяса. Табак и орехи арековой пальмы раздаются всем, кто приходит посмотреть на ребенка: мужчины получают их от отца, женщины - от матери. Получившие их из рук молодых родителей берут на себя обязательство помогать им во всех их делах в дальнейшем. Так еще раз обеспечивается будущее благополучие ребенка. Жена совершает специальный обряд, призванный устранить какое бы то ни было влияние всего только что пережитого ею на ее умение готовить лищу. Она готовит псевдопирог из грубых, несъедобных трав и выбрасывает его свиньям. И наконец пара возвращается домой и спустя месяц-два устраивает праздник, снимающий табу на употребление мяса. В то же самое время устраивается праздник для повивальной бабки и женщин, кормивших их в дни уединения. Теперь отец и мать свободно передвигаются, куда они захотят, ребенка же, до того как он начнет смеяться, брать с собой не рекомендуется. Имя ему дают, когда он начинает улыбаться, видя отца, имя кого-нибудь из членов отцовского клана.
А между тем жизнь ребенка по-прежнему считается зависящей от неусыпных забот обоих родителей. Отец, как и раньше, должен спать с матерью и младенцем, и соблюдается строжайшее табу на половые общения не только с матерью младенца, но и со второй женой, если у него их две. Внебрачные сношения также опасны. Частые половые сношения между родителями считаются необходимыми для роста ребенка в течение первых недель его дородовой жизни, но, как только он сформируется, любые половые связи со стороны любого из родителей считаются опасными для ребенка, не достигшего возраста одного года. Если ребенок хил, нездоров, если его кости хрупки и он не может двигаться быстро, то виновны в этом родители, нарушившие табу: коль скоро они решили оставить ребенка в живых, они знали, чего это от них потребует. Существует предание, по которому некая мать настаивала на сохранении жизни ребенку, в то время как отец хотел его убить. Но, рассказывая об этом случае, люди подчеркивают, что это было давным-давно, во времена марсалаи, то есть в мифические времена. Сейчас же такое поведение было бы глупым, ибо, не участвуй отец в уходе за ребенком, как могла бы мать сохранить ему жизнь без отцовской помощи?
Арапеши накладывают строгое табу на половые сношения до того времени, пока ребенок не начнет ходить. После этого ребенок считается достаточно крепким, чтобы выдержать возобновление родительской сексуальности. Мать кормит ребенка грудью до трех, даже четырех лет, если только она вновь не забеременеет в это время. Табу на половые сношения снимается после возобновления менструаций. Мать возвращается из менструальной хижины, и отец и мать постятся один день. После этого они могут иметь половые сношения, а муж может спать с другой женой, если того пожелает: сейчас его непосредственная физическая близость по ночам не нужна ребенку. (Иногда, конечно, отец вынужден оставить ребенка и отправиться в путь, слишком долгий и опасный, чтобы взять с собой жену и младенца. Но эти отлучки не считаются угрожающими здоровью ребенка, если, конечно, отца не уводит от семьи секс.) Арапеши превосходно сознают ценность всех эти табу в регулировании деторождаемости. Желательно, чтобы женщина рожала детей с известными интервалами: беременность - большая нагрузка для нее, а маленького ребенка надо силою отнимать от груди, потому что скоро последует другой ребенок. В идеале ребенок должен научиться есть твердую пищу, искать материнскую грудь не столько ради молока, сколько в состоянии аффекта - тревоги, боли. Только страх и боль должны вести его в материнские объятия. Но если мать забеременеет, ребенка надо отучать от груди с возраста двух лет. Соски смазываются грязью, а ребенку говорят, придавая лицу соответствующее выражение, что эта грязь - экскременты. У меня была возможность пристально наблюдать лишь за двумя детьми, отученными от груди таким образом. В обоих случаях это были мальчики. Один из них, мальчик двух с половиной лет, перенес все свои привязанности на отца, взявшего на себя заботы о нем. Второй мальчик, Нагуэль, вообще отстранился от своих родителей и в возрасте семи лет, отчаявшийся, жалкий, отправился на поиски других родителей, что крайне нехарактерно для детей арапешей. Двух случаев, конечно, совершенно недостаточно, чтобы сделать какие-то общие выводы, но следует отметить, что родители у арапешей считают резкое отнятые от груди жестоким и отрицательно сказывающимся на дальнейшем росте ребенка. Ускорив возникновение ситуации, неблагоприятной для ребенка, они чувствуют себя виноватыми, и это чувство вины может изменить отношения между родителями и ребенком, сделав, например, отца сверхзаботливым, как было в случае Бисху, отца маленького ребенка, или же сверхкритичным и резким, как отношение Кулу к несчастному маленькому Нагуэлю. С другой стороны, родители, самоконтроль и воздержание которых обеспечили ребенку полную возможность пользоваться материнской грудью, чувствуют себя добродетельными и спокойными. Это типичная установка родителей-арапешей. Когда ребенка отлучают от груди постепенно, мать без всякого чувства вины может сказать своему крепкому трехлетнему сыну: "Мальчик, ты уже достаточно попил моего молока. Смотри, я вся высохла, кормя тебя. И ты стал слишком тяжелым, чтобы таскать тебя повсюду с собой. Вот тебе таро и перестань скулить".
Когда арапеша спрашивают о разделении труда между полами, он отвечает: "Женщины варят пищу каждый день, приносят хворост и воду, полют огороды и носят овощи; мужчины готовят блюда для празднеств, носят свиней и тяжелые бревна, строят дома, кроют крышу, производят расчистку земли под огороды и строят изгороди, режут по дереву, охотятся и выращивают ямс; женщины и мужчины изготовляют украшения и ухаживают за детьми". Если у жены какая-нибудь срочная работа, необходимо принести овощей к ужину или же отнести окорок кому-нибудь в соседнюю деревню, муж остается дома и присматривает за ребенком. Он очень горд своим ребенком и столь же некритичен к нему, как и его жена. В одном конце деревни вы можете встретить ребенка, плачущего от ярости, и гордого отца, который скажет вам: "Посмотрите, это мой ребенок плачет весь день. Он такой же сильный и здоровый, как я". На другом же конце деревни вы можете встретить двухлетнего стоика, терпеливо переносящего болезненную операцию извлечения занозы. Его же отец с не меньшей гордостью отметит: "Посмотрите, мой ребенок никогда не плачет, он такой же сильный, как я".
Отцы, как и матери, столь же ловко и мало смущаясь, удаляют экскременты младенца и с таким же терпением, как и их жены, убеждают малыша есть суп громоздкой ложкой, изготовленной из скорлупы кокосового ореха, которая всегда велика для рта ребенка. Повседневный уход за маленькими детьми со всей его рутиной, утомительностью, с жалобным плачем, который очень трудно понять,- столь же мужское, как и женское, дело у арапешей. И признанием "материнских" забот отца, признанием его вклада в само появление ребенка на свет звучит ответ на чье-либо замечание, что такой-то и такой-то мужчина средних лет хорошо выглядит-. "Хорошо выглядит? Да? Но вы бы его видели до того, как он родил всех этих детей!"
4. Влияния, формирующие личность арапеша в раннем детстве
Как из младенца у арапешей постепенно формируется личность добродушного, кроткого, восприимчивого взрослого? Каковы те определяющие факторы в раннем воспитании ребенка, которые и приводят к тому, что он становится мирным и удовлетворенным, неагрессивным и неинициативным, нечестолюбивым и готовым на услуги, теплым, послушным и доверчивым человеком? Безусловно, в любом простом и однородном обществе дети, превратившись во взрослых, будут обладать теми же самыми общими чертами характера, что и их родители. Но дело здесь не в простом подражании. Существуют более тонкие и однозначные механизмы взаимосвязи между тем, как кормят ребенка, укладывают спать, учат дисциплине, самообладанию, ласкают, наказывают, поощряют, и сформировавшимися привычками взрослого. Кроме того, различие в отношении к детям у мужчин и женщин - один из самых существенных факторов формирования личности у любого народа и один из пунктов, в котором противоположность между полами выявляется наиболее отчетливым образом. Мы сможем понять арапешей, присущую им, как мужчинам, так и женщинам, материнскую заботливость, только поняв их ранние переживания и воспитание, которое они, в свою очередь, дают своим детям.
В течении первых месяцев своей жизни ребенок никогда не остается один. Когда мать отправляется куда-нибудь, она несет ребенка с собой либо в особой плетеной сетке, свисающей у нее с головы, либо в перевязи из луба, закрепленной у нее под грудью. Последний способ заимствован у арапешей побережья, первый - у арапешей равнин. Горянки пользуются обоими в зависимости от состояния здоровья ребенка. Если ребенок капризничает и возбужден, то его носят на перевязи, где спасительная грудь может быть дана ему в любой момент. Плач ребенка - это трагедия, которой следует избегать любой ценой. Эта установка сохраняется и на всю последующую жизнь. Наиболее тяжелый период в жизни матери - время, когда трехлетний ребенок уже достаточно подрос и его не утешить грудью, а вместе с тем слишком мал, чтобы ясно сказать, почему он плачет. Детей много носят и на руках, часто в положении стоя, так что они могут толкать своими ножками руки или ноги того, кто их несет. В результате дети, придерживаемые за руки, могут стоять еще до того, как они научатся сидеть. Ребенку дают грудь, как только он начинает плакать, он всегда поблизости от какой-нибудь женщины, которая дает ему свою в случае необходимости. По большей части он спит, прикасаясь к телу матери, или же свисает в тонкой сеточке за ее спиной, лежит, свернувшись, на ее коленях, когда она варит или плетет. Все это приучает ребенка к непрерывному теплому ощущению безопасности. Это ощущение нарушается только двумя шоковыми переживаниями, каждое из которых сказывается на последующем развитии личности. По прошествии нескольких первых недель жизни, когда его осторожно купают в теплой воде, ребенка ставят под душ холодной воды - поливают из бамбуковой лейки. Ребенок переживает внезапный и острый шок от холодной воды. Все без исключения младенцы негодуют на такое обращение с ними и продолжают ненавидеть холод и дождь на протяжении всей своей остальной жизни (* Я не хочу утверждать, что нелюбовь арапешей к дождю и холоду полностью или даже в значительной мере определена этими ранними детскими переживаниями. Но интересно отметить, что младенцы-чамбули^9, которых купают в теплой озерной воде, остающейся теплой даже после заката, не обнаруживают нелюбви к дождю и могут находиться под ним, не испытывая особых неприятностей, в течение целого дня). Далее, когда младенец мочится или испражняется, взрослый, который держит его, быстро толкает его в сторону, чтобы он не запачкал себя и его. Этот толчок прерывает нормальный ход выделения и сердит ребенка. В последующей жизни у арапешей явно ослабленный контроль сфинктера, и его полная потеря считается нормальной для любой высокострессовой ситуации.
В остальном же жизнь младенца у арапешей вполне удобна и счастлива. Его никогда не оставляют одного; ласковая человеческая кожа и ласковые человеческие голоса всегда рядом с ним. И маленькие мальчики, и маленькие девочки обожают младенцев - всегда найдется кто-нибудь, чтобы подержать ребенка. Когда мать идет работать в огород, она берет с собой мальчика или девочку, которые нянчат его, а не оставляет ребенка одного в гамаке. Если маленькая нянька - мальчик, то он держит ребенка на руках, если - девочка, то она носит младенца на спине.
Когда ребенок начинает ходить, спокойный, непрерывный ритм его жизни несколько меняется. Он становится тяжеловат, и мать не может брать его с собой в свои длительные походы па огороды. C другой стороны, сейчас он уже может просуществовать несколько часов без материнского молока. Мать оставляет ребенка в деревне с отцом или же с каким-нибудь другим родственником, когда идет в огород или за хворостом. Нередко она возвращается к плачущему, раздраженному ребенку. Полная жалости, желая как-то искупить свою вину, она садится и кормит ребенка грудью в течении целого часа. В ритме, в котором отлучка матери на час сменяется часом кормления грудью, интервалы между кормлениями все более увеличиваются, до тех пор пока время отсутствия матери у трехгодовалого ребенка не начинает длиться уже целый день. В это время ребенка, разумеется, кормят другой пищей. За этим днем отсутствия матери непременно следует день кормления.
В этот день мать остается дома, берет ребенка на колени, позволяет ему сосать грудь, сколько он захочет, бегать, снова брать грудь, играть с нею, делает все, чтобы вернуть ему чувство уверенности. Все это доставляет такое же наслаждение матери, как и ребенку. С момента, когда ребенок достаточно подрастет, чтобы играть с ее грудями, мать берет на себя активную роль в процессе кормления. Она держит свою грудь в руке и нежно проводит ею по губам ребенка. Она дует в ухо ребенку или же щекочет его, игриво хлопает по его гениталиям или же щекочет его пальцы. Ребенок, в свою очередь, играет с маленькими татуировками па теле матери и на своем собственном, с ее грудями, со своими собственными гениталиями, смеется и гулькает, делая из кормления долгую и приятную игру. Таким образом, весь акт кормления приобретает высокую эффективность и становится тем, что сохраняет и укрепляет у ребенка чувствительность к ласкам во всех частях его тела. Здесь не идет речь, как у нас, о ребенке, одетом с ног до головы, которому суют твердую, холодную бутылку и требуют, чтобы он выпил свое молоко я тотчас же заснул, так как руки матери устали держать бутылку. Вместо этого и для матери и для ребенка акт кормления - длительная, эмоционально насыщенная, полная очарования игра, в которой па всю последующую жизнь складывается добродушная, теплая чувственность.
Когда ребенок становится старше, он учится находить новые радости взамен материнской груди во время долгих отлучек матери. Он учится шлепать на губах10. Эту игру он видит повсюду у старших детей, старшие же дети играют с губами младенцев, давая им тем самым первые уроки игры, которая так хорошо подходит к временному одиночеству ребенка и испытываемому им голоду. Интересно отметить, что дети у арапешей никогда не сосут пальцы (* Вполне возможно, что привычка сосать палеп, отсутствующая у большинства примитивных народов, приобретается в первые месяпы жизни: У примитивных народов ребенка кормят, как только он начинает плакаты!). Вместо этого они заняты всеми возможными видами игры с губами. Ребенок оттягивает верхнюю губу большим, указательным и средним пальцами и хлопает ею; он раздувает щеки и сжимает их пальцами; он выпячивает нижнюю губу языком; он лижет свои руки и колени. В играх старших детей вы встретитесь с десятками различных и отработанных способов игры со ртом, и все эти игры постепенно передаются растущему ребенку.
Эта игра с губами представляет собой ту нить поведения, которая объединяет эмоциональную жизнь ребенка, связывает чувство полного комфорта и безопасности, испытываемое им в ласковых руках матери, с мирными радостями долгих вечеров у очага среди взрослых и в конечном счете закладывает основы спокойной, удовлетворенной половой жизни в будущем. Сами арапеши считают игру на губах символом детства. Подростков, рассказывающих легенды, более уместные в устах взрослых, предупреждают, что они должны побулькать губами, иначе их волосы преждевременно поседеют. Мальчикам, прошедшим обряд посвящения, старшие говорят, чтобы она перестали играть на губах: "Разве вы маленькие дети?" В то же самое время им позволяют заменить эту игру жеванием бетеля и курением, так чтобы их губы, привыкшие к постоянной стимуляции, были чем-то заняты. Девушкам же эта игра позволяется до их беременности. Далее мы увидим, как этот факт хорошо сочетается с убеждением, что женщина развивается медленнее мужчины. Когда маленький ребенок лежит па коленях матери, согретый и сияющий от ее внимания, она закладывает в нем доверие к миру, дружественное восприятие нищи, собак, свиней, людей. Ода держит кусочек таро в руке и, пока ребенок сосет грудь, повторяет нежным, певучим голосом: "Хорошее таро, хорошее таро, съешь его, съешь его, маленький кусочек таро, маленький кусочек таро, маленький кусочек таро". А когда ребенок на мгновение выпускает грудь, то она кладет ему в рот кусочек таро. В это время собака или поросенок суют свой вопрошающий нос под руку матери. Их не отгоняют, кожа ребенка и шерсть собаки соприкасаются, а мать нежно поглаживает их обоих, бормоча: "Хорошая собака, хороший ребенок, хорошая собака, хорошая, хорошая". Точно так же и все родственники ребенка представляются ему как люди, заслуживающие доверия, а самим словам, выражающим родственные отношения, придается положительное эмоциональное значение. Еще до того как ребенок начнет понимать слова матери, мать шепчет ему па ухо: "Это твоя вторая мать (ее сестра), вторая мать, вторая мать. Посмотри па свою вторую мать. Она хорошая. Она принесла тебе еду. Она улыбается. Она хорошая". Такой способ воспитания настолько совершенен, что слова сами по себе могут внушать такое доверие ребенку, что под их воздействием он может вести себя почти в полном противоречии со свидетельством своих собственных чувств. Так, когда какой-нибудь двухлетний малыш убегал с криком от меня, незнакомки, женщины с другим цветом кожи, то мать всегда могла успокоить его страхи, внушив ему, что я ее сестра, или сестра его отца, или его бабушка. И ребенок, который лишь минуту назад задыхался от страха, возвращался и спокойно садился ко мне на колени, вновь чувствуя себя уютно в своем безопасном мире.
Ребенку не навязывают никаких ранговых различий в поведении. Некоторым исключением в этом отношении оказывается только возраст. От него требуется, чтобы, выполняя поручение деда, он бежал быстрее, чем по поручению отца. Оп почувствует особую нежность и удовлетворенность в словах деда: "Я сегодня остался дома, и мои внуки столпились у лестницы моего дома". В доме при нем часто упоминается, что он второй пли третий ребенок. "Смотри, второй ест хорошо, а первенец сидит и играет с едой" или же: "Второй пошел работать, а первенец спокойно сидит дома". Таким образом ребенок узнает свое собственное положение в семье, порядок его рождения по отношению к другим детям - единственное отличие, которому арапеши уделяют большое внимание. В остальном же ребенка учат доверять, любить и полагаться на всякого, с кем столкнет его жизнь. Нет человека, которого он бы не называл "дядей", "братом", "кузеном", "тетей" и т. д., и эти термины родства применяются очень широко при полном игнорировании различий между поколениями. Даже возрастные отличия, заложенные их значениях, затушеваны11. Ребенок на руках привыкает к тому, что взрослый, играя с ним, называет его "мой маленький дедушка" или же "мой толстый маленький дядя". Родственные отношения еще более затемняются свободой арапешей в употреблении терминов родства. Можно называть старшего в группе братьев и сестер "дядей", вторую сестру - "бабушкой", третьего брата - "сыном" в зависимости от точки зрения, с которой рассматривается данная родственная связь в настоящий момент. Мужчина может называть какую-нибудь женщину "сестрой", а ее супруга - "дедом". В таком мире, где не существует особых предписанных форм поведения между двоюродными сестрами или же свояками, где никто не стесняется никого, где все отношения окрашены взаимным доверием и привязанностью, в мире, где каждый уверен во взаимопомощи, дружеском участии, в том, что для него всегда найдется пища, маленький ребенок, естественно, не проводит резких разграничений между людьми.
Хотя различие между полами четко выражено в этом языке, в поведении оно спутано. Ребенок не привыкает к тому, что только его отец и мать могут спать вместе без надзора, в то время как тетка или кузен отстранятся от столь близкого контакта с родственником другого пола. Арапеш ничего не знает о таких ограничениях. Родители учат мальчика: "Когда ты находишься в дороге, ты можешь в полной безопасности переночевать в любом доме, где живет сестра матери, или сестра отца, или двоюродная сестра, или племянница, или свояченица, или невестка". То, что людей противоположного пола, между которыми запрещены половые отношения, не следует оставлять вместе, настолько чуждо сознанию арапешей, что мысль об этом им никогда не приходит в голову.
Маленькие мальчики и девочки не носят никакой одежды до возраста четырех-пяти лет. Их учат воспринимать физические различия без всякого стыда или смущения. Здесь никто не учит маленьких детей совершать свои физиологические отправления в уединении; даже взрослые с этой целью уходят только на край деревни, да и то скорее из чувства робости, чем стыдливости. Женщины спят дома обнаженными, а мужчины носят свои набедренные повязки очень небрежно, временами сдвигая их, чтобы почесаться. Маленьких детей учат соблюдать правила гигиены, не прививая им чувства стыда, а выражая отвращение к грязи. И брезгливость очень сильно развита в них, так что четырех-пятилетние дети с отвращением отшатываются от слизи или плесени на коже. У них очень неразвита обычная ассоциация представлений о выделениях с четким осознанием гениталий и, следовательно, половых различий.
От маленьких детей не требуют, чтобы они вели себя по-разному с детьми своего и противоположного пола. Четырехлетки могут кататься и возиться на полу, не вызывая ни у кого беспокойств по поводу слишком близкого контакта их тел. Все это развивает в детях естественное, непринужденное знакомство с телами обоих полов, знакомство, не осложненное стыдом, соединенное с пониманием тех благ, которые несет с собою теплый, чисто физический контакт двух тел.
Когда ребенок подрастает, за ним начинают ухаживать не только родители. Детей отдают на время в другие дома. Тетка, прибывшая в гости, берет четырехлетнего ребенка с собой на неделю, передает его каким-нибудь другим родственникам, а затем его возвращают родителям. Все это приводит к тому, что ребенок привыкает думать о мире как о чем-то, что наполнено родителями, а не как о месте, где его безопасность и благополучие зависят от сохранения его отношений со своими собственными родителями. Сфера его доверия расширяется, и вместе с тем это происходит не за счет потери его чувствами направленности па определенных людей. При этом он не сталкивается одновременно с полудюжиной матерен и полудюжиной отцов, так чтобы его собственные отец и. мать растворялись в некотором родительском мареве. Чаще всего он видит своих собственных родителей, другие родительские пары, видит в маленьких сплоченных семейных группах. Обычай передавать ребенка из дома в дом объясняет ту легкость, с какой он откликается на любое проявление участия к нему. Будьте с ним ласковы в течение получаса, и маленький арапеш последует за вами куда угодно. Приученный считать весь мир вполне безопасным местом для прогулок, он беззаботно последует за всяким, кто пощекочет ему животик или почешет его вечно зудящую спинку. Дети перекатываются по земле от одного дружески расположенного взрослого к другому, усаживаясь рядом с тем, кто обратит на них внимание.
От ребенка никто не требует, чтобы он рос побыстрее или приобретал какие-то особые навыки. Соответственно нет и каких-то специальных методов физического воспитания детей. Им позволяют приниматься за дела, которые выше их возможностей,- пытаться взбираться на высокую лестницу, зная, что на ее середине нервы ребенка сдадут, или возиться с ножом, зная, что ребенок порежется, если не наблюдать за ним постоянно. Здесь, однако, имеется одно исключение. Маленьких девочек учат носить тяжести. Небольшие, но емкие мешки кладут им на голову, когда они еще так малы, что матери, беря их с собой, по большей части носят их на спине. Им позволяют в качестве поощрения переносить вещи родителей, и они привыкают видеть в переноске грузов почетный признак взрослости. Но за этим единственным исключением, все физическое воспитание детей хаотично. Малютка пытается вскарабкаться по бревну с насечками, служащему в качестве лестницы дома. Охваченный страхом, он вопит, и сразу же кто-то бросается подхватить его. Ребенок спотыкается и падает; его поднимают и утешают ласками. В результате у ребенка растет чувство уверенности, что другие придут на помощь, а не вера в собственные силы. Он живет в холодном, влажном мире, полном ловушек, скрытых корней и камней на тропинках, о которые могут споткнуться маленькие ножки. Но всегда найдутся чья-то добрая рука, ласковый голос, которые ему помогут. Требуется только вера в людей вокруг тебя. Что делаешь ты сам, не имеет большого значения.
Все это отношение к инструментам, к владению телом находит свое выражение позднее в случайности, несовершенстве навыков взрослых. У арапешей нет четко определенных трудовых приемов. Даже узлы, с помощью которых они связывают части дома, различаются друг от друга и выполняются различным образом. Когда они замеряют какую-нибудь длину, они почти всегда ошибаются, и, вместо того чтобы исправить ошибку, они подгоняют всю конструкцию к ней. Их дома построены небрежно и асимметрично. Их немногие ремесленные изделия - циновки, корзины, браслеты и пояса - грубы и несовершенны. Они постоянно получают превосходно сделанные предметы, но, работая с этими образцами, либо портят их очертания грубым копированием, либо же вообще отказываются от задачи воссоздать оригинал. Их глаз и руки не прошли никакой школы.
Живопись - это, пожалуй, то, в чем они преуспели больше всего. Широкий, импрессионистский стиль письма на больших кусках коры дает возможность особо одаренным людям создавать на них очаровательные узоры, почти не опирающиеся на традицию. Но искусство такого рода не оказывает серьезного влияния на неверие этого народа в собственные силы, оно не снимает их постоянную зависимость от художественного творчества других народов. Арапеши считают себя неспособными к нему. Детей в лучшем случае учат с энтузиазмом подхватывать, получать легкое и быстрое наслаждение от яркого цвета, новой мелодии. И это отношение они заимствуют от взрослых, реакцией которых на цветную картинку из американского журнала всегда было не "что это такое?", а "ох, как мило!".
Постоянные перемещения с одного места на другое отражаются на жизни детей. Они не привыкли к достаточно большим детским группам, чтобы играть в совместные игры. Вместо этого каждый ребенок льнет к какому-нибудь взрослому или же к старшему брату или сестре. Длительные переходы с одного огорода на другой или же с огорода в деревню их утомляют, и, придя домой, где мать готовит ужин, а отец сидит сложа руки и сплетничает с соседом, ребенок усаживается рядом и начинает играть на губах. Детских игр почти нет. Маленьким детям позволяют играть друг с другом лишь до тех пор, пока они не ссорятся. Взрослые вмешиваются сразу же, как только между ними возникает малейший спор. Зачинщика или же обоих детей, если второй ребенок противостоял нападению, уволакивают с поля боя и держат крепко. Сердитому ребенку позволяют пинаться и кричать, кататься в грязи, бросать камни и поленья на землю, но ему не дозволено прикасаться к другому ребенку. Этот обычай вымещать свою ярость на каких-то предметах сохраняется и у взрослых. Рассерженный человек будет целый час барабанить в гонг или же рубить свои собственные пальмы.
Все воспитание маленьких детей сводится не к тому, чтобы учить их владеть собой, а к тому, чтобы выражение их эмоций не могло повредить никому, кроме них самих. У девочек выражение гнева притормаживается раньше. Матери делают им прелестные травяные юбочки, которые при потасовке будут запачканы. У них на головах плетеные сетки, содержимое которых жалко растерять. Вот почему маленькие девочки привыкают управлять своими приступами ярости и слез значительно ранее, чем маленькие мальчики, которые могут кататься по грязи и вопить в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, не испытывая ни малейшего смущения. Половые различия в этом вопросе усиливаются и еще двумя моментами. В возрасте четырех-пяти лет мальчики имеют тенденцию переносить свои привязанности на отцов; они повсюду следуют за ними, спят у них на руках и очень зависят от них. Но мужчина в еще меньшей степени, чем женщина, может повсюду таскать с собой ребенка. Поэтому мальчика чаще оставляет тот, от кого он зависит, он чаще бьется в истерике, когда его отец собирается в дорогу. Когда он становится постарше, отец временами оставляет его не на попечение матери или же своей второй жены, которую мальчик также называет матерью, но под присмотром старших братьев. В этом случае ребенок чувствует себя еще более заброшенным. Малейшее поддразнивание его старшими мальчиками, а в особенности отказ в пище приводит к приступу ярости. Здесь как бы восстанавливается старая травмирующая ситуация, когда мать оставляла ребенка одного на целые часы, и он стремился детскими припадками ярости вызвать некоторое следствие - любящего и кающегося родителя. И частично оп преуспевает в этом, ибо все, включая поддразнивающих его братьев, ошеломлены его страданиями и делают все, чтобы его утешить. Девочки, однако, раньше включаются в труд семьи; им чаще поручают присмотр за маленькими детьми, а так как они реже делают отцов предметом своих главных привязанностей, они не страдают от этого второго отнятия. Характерно, что три маленькие девочки, дававшие волю своему чувству гнева, как мальчики, были дочерями отцов, не имевших сыновей, а потому и воспитывавших их, как мальчиков. Поводом для этих вспышек всегда служила отправка отца на охоту, в поход по торговым делам, на поиски злого колдуна, погубившего своими чарами его родственника. Тогда девочки срывали с себя свои травяные юбочки и катались в грязи со столь же полной готовностью, как и их братья. Но обычно девочек не подвергают мучениям этой процедуры "второго отнятия от груди". Уже во взрослом возрасте, когда умрет их супруг, им снова предстоит пережить травмирующий опыт вдовы, лишившейся поддержки, пережить иногда с сильными эмоциональными нарушениями. Но этот опыт выпадает на долю не всякой женщины и приходится на значительно более позднюю пору ее жизни.
Есть и еще одно обстоятельство. Симуляция злобы и вызова в публичных речах считается признаком поведения "большого человека" - он потрясает копьем, топает ногами, кричит. Но тем самым мальчик сталкивается с моделью агрессивного поведения, с той моделью, которой нет у маленькой девочки. Мальчик же слишком мал, чтобы понять, что поведение "большого человека", по крайней мере в теории, просто театральное представление.
Все эти взрывы темперамента почти всегда вызываются каким-нибудь тревожным чувством или отказом: ребенку отказывают в просьбе, не позволяют сопровождать кого-нибудь, его отталкивает или ругает старший ребенок, его отчитывают или, что важнее всего, ему не дают пищи. Вспышки раздражения, следующие за отказом в пище, самые многочисленные и самые интересные, потому что в этом случае ребенка нельзя утешить, дав ему пищу, в которой ему ранее отказали. Отказ в желанном кокосовом орехе или кусочке сахарного тростника вызывает целую цепь реакций, сила которых такова, что их нельзя остановить, просто предложив ребенку пищу. Ребенок может рыдать часами, становясь беспомощной жертвой ситуации, в которой ему не могут помочь и родители. Приступы ярости по этому поводу служат отводными каналами реакции гнева на враждебный акт со стороны другого, а определенная система воспитания, направленная на подавление агрессивности ребенка по отношению к другим детям, дополняет эту картину.
Родительское неодобрение схваток между детьми всегда выражается в упреках, взывающих к родственным чувствам: "Что же ты, младший брат, хочешь ударить старшего?", "Что же ты, сын сестры его отца, хочешь ударить сына брата своей матери?", "Нехорошо, что два двоюродных брата дерутся друг с другом, как маленькие собачки". Дети не проходят школы жестокости, того, что мы называем спортивным духом с его готовностью вступить в борьбу,- черта характера, с точки зрения нашего общества, наиболее созвучная с мужским темпераментом. Мальчики у арапешей защищены от агрессии и драк, от грубых дисциплинарных мер со стороны старших детей и раздраженных родителей, их воспитывают так же, как нежно лелеемую маленькую дочурку у нас. В результате такого воспитания мальчики у арапешей никогда не становятся "хорошими спортсменами": удар или даже резкое слово тяжело ранит их чувства. Малейшая насмешка принимается за проявление враждебности, а взрослые мужчины рыдают в ответ на несправедливое обвинение.
Они уносят с собой во взрослую жизнь страх перед любым расколом среди товарищей. В данной культуре существуют несколько способов внешнего символического выражения откровенного разрыва, общепризнанные знаки разногласия, с помощью которых овладевают ситуацией, не доводя дела до действительно личной схватки между двумя заинтересованными сторонами. Этими знаками пользуются редко. Их применяют, например, в тех случаях, когда муж придет к окончательному выводу, что его жена не умеет выращивать свиней. Это очень серьезное решение, ибо искусство выращивать свиней - своего рода венец социальных достижений женщины. В данном случае дело еще более осложняется тем, что речь всегда или почти всегда идет не об их собственных свиньях, а о свинье, принадлежащей одному из ее родственников или родственников мужа. Гибель свиньи от болезни, от ястреба, от удава, ее пропажа - серьезная трагедия, за которую муж должен наказать свою жену. Если такие случаи повторяются и всем ясно, что она не в состоянии выращивать свиней, он ставит соответствующий знак у ее дверей. В кусок коры, ранее служивший корытом для свиней, он вонзает копье, к которому привязывает кусок ямса, кусок таро и т. п. В углы корыта он вонзает стрелы. Теперь все знают его отношение к этому делу, но ему нет никакой необходимости обсуждать этот вопрос со своей женой. А если она дуется, то приходится ей это делать в ситуации, потерявшей личностный характер, в ситуации, ставшей формальной. Таким же образом дело происходит между родственниками, действительно гневающимися друг на друга: наиболее разъяренная сторона подвешивает у своих дверей памятный знак - связку кротоновых листьев. Это значит, что отныне он отказывается есть вместе с оскорбившим его родственником. Для того чтобы удалить этот формальный знак разрыва, человек, вывесивший его, должен забить свинью. Точно так же и какой-нибудь буаньин, для которого стал невыносимым весь этот институт буаньинства, может отказаться от своих обязанностей, положив резную деревянную чашу, отороченную маленькими веточками, на агеху. Тем самым он дает знать всем, что он порывает отношения с буаньином из соседней деревни. Но все эти высокостилизованные методы разрыва отношений применяются редко. Человек думает дважды, прежде чем решится предпринять такой суровый шаг и поставит себя в положение, связанное с большими неудобствами, выход из которого достаточно дорогостоящ.
Страх и состояние напряженности, вырастающие из любого внешнего проявления гнева, вплетаются и в представления, связанные с колдовством. Рассерженный человек не может ударить другого, не может дать выход своему гневу в оскорблениях. Но в отместку он может на какое-то время прибегнуть к поведению, уместному по отношению не к родственнику или же жителю той же самой местности, но к жителю равнин, чужаку и врагу. Дети арапешей вырастают, деля людей в мире на две большие категории. Первая категория - это родственники - триста-четыреста человек, жители их собственной местности и жители деревень в других местностях, связанные с ними брачными отношениями и длинными генеалогическими линиями жен и детей, наследственных торговых партнеров их отцов. Вторая - чужаки и враги, обычно называемые варибим, люди с равнин, буквально "люди с приречной земли". Эти люди с равнин играют в жизни детей двоякую роль - пугала, которого надо страшиться, и врага, которого надо ненавидеть, высмеивать, перехитрить,- существ, на которых переносится вся враждебность, запрещенная в отношениях между членами своей группы. Дети слышат бормотание и проклятия своих родителей, когда наглый человек с равнины проходит мимо них; они слышат, как несчастья и смерти вменяются в вину колдунам. Когда им всего лишь пять лет или около того, их предостерегают: "Никогда не оставляй недоеденную пищу в том месте, где есть чужаки. Если ты ломаешь стебель сахарного тростника, то позаботься о том, чтобы никакой чужак не увидел этого. Иначе он вернется, вырвет стебель и заколдует тебя. Если ты ешь орех арековой пальмы, то будь осторожным и не бросай часть ореха вместе со скорлупой. Если ты ешь жесткий ямс, то съедай его весь, не оставляй ни кусочка чужаку, который может захватить его и воспользоваться им против тебя. Когда ты спишь в доме, где есть чужаки, то ложись лицом вверх, чтобы ни одна капля твоей слюны не упала на кору. Ее могут захватить и спрятать чужие люди, враги. Если кто-нибудь дал тебе поглодать кость опоссума, то держи эту кость при себе до тех пор, пока ты не сможешь спрятать ее так, чтобы никто не видел, где ты ее прячешь". И маленькому мальчику дается корзинка из пальмовых листьев, маленькой девочке - крошечная сеточка, в которой они должны носить остатки пищи, чтобы они не попали в руки врагов. Эти постоянные напоминания о "грязи" превращают ее в навязчивую идею любого арапеша. За едой, жуя орехи арековой пальмы, куря, в половом акте арапеш постоянно озабочен тем, как бы не оставить при этом часть своего существа, часть, которая может попасть в руки врагу и явиться причиной его болезни или смерти. Страх перед болезнью, смертью, несчастьем придает этим заботам о собственной "грязи" воистину драматический характер. Ребенку внушается, что враждебность, как таковая, чувство, существующее только в среде чужаков, и главным способом ее выражения является кража кусочка "грязи". И именно это представление о связи страха и злобы с определенным типом поведения оказывается навязчивой идеей взрослого арапеша.
Предположим, что какого-нибудь человека обидел один из его братьев или же с ним сурово обошелся его кузен, поведя себя не так, как должен вести себя родственник. На какое-то мгновение оп становится "врагом", "чужаком". У оскорбленного человека нет чувства меры: он не был воспитан в тесном семейном кругу ближайших родственников и менее тесном кругу менее близких родственников. Его не приучили вести себя различным образом по отношению к родному брату и брату жены. Ему известны только две категории поведения - поведение членов своей собственной широкой и внушающей ему доверие группы и поведение врага. Брат, на которого он сердит, на время относится им к числу врагов, он крадет его "грязь" и передает в руки жителей равнин. Практически вся "грязь" горцев, попадающая в маленькие хижины колдунов с равнин, крадется не ими, а самими горцами, рассерженными братьями, кузенами и женами. Это очень хорошо известно горным арапешам. Когда они хотят установить, колдун из какой деревни владеет "грязью" больного человека, они перебирают его торговых партнеров и думают, кому из них недавно он дал повод для злобы. Но когда человек умирает, то ответственность за его смерть не возлагается на человека, укравшего "грязь". Считается, что он уже давным-давно забыл о своей злобе. Вместо этого винят волшебника, поведению которого рассерженный человек подражал, подражал непроизвольно в минуту ярости на своего друга.
Таким образом, отсутствие каких бы то ни было промежуточных способов выражения обиды и деление всех людей лишь на две категории - близкого друга и заклятого врага - толкают арапешей на такое поведение, которое они сами впоследствии объявляют неверным, дерзким, необъяснимым минутным помешательством. А отсутствие в жизни арапешей любого жесткого спорта, любых безобидных ссор между детьми делает арапеша особенно ранимым, когда оп сталкивается с малейшими выражениями гнева. Если это происходит, он впадает в состояние страха и паники, за которыми с большой вероятностью воспоследует попытка осуществить навязчивую идею - украсть "грязь". Когда кто-нибудь рассказывает о таком поступке, то делается это без всякой аффектации, так, как если бы человек описывал непроизвольное движение глаз в присутствии яркого света. "Он был против меня. Он помог людям, которые унесли мою мать. Оп сказал, что ей следует остаться замужем за тем человеком. Он никак мне не помог. Я жил с ним в доме дяди. Он ел кусок мяса кенгуру, отложил в сторону кость и забыл ее. Затем он встал и вышел из дома. Я увидел, что никто на меня не смотрит. Я протянул руку, схватил кость и быстро спрятал ее в мою корзинку. На следующий день я встретил человека из Дуниги, которого я зову дедом, и отдал ему эту кость. Я только отдал ее ему и не дал вместе с нею кольца". (Если кусочек "грязи" дается колдуну без платы за его услуги, то предполагается, что он не приступит сразу же к своим заклинаниям, а будет ждать до тех пор, пока удержанная плата не будет вручена ему либо самим передавшим кусок "грязи", либо кем-то еще более разъяренным. Практически гонорар такого рода никогда не платится колдуну, но факт неуплаты приводится в качестве извиняющего обстоятельства.) Подобные истории рассказываются ровным, бесстрастным голосом, голосом, не выражающим ни гордости, ни угрызений совести, голосом, отрицающим какую бы то ни было подлинную причастность к совершенному. Поступок, заученный в детстве, просто воспроизводится во всей его целостности.
Вернемся снова на игровую площадку детей. Когда дети подрастут, они начинают играть в разные игры. Но среди их игр нет таких, которые бы поощряли агрессивность и соперничество (* Сейчас молодые люди, вернувшиеся с работы но найму, играют в футбол, используя вместо мяча плоды лайма^12). Они не бегают наперегонки, не играют в игры, требующие деления на две команды. Вместо этого они играют в опоссумов, в кенгуру или же в спящего казуара, которого вспугивают другие казуары. Многие из игр очень напоминают игры самых маленьких детей в детских садах - игры, сопровождаемые песнями и представляющие собой простую пантомиму сбора урожая саго. Но даже и в такие игры дети играют очень редко. По большей части поводом собрать детей в большие группы оказывается не игра, а праздник с танцевальным церемониалом. Роль зрителей на таких праздниках захватывает детей куда больше. К этой роли с самых ранних лет их приучила игра на губах. И они еще малютками танцевали на плечах у своих матерей и теток ночи напролет. На этих танцах, отмечающих завершение каких-нибудь работ (сбор ямса, охотничий поход), женщины предпочитают танцевать с детьми на плечах. Женщины па этих церемониях то танцуют, то сидят спокойно, покуривая у своих маленьких костров, а маленькие дети передаются от одной танцующей к другой. И так они танцуют всю ночь, подпрыгивая в полудреме на плечах танцующих женщин. Младенцы очень быстро привыкают спать, сидя на шее у взрослых и поддерживаемые их рукой. Не просыпаясь, они приспосабливаются к любому движению взрослого. Весь ранний опыт приучает их к тому, чтобы быть частью общей картины, предпочитать своим собственным активным детским играм пассивное участие в жизни общины.
В групповой жизни детей имеется одно ясно выраженное различие, связанное с полом, различие, сохраняющееся на всю жизнь. Маленьких девочек в основном используют для переноски тяжестей, прополки, сбора пищи и хвороста. Всякий раз, когда собирают урожай или устраивают праздник, то реквизируют всех маленьких родственниц, и целая стая маленьких девочек собирается вместе, для того чтобы хорошо потрудиться день или два. Но события такого рода и являются практически единственной возможностью для них собраться вместе, ибо в день праздника они даже более заняты, чем в дни других совместных работ. После целого дня подноски тяжелых грузов, когда они идут с крепко сжатыми челюстями и бусинками нота на лбу, они даже не в состоянии болтать. И ближайшие подружки в возрасте одиннадцати-двенадцати лет немедленно засыпают в объятиях друг друга на одной лубяной постели. Толпы людей и тяжелая работа тесно ассоциируются в их сознании, а приятные беседы и свобода от изнурительного труда связаны, в их представлении, с небольшими группами близких родственников, собравшихся у вечернего очага в деревне - резиденции клана.
У мальчиков прямо противоположный опыт. Они работают не в группах. Они сопровождают отца или старших братьев на охоте или же в кустарнике при сборе трав, материала для плетения или же древесины для строительства. Группа, состоящая из одного мальчика и двух взрослых,- вот типичная трудовая группа мальчика. Когда взрослые не устраивают таких походов в заросли, два, три или даже большее число мальчиков могут собраться вместе, чтобы изготовить игрушечные луки и стрелы, пострелять в ящериц или в мишени, сделанные из ярких плодов цитрусовых, установить ловушки для крыс или же понаделать хлопушек и трещоток. Время, проведенное в компании товарищей своего возраста, для них наиболее беззаботное, приятное время. Это и может объяснить большее беспокойство мужчин, когда они подолгу остаются в своих маленьких деревнях, их постоянное желание сорваться с места и навестить своих братьев и кузенов. Большее желание мужчин ходить в гости - постоянный повод для шутливых упреков женщин в адрес своих мужей. Муж, слишком любящий навещать родственников, получает от своих жен прозвище "бродяги" или "непоседы". Одна из форм, в которой проявляется легкая нервная неустойчивость у арапешей,- это сверхчувствительность к социальному окружению. Она может проявиться у человека либо в стремлении к отшельнической жизни, к жизни в густых зарослях, либо же в странствованиях по праздникам, в неспособности противиться звукам самых отдаленных барабанов.
В детях воспитывают уважение к чужой собственности и спокойную защиту своей, но отнюдь не дух стяжательства. Детей порицают, если они причинят вред собственности другого, и мягкие, но настойчивые напоминания: "Это принадлежит Балиду, будь осторожнее", "это дедушкина, не сломай ее" - сопровождают их, когда они знакомятся с вещами в чужих домах. Но здесь нет "не тронь, это не твое!", постоянного раздраженного окрика матерей у народа манус. Арапеши не подчеркивают различия между "моим" и "твоим", они скорее обращают внимание детей на необходимость быть осторожными с чужими вещами. Ребенку дают все, что он требует, и итогом этого часто оказываются поломанные материнские серьги или распущенное ожерелье из зубов бандикута. Дом, где живет ребенок, это не запретный мир, наполненный сокровищами, к которым ему запрещено прикасаться,- система, приводящая в конечном счете к тому, что эти вещи приобретают в глазах ребенка чрезвычайную важность. Если родители обладают чем-то таким, что ребенок может сломать, то они надежно прячут эту вещь, так что тот никогда ее не потребует. Подобное отношение к собственности очень хорошо иллюстрирует один случай. Я показала им красный воздушный шарик. Такого чистого и красивого цвета эти люди никогда не видели. Дети закричали от восторга, и даже взрослые затаили дыхание. Но затем они сказали печально: "Лучше спрячь его. У тебя, конечно, не так много таких красивых вещей, а маленькие будут требовать их".
Когда ребенок становится старше, ему говорят, что резная деревянная тарелка, употребляемая только на праздниках, или же головной убор из перьев райской птицы, в котором танцует его отец, принадлежат ему, ребенку. Но родители продолжают пользоваться его вещами. Отец берет его в заросли и показывает ему участки молодого саго, именует их и говорит, что они также принадлежат ему. Таким образом, "владеть чем-то" приобретает смысл обладать какими-то вещами в будущем, вещали, которыми сейчас пользуются другие и которые тебе еще не принадлежат. Когда ребенок вырастет, он точно так же скажет своим детям, что все его имущество принадлежит им. При такой системе ни у кого не развивается агрессивное чувство собственности, а воровство, запертые двери и примитивный эквивалент замков - черная магия, охраняющая собственность,- практически неизвестны. У арапешей есть несколько защитных магических средств для огородов, но их первоначальный смысл настолько утрачен, что, вывешивая их на огороде, арапш думает защитить огород и от аппетитов собственных жен и детей.
6. Взросление и помолвка девочки у арапешей
Мальчик-арапеш выращивает свою жену. Как отцовские справа на, ребенка основываются не на том, что он зачал его, а на том, что он его выкормил, так и основанием прав мужа на внимание и привязанность жены оказываются не выкуп, уплаченный за нее, не его юридическая собственность на нее, по тот факт, что в самом буквальном смысле он дал ей пищу, ставшую плотью и костью ее тела. Помолвка у арапешей происходит между девочкой семи-восьми лет и мальчиком лет на шесть ее старше. После помолвки она переходит жить в дом будущего супруга. Здесь свекор, будущий супруг и все его братья общими силами выращивают маленькую невесту. На супруга-подростка, в частности, выпадает обязанность выращивать ямс, саго, охотиться, чтобы кормить свою жену. Его права на нее в будущем основываются прежде всего на этом. Если она ленива, угрюма или перечит ему, он может напомнить ей о своих правах на нее: "Разве не я обрабатывал саго, разве не я выращивал ямс, разве не я убивал кенгуру, из которых сложилось твое тело? Почему же ты не несешь хворост?" А в тех исключительных случаях, когда планируемый брак расстраивается в связи со смертью жениха, а выросшая девочка становится невестой другого, брачные связи никогда не считаются столь прочными. Точно так же дело обстоит и тогда, когда мужчина получает по наследству вдову одного из своих родственников. Его пищевой вклад в ее рост бывает очень незначителен, особенно если она старше, чем он, и браки такого рода, за которыми не стоит самое важное из признаваемых данной культурой оправдание, менее устойчивы.
Арапеши считают, что родители, вырастившие детей, должны обладать определенными правами на руководство их поведением. На тех же самых основаниях они считают, что мужья, вырастившие своих жен, должны обладать правами контроля за ними: они вырастили их, они отвечают за них, они старше и опытнее. Вся организация общества у арапешей построена на аналогии между детьми и женами как более молодой, менее ответственной группой, которой поэтому следует руководить. Отношение жен к их супругам, а также к отцам, дядям, братьям мужей, фактически ко всем старшим мужчинам клана, в который они вошли, это отношение ребенка к взрослому. Еще до того как маленькая девочка осознает свой пол, в то время, когда она все еще худенький, неразвившийся ребенок, глаза отцов и дядей из другого клана начинают останавливаться на ней, дружелюбно оценивая ее как вероятную жену одного из своих подрастающих парней. Так как выбор падает на маленьких девочек, то именно на них и изливают арапеши свои самые романтические чувства. Молодые мужчины могут с энтузиазмом обсуждать женские чары какой-нибудь пятилетней девочки и сидеть, завороженные кокетством какого-нибудь младенца, которого мать для забавы одела в травяную юбочку. В выборе такого рода нет сексуальных моментов. Рассматривать ребенка в качестве объекта сексуального интереса никогда бы не пришло в голову арапешу. На девочку обращают внимание так рано просто потому, что после девяти-десяти лет она уже перестает быть возможной кандидатурой в жены для него или же для его сына, становясь невестой другого. Лишь после того как она станет вдовой, о ее привлекательности снова можно будет думать. Вот почему матери временами наряжают своих крошечных дочурок, а разговоры в группе больших мальчиков замолкают, когда маленькие девочки проплывают мимо них, шурша своими нарядными травяными юбочками.
Когда отец выбирает жену сыну, им движут многие соображения. Прежде всего, где ее выбирать - близко к дому, в соседней деревне, в клане, с которым уже существуют брачные связи? Последнее хорошо. Хорошо, чтобы брат и сестра соединились брачными узами с братом и сестрой, чтобы клан, отдавший двух своих девочек другому, получил от него взамен также двух девочек. Здесь нет жестко установленных правил.. Браки среди арапешей строятся прежде всего исходя из соображений их устойчивости, и потому они не связаны ни с какой жесткой системой, которая соединила бы двух молодых людей неподходящего возраста. Как правило, отец прежде всего ищет невесту сыну в собственной деревне. Мужчины обоих кланов уже соединены родственными связями и будут только рады их углублению. Но этим соображениям можно противопоставить выгоды и преимущества браков между людьми, живущими в разных деревнях. Браки такого типа расширяют сферу дружеского участия, в пределах которой следующее поколение будет находиться в безопасности, будет всегда уверено в том, что найдет приют и обогреется во время своих трудных странствий. Брак, заключенный между жителями двух отдаленных мест, надолго, а если повезет, то и навсегда свяжет их. Потомство от этого брака будет помнить место рождения своей матери, называя всех мужчин из материнской деревни "дедушками", почтительно приветствуя их, когда они приходят на праздники. Кроме того, если невеста родом из деревни, расположенной ближе к побережью, она может обладать особыми навыками и умением, которым она обучит своих детей и детей родни мужа. Именно так пришел к горцам секрет изготовления вулуса - тщательно отделанной, и декорированной травяной юбки, принесенной пять поколений тому назад людям из Суабибиса невестой из Дагуара. Но этим соображениям противостоит страх перед колдовством. Выбери жену среди чужаков, позволь своей дочери уйти к чужакам, и возможно, что страх и связанное с ним непроизвольное обращение к черной магии в минуты гнева или испуга разрушат брачные планы. Вот все эти "за" и "против" и перебирают отцы и дяди, взвешивая их.
В самой же девочке они ищут вполне определенные качества. У нее должны быть хорошие родственные связи - много мужчин - хороших охотников, искусных огородников, людей выдержанных и мудрых. Отец, выбирающий жену для своего сына, выбирает тем самым, что не менее важно, и его шурина, дядю с материнской стороны своим внукам. Вместо того чтобы считать брак необходимым злом, как это бывает у стольких народов, неудачным компромиссом, делающим неизбежным появление чужака в доме, арапеш прежде всего видит в нем возможность увеличить сферу родственного тепла, сферу, в которой его потомки будут жить с большей безопасностью, чем он сам. Эта установка очень ясно выражается в их отношении к инцесту. Единственным, что удалось мне узнать от них по этому вопросу, был ряд весьма эзотерических афоризмов.
Свою собственную мать,
Свою собственную сестру,
Своих собственных свиней,
Свой собственный, сложенный в кучи ямс (* Это относится не к обычному ямсу, а к ямсу, выставленному во время церемонии абуллу и распределенному среди общины на семена):
Ты есть не смеешь.
Матерей других людей,
Сестер других людей,
Свиней других людей,
Ямс других людей, сложенный в кучи,
Ты можешь есть.
Эти афоризмы превосходив передают отношение арапешей к эгоизму. Они почти отождествляют человека, употребившего в свою пользу избыток урожая ямса, с человеком, совершившим инцест. С другой же стороны, использование для собственных целей матери или сестры для них столь же антисоциально и отвратительно, как тайное накопительство. Но эти нравственные прописи были высказаны мне для того, чтобы объяснить, как должен вести себя человек со своим избыточным урожаем ямса, и никто никогда не отвечал так на мои вопросы об инцесте. Местная логика рассуждения состояла в том, чтобы учить людей, как себя вести в отношении ямса и свиней, указывая на хорошо известные им правила поведения в отношении родственниц. На вопросы об инцесте я не получала таких ответов, с которыми я сталкивалась во всех примитивных обществах, где мне доводилось работать,- резкое осуждение и скандальное разоблачение случая инцеста в соседнем доме или соседней деревне. Здесь не было ни резких осуждений, ни обвинений. Вместо этого мне говорили: "Нет, мы не спим с нашими сестрами. Мы отдаем наших сестер другим мужчинам, а те отдают нам своих сестер". Все было очевидно, все было очень просто. Почему я так много спрашиваю об этом? Я спрашивала, а не слышали ли они о каком-нибудь случае инцеста? Один человек сказал мне наконец, что он слышал. Он совершал далекий поход в Аитане и там в деревне чужого племени услышал ссору: мужчина сердился на свою жену, которая отказывалась жить с ним и упорно возвращалась к своему брату, с которым сожительствовала. Это ли я имею в виду? Именно это я имела в виду. Нет, у нас этого нет. А что сказали бы старики, если бы молодой человек захотел жениться на своей сестре? Кто знает. Старики никогда не обсуждали этого вопроса. Мне удалось отправить их с этим вопросом к старикам. Стариков спрашивали по очереди. Ответ был единодушным: "Что, ты хочешь жениться на своей сестре? Что с тобой? Разве тебе не будет братом ее брат? Разве ты не понимаешь, что если ты женишься на сестре кого-нибудь, а еще кто-нибудь женится на твоей сестре, то у тебя будет два брата? А если ты женишься на своей собственной сестре, то у тебя не будет ни одного. С кем же ты будешь охотиться, с кем работать на огороде, к кому ты будешь ходить в гости?" Таким образом, инцест рассматривается арапешами не с ужасом и отвращением, как искушение плоти, но как глупый отказ увеличить с помощью брака число радостей и число людей, которых можно любить и которым можно доверять.
Вот почему отец, выбирая жену своему сыну, принимает в расчет и ее братьев, и ее кузенов, которые станут друзьями сына в будущем. Хорошо, если их много. Посмотрите-ка сейчас на Адена, который остался одиноким из-за ряда глупых поступков. Отец и мать Адена были двоюродными братом и сестрой и представителями вымирающих линий. У Адена вообще не было родственников, кроме двух дядей по материнской линии. Один из них был слабоумным, а второй из-за одиночества ушел из деревни и стал жить с родственниками своей жены. А затем и Аден совершил необычный поступок: он женился на двух сестрах. Мужчине не запрещено жениться на двух сестрах. В данном случае сестра жены Адена осталась вдовой и не хотела выходить замуж ни за какого отдаленного родственника ее прежнего мужа. Она предпочла вернуться в Алитоа и жить со своей сестрой. В конце концов Аден и на ней женился. Но именно это и было глупостью со стороны человека, находящегося в столь опасном положении, как Аден. Тем самым он упустил возможность обзавестись второй группой братьев по линии жены и оказался в полной зависимости от уже имевшихся родственников. Когда его единственная дочь Сауисуа подросла, никто не проявлял особого рвения взять в качестве невестки девочку, у которой так мало родственников.
Отец девочки, принимая предложения, делаемые его дочери, движим теми же самыми соображениями. Он неблагосклонен к предложениям, делаемым от имени юноши, у которого мало родственников. А так как отцы сыновей всегда очень озабочены тем, чтобы подобрать для них маленьких девочек, то, как правило, отцы дочерей осторожны, скептичны, упрямы. Переговоры они ведут, демонстрируя почти полную незаинтересованность: "Я уже отдал на сторону много дочерей. Что я имею от этого? Они уходят и живут далеко от меня, и я никогда не увижу их снова. Только мои сыновья со мной, утешение моей старости. Эту я хочу оставить при себе. Она еще очень мала, у нее совсем еще нет грудей. Почему я должен отсылать ее к чужакам?" А если дочь наделена всеми качествами, чтобы в будущем стать хорошей женой, он обязательно прибавит: "Она уже заменяет мать, когда приходят гости. Она проворно разжигает огонь и варит пищу. Нет, я не отдам ее на сторону". Маленьких девочек ценят главным образом по этим качествам. Охотно ли они берутся за работы по дому? Гостеприимны ли они или же лениво сидят и хмурятся, когда в дом приходят гости? От жены здесь прежде всего требуют отзывчивости, а не ума и красоты. Жена - это та, кто украшает дом мужа своей умелой и непринужденной заботливостью обо всех - о муже, его гостях, их детях; маленькая девочка, которая уже в шесть или семь лет "может заменить мать", делает заявку на то, чтобы стать желанной женой. Кроме того, у нее должен быть мягкий, хороший характер. Но это уже почти прямое следствие сказанного выше, ибо плохой характер, по мнению арапешей, прежде всего выражается в том, что человек "ничего не дает людям". И еще у нее должна быть чистая кожа. Девочка с больной кожей тоже со временем выйдет замуж, но ее помолвка произойдет позже, чем у других, и ее брак будет менее выгодным. Она выйдет замуж за юношу с небольшим числом родственников. Мальчик же с хроническим заболеванием кожи сможет жениться лишь по странному стечению обстоятельств. Его сторонятся другие дети, зовут его "заразным". Вокруг него образуется ореол злобного, несчастного человека, человека того тина, который среди жителей равнин становится колдуном, а среда горцев - посредником в передаче "грязи". Обосновывается это так: человек с болезнями кожи не может иметь жен, и поэтому, озлобленный и раздраженный, он становится колдуном. "У этого мальчика болезнь кожи, а потому он будет либо колдуном, либо поставщиком "грязи"" - таков людской приговор. Оскорбленный ребенок уходит в себя, зная, что путь его уже предначертан, что ему суждено быть чужаком, тем, кого никто не примет к теплому семейному очагу. Неприятный цвет больной кожи, ее отталкивающий запах настолько сильно задевают их чувствительность, что не оставляют никакого места ни для сострадания, ни для доброты.
Поэтому у арапешей некоторые мальчики, а не девочки знают, что им никогда не суждено будет вступить в брак. Как и у большинства других примитивных народов, проблема перспектив брака стоит в совершенно иной плоскости, чем в современной цивилизации. Каждая девочка, если только она не страшно изуродована - а таких остается жить очень мало,- выйдет замуж по крайней мере один раз. Если она останется молодой вдовой, она сочетается законным браком второй раз, даже если при этом ей и не придется делить семейное ложе со своим вторым супругом. Страх перед безбрачием, отчаянные попытки устроить брак своему ребенку свойственны в обществе арапешей не родителям девочки, а родителям мальчика. Он может остаться в полном одиночестве, о нем следует позаботиться. И прежде всего сын благодарен отцу за то, что тот нашел ему жену, нашел в том возрасте, когда он был еще очень молод и не мог решать свои проблемы сам.
Выбрать жену сыну называется "надеть сумку ей на голову". Соответствующая пантомима обычно не осуществляется в самом обряде, но в жизни это происходит в буквальном смысле итого слова. Маленькая девочка берется из дома ее родителей и остается в доме жениха. Здесь ее жизнь мало чем отличается от той, которую она вела дома. Она спит с родителями жениха, работает со свекровью, выходит из дома вместе со своими новыми родственницами. Она, может быть, лишь немного более робка, чем дома, если ее новая родня до этого ей была неизвестна. Но по большей части она живет среди тех, кого она уже хорошо знает. К своему юному супругу она испытывает полнейшее доверие. Непосредственность их отношений не омрачена никакими табу. Он для нее всего лишь еще один более взрослый мужчина, которого она должна слушаться и от которого она зависит. Для него же она - еще одна маленькая девочка, его собственная девочка, которой надо подать руку на трудном участке пути. Он приказывает ей разжечь его трубку или же накормить собаку. И все его братья так же относятся к ней, и на них распространяются ее привязанности. С младшими она возится и играет. Ко всем им она испытывает чувство теплой привязанности. Чувство, питаемое ею к жениху и его отцу, по сути дела, такое же, как и ее чувство к своему отцу и братьям. Непринужденность, отсутствие табу, страха - вот что характеризует все эти отношения. Она постоянно кочует между домом жениха и домом своих родителей, переходя туда, где устраивают пир или сажают таро. Она так же радостно возвращается в дом жениха, как идет в свой собственный. Девочки непринужденно и радостно описывают этот ритм их жизни. Вот как говорит об этом десятилетняя Анъюай: "Иногда я живу здесь, с моим отцом, иногда - в Ливо, с моим мужем. Родители сажают таро здесь, я иду сюда. Начинают сажать таро в Ливо, я иду в Ливо. Мой муж высокий, стройный, как Горуд". Я спросила ее: "Ты плакала, когда в первым раз пошла в Ливо?" - "Нет, я не плакала. Я очень сильная. У меня хороший муж. Я сплю в доме его отца и матери. Уна собирается выйти замуж за Магиеля. Магиель очень высок. Уна меньше меня. Она все еще проводит большую часть времени с отцом. Мидуайн собирается выйти замуж за Сеаубайята. Синабай называет его зятем. Ибавиос (вторая жена отца Анъюай) и мать живут в одном доме. Они обрабатывают один огород. Они не ссорятся. Завтра я пойду обратно в Ливо".
Если мы примем во внимание то, что в течение многих лет муж и жена живут вместе, как брат и сестра, то нам станет ясен один из решающих факторов отношения арапешей к сексу. Половые сношения у них не связаны с чувствами, резко отличными от тех, которые питают к собственной дочери или сестре. Они оказываются просто более законченным и полным выражением того же самого чувства. Они не считаются какой-то спонтанной реакцией человека на внутренние половые раздражители. Арапеши не боятся, что дети, предоставленные самим себе, вступят в половые сношения или же что молодые люди, собравшись в подростковые группы, начнут заниматься экспериментами в этой области. Единственные молодые люди, которые могут, как считают арапеши, проявить какую-то открытую сексуальную активность, это "муж и жена", обрученная пара, воспитанная в сознании того, что они должны быть супругами (или же, что реже, женщина и брат ее мужа). Когда маленькая девочка приближается к периоду полового созревания, мать и отец жениха начинают более строго наблюдать за нею - как в ее собственных интересах, так и в интересах юного супруга.
Потребность в таком надзоре основывается у арапешей на своего рода теории, по которой физический рост и половые сношения - антиподы. С этой теорией мы уже сталкивались, рассматривая табу, которыми окружено рождение и кормление ребенка. Если маленькая девочка, ныне соблюдающая табу только в отношении своих растущих грудей, вступает в половые отношения, ее рост будет задержан, она останется тощей и слабой, ее груди будут продолжать стоять, маленькие, упругие, непривлекательные, вместо того чтобы падать тяжелой роскошью - главный признак женской красоты у арапешей. В отношении этого маленькие девочки весьма щепетильны. Когда маленькие сестры и жены братьев работают вместе, протирая побеги саго между ладонями и сплетая их затем в новые травяные юбочки пли же чистя таро для ужина, они сравнивают красоту больших девочек. У Будагьель и Ваджубель красивые большие груди. Они, должно быть, очень строго придерживались табу и никогда не разрешали себе украсть даже самый маленький кусочек мяса. После того как к ним пришли месячные, они, должно быть, очень строго соблюдали и другие правила, ведь за ними наблюдал тамберан. Маленькие девочки не очень отчетливо представляют себе, в чем состоит такой надзор, но, как и непосвященные мальчики, они ничего не боятся. Не боятся потому, что девочка становится красивой после этого. Они знают, что девочка постится четыре или пять дней во время своей первой менструации, но как красив орнамент на ее новой травяной юбочке, когда после этого она показывается в деревне! Да к тому же Анъюаи спрашивала сестру ее мужа, что такое поститься, и та ей сказала: "Ты будешь спать большую часть времени и не заметишь, как пройдет время". У огня в менструальной хижине тепло. А посмотрите, что происходит с девочками, которые слишком рано вступают в половые сношения со своими мужьями. Посмотрите на Сагу, например, тоненькую, худенькую, как четырнадцатилетний подросток, а ведь она дважды была замужем, и у нее был ребенок, который умер. Он был такой крошечный и несчастный. Сагу в первый раз вышла замуж за юношу много старше себя и уехала в другую деревню. Он унаследовал права своего умершего брата на нее. Юноша "украл ее", то есть имел с ней сношения до того, как она созрела. Ее груди затвердели стоя и никогда уже не опадут. У нее родился ребенок от этого мужа, но умер. Тогда она убежала и вернулась к отцу. Она совсем не обязана была хранить ему верность, ведь не он же вырастил ее. Ее отец вновь выдал ее замуж за мужчину из соседнего клана, но тот вскоре умер. Между тем маленькая сестра Сагу, Кумати, была помолвлена с Майги, младшим братом ее второго мужа. Он был строен и красив, но не вырос еще. полностью. Сагу влюбилась в него и, движимая своим ненормальным половым опытом, соблазнила его. Старшие протестовали, но Сагу крепко привязала Майги к себе. Он только пожимал плечами на их угрозы. А теперь совершенно ясно, что эти угрозы оказались вполне обоснованными: он никогда не станет высоким, плотным мужчиной. Сагу разрешили выйти замуж за Майги, а маленькая Кумати, которая тогда еще жила с отцом, была помолвлена с младшим кузеном Майги. Все это очень непорядочно. И маленькие девочки, перетирая руками побеги саго, изображают своими толстыми маленькими губами гримасы неодобрения. У Сагу нет грудей, у нее, по-видимому, не будет и детей, а Майги никогда не станет высоким и сильным. Так себя не ведут. Если мальчик подождет, пока у его жены много раз не наступят месячные, может быть, это даже займет два года, только тогда ее груди будут готовы опасть, а ее первая половая связь расслабит те тонкие нити, которые связывают ее груди с vulva. Но если это наступит слишком рано, если ее жилка - так они называют hymen - будет разорвана до наступления месячных, тогда ее груди никогда не разовьются.
У арапешей есть способы остановить рост и созревание девочки, но они не очень действенны. Ее родители или же родители ее мужа берут маленький кусочек ее личности - кусочек полуизжеванного ореха арековой пальмы или же стебля сахарного тростника - и завертывают его очень плотно в кротоновый лист. Затем они прячут сверточек под балки дома. Пока он остается связанным, остается связанной и маленькая девочка: ее развитие задерживается. Нужда в таком магическом действии возникает тогда, когда родители, устраивающие помолвку, ошибаются в своих расчетах относительно возраста жениха и невесты. Эту ошибку сделать очень легко, так как родители обращают здесь очень мало внимания на возраст своих детей, и даже мать, говоря о своем первенце, один раз может сказать, что ему два месяца, а на следующий день скажет, что ему пять. Относительный возраст детей, воспитанных в различных общинах, как обычно бывает с помолвленными, определить особенно трудно. Вот почему иногда родители жениха сталкиваются с тревожными фактами: невеста созревает слишком быстро, и она скоро уже будет вполне готовой к половым сношениям, в то время как их сын еще недоразвит. Тогда-то и обращаются к магии. Однако в целом арапеши считают магию ненадежным средством решения весьма затруднительных ситуаций такого рода. Наблюдения показали ее ненадежность, и это самое главное. Чаще проблема решается тем, что быстро созревающую девочку переобручают со старшим братом ее бывшего жениха. Это решение весьма удачно. Жена-девочка в доме ее супруга привыкла относиться к нему и его братьям одинаково. Говоря о братьях, она называла их так же, как и мужа; она доверяла им, они тоже кормили ее, подавали ей руку, когда она спотыкалась, мягко отчитывали ее, когда она делала что-то неправильно. Вот почему перемены такого рода не ведут ни к каким осложнениям.
Маленькие девочки, беседующие о жизни, не считают возможный разрыв помолвки и обручение с новым мальчиком чем-то очень серьезным. По сути дела, в эмоциональном плане их выдают замуж за группу людей, а не за одного мужчину. Они становятся составной частью другой семьи, семьи, к которой они теперь принадлежат навсегда, даже после смерти. В отличие от очень многих народов Океании, у которых братья требуют тело своей сестры после ее смерти, арапеши погребают жену на земле, принадлежащей клану ее супруга, и ее дух остается с ним там, где обитает марсалаи этого клана. Супруг и сыновья выплачивают за нее ее роду, они "откупают мать", чтобы та навсегда осталась со своими мужем и детьми.
Первая менструация девочки и сопровождающий ее церемониал в большинстве случаев происходят в доме ее супруга. Но и ее братья играют в этом церемониале некоторую роль. За ними посылают. Братья девочки строят ей менструальную хижину, более крепкую и хорошо сделанную, чем такие же хижины у взрослых замужних женщин. У тех это жалкие конические постройки, сооруженные ими самими, без пола, очень плохие укрытия от холода и дождя. Но для этого случая в хижине настилается пол. Девочке приказывают сидеть, выставив ноги вперед и подняв колени. Ни в коем случае она не должна закладывать ногу за ногу. У нее забирают браслеты, серьги, плетеный пояс. Если все это совсем новое, то она получит их назад. Если же они поношены, то их режут па куски и уничтожают. Здесь дело не в том, что вещи считаются зараженными сами по себе; просто желают разорвать связь девочки с прошлым. За девочкой ухаживают взрослые женщины, ее собственные родственницы или родственницы ее супруга. Всю ее натирают жгучей крапивой. Ей приказывают свернуть один из больших листьев крапивы в трубку и засунуть ее в vulva. Считается, что это поможет ее грудям стать большими и сильными. В это время девочка не ест и не пьет. На третий день она выходит из хижины и стоит, прислонившись к дереву, а брат ее матери делает декоративные надрезы у нее па плечах и ягодицах. Разрезы эти делаются осторожно, в них не втирается ни земля, ни известь - обычный новогвинейский метод увековечения декоративных шрамов,- так что через три-четыре года от них почти ничего не остается. В это время, однако, любой незнакомец, пожелавший удостовериться, достигла ли девочка брачного возраста, может посмотреть на эти знаки. Каждый день женщины протирают девочку крапивой. Считается желательным, чтобы она постилась в течение пяти-шести дней, но женщины за ней внимательно наблюдают, и, если она сильно ослабела, пост прерывают. Пост сделает ее сильнее, но от слишком длительного поста она умрет. Церемонию поэтому ускоряют.
Отец жениха в это время дает ему наставления, какие церемониальные блюда он должен приготовить для невесты. К ним относится целый набор особых трав, и никто, кроме тех, кто уже готовил их для своей жены, не знает, как это делать. Это часть традиции арапешей - узнавать в необходимых случаях, как что-то сделать, от того, кто уже это делал. Много молодых мужчин, жены которых еще не достигли полового созревания, а сами они никогда не выступали в роли "братьев" своих достигших брачного возраста сестер, не участвовали прежде в церемонии этого рода. Когда о ней заговаривают, они чувствуют себя смущенно, тревожно. И это усиливает их чувство безмерной и неоценимой зависимости от традиции, носителями которой являются люди старше их. Что случилось бы, если бы этих людей не было, как они нашли бы чудодейственные травы, как приготовили бы их?
Отец приказывает юноше отыскать вьющееся растение нкумквебил, которое очень трудно порвать, крепкую кору дерева малипик, сок дерева карудик, сок хлебного дерева, маленький кустарник, называемый хенъякуп, и коконы гусеницы идуген. Все это крепкие вещи, и они сделают девочку сильной, сильной, чтобы готовить пищу, переносить тяжести и рожать детей. Затем юноше предлагают сделать суп из нарезанных трав, а также приготовить некоторые блюда из них с особо крепким ямсом, называющимся вабалал. А в это время женщины украшают девушку. Ее спину и плечи окрашивают красной краской. На нее надевают новую красивую травяную юбочку, новые ручные и ножные браслеты, ей дают новые серьги. Одна из женщин одалживает ей маленькую зеленую рогообразную раковину и алое перо, которое носят все замужние женщины, обозначая свои статус. Позднее ее супруг преподнесет ей ее собственное перо. Оно вставляется в отверстие в носовой перегородке, сделанное много лет тому назад, когда она была девочкой. Чтобы это отверстие не зарастало, она постоянно протыкала его палочкой или свернутым листом. И вот сейчас она готова войти на агеху и предстать перед глазами своего супруга и братьев, каждый из которых пришел сюда с подарком. Лук и стрелы, деревянные тарелки, плетеные сетки, кинжалы из кости казуара, копье - вот подарки, которые мужчинам ее клана следует преподносить девочке-подростку. Женщины надевают ей на голову сетку для переноски тяжестей, предварительно украсив ее листьями вейняла. Они вкладывают ярко-красный сердцеобразный лист ей в рот. Эти листья также используются в обряде посвящения в церемонии тамберан. Мужу приказывают принести жилку листа кокосовой пальмы и несколько мебу, цветов, пахнущих серой, на паре листьев алививас. Он ждет ее в середине агеху. Она выступает медленно, с опущенными глазами, пошатываясь от долгого поста, поддерживаемая женщинами. Ее супруг становится перед нею. Он наступает большим пальцем ноги на большой палец ее ноги. Он берет жилку листа кокосовой пальмы, она смотрит ему в глаза, а он сбивает старую сетку с ее головы, ту сетку, которую его отец надел ей на голову, когда устраивалась помолвка. Затем девушка выплевывает лист изо рта и высовывает обложенный, разбухший от поста язык. Муж протирает его корнями мебу. Затем девушка садится на кусок коры саговой пальмы; она садится осторожно, опираясь одной рукой, и сидит с вытянутыми вперед ногами. Муж дает ей завернутую в листья ложку и чашку того супа, который он для нее приготовил. Когда она делает первый глоток, оп должен поддерживать ее руку, поддерживает он ее и во время второго. После этого считается, что она уже достаточно сильна, чтобы зачерпывать суп самой. После того как она съест свой суп, он берет ямс-вабалал и разламывает его пополам. Она съедает половину, а вторую половину он кладет под стропила кровли дома - это своеобразная гарантия того, что она не будет относиться к нему как к чужаку и не выдаст его колдунам. Именно на этот случай он по традиции запасается частью ее самой. Этот кусочек ямса хранится до тех пор, пока женщина не забеременеет. Обряд с ямсом противоречит духу всей церемонии. Возможно, он заимствован у арапешей равнин. Только душевнобольные и слабоумные могли бы передать кусочек ямса, несъеденного невестой, колдунам.
Когда девушка поест, она садится в центр агеху. Ее братья кладут свои дары перед нею по кругу. Затем они берут факелы из кокосовых листьев, зажигают их и окружают девушку огнем. Они не знают, зачем они это делают. Это новый обряд, заимствованный с побережья, очень красивый сам по себе. Арапеши вне Алитоа, живущие ближе к равнинам, еще не усвоили его.
В течение недели ни она, ни ее муж не едят мяса. Затем девушка делает ложный пудинг из листьев, такой же, как делает мать новорожденного. Она выбрасывает его в кусты. После этого муж отправляется на охоту, и, если он добывает какую-то дичь, супружеская чета устраивает пир для всех, кто им помогал: для женщин, носивших хворост и воду, для тех, кто стегал ее крапивой, для тех, что принес цветную глину и разукрасил ее. В течение месяца девушка не ест мяса, не пьет холодной воды или же молока молодого кокосового ореха, не ест стеблей сахарного тростника. После этого все кончается. И в будущем она отправится в менструальную хижину без церемоний.
Эта церемония, официально завершающая детство девушки, отлична по характеру от обряда посвящения мальчика, хотя в них и много общих элементов - крапива, боль, которую они сами себе причиняют в гигиенических целях, удаление из общины и торжественное возвращение. Но мальчик при этом переходит от одного образа жизни к другому. Раньше он был мальчиком, теперь он мужчина, наделенный соответствующими обязанностями, и потому должен быть посвящен во все секреты мужчин. У девушки все остается почти так, как было прежде. Она уже в течение четырех-пяти лет прожила в доме своего супруга. Носила хворост и воду, полола, сажала и убирала таро и овощи, готовила праздничные столы и нянчила младенцев. Она танцевала по случаю удачной охоты или хорошего урожая. Уходила с группами молодых людей на плантации саго. У нее были обязанности взрослого человека, разделяемые ею с другими женщинами. Она хорошо знала, что происходит внутри менструальной хижины, с малых лет она и ее братья и сестры сновали вокруг этой хижины, заглядывая внутрь. Пубертатный церемониал - не ритуальный переход к новому образу жизни, а просто преодоление физиологического кризиса, важного для здоровья и роста девушки. Это и не брачная церемония.
Клан мужа уже считает ее одной из своих. Все вместе они кормили ее, создавали ее тело, она - часть их, и они заплатили за нее. Время от времени семья жениха посылала мясо семье невесты. Некоторое время спустя после достижения ею половой зрелости производится основная уплата за невесту - несколько десятков ценных колец и раковин. Из них только три или четыре остаются у родителей, а остальные обмениваются на равноценные вещи. Но стоимость их фактически не столь уж и велика. Пища, которую семейство жениха давало невесте в течение десяти лет, куда более ценна. Все эти обмены ценностями, демонстративные преподнесения мяса, то, на что чаще всего ссылаются,- осязаемые и видимые знаки того, что речь идет о настоящем браке, браке запланированном и устойчивом. Когда родится ребенок, семья жениха уплачивает и за него. Пара колец - если родится мальчик, три-четыре - если родилась девочка. Уплата такого рода означает приобретение полных прав на ребенка. За девочку платят больше, потому что в противном случае материнский клан может претендовать на выкуп за невесту или же на ее детей, когда она подрастет. Все эти уплаты не имеют особой экономической ценности, это просто символы абсолютной собственности клана на ребенка.
После церемонии, связанной с первой менструацией, жизнь обрученной течет, как прежде. Родители жениха продолжают свое ненавязчивое наблюдение за нею. Она по-прежнему спит в их хижине, а если одна из их дочерей живет в доме, то молодая невестка спит с нею. Но за этим ритуальным признанием общиной ее половой зрелости стоит уверенность, что в ближайшем будущем, через несколько месяцев, через год, брак будет завершен. А между тем девушка готовит себе красивую травяную юбочку; вместе с молодыми женами, которые ненамного старше, чем она, девушка проводит немало времени, плетя нити из побегов саго. Ей удастся уговорить какую-нибудь старуху окрасить их в великолепный красный цвет. Она купается, и ее кожа всегда чиста и блестит, она носит ожерелье из зубов опоссума или собаки. У арапешей нет никого веселее и праздничнее, чем эти молодые девушки, в нарядном одеянии ждущие времени, когда жизнь наконец-то настанет и для них. Здесь не устанавливают никакого определенного дня. Со временем родители все более и более ослабляют свой надзор. Девушка полностью созрела. Юноша высок и хорошо развит. И когда-нибудь парочка, которой разрешено теперь гулять вместе в кустах, завершит свой брак без спешки, не назначая определенного дня, подгоняющего их своей неотвратимостью. Никто не будет знать и судачить об этом. Завершение их брака - это простая реакция на ситуацию, в которой они уютно прожили несколько лет, зная, что принадлежат друг другу.
8. Идеал арапешей и те, кто отклоняется от него
Мы проследили судьбу мальчика13 и девочки арапешей от раннего детского возраста до полового созревания и брака. Мы видели, как арапеши формируют каждого ребенка, рожденного в их обществе, чтобы он приближался к тому типу человеческой личности, который они считают идеальным. Мы видели, что им совершенно чужд взгляд на природу человека как на нечто злое, требующее постоянного обуздания. Для них различие полов, различие мужских и женских функций коренится в чем-то сверхъестественном, и они не предполагают, что эти различия могут сказаться на естественных способностях обоих полов. Напротив, они считают и мужчин и женщин по природе добрыми, отзывчивыми, готовыми к взаимопомощи, к тому, чтобы подчинить интересы своего "я" нуждам тех, кто моложе и слабее. Более того, именно в этом подчинении арапеши способны и готовы находить главное удовлетворение в своей жизни. Преданно и с наслаждением они выполняют ту часть родительских обязанностей, которую мы считаем сугубо материнскими - кропотливо и любовно заботятся о маленьком ребенке, приходят в самозабвенный восторг, видя каждое его новое движение по пути к зрелости. В этом развитии родители не ищут эгоистического удовлетворения, не ставят ребенку чрезмерных требований привязанности к ним в этом мире и почитания ушедших предков в потустороннем.. Для арапешей ребенок не средство, с помощью которого индивидуум обеспечивает сохранение своей личности после смерти, с помощью которого он как-то приобщается к бессмертию. В некоторых культурах ребенок - просто собственность, может быть самая ценная, более ценная, чем дома и земли, свиньи и собаки, но все же собственность, собственность, которую считают, которой хвастаются перед другими. Представление такого рода бессмысленно для арапешей. У них чувство собственности даже на простейшие материальные предметы настолько размыто сознанием нужд других, обязательствами перед другими, что может считаться почти утерянным.
Для арапеша мир - сад, который надо возделывать, возделывать не для себя самого, не во имя гордости и тщеславия, не .для накопления и торгашества. Его надо возделывать для того, чтобы могли расти ямс, свиньи и собаки и прежде всего дети. Из этой установки вытекает много других черт личности арапешей: у них нет конфликта между старым и молодым поколениями, нет ревности и зависти, для них очень многое значит сотрудничество. Сотрудничество становится легким делом, когда все чистосердечно преданы общей цели, когда ни один из участников общего дела не извлечет из него личных выгод. Их общее представление о человеке заставляет их считать мужчин тем же, чем мы считаем женщин,- добрыми, родительски заботливыми в каждом своем поступке.
Кроме того, арапеши в очень малой степени воспринимают борьбу в мире. Жизнь - это лабиринт, через который человек должен проложить свой путь, не сражаясь при этом ни с демонами внутри, ни с демонами вовне, но постоянно отыскивая свой путь, соблюдая правила, которые только и делают возможным идти и искать. Этих правил, определяющих, как можно соединить секс и рост, много, и они сложны. Уже в шесть или семь лет ребенок должен выучить их, в начале пубертатного периода на него возлагается ответственность за их соблюдение, а к тому моменту, когда он становится взрослым, он уже строжайшим образом соблюдает эти правила. От соблюдения этих правил зависит, чтобы рос возделываемый им ямс, чтобы дичь попадала в его силки и ловушки, а дети росли у него в семействе. Других проблем в жизни у него нет, нет и зла в собственной душе человека, зла, которое надо побеждать.
На тех, кто не разделяет этого кроткого и любовного отношения к жизни, на людей с равнин, арапеши возлагают ответственность за все свои неудачи, несчастья, пожары, болезни и смерти. Их собственные сверхъестественные покровители, марсалай, ограничиваются легким наказанием, и всегда лишь за нарушение одного из тех правил, благодаря которому люди живут в маре с силами земли. Наказывают они и тогда, когда путают естественную силу женских функций со сверхъестественными силами, помогающими и поддерживающими мужчин. Но люди с равнин убивают из выгоды и из-за ненависти; они пользуются малейшей брешью в той стене теплой взаимопривязанности, которою обычно окружена община арапешей. Они превращают легкую раздраженность в болезнь и смерть, приводят к тому, чего не желал ни один арапеш. О том, что арапеши верят в отсутствие дурных намерений у себя, свидетельствует каждая смерть. Тогда с помощью ворожбы можно определить, кто из членов общины явился первым виновником смерти, послав колдуну с равнины "грязь" умершего. Но арапеш содрогается при мысли о таком обвинении. Ворожат, но виновного не находят. Раздоры возникли давным-давно и были улажены. Гнев, ими вызванный, был не так силен, чтобы повлечь за собою смерть. Нет, эта смерть - враждебный акт раздраженного шантажиста или же безличностной озлобленности какой-то отдаленной общины, которая, потеряв одного из своих членов, заплатила шантажисту за то, чтобы он отомстил смертью тому, чьего имени они никогда не слышали. Когда умирает один из их молодых людей, арапеши не ищут виновника его смерти и не пытаются отомстить кому-нибудь в своей собственной общине. Вместо этого они, в свою очередь, подкупают человека с равнины, чтобы он убил такого же молодого человека в какой-нибудь отдаленной общине. После этого они могут прибегнуть к традиционным формам заклинания и сказать духу умершего: "Возвращайся к себе, ты отомщен". Способными на любое злодеяние считают тех, кто далеко, кто неизвестен, кто поэтому никогда их не видел и никогда не приносил им огня и пищи. Их можно ненавидеть, они наглые, развязные, хвастливые колдуны, откровенно кичащиеся своей бесчеловечностью, своей готовностью убивать за плату. Так, с помощью людей с равнины и этой формулы магической, безличностной мести, приходящей издалека, арапеши высылают все убийства и всю ненависть за свои границы и могут называть любого из пятидесяти человек "братом", с полным доверием есть из одной с ним тарелки. При любом ударе они разрушают иерархию различий между близким родственником, дальним родственником, другом, добрым знакомым, свояком и т. п., ту иерархию степеней доверия, которую знает почти любое общество, и заменяют ее абсолютными категориями друга и врага. Абсолютность этой дихотомии приводит, как мы уже видели в третьей главе, к навязчивому обращению к помощи колдовской практики, как только возникает малейшее проявление враждебности. Это обращение к колдовству можно объяснить тем, как формируется их доверчивое, любящее отношение к людям, отношение, которое может быть разрушено одним ударом, потому что в детстве ребенок был защищен от них и не приучен к нормальной конкурентной агрессивности в других. В результате уже во взрослом возрасте в тех случаях, когда враждебность становится открытой, ее проявления приобретают хаотичные, случайные, неконтролируемые формы. В воспитании арапеши не исходят из того, что человек по природе агрессивен и должен быть обучен кротости, что он завистлив и должен быть приучен думать о других, что в нем сильны инстинкты собственничества и его нужно отучать от слишком цепкой хватки за имущество. Вместо этого они ориентируются на природную доброту, отсутствующую только у ребенка и у невежды, а агрессивность у них возможна только при защите другого.
Последнее можно хорошо проиллюстрировать ссорами, которые возникают по случаю похищения женщин. Твердо веруя в нерушимость правила, по которому ни один шурин никогда не примет обратно в дом свою замужнюю сестру, арапеши превращают факт похищения в столкновение двух общин - общины, где женщина вышла замуж, и общины, похитившей ее. Обычно это столкновение начинает не муж, требующий возвращения своей, жены, восстановления своих прав и т. п., но один из его родственников, чаше всего родственник с материнской стороны. Он может говорить вполне беспристрастно. Обычно слово берет разъяренный дядя пострадавшего или же его двоюродный брат: "Почему должен я сидеть спокойно, когда увели жену сына моей сестры? Кто вырастил ее? Кто заплатил кольцами за нее? Он! Именно он! Он, сын моей сестры. А теперь он одинок, ее место пусто, огонь в ее очаге погас. Я этого не потерплю. Я соберу людей. Мы возьмем копья, луки и стрелы, мы вернем эту женщину, которую похитили" и т. д. Затем этот бескорыстный, а потому и справедливо разгневанный защитник собирает родственников мужа, и все они идут в деревню, где находится сейчас похищенная женщина. Сражение, которое там происходит, уже было описано нами. События же всегда передаются так: "Тогда Лаабе, рассердившись на то, что ранили его кузена, бросил копье, которое ранило Йелуша. Тогда Йелегеп, рассердившись, что ранили его двоюродного брата Йелуша, бросил копье, которое ранило Ивамини. Тогда Мадже, сердитый на то, что ранили его сводного брата..." и т. д. При этом всегда подчеркивается, что люди сражались не за себя, а за других. Иногда гнев по поводу похищения жены родственника принимает более произвольную форму, и мститель похищает какую-нибудь другую женщину из провинившейся общины и передает ее кому-нибудь другому. Такого рода действия, фактически разбоя на большой дороге, считаются арапешами чрезмерными, выходящими за границы нормы. Однако мотивами их оказываются столь благородные принципы отмщения за других, что они просто не знают, как себя вести в таких случаях. Быть разгневанными, защищая другого,- это тоже материнская установка. Мать, ссорящаяся с другими ради самой себя, вызывает осуждение, но мать, бьющаяся насмерть ради своих детей,- это фигура, которую мы узнали и полюбили со страниц естественной истории.
В вопросах лидерства и престижа установка арапешей также основывается на темпераменте, который мы охарактеризовали бы как женский. Многообещающего молодого человека заставляют возложить на себя очень неприятные, но почетные обязанности "большого человека" не для себя самого, а ради общины. Ради нее он организует празднества, огородничает, охотится и выращивает свиней, предпринимает длительные путешествия и устанавливает торговые связи с мужчинами других общин, чтобы они, его братья, племянники и сыновья, его дочери могли получить более красивые танцы, маски, песни. Вопреки своей воле, поощряемый только обещаниями ранней отставки, он выходит в первые ряды, обязан топать ногами и вести себя агрессивно, так, как если бы ему это нравилось, говорить с серьезной миной дерзкие слова, как если бы он действительно верил в них, и все это до тех пор, пока возраст не освободит его от обязанностей подражать поведению сильного, агрессивного, наглого человека. В отношениях между родителями и детьми, между женою и мужем столь же мало полагаются на обязательную противоположность темпераментов. В этих отношениях подчеркивается другое - возраст; опыт и ответственность родителей превышают опыт и ответственность детей, они больше у более взрослого мужа, чем у его юной жены. Мужчина будет слушать с равным вниманием увещевания как матери, так и отца, не предполагая при этом, что его маскулинность делает его мудрее женщины. Брачная система, более медленное развитие, допускаемое для женщин, длительные периоды их повышенной ранимости, когда они носят детей, периоды, задерживающие наступление времени, когда их общение со сверхъестественными силами становится почти таким же, как и у мужчин,- все это содействует сохранению чувства возрастного контраста, контраста по возрасту и ответственности, между мужчинами и женщинами.
В половых отношениях, в анализе которых так много ссылаются на соображения анатомии и аналогии из животного царства, доказывая, что мужчина по природе инициативен и агрессивен, арапеши опять же не признают никаких различий по темпераменту между мужчиной и женщиной. Сцена, находящая свою кульминацию в половом акте, может начаться с того, что он "подержал ее за груди" или же она "подержала его за щеки". Оба начала считаются эквивалентными и равновероятными. Арапеши опровергают наше традиционное представление о мужчине как спонтанно сексуальном существе, а о женщине как о существе, но испытывающем желания до тех пор, пока мужчина не пробудит его, также и тем, что они отрицают спонтанную сексуальность у обоих полов. Ожидают же они исключения в этом отношении только от женщин. Как мужчина, так и женщина не считаются способными реагировать на ситуацию, которую их общество не определило для них как сексуальную. Вот почему арапеши считают нужным присматривать за помолвленной парочкой, слишком юной, чтобы половые отношения были для них на пользу, а не присматривают за молодыми людьми вообще. За исключением случаев преднамеренного соблазна, продиктованных посторонними, несексуальными соображениями, половое чувство у арапешей прогрессирует медленно, следуя за развитием глубокого нежного интереса к партнеру, а не опережая и не стимулируя этого развития. При их понимании секса как реакции па внешние стимулы, а не проявления спонтанного желания как мужчина, так и женщина считаются беспомощными перед лицом соблазна. И мальчик и девочка бессильны перед лицом страстного любовного жеста, жеста ободряющего и возбуждающего. Родители предостерегают своих сыновей даже в большей мере, чем дочерей, от опасности попасть в такие ситуации, в которых может наступить половое общение. "В этом случае,- говорят они,- твое тело затрясется, колени подогнутся и ты поддашься". Это - пророчество. Не выбирать, но быть выбранным - вот искушение, которое непреодолимо.
Таков идеал человека у арапешей, и они считают, что каждое новое поколение детей будет руководствоваться им. Читателю, знающему человечество, эта картина покажется сладкой мечтой о золотом веке, и он неизбежно спросит: "Но таковы ли все арапеши? Что же, они - раса, среди которой нет насильников, нет стяжателей, нет личностей с сильными половыми импульсами, людей, ego которых развито до такой степени, что оно становится беспощадным в отношении всех других интересов, кроме своих собственных? Что, у них железы отличаются от всех других людей? Разве их питание настолько неудовлетворительно, что оно притупляет все агрессивные импульсы? Что, их мужчины столь же женственны по своему телосложению, как и их души? В чем смысл этой странной аномалии, всей этой культуры, которая исходит из тождества темперамента у женщины и. мужчины и утверждает в качестве этого единого темперамента характерологические черты, чаще всего встречаемые у женщин, более свойственные им? Ведь эта культура утверждает в качестве единого темперамента тот, который считается несовместимым с природой, настоящего мужчины"".
На некоторые из этих вопросов можно дать вполне категорический ответ. Нет причин считать, что темперамент арапеша создан его диетой. Люди с равнин, говорящие на том же самом языке и во многом принадлежащие к той же самой культуре, питаются еще более ограниченно, в их пище еще меньше белков, чем у горных арапешей. Тем не менее это сильный, агрессивный народ, и весь его этос резко противоречит духу их соседей-горцев. Телосложение среднего арапеша-мужпины не является более женственным, чем телосложение мужчин из других народностей, которые я опишу далее. Не обнаруживается в темпераменте арапешей и той однородности, которая наводила бы на мысль, что местный тип возник в результате инбридинга, тип особо мягкого, неагрессивного человека. У арапешей мы встречаем сильно развитые индивидуальные различия, куда более бросающиеся в глаза, чем в таких культурах, как Самоа, где в воспитании основываются на предположении, что исконная человеческая природа непокорна и потому должна систематически подгоняться под заданную форму. Арапеши, считая природу человека доброй, в основе своей не подлежащей переделке и не понимая, что в человеке есть много определенно антисоциальных и разрушительных импульсов, создают возможность процветать в своей среде патологическим индивидуумам.
И легкое отношение арапешей к выбору индивидуумом занятий по своему вкусу увеличивает разнообразие их личностей. Все мужчины у них в той или иной мере огородничают, но, если исключить это обязательное занятие, мужчина может уделять много времени охоте или не охотиться вообще; он может надолго уходить из деревни на торговые операции и никогда не двигаться с места, он может резать по дереву или расписывать красками кору или же никогда не брать в руки нож или кисть.
Во всех этих занятиях нет никакого социального принуждения. Все люди обязаны заботиться о младших, обеспечивать их пищей и кровом, в некоторых случаях возлагать на себя бремя руководства - на всем этом общество настаивает. Во всем остальном подрастающий мальчик предоставлен самому себе, подрастающая девочка может учиться делать плетеные корзинки, узорчатые травяные юбочки, она может осваивать искусство плести пояса, браслеты, но она может и не приобретать этих навыков. Арапеши требуют от мужчин и женщин не технических навыков, не особого искусства, а нужных чувств, требуют, чтобы они были личностями, получающими свое наиболее совершенное выражение в процессе совместного труда и в заботах о младших. Эта установка скорее на воспитание личности, чем на выработку специальных знаний, становится особенно заметной, если мы рассмотрим обряд с костями мертвых. Кости высокоценимых людей эксгумируются и используются в охоте, посадке ямса, в защитных магических обрядах при сражениях. Однако не кости охотника используются в магических обрядах охоты, не кости свирепого воина - в воинских обрядах, но кости доброго, мудрого, надежного человека служат всем этим целям. Именно на характер человека в том смысле, как они понимают его, и считают возможным опереться арапеши, а не на такую случайную и непрогнозируемую вещь, как особые умения. Вот почему, допуская развитие особых дарований, арапеши не придают им большой цены. Очень удачливого охотника или же одаренного художника будут помнить в той мере, в какой его чувства соответствовали господствующему этосу народа, а не за полные ловушки или же ярко окрашенные куски коры. Установка такого рода уменьшает влияние, которое могли бы оказать особоодаренные люди на перемены в культуре, но она не мешает им выражать свою личность во время их жизни. Не имея дела ни с какой утвердившейся традицией великого искусства, арапеш может разрабатывать свои собственные методы и таким образом получать большее поле деятельности для развития своей индивидуальности.
Нельзя прийти к заключению, что темперамент арапешей - взрослых или детей - застыл на одном уровне. Индивидуальные различия по вспыльчивости, агрессивности, чувстве собственничества так же выражены у них, как и в группе американских детей, но диапазон здесь будет иным. Самый активный маленький арапеш, воспитанный в духе кротости и пассивности, неизвестном нам, будет куда менее агрессивным, чем среднеактивный американский ребенок. Но различие между самым активным и самым неактивным ребенком этим не снимается, оно только выражается значительно менее резко. Оно, может быть, и исчезло бы, если бы арапеши более ясно осознавали свои педагогические цели, если бы пассивность и безмятежность их детей явились следствием постоянного педагогического давления, сдерживавшего и наказывавшего слишком активного и отклоняющегося от нормы ребенка.
Активности как черте характера здесь противопоставлена безграничная доверчивость ко всем людям, считающимся родственниками. Эту доверчивость арапеши сознательно воспитывают в своих детях, и различие между ними в этом отношении значительно меньше, чем у детей в других культурах, не получивших такого воспитания. Это значит, что, хотя реальные различия темпераментов у детей, рожденных в разных культурах, могут быть приблизительно одинаковыми, общество может изменить взаимоотношения этих различий многими способами. Оно может приглушать их по всей их шкале, оно может, наоборот, их стимулировать, так что относительное положение детей на шкале этих различий может остаться тем же самым, но верхний и нижний пороги их выражения окажутся подвижными, или же культура может управлять проявлениями темперамента, она может выбрать одну разновидность темперамента как норму и не поощрять, не разрешать, наказывать любое выражение любого темперамента противоположного или антитезного типа. Культура может также одобрять и поощрять проявления темперамента на одном конце шкалы и подвергать мерам дисциплинарного воздействия его проявления на другом. Можно сказать, что арапеши, воспитывая пассивность у своих детей, пассивность, охватывающую их всех, выбрали первый метод. К ней ведут игра на губах, контраст утомительной жизни на холоде с теплым семейным очагом вечерами, отсутствие больших детских групп, поощрение в детях потребительских, неинициативных установок. Все дети подвергаются этим влияниям, но реагируют на их по-разному - диапазон изменился, но различия в любой группе детей остаются более или менее постоянными.
В своем отношении к эгоизму любого вида, эгоизму, ищущему признания и одобрения, или же эгоизму, стремящемуся создать благополучие человека через стяжательство и власть над другими, арапеши практикуют второй метод воспитания. Они поощряют самоотверженность у ребенка, постоянно занятого выполнением поручений других. Они не одобряют и осуждают другие типы поведения как у детей, так и у взрослых. Они недвусмысленно поощряют одну разновидность человеческого темперамента за счет других типов, и характерологическая структура группы детей изменяется иным образом. Как я уже упоминала, благодаря их отношению к родственникам и подчеркнутой значимости еды и роста культура арапешей достигает дополнительного эффекта: она имеет тенденцию делать всех арапешей более сходными между собой, чем можно было бы ожидать от их врожденных свойств темперамента. Эта культура сокращает диапазон характерологических различий, а не просто изменяет положение его верхнего и нижнего пределов.
Вот почему у арапешей в каждом поколении вырастают дети, темперамент которых был сформирован и преобразован множеством различных способов. Взятые в целом, они более пассивны, более восприимчивы, сильнее восторгаются успехами других и менее склонны проявлять инициативу в творческой или трудовой сфере, чем дети большинства других примитивных народов. Их вера друг в друга, полярность их эмоций, делающая каждого человека либо родственником, полностью заслуживающим любви и доверия, либо врагом, которого можно только бояться и избегать,- все это резко отличается от отношения к людям у многих других народов. Есть много людей и других типов - людей агрессивных, ревнивых, стяжателей, людей, интересующихся искусством ради пего самого; для них, конечно, в этом обществе пет места. И отсюда возникает вопрос, что произойдет с этими людьми в обществе, которое слишком терпимо, чтобы обращаться с ними как с преступниками, и вместе с тем очень мягко не дает возможности развернуться талантам.
Больше всего среди арапешей страдают те, для кого вся структура этого общества наименее созвучна их душевному укладу,- мужчины сильных страстей, агрессивные и сильные, агрессивные женщины. Это очень контрастирует с оценками нашего общества, где кроткие, неагрессивные мужчины загнаны в угол и только на агрессивных, неукротимых женщин смотрят с неодобрением и осуждением. У арапешей же, не проводящих различия между мужским и женским темпераментом, представители обоих полов, наделенные темпераментом такого рода, страдают одинаковым образом.
Мужчины при этом страдают немного меньше, чем женщины. Прежде всего потому, что их отклонение от нормы распознается не так быстро, так как обстоятельства жизни позволяют мальчикам чаще проявлять свое раздражение, чем девочкам. Девочка, катающаяся по полу в приступе ярости, потому что отец не берет ее с собой, оказывается более отклоняющейся от нормы и потому несколько более строго порицается, так как ее поведение отличается от поведения других маленьких девочек. Вот почему уже в раннем возрасте она приучается либо сдерживать свое раздражение, либо восставать уже по-серьезному. Оценка ее характера также делается в более раннем возрасте, чем у мальчика. Пока ее брат все еще ходит, непомолвленный и свободный, в поисках следов бандикута, ее уже оценивают как потенциальную жену родители ее будущего мужа. Если мальчик остается в своем собственном доме, где его родители и близкие родственники уже привыкли к его приступам ярости или угрюмому настроению, девочка проводит свои ранние, наиболее восприимчивые годы в новом доме, где все более остро воспринимают ее эмоциональные слабости. Чувство отличия от других, неприятное ощущение, что ее относят к разряду людей, вызывающих осуждение, просыпается в девочке несколько раньше, и оно заставляет ее уединяться, впадать в хандру, делает ее более подверженной внезапным необъяснимым приступам ярости и ревности. То обстоятельство, что никогда в ее жизни поведение такого рода не будет считаться нормальным и уж подавно - сулящим какие-то надежды в будущем, искажает ее личность в более раннем возрасте и более определенным образом.
Именно такой девушкой была Темос - страстная, ревнивая собственница; в нескольких своих неудачных браках она столкнулась с положениями, справляться с которыми совершенно не умела. Поэтому враждебность и агрессивность стали в ней почти навязчивым состоянием; она почти повсюду преследовала своего супруга, она непрерывно бранилась даже с маленькими детьми в деревне, а те бормотали ей вслед: "Темос плохая. Она не любит ничего давать другим". И тем не менее Темос была просто эгоцентричной девицей, более эгоистичной и более однонаправленной в своих чувствах, чем допустимо по нормам культуры арапешей.
Мальчикам же, с другой стороны, позволено развивать в себе агрессивность и эгоцентризм вплоть до подросткового возраста, да и тогда они все еще могут избегнуть общественного осуждения, так как арапеши слепо верят, что лидерство и агрессивность - такие редкие душевные качества, что их необходимо всячески поощрять, культивировать и создавать особые условия для их развития во взрослой жизни. Так, нахальный, честолюбивый мальчик может сойти за человека, который в будущем проявит желание руководить. А если его агрессивность соединена с известной застенчивостью и боязливостью - нередкая комбинация,- он может вступить в начальный период возмужания как человек, заслуживающий социального одобрения, и быть избранным в качестве кандидата на роль "большого человекам, В редких случаях оп может им действительно стать, если община не поймет, что его взрывы ярости - не хорошая актерская игра, а нечто подлинное, что его угрозы соперникам - не праздное и наигранное бахвальство, а действительно сопровождаются кражей их "грязи" и постоянными попытками передать ее в руки колдунов. Так обстояло дело с Ньелахаи, и Алитоа буквально оседлал крикливый, злобный человек, наслаждавшийся сношениями с колдунами, непрерывно слонявшийся по деревне и оскорблявший своих соседей. Он не был "большим человеком" в подлинном смысле этого слова, как говорили его земляки, ибо злобные оскорбления слишком легко срывались с его уст, но он делал кое-что, что положено делать "большому человеку". У Ньелахаи не было ничего общего с безмятежностью и добродушием своих соплеменников, людей, носивших в себе величие веры в человека. Он беспрестанно слонялся по общине, прозванный своими женами "Тот-кто-бродит". Его постоянно обвиняли в колдовстве, он бил жен и проклинал охотничьи успехи своего младшего брата. Он не был на месте в этом мире. И все это произошло потому, что он в действительности был тем, во что ему следовало только играть. Вдобавок он был путаник со всеми признаками глупости. Его культура сказала ему, что он должен бахвалиться и кричать, и, когда он стал это делать, все со стыдом отвернулись от него. Но случай с Ньелахаи необычен. Значительно чаще происходит следующее: необузданные, агрессивные импульсы у мальчика гасятся в позднем пубертатном периоде, но эти черты в обществе охотников за головами или воинственном племени покрыли бы его славой, а в культуре же, допускающей ухаживание и завоевание женщин, мальчик гордился бы многими разбитыми сердцами. Так произошло с Вабе. Высокий, прекрасно сложенный, представитель самых одаренных генеалогических линий арапешей, Вабе в двадцать пять лет потерял активный интерес к жизни своей культуры. Он хотел бы еще, по его словам, помогать своему младшему брату Омбомбу, но это было бы совершенно бесполезно, так как все против него. Все его буанъины умерли, Непала оказалась неверной ему, Темос родила ему не ребенка, а сгустки крови, родственники Велимы возмутились тем, как он обращается с нею, и, безусловно, прибегли к колдовству, уморив его собаку, для того чтобы помешать его охотничьим удачам, хотя именно им досталась бы доля от его трофеев. Все его реальные и воображаемые неудачи слились в единое целое, в некую параноидальную конструкцию, сделавшую его мрачным, ревнивым, преисполненным навязчивого бреда человеком с затемненным мышлением, бесполезным для общины. Один воинский отряд, одна хорошая схватка, один шанс на проявление хорошей, ясной для всех инициативы могли бы разрядить атмосферу. Но ничего подобного не произошло. Он начал подозревать, что другие мужчины пытаются соблазнить его жен. Люди смеялись, а когда обвинения подобного рода повторились, возникло отчуждение. Он решил, что его партнеры по огородничеству прибегают к колдовству с целью что-то украсть из его посадок ямса - колдовству, которое существует лишь как молва, а сами заклинания никому не известны. Однажды он заявил, что родственники Велимы виноваты в его охотничьих неудачах, в другой раз он воспылал ревностью к мужчинам Алитоа и приказал своим женам собирать вещи и вопреки всем протестам Темос уехал жить в деревню Велимы. Его поведение было хаотичным, иррациональным и изменчивым, а сам он - мрачным и угрюмым. Все это было несомненной потерей для его общины - у него были все данные, физические и духовные, чтобы быть ей полезным. Его способности к руководству были отличными. Если надо было организовать людей на переноску большого груза к побережью или заручиться помощью отдаленных деревень для доставки товаров в пашу, то лучше Вабе никто не мог бы это сделать. Он, естественно, тянулся к службе у белых, был идеальным молодым вождем для любой иерархической системы. В его собственной культуре оп оказался потерянным - как для себя самого, так и для общины, из всех мужчин в окрестностях Алитоа он более всех приближался к западноевропейскому идеалу мужчины: хорошо сложен, тонкие черты красивого лица, собранность движений, страстность, находчивость, диктаторские наклонности, активная и агрессивная сексуальность. Среди арапешей же он был трагической фигурой.
Характер Амитоа из Ливо был женским аналогом темперамента Вабе. Крепко сложенная, с ястребиным лицом и угловатым телом, начисто лишенным всех признаков женственности, с уже усохшими грудями, несмотря на то что ей было всего тридцать пять, она прожила довольно бурную жизнь. Ее мать была страстной, необузданной женщиной, и Амитоа с сестрой унаследовали ее характер. Амитоа была помолвлена в детском возрасте с юношей, который вскоре умер. По наследству ее передали человеку, который был много старше ее, к тому же болел. Хотя девушки арапешей и предпочитают молодых мужчин, они это делают не в силу их большей физиологической потенции, но прежде всего потому, что они менее серьезны и напыщенны, и потому, что они более обязательны в отношении своего семейного долга. Только Амитоа из всех арапешских женщин, известных мне, четко осознавала свои сексуальные потребности и оценивала супруга с точки зрения его возможностей удовлетворить их. Только она понимала значение оргазма в половом общении. Другие же женщины, к нормативам которых она должна была приспосабливаться, не получали в половом общении даже простой релаксации и описывали свои ощущения после полового акта как некую неопределенную теплоту и чувство облегчения. Амитоа презирала своего робкого, хворого супруга. Она посмеивалась над его распоряжениями и порывисто убегала от него, услышав какой-нибудь упрек с его стороны. В конечном итоге, взбешенный ее неподчинением - ее, ребенка, чьи груди еще даже не опали, в то время как он уже был пожилым человеком,- он попробовал проучить ее, схватив головню из очага. Она вырвала ее у него из рук, и ему, вместо того чтобы нанести удары, пришлось получить их самому. Он схватил топор, но жена вырвала и его. После этого он позвал на помощь, и младший брат выручил его. Этой сцене суждено было повторяться в жизни Амитоа много раз.
Через некоторое время она сбежала в Кобелен, деревню, расположенную ближе к побережью, с которой ее родная деревня имела широкие церемониальные связи. По обычаю всех женщин с равнины, известных ей по встречам в родной деревне, она переходила от одного мужчины к другому, требуя, чтобы он взял ее. Но старики сказали, что люди из Кобелена и люди из Ливо были связаны тесной дружбой в течение многих поколений и потому никакая неуравновешенная женщина, явившаяся непрошеной в их среду, не может нарушить эту старую дружбу. Молодые люди заколебались. Амитоа с ее горящими глазами и решительными, страстными манерами была очень агрессивна и вместе с тем очень привлекательна. Им было достаточно хорошо известно, что такие женщины становятся плохими, ревнивыми женами и что она слишком сексуальна, чтобы ямс хорошо рос поблизости от нее. И все же они позабавились мыслью о принятии Амитоа в свою среду. Она вернулась в Ливо, чтобы посетить брата, и получила суровую отповедь от него за брошенный дом. Когда он попытался прибегнуть к силе, она снова сбежала в Кобелен. Пока она отсутствовала, ревнители морали приняли решение. Она поселилась среди женщин одного семейства, торговавшего с ее отцом, и никто не хотел взять ее в жены. Ей, разъяренной и обескураженной, снова пришлось вернуться в Ливо, о чем предварительно был извещен ее супруг. В это время он и его клан утешили себя неким магическим объяснением ее поведения. Люди с равнин сделали вишан, разновидность колдовства, когда один член общины действует через "грязь" другого. Именно эта магия и заставила ее сбежать, как объяснил по прошествии долгого времени один из членов клана ее супруга: "Люди сказали моему дяде: "Твоя жена поблизости. Пойди и верни ее". Он с двумя младшими братьями спустился к реке и стал ждать. Амитоа, "те одна женщина и старший брат ее отца пришли купаться. Амитоа стала снимать юбку, тогда мой дядя схватил ее за руку. Она стала звать на помощь своего дядю: "Дядя, они похищают меня". Но ее дядя сказал: "А кто платил за тебя, кто тебя кормил? Разве это делали мужчины из Кобелена? Разве не твой муж схватил тебя? Если бы это был другой мужчина, то ты имела бы право кричать. Но это твой муж''. Тогда закричала другая женщина: "Они уносят Амитоа". Мой дядя крикнул: "А ну-ка принесите копья". Все они убежали, и дядя вернул Амптоа домой. По своей привычке вся она была разукрашена. На ней было много браслетов и серег. Она сидела в центре деревни и плакала. Мой дядя сказал ей: "Я, твой муж, вернул тебя домой. Если бы это был не я, то ты могла бы плакать". Она осталась и зачала и родила девочку. Амитоа хотела задушить ее. Но другие женщины удержали ее. Она снова захотела убежать. Мой дядя побил ее и заставил кормить ребенка. Она снова забеременела. Родился мальчик. Она родила его тогда, когда рядом с ней никого не было, и она наступила ему ногой на голову. Если бы рядом были другие женщины, мальчик бы жил. Останься он в живых, ему было бы столько же лет, как моему младшему брату. Мертвого ребенка похоронили".
Это простое повествование со всей бесстрастностью молодого человека, бывшего мальчиком в те годы, описывает борьбу, которую выдержала Амитоа с традиционно-безмятежной ролью женщин. За первой попыткой детоубийства, отказом кормить ребенка последовали роды в скрытом месте, в кустарнике, сделавшие возможным убийство второго ребенка, а за ними - годы невротической тревоги. Амитоа была умной, энергичной, инициативной, увлекающейся личностью. Безвыходность конфликта между необузданностью ее натуры и традиционной податливостью женщин в этой культуре смущала ее не более, чем других женщин. Они единодушно высказались бы, что ей лучше было бы быть мужчиной, потому что она любит действовать, и, будь она мужчиной, ей было бы предоставлено более широкое поле для действий. Но при этом добавили бы, что и мужчиной она была бы непокладистым, спорщиком и зачинателем ссор.
Когда ее маленькой дочери было пять лет, ее кузен Омбомб, характер которого очень напоминал ее собственный, помог ей сбежать и выйти замуж за Баимала, также уроженца Алитоа и вдовца. Кузен попытался, рассуждая скорее с позиций ее дочери, убедить ее, чтобы она взяла ребенка с собою, так как в этом случае она получит свою долю выкупа за невесту. Но Амитоа отказалась: ее муж, теперь уже действительно старый человек с незаживающей язвой, ее вырастил, заплатил выкупные кольца; дочь должна достаться ему. И кроме того, в свое время она хотела убить свою дочь и отказывалась ее кормить.
Амитоа страстно привязалась к Баималу, к Баилду, старейшине Алитоа, ко всей своей новой деревне. Она не уставала хвалить новую общину и непрерывно отпускала саркастические замечания по адресу общины своего бывшего мужа и ее вождей. Она принесла Баималу дочь Амус, к которой оба они были очень привязаны. Однако жизнь ребенка была безнадежно испорчена постоянными схватками родителей за ее привязанность. Так как Амус была единственным ребенком, Баимал всегда хотел брать ее с собою. Если девочка разражалась слезами, желая идти, с отцом, Амптоа устраивала яростные сцены мужу. Вот почему он старался потихоньку ускользнуть из дому или же отсоветовать маленькой Амус идти с ним. Он никак не мог понять причину всех этих скандалов, понять, почему его вполне нормальное и мягкое поведение вызывает такие яростные вспышки у Амитоа. В ту ночь, когда тамберан выгнал всех женщин из деревни, Амитоа лихорадило, и Баимал попросил ее не танцевать, говоря, что она заболеет еще больше. В ответ на его увещевания она надела все свои украшения и приготовилась к танцам. Баимал, уже раздраженный тем, что грешит против тамберана, вышел из себя и запретил ей танцевать, потому что она больна и к тому же слишком стара, чтобы наряжаться, как молодая женщина. На это Амитоа ответила тем, что схватила топор и бросилась па него. Его младший брат Куле подоспел как раз вовремя, чтобы спасти его от тяжелых телесных повреждений. Амитоа, громко рыдая, убежала в дом сестры мужа, вновь и вновь повторяя слова, почти неизвестные среди арапешей, говоря, что она ненавидит всех мужчин, что она пресытилась материнством и хочет жить совсем одна в своей родной деревне. Во время всех этих рыданий и угроз она завязала па бечевке узелки на память о всех тех случаях, когда Баимал бил ее. В это время появился Баимал, демонстрируя свои раны. Баимал, чуткий маленький храбрый человек, преданный Амитоа, не питающий по отношению к ней никакой злобы, был очень встревожен этим инцидентом. Эта ссора была одной из многих. Амитоа, женщина средних лет, в привязанности Баимала нашла большее удовлетворение в сравнении с тем, какое ей давал кто бы то ни было в ее молодые годы. И вместе с тем она была необузданной натурой, совершенно чуждой традициям своей культуры.
Укрощение таких необузданных натур, как Баба, Омбомб или как Темос, Амитоа <...>, зависело от особенностей их раннего воспитания и характера их браков. Вабе воспитывался своими родственниками с материнской стороны, людьми добрыми, уступчивыми, дружелюбными. Они привили ему столь сильное чувство отчужденности, что он никогда не смог играть сколько-нибудь активную роль в своей собственной культуре. Его младшего брата Омбомба отчасти воспитал сводный брат, человек неукротимого характера, сбежавший из Алитоа несколько лет назад. В воспитании Омбомба наличествовало то, что начисто отсутствовало у Вабо: ему в какой-то степени разрешались проявления его задиристого, необузданного, агрессивного характера. Если прибавить к этому жену, воспитанную так же, добивавшуюся своих целей без каких бы то ни было угрызений совести и чувства вины, то легко попять, что характерологические черты Омбомба лишь укрепились в браке. Несдержанность же и эгоистичность Темос, нетипичные черты характера арапешей, скорее усиливали слабости Вабе. Возможность жениться на женщине с равнин всегда осложняла жизнь горцев с такими темпераментами, а само присутствие этих женщин в общине давало горянкам отрицательные примеры непринятого в их культуре. Непонимание этими людьми своей собственной культуры усугублялось также и тем, что некоторые из них были очень глупы. Именно такой была Менала, еще более осложнившая жизнь Бабе, обвинив его в сознательном акте насилия, в то время как он в полном соответствии с правилами своей культуры вместе с братьями жены разорвал не нравившийся им брак.
Еще одним поводом для подозрений и несбалансированного поведения оказываются глупые и злобные люди, которые без всякого на то видимого повода поставляют "грязь" колдунам с равнин или же сами практикуют какие-нибудь магические обряды, вынесенные из прошлого арапешского общества или же заимствованные в других культурах. Именно таким человеком был Нахомен, с плохо развитым интеллектом, способным понимать, лишь рудименты своей собственной культуры, и начисто лишенный морального сознания. Он и его брат Иноман, обнаруживший те же самые черты характера, без всякого на то повода крали из скрытой, полуосознанной злобности кусочки пищи у других людей. Одного-двух поступков такого рода было достаточно, чтобы потрясти веру таких людей, как Вабе или Омбомб, в безопасность того мира, в котором они жили. Совершенно естественно, что на людей, постоянно борющихся с собственными установками и мотивами поведения, которые их общество либо объявляет несуществующими, либо же просто запрещает (такими, как зависть, сильное желание сохранить полный контроль над своим собственным имуществом, провести строгие границы между ним и собственностью других; определенные сексуальные порывы, не являющиеся простыми реакциями на предписанные ситуации), любое открытое проявление противоречивости социального порядка должно действовать самым потрясающим образом. Немногие случаи, когда женщина попыталась соблазнить их, куда более сильно запечатлеваются в их памяти, чем сотни других встреч с одинокими женщинами на горных дорогах, с которыми они обмениваются лишь робкими приветствиями.
Среди аспектов культуры, которые более всего затрудняли их, на первом месте было требование взаимности. Идеал арапешей - это человек, никогда не провоцирующий схватку, но, коль скоро она возникла, защищающийся, точно соизмеряя удары, отвечая ударом не большим, чем им полученный, и тем самым восстанавливающий равновесие. Эта модель взаимоотношений между людьми действует во всех сферах, но, как правило, не в ее крайних формах. Мы уже видели, как отмщение за смерть переносится на какого-нибудь отдаленного и безымянного человека. Месть одной деревни другой откладывается на возможно долгий срок, и какое-нибудь самое случайное событие считается возмездием. Так было со случаем последнего похищения Амитоа. Клан ее первого мужа, Суабибис из Либо, заплатил за нее и вырастил ее; когда Баимал из клана Тотоалаибис принял ее к себе в Алитоа, он совершил враждебный акт по отношению к первому кладу. Суабибис очень ожесточились. Тремя годами позже Тапик, женщина, с раннего детства выращенная людьми Тотоалаибис, убежала и вышла замуж за одного из Суабибис. Тотоалаибис попытались вернуть ее силой, но неудачно. Тогда же было решено, что бегство Тапик должно считаться возмездием за бегство Амитоа, и много лет спустя, когда Амитоа вновь угрожала сбежать, люди из ее клана напоминали ей о Тапик, говоря, что все это был как бы обмен сестрами и что ее новое бегство было бы незаконным.
Так же обстоит дело и с выплатами брату матери или его сыну, требуемыми обрядом посвящения, искуплением затронутой чести, пролитой крови или же смерти. Эти выплаты производятся позже, когда брат матери оказывается в аналогичной ситуации. Так, по любому такому поводу, скажем смерти, скажут: "Кольца заплачены брату матери или сыну брата матери и сыну сестры", при этом никто не упомянет, что в одном случае мы имеем дело с новой уплатой, на которую брат матери имеет определенные права, а в другом случае речь идет о простом возврате долга. Но в этот ритуал rites de passage14 закладываются известные требования к брату матери: он должен спеть специальную песню после инициации своего племянника, ему следует носить особый траур, если его племянник умрет. Люди, по натуре скорее склонные требовать от других, чем стремиться к восстановлению равновесия, хватаются за эти обряды; они громогласны в своих требованиях к сыну сестры и медлительны с отплатой. Арапеши вместе с соседними племенами делят и обряд семейного проклятия, когда отец, старшая сестра, брат, брат матери призывают духов предков для мести. Они помешают успехам трудов мужчины, отгонят от него дичь, женщине они помешают иметь детей. Сила этих проклятий основывается на том, что только человек, наложивший проклятие, может его снять. Так, если человек как-нибудь оскорбит брата своей матери, то последний окажется в особо тяжелом положении, ибо теперь его племянник - единственный человек, который может снять проклятие. В большинстве случаев арапеши делают из этого обряда проклятия пустую формальность, просто игнорируя этот важнейший момент. Во-первых, они разрешают всякому, кого зовут "братом матери", прослеживаемому по любой линии кровного родства, каким бы отдаленным оно ни было, осуществлять обряд проклятия и его снятие, и, кроме того, они верят, что один человек может снять проклятие, наложенное другим. Только в очень редких случаях невозможно найти такого человека, и потому проклятие брата матери становится несколько бессмысленным. У арапешей, однако, все еще есть некоторые необузданные и озлобленные личности, не желающие считаться с теми видоизменениями, которые внесла культура в этот древний обычай. Такие люди, как Вабе и Омбомб, постоянно проклинают других и сами себя считают проклятыми; именно они поддерживают существование в культуре того ее аспекта, который давно уже потерял свою значимость и был изжит самой культурой. Дело обстоит так, как если бы у нас какой-нибудь параноик возрождал средневековое судебное преследование ведьм.
Поэтому неудержимым, патологическим личностям, мужчинам и женщинам, очень трудно среди арапешей. Они не подвергаются мерам строгого дисциплинарного воздействия, как это случилось бы среди народов, серьезно относящихся к таким темпераментам. Такая женщина, как Амитоа, убившая своего ребенка, продолжает жить в общине; не подвергся наказанию в ней и один мужчина, убивший ребенка в отместку за падение своего сына с дерева. Ни община, ни родственники убитого, жившие очень, далеко, не наказали его. Общество у арапешей предоставляет относительно большую свободу насилию, но оно не придает ему значения. В обществе, не создающем для своих членов возможностей отличиться в ратном деле, лидерствовать, демонстрировать, свои подвиги смелости и силы, люди этого сорта считаются почти безумцами. Если их интеллект высок, то этот прелюбопытнейший молчаливый остракизм, это непонимание людьми их требований, отказ признать их за разумные просто нагоняют на них приступы черной меланхолии, притупляют ум, разрушают память, потому что у них все возрастает неспособность объяснить, почему люди в каждом отдельном случае действовали так, а не иначе. Когда они думают о своем обществе, они пытаются возродить формальные родственные связи, вновь утвердить формальные права брата матери на сына сестры. При этом они игнорируют все введенные обществом смягчающие искажения; Они пытаются внедрить в практику некоторые элементы социальной структуры, полные смысла для них, но никак не подтверждающиеся фактами действительной жизни. В интеллектуальном отношении они потеряны для общества, потому что всегда проецируют свои собственные навязчивые и патологические мотивы поведения на него. Если к тому же они попадают в тяжелые обстоятельства, если дохнут их свиньи, у жен происходят выкидыши, гибнет урожай ямса, то они могут стать прямой угрозой, подменяя откровенное убийство растущей подозрительностью и бессильной яростью. <...>.
Именно таков был Агилапве - старик с суровым лицом, желтый, живший на противоположном от нас склоне долины. На ноге у него была большая язва, от которой он страдал с детства,- красное, сочащееся доказательство чьей-то вражды к нему. Язвы у арапешей являют собой некую брешь в их теориях колдовства. В отличие от всех других форм болезней и смертей язвы, как считают они, могут быть вызваны и колдовством внутри их собственного безопасного общества. Для этого достаточно спрятать "грязь" в корни дикого таро в одном или двух местах, где живут марсалаи. Если язва несет с собой смерть, то теорию дополняют, утверждая, что были и другие кусочки "грязи", попавшие в руки колдунов с равнин, а община невиновна в этой смерти. Как правило, трофические язвы достаточно быстро излечиваются, но временами наступает быстрое ухудшение пораженного члена, за которым следует смерть. Когда возникает язва, прибегают к обычным рассуждениям, связанным с колдовством. Задают вопросы, кто мог разгневаться на больного, кто украл его "грязь", куда он ее поместил. В случае таких легких заболеваний, как язва, ответственность возлагают на отдаленные общины арапешей, живущих в горах или на побережье, и никогда на арапешей равнин. Вот почему горец, страдающий от язвы, подозревает, что его "грязь" была зарыта в местах обитания марсалаи прибрежных деревень Вагинара или Магахипе; житель побережья, в свою очередь, подозревает горцев, использовавших жилище марсалаи в Бугабахине или же заросли дикого таро в Алитоа. Считалось, что особо прочная и неуничтожимая "грязь" Агилапве, например обглоданная им кость, покоится где-то, давным-давно забытая, а человек, зарывший ее, умер много лет тому назад. А между тем рассерженный Агилапве остался жить. Не было драки, в которой бы он не участвовал, ссоры, в которой бы он не хотел принять участие. Его жена устала от него. Арапеши говорят о плохом муже: "Если у него хорошая жена, она оставит его". Они не видят никакой добродетели в том, чтобы быть верным человеку, поведение которого отторгает его от общества.
Его жена сбежала в Суапали, свою родную деревню, и вот что рассказывает деревенское предание: "Агилапве думал, что ее брат Ялуахаип помог ей. Ялуахаип был в своем огороде. У него был топор, у Агилапве - копье. Агилапве вошел в огород. Од посмотрел на Ялуахаипа. Он спросил его: "Где твоя сестра?" Ялуахаип ответил: "Я не знаю" - "Ты лжец, она убежала". Ялуахаип сказал: "Если бы она убежала, я бы знал об этом". Агиланве сказал: "Да, она сбежала совсем. Не лги мне. Я знаю все". Ялуахаип ответил: "Шурин, если она сбежала, то я найду се". Агилапве бросился вперед и схватил топор. Он сильно ударил Ялуахаипа топором по плечу. Топор застрял. Агилапве попытался вытащить его, но не смог. Тогда он схватился за копье. Он бросил его в Ялуахаипа, но тот увернулся. Его жена перебралась через изгородь и убежала. Убежал и Ялуахаип. Агилапве погнался за ними. Он потерял их след в кустах. Он пошел их искать на вершину горы. Их там не было. Он вернулся в огород. Их не было и там. Муж убежал далеко вниз. Его искала жена. Она обнаружила следы его крови. Она нашла его. Она держала его под руки. Оба бежали и бежали. Они пришли к нам в дом. Она вызвала моего отца. "Старший брат мужа, твой младший брат ранен". Вышла моя мать. Она промыла его рану, она положила известь на нее, она перевязала рваные края раны, промыв их вином. Они принесли его в деревню. Для него сделали костыли. Он оперся на один из них и положил руку на другой. Он был красивый, сильный мужчина, по Агилапве ранил его. Они уснули у нас. Утром они ушли и построили себе дом в кустарнике. В доме они соорудили высокую кровать. Его перенесли туда и там спрятали. По ночам по округе рыскал Агилапве, пытался разыскать их. Если бы он их нашел, он бы убил его. Позже, когда всо пошли на праздник, Ялуахаипа взяли с собой и спрятали его поблизости. Рана зажила. Отец хотел собрать людей, чтобы отомстить и повести их в Мапуники (деревня Агилапве). Но это оказалось невозможным. Стая белых попугаев, живущая там, всегда вылетает и подает сигнал тревоги. Агилапве встает, поднимается наверх и бросает камни и копья. Потом Агилапве женился па женщине, которую мой отец зовет дочерью сестры, и ссора была забыта. Кольцами при этом не обменивались".
Этот рассказ - превосходная картина необузданного, неразумного гнева, которому подвержены люди, подобные Агилапве, и отношения жертв этого гнева к нему. Позднее Агилапве лишь усугубил свой разрыв с общиной, сознательно посадив дикое, быстроразмножающееся таро на своем наскальном огородном участке. Люди, страдающие язвами, все чаще обвиняли жителей Алитоа в колдовстве. Жители Алитоа снесли дом своих тамберанов, о котором говорили, что он слишком нагревает почву в центре деревни, и вырвали с корнями все дикое таро, что росло по склонам. Но в Мануники, как раз на той стороне ущелья, продолжал жить Агилапве, поставляя "грязь" колдунам с равнин, злорадствуя по поводу своего нетронутого дикого таро и сигнализируя гонгом свою радость в связи с каждой смертью, случившейся в округе.
Такие люди, как Вабе и Агилапве, Амитоа и Темос, своей очевидной ненормальностью искажают в глазах детей картину жизни арапешей. Их собственные дети и дети, воспитанные в тесном контакте с ними, могут принять поведение людей такого рода за образцы и осложнить тем самым свою взрослую жизнь. Представление о доброй общине, все жители которой - любящие родственники, становится менее ярким для маленького мальчика, мать которого только что на его глазах перевязывала рапы Ялуахаипа. Спокойная, отзывчивая, несколько пассивная человеческая природа мужчин и женщин возмущается в тех, кто видит, как Амитоа поднимает топор па Баимала, а Вабе бьет своих жен, заявляя, что он бы желал избавиться от них обеих. Но установка на то, что все люди хороши и добры, что ни мужчины, ни женщины но являются активно и агрессивно сексуальными, что в жизни человека нет иных мотивов поведения, кроме как выращивать ямс и детей, делает невозможным для арапешей создание правил для эффективного управления теми, чей темперамент не соответствует принятому идеалу.
Западный читатель лишь очень поверхностно может осознать особый вариант человеческого характера, созданный арапешами, ему покажется невероятным выбор в качестве нормы типа личности, редкого как среди мужчин, так и среди женщин, превращение его в идеал естественного поведения для всего общества. Нам трудно судить, какой из типов поведения для нас более утопичен и нереален - тот ли, где отрицаются различия между мужчинами и женщинами, или же тот, когда как мужчины, так и женщины матерински заботливы по своей природе, добры, отзывчивы и неагрессивны.
V. Отцовство у человека - социальное изобретение
"Отцовство у человека - социальное изобретение" - девятая глава одного из "бестселлеров" Мид - книги "Мужчина и женщина" (Mead M. Male and Female. A Study of the Sexes in a Changing World. Morrow. N. Y., 1949).
В отличие от всех предшествующих работ, представленных в сборнике, эта книга не была связана с непосредственным осмыслением материалов и наблюдений, собранных самой исследовательницей. Продолжая работать над темой, поставленной еще в книге "Поп и темперамент",- дифференциальная психология пола, Маргарет Мид решает ее, привлекая этнографические данные других исследователей, а также материал собственного общества. Большая часть книги посвящена половым и семейным отношениям в США. Здесь М.Мид помогло ее многолетнее сотрудничество с рядом ведущих женских журналов США.
Создавая свою книгу, М.Мид учла критику, высказанную в адрес "Пола и темперамента": социологический релятивизм, недоучет врожденных биолого-физиологических факторов, влияющих на половую дифференциацию психики у человека. Однако в целом попытка Мид построить дифференциальную психологию полов, учитывающую влияние врожденных биологических факторов (в особенности глава "Основные закономерности психосексуального развития человека"), оказалась малоудачной. Мид решает сложный вопрос специфики мужской и женской психики с позиции фрейдизма, строя весьма спекулятивную теорию формирования "мужских" и "женских" комплексов в раннем детстве.
Методология культурно-исторической школы, к которой М.Мид принадлежала до конца своей жизни при всех своих колебаниях в сторону фрейдизма, особенно ярко проявилась в одной из лучших глав "Мужчины и женщины" - "Отцовство у человека - социальное изобретение". Перевод осуществлен по одному из переизданий этой книги в США: Male and Female. Mentor book. N. Y., 1972.
Мужчины и женщины всех цивилизаций так или иначе ставили перед собой вопрос: "Что составляет специфические ценности человечества, чем люди отличаются от остального животного мира, насколько фундаментально и прочно это отличие?" Эта озабоченность может выражаться в настойчивом подчеркивании родства человека с животными, на которых он охотится и от которых как от своей пищи зависит; так обстоит дело у тех примитивных народов, которые пляшут перед охотой вокруг своих лагерных костров со звериными масками на лицах. Или она может выражаться в полном отречении от животного наследства, какое мы находим в одной балийской церемонии, когда пару, уличенную в инцесте, заставляют встать на четвереньки с одетыми на шею деревянными колодками домашних свиней, есть из свиного корыта, а затем покинуть богов, дающих им жизнь, и поселиться в стране наказания, где царят только боги смерти. В соответствии с широко распространенным обычаем, который специалисты называют тотемизмом, подразделения различных обществ, кланы и другие организованные группы обозначают свои отличия друг от друга, выдвигая притязания на родственную связь с тем или иным видом животных. Эти животные рассматриваются как своего рода талисманы, утверждается монополия клана на употребление их в пищу, или же, наоборот, па такоо употребление накладывается вечное табу. Почти у всех народом названия животных очень часто употребляются в качестве оскорбительных слов, а иногда и чтобы выразить любовь. Родителя бранят детей за то, что они ведут себя, как свиньи или собаки, или беспечно называют их "кошечками" или "голубками", осуждают за то, что они ведут себя, как дикие звери, или же, наоборот, восхищаются их свирепостью и ловкостью, роднящими их с некоторыми обитателями лесов. Задолго до того как Дарвин сформулировал родство между человеком и животным в эволюционных терминах, которые так же шокировали многих в его поколении, как балийца шокирует зрелище ребенка, ползающего, как животное, на четвереньках, люди занимались проблемой сходств и различий человека с другими животными.
Это тема разрабатывалась в великих религиях, воплощалась в поэзии, например в проповеди святого Франциска Ассизского птицам; делалась элементом целого образа жизни, как в том случае, например, когда джайн1 отказывается пить воду, которая может содержать какие-нибудь зародыши; драматизировалась в средневековых судебных процессах над животными и получала уродливое отражение в особой чувствительности тех, кто, зверски относясь к людям, проявляет повышенную заботу о лошадях. Дети видят сны и просыпаются с криком от вида странных и страшных зверей, собирающихся пожрать их,- своеобразное проявление их собственных импульсов, которые их родители называют животными. За поэзией и символикой, красотой великих жертвенных символов, когда агнец божий страдает за людей или вновь утверждается родство человека со всеми живыми тварями, за профанацией этого родства, за бранью, когда максимальное унижение человека сводится к отождествлению его сексуального поведения с поведением животных, встает один и тот же повторяющийся вопрос: в чем состоит уникальность человека и что он должен делать, чтобы сохранить ее? Задолго до того как появились философы, способные систематически обсуждать этот вопрос, люди со спутанными волосами и телами, намазанными грязью, поняли, что их человечность - нечто такое, что может быть утеряно, нечто хрупкое, что следует сберегать жертвоприношениями и табу и лелеять в каждом из сменяющихся поколений. "Что мы должны делать, чтобы быть людьми?"- вот вопрос, такой же старый, как само человечество.
И за этим вековечным вопросом кроется признание людьми того факта, что физическая конституция человека, его прямохождение, его почти безволосое тело, его гибкий, противопоставленный другим большой палец и потенциальные способности его мозга не составляют еще всей тайны. И даже долгий срок беременности, после которой единственное человеческое дитя появляется на свет еще недостаточно сформировавшимся, чтобы полностью воспринять сложную цивилизацию, не дает никаких гарантий сохранения человеческих качеств из поколения в поколение. В нашей повседневной речи мы говорим о звере в человеке, о тонком покрове культуры, и эти выражения означают наше неверие в то, что человеческий род всегда обладает свойством человечности.
Ибо человеческое в нас основывается на множестве проявлений выученного поведения, сплоченных в бесконечно хрупкие и никогда прямо не передаваемые по наследству структуры. Если мы оживим муравья, найденного в кусочке балтийского янтаря, которому 20 миллионов лет, с полной уверенностью можно ожидать, что он воспроизведет поведение, типичное для муравья. Это можно предположить по двум причинам: во-первых, потому, что его сложное поведение, разделившее его сообщество на меньшие касты с предопределенными функциями, заложено, в самой структуре его тела; во-вторых, даже сумей он усвоить нечто новое, он не смог бы передать этот навык другим муравьям. Повторение бесчисленными поколениями одного и того же вида поведенческих стереотипов, более сложных, чем грезы технократической утопии, обеспечивается именно этими двумя обстоятельствами - поведением, заложенным в физическую структуру тела, и неспособностью передать новый опыт. Но у человека даже простейшие формы его поведения не таковы, чтобы ребенок без обучения другими людьми мог самостоятельно воспроизвести хотя бы один-единственный элемент культуры. Еще задолго до того как маленький кулачок сможет нанести удар, сердитые жесты ребенка несут на себе отпечаток не его долгого животного прошлого, а навыков употребления дубин и копий его родителями. Женщина, предоставленная самой себе во время родов, взывает не к надежному инстинктивному образу, который подскажет ей, как перевязать пуповину и очистить ребенка от следов акта рождения, а беспомощно перебирает в памяти обрывки народных верований и рассказы старух, подслушанные ею. Она может действовать и вспоминая виденное ею поведение животных в таких случаях, но в своей собственной живой природе ей не найти надежных подсказок.
Мы можем гордиться нашими носами или нашими губами, нашими почти безволосыми телами, нашими красивыми плечами и изящными кистями рук, но когда вид какого-нибудь уродства, делающего человека похожим на зверя, заставляет нас отпрянуть в ужасе, когда мы содрогаемся при встрече с представителями другой расы и опознаем их по признакам, которые свидетельствуют об их большей животности по сравнению с нами, например тонкие губы и волосатость европеоидов, плоский нос некоторых монголоидов, пигментация негроидаего типа, то за внешним страхом смешения рас кроется нечто другое - знание, что все формы культурного поведения могут быть утеряны, что их приобретение дорого стоило и так же дорого стоит их сохранение. Всякий раз, когда страхи людей находят свое выражение каких-нибудь социальных формах - в больших групповых ритуалах заклинаний солнца вновь вернуться на небеса, на новогодних церемониалах балийцев, когда все мужчины целый день соблюдают тишину, чтобы могла продолжиться жизнь, или же у ирокезов, когда раз в год мужчины осуществляют свою мечту, исповедуются в грехах и, по обычаю, бросаются голыми в ледяную воду,- это выражение страха становится также и средством его умиротворения. Все эти ритуалы - выражение одной и той же идеи, повторяемой вновь и вновь: только вместе люди могут быть людьми, их человечность зависит не от индивидуального-инстинкта, а от традиционной мудрости их общества. Когда люди теряют ощущение того, что они могут положиться на эту мудрость - потому ли, что они оказались в среде тех, чье поведение не является для них гарантией преемственности цивилизации, или же потому, что они больше не могут пользоваться символами своего собственного общества,- они сходят с ума, медленно отступают, часто ведя безнадежные арьергардные бои, отдавая пядь за пядью свое культурное наследие, усвоенное с таким трудом, но никогда не настолько прочно, чтобы гарантировать судьбу следующего поколения.
Этот страх скорее следует отнести на счет человеческой мудрости, чем считать его проявлением какого-то иррационального начала. Он так глубок, что может распространиться на самые малые, незначительные действия. Мельчайшие детали поведения человека - какую пищу он ест, когда, с кем и на тарелках какой формы - могут стать для человека необходимыми предпосылками чувства сохранения его человеческой сущности. В кастовых обществах, таких, как Индия или юго-восточные штаты США, где культурно детерминированная принадлежность к человеческому роду неразрывно связана с членством в какой-нибудь кастовой группе, запретное общение с членами другой касты означает потерю самого статуса человека. Чувство расовой принадлежности также глубоко пронизано такими установками. Так, казачка в романе Шолохова, судача о том, как появилась эта странная турчанка среди казаков, говорит: "Сама ее видала - в шароварах... Я как разглядела, так и захолонуло во мне..." В культурах, где застольные манеры - эмблема человека, люди не смогут есть за одним столом с кем-то, кто ест не так, как они, в особенности если застольные манеры также классово и кастово маркированы, так что присутствие за столом человека, едящего по-иному, автоматически относит его к другому классу. Сильные мужчины в Западной Европе чувствуют себя униженными в своем мужском достоинстве, когда встречают людей из Восточной Европы, где мужчины мочатся сидя на корточках2, а современная австралийка испытывает чувство смущения, когда американка велит своему супругу принести коктейль. Каждый маленький жест вежливости, внимания, учтивости, исходящий от других, ценится именно за то, что является чем-то, с трудом приобретенным, чем-то, что можно легко потерять.
На этом фоне нам и следует рассматривать нравы, регулирующие отношения между полами, отношения, которые всегда были существенны для сохранения человеческого общества. За тысячами мимолетных и незначительных символов - приподнятой шляпой джентльмена, опущенными глазами леди, горшком с геранью на подоконнике немецкого бюргера или вычищенными до блеска ступеньками дома фабричного рабочего из Средней Англии - за всем этим существует некое общее ядро, сохраняемое всеми обществами, утеря которого означала бы утрату очень дорого приобретенных, выученных аспектов их человечности.
Если мы рассмотрим все известные человеческие общества, мы повсюду найдем какую-то форму семьи, некоторый набор постоянных правил, побуждающих мужчин помогать женщинам заботиться о детях, пока те малы. Специфически человеческая черта семьи состоит не в том, что мужчина защищает женщин и детей, - это есть и у приматов. Она заключается и не в гордой власти самца над самками, за благосклонность которых он соревнуется с другими самцами,- это мы также разделяем с приматами. Отличительная черта самца человека - повсюду помогать добывать пищу женщинам и детям. Сентиментальные обороты речи, столь распространенные в современном западном мире, где пчелки, муравьи и цветочки признаны иллюстрировать сокровенные аспекты человеческого поведения, затемняют понимание-того, насколько новым для животного мира является именно это поведение самцов человека. Правда, птицы-отцы кормят свой молодняк, но люди очень далеки от птиц на эволюционной лестнице. Самец бойцовой рыбки строит гнездо из пузырьков воздуха и удерживает самку лишь па время, необходимое ему, чтобы выдавить из нее икру. Затем, отогнав ее, он без особых успехов старается подобрать икринки, выпавшие из гнезда, и если он не сожрет икру или мальков, то оставляет некоторое потомство. Но эти аналогии из мира птиц и рыб далеки от человека. Если мы возьмем наиболее структурно близких к нам животных - приматов, то увидим, что самец у них не кормит самку (* Пониманием этого важного отличия и его социальных последствий я обязана книге: S. Zuckerman. Functional Affinities of Man, Monkeys and Apes. Brace, 1937.). Обремененная детенышами, с трудом поддерживая свое существование, она кормится сама. Самец может драться, чтобы защитить ее или обладать ею, но он не кормит ее.
Когда-то на заре человеческой истории было осуществлено социальное нововведение: самцы стали кормить самок и малышей. У нас нет никаких оснований считать, что эти кормящие самцы имели хотя бы малейшее представление о физиологических основах отцовства, хотя вполне возможно, что пища была наградой самке, не слишком переменчивой в своих сексуальных предпочтениях. Во всех известных человеческих обществах везде в мире будущий мужчина усваивает, что, когда он подрастет, одной из обязательных вещей, которые ему придется делать, чтобы стать полноправным членом общества, будет обеспечение пищей какой-нибудь женщины и ее потомства. Даже в очень простых обществах немногие мужчины могут уклониться от выполнения этой обязанности, стать бродягами, бездельниками, мизантропами, живущими в одиночестве в лесах. В сложных обществах большое число мужчин уклоняется от бремени кормления женщин и детей, уходя в монастыри и питая там друг друга или же приобретая такую профессию, которая дает им, по признанию общества, право на содержание за его счет, например армия и флот или буддийские монашеские ордены в Бирме. Но вопреки всем этим исключениям каждое известное общество прочно основывается на усвоенном мужчинами правиле - кормить детей и женщин.
Это поведение, эта защита женщин и детей, вместо того чтобы предоставить их самим себе, как принято у приматов, может принимать различные формы. Почти во всех обществах женщины также выполняют какие-то работы по сбору или выращиванию пищи, но среди народов, живущих почти исключительно на мясе и рыбе, эта женская деятельность может ограничиваться обработкой, стряпней и сохранением пищи от порчи. Там, где охота доставляет лишь незначительную часть рациона питания, а роль мужчин сводится в основном к участию в охоте, женщины могут брать на себя девять десятых работы по сбору пищи. В некоторых обществах, где мужчины уходят на заработки в большие города, вся пища выращивается оставшимися дома женщинами, в то время как мужчины на заработанные деньги покупают орудия труда и другую утварь. Разделение труда осуществляется самыми различными путями. Поэтому мы можем в некоторых обществах столкнуться с очень ленивыми мужчинами или, наоборот, с женщинами, ненормально свободными от каких бы то ни было обязанностей, как в бездетном городском доме в Америке. Но принцип сохраняется повсюду. Мужчина, наследник традиции, должен обеспечивать женщин и детей. У нас нет никаких, оснований считать, что мужчина, оставшийся животным и не прошедший школу социального обучения, смог бы делать что-нибудь подобное.
От социального устройства общества зависит, каких женщин и каких детей будет обеспечивать мужчина, хотя главное правило здесь, по-видимому, предполагает, чтобы он обеспечивал женщину, с которой находится в половой связи, и все ее потомство. При этом может быть совершенно несущественно, считаются ли эти дети его собственными или какого-нибудь другого мужчины из того же клана либо же просто законными детьми его жены от прежних браков. Дети могут оказаться в его доме также благодаря усыновлению, выбору, сиротству. Ими могут быть девочки - жены его сыновей. Но представление о доме, в котором вместе проживают мужчина или мужчины и их партнерши, женщины, доме, куда мужчина приносит пищу, а женщина ее готовит, является общим для всего мира. Однако эта картина может видоизмениться, и именно эти ее модификации показывают, что данное правило не является чем-то биологическим (* Контрастные примеры такого рода см. в моей работе: Contrasts and Comparisons from Primitive Society.- Annals of American Academy of Political and Social Science. 1932, vol. 160.). Среди жителей островов Тробриан3 каждый мужчина заполняет ямсом амбар своей сестры, а не жены. На островах Ментавай4 все мужчины работают в хозяйстве своих отцов до тех пор, пока втайне зачатые ими дети не подрастут и не смогут работать на них. До-этого времени дети усыновляются отцами их матери, и кормят их братья матери. Общий социальный эффект при этом остается тем же самым: каждый мужчина проводит большую часть своего времени, обеспечивая женщин и их детей, в данном случае - детей своей сестры вместо собственных. При крайних формах матрилинейности мужчина может работать в домохозяйстве матери своей жены, а в случае развода возвращается в собственный материнский дом, где существует за счет пищи, выращенной живущими в этом доме мужьями его сестер, как это имеет место у индейцев зуньи5. Но даже здесь, где социальная ответственность мужчины за женщин кажется сведенной на нет, мужчины продолжают трудиться, чтобы накормить женщин и детей. Еще более яркий пример, когда мужчины работают для того, чтобы прокормить детей, даже если их связь с матерью этих детей стала очень слабой, дает современное индустриальное общество, где множество детей живет в неполных семьях, получая помощь от государства за счет налогов, которыми облагаются работающие мужчины и женщины с более высокими доходами. Так что хорошо работающие и хорошо устроенные члены общества становятся отцами, обеспечивающими тысячи детей, находящихся на общественном попечении. Здесь мы снова видим, сколь расплывчатым оказывается желание мужчины обеспечивать собственных: детей, ибо его легко подорвать различными социальными установлениями.
Материнская забота и привязанность к ребенку, очевидно, настолько глубоко заложены в реальных биологических условиях зачатия и вынашивания, родов и кормления грудью, что только очень сложные социальные установки могут полностью подавить их. Там, где людей приучили превыше всего в жизни ценить ранг, где высшей ценностью оказывается достижение какого-нибудь ранга, женщина может задушить своего ребенка собственными руками (* Это делали некоторые женщины, принадлежавшие к обществу ареои^6 на Таити, а также некоторые индианки племени натчез^7. Детоубийство могло повысить их социальное положение). Там, где общество настолько высоко ставит принцип законнорожденности, что мужчины становятся надежными кормильцами незамужней матери только ценой ее общественного остракизма, мать незаконнорожденного ребенка может бросить его или убить. Там, где беременность наказывается социальным неодобрением и наносит оскорбление супружеским чувствам, как у мундугуморов, женщины могут идти на все, чтобы не рожать детей. Если женское чувство адекватности своей половой роли грубо искажено, если роды скрыты наркозом, мешающим женщине осознать, что она родила ребенка, а кормление грудью заменено искусственным кормлением по педиатрическим рецептам,- в этих случаях мы также можем найти очень серьезные расстройства материнских чувств, нарушения, которые могут охватить целый класс или регион и приобрести социальное и личное значение. Но имеющиеся в нашем распоряжении данные показывают, что проблема должна по-разному ставиться для мужчин и для женщин. Мужчинам нужно прививать желание обеспечивать других, и это поведение, будучи результатом научения, а не врожденным, остается весьма хрупким и может довольно легко исчезнуть при социальных условиях, которые не способствуют его сохранению. Женщины же, можно сказать, по самой своей природе являются матерями, разве что их специально будут учить отрицанию своих детородных качеств. Общество должно исказить их самосознание, извратить врожденные закономерности их развития, совершать целый ряд надругательств над ними при их воспитании, чтобы они перестали желать заботиться о своем ребенке, по крайней мере в течение нескольких лет, ибо этого ребенка они уже кормили в течение девяти месяцев в надежном убежище своих тел.
Таким образом, в основе тех традиционных форм, с помощью которых мы сохраняем наши приобретенные человеческие свойства, лежит семья, какая-то форма семьи, где мужчины постоянно обеспечивают женщин и детей, заботятся о них. В семье каждое новое поколение молодых мужчин учится соответствующему заботливому поведению, и тем самым на их биологически данную принадлежность к мужскому полу накладывается эта наученная родительская роль. Когда семья рушится, как это бывает при рабстве, при известных формах договорного труда и при крепостном праве, в периоды сильных социальных потрясений, вызванных войнами, революциями, голодом, эпидемиями и другими причинами, эта тонкая нить культурной трансмиссии рвется. В такие времена, когда первичной ячейкой в заботе о детях вновь становится биологическая данность - мать и дитя, мужчины теряют ясность ориентации, а те особые условия, благодаря которым человек поддерживал преемственность своих социальных традиций, нарушаются и искажаются. До сих пор все известные история человеческие общества всегда восстанавливали временно утраченные ими формы. Негр-раб в Соединенных Штатах содержался как племенной жеребец, а его дети продавались на сторону, поэтому недостаток отцовской ответственности все еще чувствуется среди черных американцев, принадлежащих к рабочему классу. В этой среде первичной ячейкой заботы о детях оказываются мать и бабушка, мать матери, к этой ячейке подчас присоединяются и мужчины, даже не внося в нее никакого экономического вклада. Но с приобретением образования и экономической обеспеченности этот дезорганизованный образ жизни отбрасывается, и американский негр-отец среднего класса, пожалуй, почти чрезмерно чадолюбив и ответственен. Часто поселения на границах какой-нибудь осваиваемой страны первоначально создаются одними мужчинами. Тогда в течение нескольких лет единственные женщины в этих селениях - проститутки, но позднее в них привозят и других женщин, и семья восстанавливается. До настоящего времени не было такого долгого перерыва в семейной структуре, который изгладил бы из памяти мужчин представление о ее ценности.
Это сохранение семьи вплоть до наших дней, ее восстановление после катастроф или идеологических разрушении не дает, однако, гарантии, что так будет всегда и что наше поколение может расслабиться и успокоиться. Люди научились быть человечными ценой большого труда и сохранили свои социальные изобретения вопреки всем превратностям судьбы. Это произошло отчасти потому, что при жизни маленькими, изолированными группами, отделенными друг от друга реками и горами, непонятными языками и враждебной пограничной стражей, некоторые из них всегда могли бережно сохранить дорого купленную мудрость, которой пренебрегли другие малые группы, точно так же как некоторые группы смогли избежать эпидемии, быстро стерших с лица земли других, или избежать ошибок в питании, приведших к медленному захирению и вымиранию других групп. Не случайно наиболее успешные и крупномасштабные случаи ликвидации семьи происходили не среди простых дикарей, существовавших на грани выживания, а среди великих наций и сильных империй, с богатыми ресурсами, громадным населением и почти неограниченной властью. В древнем Перу людей переселяли по воле государства. Оно забирало многих девочек из их деревень, делая неприглянувшихся ткачихами в больших женских монастырях, а приглянувшихся - наложницами знати. В России до 1861 года крепостных женили по приказу помещиков и обращались с ними скорее как со скотом, чем как с человеческими существами. В нацистской Германии рождение внебрачных детей всячески поощрялось: для таких детей и их матерей оборудовались превосходные ясли, и государство полностью заменяло отца, беря на себя обеспечение ребенка. Нет никаких оснований считать, что эта практика, продлись она достаточно долго у народов, сумевших оградить своих членов от сведений о других, прошлых или современных образах жизни, не могла бы восторжествовать. Советская Россия после кратковременного эксперимента по ослаблению брачных связей и снижению родительской ответственности за детей вновь стала подчеркивать роль семьи, но это произошло в контексте мировых отношений и в соревновании с остальным миром. Неудачные исторические попытки построить общества, в которых Homo sapiens действовал бы не как знакомое нам человеческое существо, но как существо, напоминающее скорее муравья или пчелу, хотя и с усвоенными, а не врожденными схемами поведения, служат нам предостережением. Сильнее, чем аналогии, которые примитивные люди видели между своим поведением и поведением мохнатых обитателей леса, они напоминают нам, что мы пользуемся нашей современной формой человечности в кредит и что можно потерять ее.
Если мы, таким образом, признаем, что семья, это структурированное объединение двух полов, где мужчины играют определенную роль в обеспечении женщин и детей, была первичным условием возникновения человечности, мы можем исследовать и другое: каковы те универсально человеческие проблемы, которые должны решать люди, живущие семьями, помимо самой первичной - воспитания у мужчин привычек и правил заботливости. Во-первых, необходимо добиться определенного постоянства семей, известных гарантий, что одни и те же индивидуумы будут вместе работать и вместе планировать свой труд, по крайней мере до сбора урожая, а обычно ожидают, что их объединение будет длиться всю жизнь. Как бы легок ни был развод, как бы часто ни распадались браки, в большинстве обществ существует предпосылка постоянной супружеской связи, идея, что брак должен длиться все время, пока живут оба супруга. Жен могут возвращать по причине их бесплодия или требовать от клана жены другую жену взамен; братья могут отдавать своих жен младшим братьям, с которыми они будут лучше ладить; жены могут оставлять мужей или мужья жен по пустяковым предлогам. И все же ата посылка - брак, длящийся всю жизнь,- живет. Ни одно известное общество не изобрело достаточно прочной формы брака, которая не включала бы в себя посылки "пока смерть не разлучит нас". С другой стороны, очень немногие примитивные общества довели эту посылку до крайности, до отказа признать возможность разного рода ошибок в браке. Юридическое требование пожизненного брака при всех обстоятельствах более всего подходит для тех обществ, которые настолько организованны, что группа может безлично принуждать индивида, каковы бы ни были фактические отношения между полами. Сейчас одно из условий создания и сохранения семьи как определенной социальной формы - обещание сохранять отношения на всю жизнь (в немногих случаях отношения как к сестре, а не к жене, но и здесь речь идет об отношениях, длящихся всю жизнь).
Чтобы обеспечить прочность и непрерывность отношений, образующих семью, каждое общество должно решить проблему соперничества мужчин из-за женщин так, чтобы они не перебили друг друга, не монополизировали женщин, лишив тем самым многих мужчин жен, не отогнали бы слишком много молодых мужчин, не обошлись бы жестоко с женщинами и детьми в брачном соперничестве. Когда мы представляем себо двух мужчин, вооруженных дубинами, стоящих друг против друга над сжавшейся от страха женщиной, мы подходим к проблеме соперничества как к чему-то, принадлежащему нашему отдаленному прошлому и не свойственному современному обществу. Но правила, регулирующие соперничество в выборе сексуального партнера, являются не унаследованными, а приобретенными, усвоенными. Именно поэтому они могут потерять свою силу в любой момент и должны постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям, иначе они рухнут, как не соответствующие более требованиям жизни. Говорят, что одной из причин, приведших к росту нацистской партии в Германии, была губительная практика Веймарской республики отдавать все имевшиеся рабочие места старшим мужчинам, что лишало молодежь возможности соперничать с ними в борьбе за женские милости. Во время второй мировой войны различие в оплате, получаемой американскими и британскими солдатами, имело значение прежде всего в самой Великобритании, так как оно давало первой группе преимущество над второй в ухаживании. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с резким изменением образа жизни, разделения труда, соотношения между полами, как в гарнизонах островов на Тихом океане во вторую мировую войну, перед нами вновь встает проблема соперничества за женщину. Она необязательно приводит к дракам ножом или камнями между двумя мужчинами, оспаривающими одну и ту же женщину. Но она может приводить к падению групповой морали, к осложнению производственных задач, к формированию революционных партий. Она может нарушать отношения между союзниками или же опрокидывать шансы па успех у демократической революции.
В современных обществах, где полигамия более не разрешается, а женщины не уходят в монастыри, выдвигается новая проблема - проблема соперничества женщин из-за мужчин. Здесь перед нами пример проблемы, которая своим происхождением почти полностью обязана обществу. Это продукт самой цивилизации, наложенный на биологические основы. Если соперничество за полового партнера рассматривать на простейшем физиологическом уровне, то именно мужчины с их постоянным влечением к женщине, с большей физиологической силой, необремененностью потомством оказывались естественными соперниками друг друга8. Женщины, хотя и не обязательно пассивные и незаинтересованные зрители борьбы за них, все же в большей степени были пешками в игре. Но когда цивилизация заменила кулаки и зубы сначала каменными топорами, ножами, винтовками, а затем более тонким оружием престижа и власти, проблема соперничества двух представителей одного пола за представителя другого стала все более отходить от своей биологической основы. Так, в тех обществах, где женщин больше, чем мужчин,- наше обычное западное соотношение полов - и где моногамия является правилом, мы находим наряду с борьбой мужчин за женщин и борьбу женщин за мужчин. Может быть, нельзя привести лучшего примера того, что может сделать общество, чем это характерное дополнение соперничества за полового партнера: пол, в наименьшей мере биологически приспособленный к борьбе, включается в активное соперничество.
Имеется весьма много разнообразных решений проблемы, какой мужчина должен обладать какой женщиной и при каких обстоятельствах и как долго, равно как и менее обычной, но современной проблемы - какая женщина должна владеть каким мужчиной. Некоторые общества допускают периоды дозволенной свободы половых отношений, в которых люди, считающие себя способными совокупляться с большим числом представителей противоположного пола, чем это позволено в обычной жизни, получают возможность осуществить свою мечту. Некоторые общества практикуют передачу или временный обмен женами между друзьями, так что сотрудничество мужчин подкрепляется еще и половыми связями. Некоторые общества разрешают всем мужчинам, принадлежащим к одному и тому же клану, иметь половые сношения с женами каждого из них. Отсюда и происходит кажущееся нам странным правило, что в период беременности жена может иметь половые сношения только с супругом. Среди усиаи, населяющих остров Манус9, юношам и девушкам раз в год устраивают совместный праздник, в конце которого каждый может выбрать себе партнера на ночь. После чего девушки обычно выходят замуж за более взрослых мужчин, а юноши женятся на зажиточных и опытных вдовах. В некоторых обществах более сильным мужчинам, сильным борцам, охотникам, мастерам земледелия, носителям народных преданий разрешается иметь больше жен, чем остальным. И во всех обществах необходимо в решении этой проблемы иметь в виду не только реальное положение вещей, такое, как относительная нехватка мужчин или женщин, но и мечты, воспитанные этим конкретным обществом. Мужчина-мундугумор будет обращаться со своей единственной женой так, как если бы она была одной из нескольких жен, потому что идеальный мужчина у мундугуморов - это муж нескольких жен, хотя сам он, слабый и бедный, может иметь всего лишь одну хромую жену, покрытую лишаями, в то время как у его брата их восемь или девять. Но мужчина-арапеш с двумя женами, одна из которых - вдова его брата или беглянка из более воинственных равнинных племен, будет всегда относиться к каждой из жен, как если бы она была его единственной, той, которую он кормил и лелеял в течение всей их долгой помолвки. Народ манус, сам пуритански моногамный, но окруженный веселыми полигамистами, считает, что в мире громадная нехватка женщин. Поэтому они не только стремятся обручить своих сыновей как можно раньше, по и повествуют о самых непристойных схватках в потустороннем мире за душу каждой умершей женщины. Папуасы кивай10 практикуют чрезвычайно усложненные магические ритуалы, для того чтобы обеспечить своим мальчикам удачный брак, а у эскимосов распространены как убийство младенцев-девочек (основывающееся на теории, что девочек слишком много), так и полигамия, приводящая к отнятию жен у других, так как женщин недостаточно.
Все эти ситуации соперничества, однако, касаются взрослых безотносительно к тому, оказывается ли в их основе борьба между более сильным взрослым и слабым юношей, или же между более привлекательной молодой женщиной и более обеспеченной старой, или же, наконец, борьба между сверстницами. Но имеется и еще одна проблема, которую должно решить каждое общество,- защита незрелых в половом отношении, являющаяся сутью проблемы инцеста. Мы уже рассмотрели11 различные способы обращения с развивающейся сексуальностью ребенка: как самоанский ребенок в годы своей половой незрелости защищен системой табу, налагаемых на отношения между братьями и сестрами; как идентификация ребенка с родителем того же пола, что и его собственный, придает особые формы напряженности и запретов отношениям с родителем другого пола. Защита детей от родителей, однажды принятая за желательную, связана и с потребностью защиты родителей от детей. Уберечь десятилетнюю девочку от приставаний отца - необходимое условие социального порядка, но и защита отца от искушений - обязательное условие его социальной адаптации. Защитные механизмы, уберегающие ребенка от вожделений родителей, воспитываемые в нем, находят свое существенное дополнение в установках родителей по этому вопросу. Как правило, табу инцеста расширяется самыми различными путями, так что не развитый в половом отношении ребенок защищается от всех взрослых, хотя эта защита может быть как минимальной, например у каинганг12, у которых все дети получают изрядную дозу сексуальной стимуляции от взрослых, так и максимальной, как в старой французской системе воспитания jeune fille. Эти запреты разрабатываются в виде неформальных табу, как, например, табу "развращения младенца", либо же в виде юридического определения "возраста согласия". Поколение назад матери объясняли своим дочерям это понятие как "возраст, в котором девушка может согласиться себе на погибель".
Основные правила инцеста охватывают три известных отношения в семье: отец - дочь, мать - сын, брат - сестра. Социальная необходимость правил, предотвращающих половое соперничество внутри семьи, хорошо иллюстрируется условиями семейной жизни у мундугуморов. Там табу на брак между людьми различных поколений было нарушено, не выдержав создавшейся благодаря ему чрезмерно усложненной системы брачных отношений. Мужчины получили возможность обменивать своих дочерей на новых жен для себя. Но это породило соперничество между отцом и сыном за дочь-сестру, так как и тот и другой хотели ее обменять на жену. Общество мундугуморов превратилось в джунгли, где каждый стал врагом другого. Оно еще существует только благодаря памяти о ранних социальных нормах, все еще соблюдаемых некоторыми людьми. Но именно эта память и не дает обществу приспособиться к новым условиям. Первичная задача любого общества - сохранить сотрудничество людей в кооперативных формах труда, и любое положение вещей, делающее всех членов общества врагами друг друга, для него фатально. Если мужчина - человек, обеспечивающий свою семью, то он должен обеспечивать своих сыновей и племянников, а не конкурировать с ними. Если ему необходимо сотрудничать с другими мужчинами, то он обязан разработать правила взаимоотношения с ними, исключающие прямое сексуальное соперничество.
Общества, сложившиеся на основе принципа взаимопомощи мужчин, а не их соперничества, могут перестроить табу инцеста так, что в них будет подчеркиваться не необходимость удерживать родственников от борьбы между собою, но необходимость устанавливать с помощью браков новые родственные связи. "Если ты женишься на сестре,- говорит арапеш,- то у тебя не будет шурина. С кем же тогда ты будешь работать? С ком охотиться? Кто поможет тебе?" И гневное осуждение вызывает антисоциальный человек, не выдающий свою сестру или дочь замуж, ибо обязанность мужчины - создавать новые родственные связи с помощью женщин, принадлежащих к его семье. Но приобретение себе шурина для совместной охоты, как у арапешей, невестки, чтобы командовать ею, как у японцев, или даже разрешение на царский инцест между братом и сестрой, как у древних египтян или гавайцев,- все это усовершенствование основного принципа инцеста. Им же является и расширение круга лиц, охваченных инцестуальными запретами. Иногда это расширение может простираться так далеко, что только благодаря великому чуду молодой человек может найти себе жену. В своей основе правила инцеста - способ, с помощью которого сохраняется семейная ячейка, а отношения внутри ее становятся личными и индивидуальными. Распространение правил инцеста на различные формы зашиты всех молодых, детей всего общества, их защиты от эксплуатации или негуманного отношения к ним - лишь один из примеров того, как охранительные и защитные находки нашей человеческой истории служат моделями для регулирования более широких аспектов социального поведения.
VI. Культура и преемственность. Исследование конфликта между поколениями
"Культура и преемственность. Исследование конфликта между поколениями" (Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap. Doubleday. N. Y., 1970).
Книга М. Мир "Культура и преемственность. Исследование конфликта между поколениями" - прямой отклик на студенческие волнения конца 60-х годов в США и Западной Европе. События, вызвавшие эту книгу к жизни, уже принадлежат прошлому. Сама исследовательница, склонная в момент написания книги придавать излишне глобальное значение этой "студенческой революции", была вынуждена признать в дополненном и пересмотренном издании 1978 г., что протест молодежи с его антивоенными лозунгами, резкой критикой буржуазного "истеблишмента" н лихорадочными поисками новых моделей жизни оказался легко "укрощенным" всей системой институтов буржуазного общества. Однако эта книга занимает важное и особое место в творческом наследии М, Мид. Это не только ее последняя книга, своеобразное духовное завещание американской исследовательницы (мы имеем в виду второе издание книги 1978 г., года смерти Мид). Никогда ранее исследовательница не поднималась до социологических обобщений таких масштабов в той области, которой она занималась всю свою жизнь,- воспитание как социальный механизм передачи культуры. Попытка Мид найти основные формы этого процесса (постфигуративная, кофигуративная и префигуративная), выразить его через межличностные отношения учителя и ученика, воспитателя и воспитуемого, показать культурно-историческую динамику этой человеческой "ячейки" усвоения культуры в зависимости от темпов научного и социального прогресса, динамики общественной жизни, безусловно, заслуживает внимания нашего читателя, хотя и не со всеми ее положениями он согласится.
В сборник вошли (с незначительными сокращениями) две первые главы из книги Мид издания 1970 г., ее первого издания. Составитель и переводчик сочли нецелесообразным включать в сборник третью главу книги "Префигуративные культуры будущего", в которой исследовательница выступает не столько в качестве строгого аналитика существующих форм передачи культуры от поколения к поколению, сколько в несвойственной ей роли "пророчицы" будущего. Социологически это наиболее слабая глава книги, подвергавшаяся критике как у нас, так и в США.
Глава 1. Прошлое: Постфигуративные культуры и хорошо известные предки
Разграничение, которое я делаю между тремя типами культур - постфигуративной, где дети прежде всего учатся у своих предшественников, кофигуративной, где и дети и взрослые учатся у сверстников, ипрефигуративной, где взрослые учатся также у своих детей,- отражает время, в котором мы живем. Примитивные общества, маленькие религиозные или идеологические анклавы главным образом постфигуративны, основывая свою власть на прошлом. Великие цивилизаций, по необходимости разработавшие процедуры внедрения новшеств, обращаются к каким-то формам кофигуративного обучения у сверстников, товарищей по играм, у своих коллег по учебе и труду. Теперь же мы вступаем в период, новый для истории, когда молодежь с ее префигуративным схватыванием еще неизвестного будущего наделяется новыми правами.
Постфигуративная культура - это такая культура, где каждое изменение протекает настолько медленно и незаметно, что деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут представить себе для них никакого иного будущего, отличного от их собственного прошлого. Прошлое взрослых оказывается будущим каждого нового поколения; прожитое ими - это схема будущего для их детей. Будущее у детей формируется таким образом, что все пережитое их предшественниками во взрослые годы становится также и тем, что испытают дети, когда они вырастут.
Постфигуративные культуры, культуры, в которых взрослые не могут вообразить себе никаких перемен и потому передают своим потомкам лишь чувство неизменной преемственности жизни, по современным данным, были характерны для человеческих сообществ в течение тысячелетий или же до начала цивилизации. Без письменных или других средств фиксации прошлого люди вынуждены были включать каждое изменение в свое сознание, хранить его в памяти и отработанных формах действий каждого поколения взрослых. Основные навыки и знания передавались ребенку так рано, так беспрекословно и так надежно - ибо взрослые выражали здесь свое чувство уверенности, что именно таков должен быть мир для него, раз он дитя их тела и души, их земли, их особой традиции,- что у ребенка не могло быть и тени сомнения в понимании своей собственной личности, своей судьбы. Только воздействие какого-нибудь внешнего потрясения (природной катастрофы или иноземного вторжения) могло, изменить все это. Общение с другими народами могло и не менять этого ощущения вневременности. Даже экстремальные условия вынужденных миграции, длительных плаваний к неизвестному либо же определенному месту по неизведанным морям, прибытия на необычный остров только подчеркивали это чувство преемственности.
Правда, преемственность в каждой культуре зависит от одновременного проживания в ней по крайней мере представителей трех поколений. Существенная черта постфигуративных культур - это постулат, находящий свое выражение в каждом деянии представителей старшего поколения, постулат, гласящий, что их образ жизни, сколь много бы изменений в нем в действительности ни содержалось, неизменен и остается вечно одним и тем же. В прошлом, до современного увеличения продолжительности жизни, живые прадеды встречались крайне редко, а дедов было немного. Тех, кто дольше всех был живым свидетелем Событий в данной культуре, кто служил образцом для более молодых, тех, от малейшего звука или жеста которых зависело одобрение всего образа жизни, было мало, и они были крепки. Их острые глаза, крепкие члены, неустанный труд были свидетельством не только выживания их, но и выживания культуры, как таковой. Для того чтобы сохранить такую культуру, старики были нужны, и нужны не только для того, чтобы иногда вести группы людей на новые места в периоды голода, но и для того, чтобы служить законченным образцом жизни, как она есть. Когда конец жизни известен человеку наперед, когда заранее известны молитвы, которые будут прочитаны после смерти, жертвоприношения, которые будут сделаны, тот кусок земли, где будут покоиться его кости, тогда каждый соответственно своему возрасту, полу, интеллекту и темпераменту воплощает в себе всю культуру.
В культурах такого рода каждый объект по своей форме, по тому, как с ним обращаются, как его принимают или отвергают, как им злоупотребляют, как ломают или же воздают ему незаслуженные почести, закрепляет формы производства и потребления всех других объектов. Каждый жест закрепляет, вызывает в памяти, отражает или же оказывается зеркальным образом, эхом любого другого жеста, более или менее полной версией которого он является. Каждое высказывание включает в себя формы, обнаруживаемые в других высказываниях. Любой сегмент поведения в данной культуре, если его проанализировать, оказывается подчиняющимся одному и тому же основополагающему образцу либо же закономерно связан с другими моделями поведения в данной культуре. В очень простых культурах народов, существующих в изоляции от других, это явление взаимосвязи всего со всем выступает самым рельефным образом. Но и очень сложные культуры по своему стилю могут быть постфигуративны и тем самым обнаруживать все свойства других постфигуративных культур: неосознанность изменений, успешную передачу из поколения в поколение каждому ребенку неистребимых штампов определенных культурных форм.
Конечно, условия, ведущие к переменам, всегда существуют в скрытой форме, даже в простом повторении традиционных действий, так как никто не может вступить в один и тот же поток дважды, всегда существует возможность, что какой-нибудь прием, какой-нибудь обычай, какое-нибудь верование, повторенное в тысячный раз, будет осознано. Эта возможность возрастает, когда представители одной постфигуративной культуры вступают в контакт с представителями другой. Тогда их восприятие того, чем, собственно, является их культура, обостряется.
В 1925 году, после столетия контактов с современными культурами, самоанцы непрерывно говорили о Самоа, самоанских обычаях, напоминали своим маленьким детям, что они самоанцы, вкладывая в эти определения унаследованное ими представление о своей полинезийской природе и чувство противоположности между ними и иностранцами-колонизаторами. В 1940-х годах в Венесуэле, в нескольких милях от города Маракайбо, индейцы все еще охотились с помощью луков, но варили пищу в алюминиевых кастрюлях, украденных у европейцев. И в 1960-х, живя анклавами в чужих странах, европейские и американские оккупационные войска и их семьи смотрели теми же непонимающими и неприемлющими глазами на "туземцев"- немцев, малайцев или вьетнамцев, живших за стенами их поселений. Ощущение контраста может только усилить сознание неизменности элементов, составляющих специфическую особенность группы, к которой принадлежит данный человек.
Хотя для постфигуративных культур и характерна тесная связь с местом своего распространения, этим местом необязательно должна быть одна область, где двадцать поколений вспахивали одну и ту же почву. Культуры такого же рода можно встретить и среди кочевых народов, снимающихся с места дважды в год, среди групп в диаспорах, таких, как армянская или еврейская, среди индийских каст, представленных небольшим числом членов, разбросанных по деревням, заселенным представителями многих других каст. Их можно найти среди маленьких групп аристократов или же отщепенцев общества, как эта1 в Японии. Люди, которые принадлежали когда-то к сложным обществам, могут забыть в чужих странах те динамические реакции на осознанную перемену, которые вынудили их к эмиграции, и сплотиться на новом месте, вновь утверждая неизменность своего тождества со своими предками.
Принятие в такие группы, обращение в их веру, обряды инициации, обрезания, посвящения - все возможно; но все акты такого рода - это принятие абсолютных и необратимых обязательств в отношении традиций, переданных дедами внукам. Членство в них, обычно приобретаемое по праву рождения, иногда избранием, определяется верностью этому безоговорочному и абсолютному обязательству.
Постфигуративная культура зависит от реального присутствия в обществе представителей трех поколений. Поэтому для постфигуративной культуры в особо сильной мере характерна ее генерационность. Ее сохранение зависит от установок стариков и от того почти неистребимого следа, который они оставляют в душах молодых. Оно зависит от того, могут ли взрослые видеть родителей, воспитавших их точно так же, как они воспитывают своих детей. В таком обществе нельзя взывать к мифическим фигурам родителей, тени которых так часто призывают в меняющемся обществе для того, чтобы оправдать родительские требования. Здесь нельзя прибегать к формуле: "Мой отец никогда не сделал бы того-то и того-то", когда дед сидит здесь же, заключив сердечный союз со своим внуком, а отец, требующий должного повиновения от сына, оказывается противником и того и другого. Вся система постфигуративного общества существует сейчас и здесь; она не зависит от каких бы то ни было толкований прошлого, которые бы не разделялись теми, кто их слушает. Они слушали их со дня рождения и поэтому воспринимают их как подлинную реальность. Ответы на вопросы: "Кто я? Какова. суть моей жизни как представителя моей культуры? Как я должен говорить, двигаться, есть, спать, любить, зарабатывать па жизнь, встречать смерть?"- считаются предрешенными. Вполне возможно, что смелость, чадолюбие, прилежность или же отзывчивость у отдельного человека будут не на уровне заветов дедов. Но и в своих недостатках он такой же представитель данной культуры, как другие ее члены в своих достижениях. Если самоубийство - признанная возможность, то некоторые или многие могут его совершить; если же нет, то те же самые саморазрушительные импульсы примут иную форму. Совокупность общечеловеческих мотивов действий и имеющихся в нашем распоряжении защитных механизмов, процессов осознания и восприятия, опознания и узнавания, процессов реинтеграции будет всегда одной и той же. Но способ их соединения неповторимо своеобразен и различен.
Различные народы бассейна Тихого океана, которыми я занималась в течение сорока лет, демонстрируют нам различные типы постфигуративных культур. Горные арапеши Новой Гвинеи, такие, какими они были сорок пять лет назад, показывают нам одну форму этой культуры. В уверенности, точности, с которыми осуществляется каждое действие - поднимают ли они что-нибудь большим пальцем ноги с земли или же обкусывают листья для циновок, чувствовалась та согласованность каждого движения, каждого жеста со всеми остальными, в которой отражено прошлое, каким бы изменениям оно ни подверглось, само по себе уже утерянное. Ибо для арапешей нет прошлого, помимо прошлого, воплощенного в стариках и в более юных формах в их детях и в детях их детей. Изменения были, но они настолько полно ассимилировались, что различия между обычаями более ранними и приобретенными позднее исчезли в сознании и установках народа.
Когда ребенка арапешей кормят, купают, держат на руках и украшают, мириады скрытых, никак не оговоренных навыков передаются ему руками, держащими его, голосами, звучащими вокруг, каденциями колыбельных и похоронных песнопений. Когда ребенка несут по деревне или же в другую деревню, когда он сам начинает ходить проторенными тропами, любая самая неожиданная неровность на знакомой дорожке - уже событие, регистрируемое его ногами. Когда строится новый дом, реакция на него проходящего мимо человека является для ребенка сигналом того, что здесь возникает что-то новое, что-то, чего не было несколько дней назад, и вместе с тем сигналом, что перед ним нечто довольно обычное, не поражающее воображения других людей. Эта реакция столь же слаба, как реакция слепого на иное ощущение солнечного света, пробивающегося через крону деревьев с листьями другой формы. Но она все же была. Появление чужака в деревне регистрируется с такой же точностью. Мускулы напрягаются, когда люди думают про себя, сколько нищи надо будет наготовить, чтобы ублажить опасного гостя, и где сейчас мужчины, ушедшие из деревни. Когда родился новый младенец на краю обрывистого берега, в "дурном месте", куда отсылают менструирующих и рожающих женщин, месте дефекаций и родов, то тысячи малых, но понятных знаков возвестили об этом, хотя никакой глашатай об этом не объявлял.
Живя так, как, по мнению арапешей, они всегда жили, с единственным прошлым неопределенной давности, безмерно давним прошлым, в месте, где каждая скала и каждое дерево служат тому, чтобы подкреплять и вновь утверждать это неизменное прошлое, старики, люди средних лет и молодежь воспринимали и передавали один и тот же набор поручений. Вот что значит быть человеком, мальчиком или девочкой, первым и последним ребенком в семье, родиться в клане старшего брата или же в клане одного из младших; вот что значит принадлежать к той половине деревни, покровителем которой является ястреб, и быть одним из тех, кто, выросши, будет говорить пространные речи на пирах; и вот что значит родиться или быть усыновленным в другой части деревни, расти, как какаду, и говорить кратко. Точно так же ребенок узнает, что многие дети рождаются и умирают, не вырастая. Он узнает, что жизнь хрупка, что ее могут отнять у новорожденного нежелательного пола, она может угаснуть на руках у кормящей матери, теряющей молоко, может быть потеряна потому, что рассердится какой-нибудь родственник, украдет часть тела и отдаст ее злым колдунам. Еще ребенок узнает, что обладание людьми землей вокруг них эфемерно, что существуют заброшенные деревни без людей, которые жиля бы под кронами их деревьев; что были сорта ямса, семена которых или заклинания для их выращивания утеряны, и от них остались только названия. Потери такого рода не считаются изменениями в привычном ходе вещей, они скорее постоянно повторяющиеся и закономерные явления в мире, где всякое познание текуче, а все ценное сделано другими людьми и должно быть позаимствовано у них. Танец, с которым они познакомились двадцать лет тому назад, сейчас ушел из деревни в глубинную часть острова, и только антрополог, этот человек извне, либо случайный гость из соседней этнической группы, убежденный в неполноценности горных народов, ищущий подтверждения своим теориям, может рассуждать о сохраненных и утерянных частях танца.
Чувство вневременности и всепобеждающего обычая, которое я нашла у арапешей, чувство, окрашенное отчаянием и страхом, что знания, необходимые для доброго дела, могут быть утрачены, что люди, кажущиеся все более маленькими в каждом следующем поколении, могут вообще исчезнуть, представляется тем: более странным, что эти люди не изолированы, как жители отдельных островов, не отрезаны от других народов. Их деревни простерлись от побережья до равнин по ту сторону гряды гор. Они торгуют с другими народами, путешествуют среди них, принимают у себя людей, говорящих на другом языке, с другими, но сходными обычаями. Это чувство тождества между известным прошлым и ожидаемым будущим тем более поразительно, что небольшие изменения и обмены между культурами происходят здесь все время. Оно тем более поразительно там, где так много можно обменять - горшки и сумки, копья и луки со стрелами, песни и танцы, семена и заклинания. Женщины перебегают из одного племени в другое. Всегда в деревне живут одна или две женщины из чужого племени, еще не умеющие говорить на языке мужчин, которые назвали их женами и упрятали их в хижинах для менструаций по их прибытии в деревню. Это тоже часть жизни, а дети усваивают на их опыте, что женщины могут убегать. Мальчики начинают понимать, что когда-то и их жены могут убежать, девочки - что они сами могут убежать и должны будут осваивать другие обычаи и другие языки. Все это тоже часть неизменного мира.
Полинезийцы, разбросанные по островам, расположенным за много сотен миль друг от друга, поселявшиеся там, где какая-нибудь маленькая группа приставала к берегу после многих недель плавания по морю, навсегда лишившись части своего имущества и потеряв многих людей, все же не только оказались с состоянии восстанавливать свою традиционную культуру, но и добавили к ней существенный новый элемент - решимость сохранить неизменной саму культуру, подлинность которой подтверждается авторитетом генеалогий, прослеживающих ее идентичность до эпохи мифологических предков. В полную противоположность этому народы Новой Гвинеи и Меланезии, в течение многих тысячелетий живущие на небольшом расстоянии друг от друга, но в несколько различных условиях, лелеяли и подчеркивали небольшие отличия друг от друга, видя в незначительных изменениях словарного состава языка, изменениях его ритмов и согласных возникновение нового диалекта. Они сохраняли чувство неизменного своеобразия своего народа в условиях непрерывного взаимообмена и небольших и некумулятивных модификаций обычаев.
Мы сталкиваемся с сохранившимися или восстановленными постфигуративными культурами у народов, переживших огромные и как-то отложившиеся в их памяти исторические перемены. Балийцы в течение многих веков подвергались сильнейшим иноземным влияниям - китайским, индуистским, буддийским, другой и более поздней ветви индуизма, принесенной вторгшимися яванцами, которые убегали от мусульманских завоевателей. В 30-х годах на острове Бали древность и современность сосуществовали друг с другом в балийских танцах и скульптуре, в китайских разменных монетах, в западных акробатических танцах, вывезенных из Малайи, в велосипедах торговцев мороженым с контейнерами, подвешенными к рулю. Посторонний наблюдатель и немногие образованные балийцы могли различить влияние высоких культур Востока и Запада, выделить элементы ритуала, относящиеся к различным периодам религиозных влияний, указать различие между брахманскими ритуалами Шивы и ритуалами буддийского происхождения. Не умудренный познаниями хранитель храма, принадлежащий к низшей касте в балийской деревне, также мог сделать это: когда в храм входил представитель высшей касты, он переставал употреблять привычные имена богов деревни, простое и удобное имя Бетара Деса, бог деревни, и взывал к имени высшего бога индуизма. У каждой деревни был свой, только ей присущий стиль, свои храмы, свои экстатические состояния, свои танцы. Каждая деревня, где господствовала одна из высших каст, отличалась от другой, где господствовала другая. И тем не менее на всем Бали властвовали две идеи, бесконечно и неустанно повторяемые одна за другой: "Каждая балийская деревня отличается от другой"; "Все на Бали одинаково". Хотя у них и было свое летосчисление и памятники иногда датировались, жили они по календарю, состоящему из циклов дней и недель. Некоторые периодически повторяющиеся комбинации недель отмечались праздниками. Когда завершают переписку новой книги, сшитой из пальмовых листьев,- новые книги у них копии старых, сделанных много лет назад,- то в конце ее ставится день и неделя, но не год. Изменения, которые в Меланезии сочли бы признаком, отличающим один народ от другого, в Полинезии просто бы отрицались или же сглаживались, а в культуре, преданной идее развития и прогресса, признавались бы за подлинное новшество,- эти же изменения на Бали рассматриваются как всего лишь капризы моды в мире циклических повторов, в мире, в своей основе неизменном, где в семьях вновь и вновь рождаются дети, чтобы прожить счастливую или несчастливую жизнь.
У балийцев длительная, богатая, очень разнообразная история диффузии, иммиграции и торговли. И тем не менее балийская культура столь же недвусмысленно, как и культура арапешей, оставалась постфигуративной до второй мировой войны. В ритуалах жизни, смерти и браков повторялись одни и те же темы. Ритуальная драма, живописующая борьбу между драконом, олицетворяющим жизнь и культ, и колдуньей, символизирующей смерть и страх, разыгрывалась перед матерями с младенцами па руках, игравшими с ними в свои вечные игры. Колдунья несла ткань, в которую мать заворачивает ребенка; дракон без страшных зубов и огненного языка, этих вечных атрибутов дракона, защищал близких безобидными челюстями, представляя балийского отца. В переживаниях старших и младших не было никакого разрыва. Ребенок на руках своей матери, расслабленный или напряженный от страха или восторга, не ждет ничего нового, отличного от ранее бывшего, мать же вспоминает свои собственные переживания на руках своей матери, когда она глядела на колдунью, волшебным покрывалом опрокидывающую навзничь своих онемевших преследователей.
Это же свойство вневременности можно найти даже и у тех народов, предки которых принадлежали к великим цивилизациям, полностью осознававшим возможность изменений в жизни. Некоторые иммигранты из Европы в Америку, в особенности те, которые были объединены общим культом, оседая в Новом Свете, сознательно строили общины, возрождавшие это же самое чувство вневременности, чувство неизбежного тождества одного поколения другому. Гуттериты, амиши, данкерды, сикхи, духоборы2 - у всех у них проявлялось подобное стремление. Даже сейчас - в этих общинах детей воспитывают так, что жизнь их родителей, родителей их родителей оказывается постфигуративной моделью для их собственной. При таком воспитании почти невозможно порвать с прошлым, разрыв означал бы, как внутренне, так и внешне, серьезную модификацию чувства тождества и непрерывности, был бы равносилен рождению заново - рождению в новой культуре.
Под влиянием контактов с непостфигуративными культурами или же постфигуративными миссионерскими культурами, делающими поглощение других культур одной из сторон своей собственной сущности, индивидуумы могут покинуть свою культуру и примкнуть к другой. Они привносят с собой сложившееся сознание своего культурного своеобразия и установку на то, что в новой культуре они будут сохранять это своеобразие точно так же, как в старой. Во многих случаях они просто создают систему параллельных значений, говорят на новом языке, пользуясь синтаксисом старого, рассматривают жилище как то, что можно сменить, но украшают и обживают его в новом обществе так, как они бы это сделали в старом. Это один из распространенных типов адаптации, практикуемых взрослыми иммигрантами, попавшими в чужое общество. Целостность их внутреннего мира не меняется; он настолько прочен, что в нем можно произвести множество замен составляющих его элементов, и он не потеряет своей индивидуальности. Но затем, однако, для многих взрослых иммигрантов наступает и время, когда эти новые элементы соединяются друг с другом.
Мы еще не знаем, возможен ли этот тип преобразования для людей, прибывающих из культур, лишенных самого понятия о преобразовании в каком бы то ни было виде. Японцы, родившиеся в Америке, но получившие образование в Японии и затем снова вернувшиеся в США (те японцы, которых мы называли кибеи в тяжелые дни второй мировой войны), не пережили особо острого конфликта обязательств, когда пришел момент выбора. В свое время они усвоили, что человек должен быть предан отечеству, но они также усвоили, что принадлежность к некоему обществу может быть утрачена и что одни обязательства могут стать на место других. То обстоятельство, что в свое время они были преданными японцами, принадлежность которых к этой нации признавалась всеми, означало, что они были способны стать и преданными американцами. Их постфигуративное идеологическое воспитание уже создало возможность полного перехода в другое общество.
Основываясь на процессах именно такого рода, мы можем объяснить, что происходило в давние времена в жизни женщин калифорнийских индейцев. Законы инцеста охватывали в их племенах все более широкий круг людей, так что им нельзя было выйти замуж в общинах, где мужчины говорили на их языке. Они были вынуждены уходить и всю свою жизнь жить чужаками в других языковых группах. В ходе несчитанных столетий это и привело к возникновению в одной и той же группе двух языков - мужского и женского. Ожидание контраста между этими языками и связанными с ними культурами матери и отца стало составной частью культуры, в которой человек был рожден, оно закрепилось напоминанием о предках в песнях, петых ему бабкой, в разговорах женщин между собой. Человек, появившийся на свет в этом племени, узнавал от своей матери или бабки, что женщины говорят на другом языке, чем мужчины, что мужчина, за которого она вышла замуж, научился понимать женский язык и говорить на мужском. Это ожидание стало составной частью системы установок, поддерживающих браки между народами, говорящими на различных языках.
Но как постфигуративные культуры могут включать в себя прогнозы ухода из них и принятия другой культуры, так же они могут воспитывать в своих представителях уверенность в невозможности приспособления к чужим культурам. Иши, одинокий калифорнийский индеец, найденный в 1911 году, когда он ожидал смерти, единственный представитель племени, истребленного белыми, не обладал никакими ранее усвоенными навыками, которые обеспечили бы ему полноценную жизнь в мире белых. Личность, сохраненная им, была личностью индейца племени яна, демонстрировавшего перед восторженной аудиторией студентов-антропологов Калифорнийского университета, как индейцы яна делают наконечники для стрел. Его раннее воспитание и его болезненный, травмирующий опыт десятилетнего бегства от белых хищников не включал в себя возможность перехода в другую группу3.
Ричард Гулд недавно исследовал австралийских аборигенов, жителей пустынь, перевезенных за много миль от своей собственной "страны", где каждая пядь их части пустыни была им известна и наделена глубоким смыслом. Их поселили в поселке, где жили аборигены, в большей мере подвергшиеся аккультурации. Жители пустынь применили метод, который австралийские аборигены используют с незапамятных времен, когда заходит речь об их связях с соседними племенами: они попытались соединить свою брачную систему с системой более культурных аборигенов. Но те, уже частично потерявшие свою индивидуальность, не занимавшиеся больше охотой, не устраивавшие сакральных церемоний и вместе с тем, как и их предки, противившиеся окончательной ассимиляции, были очень осторожны во взаимоотношениях. Здесь сказывались раны, полученные ими в их прошлых неудачных попытках общения с культурой белых. Австралийские аборигены не имели ничего против сожительства их женщин с мужчинами из другого племени при условии соблюдения ими табу, устанавливающих брачные классы. Но у белых не было брачных классов; вместо них у белых было глубоко укоренившееся чувство расового превосходства. Для них сексуальная доступность аборигенок была неопровержимым показателем их расовой неполноценности. В контактах с белыми аборигены потеряли свой разветвленный и хорошо испытанный метод соединения своей собственной культурной системы с другими. Паралич, наступивший в результате, затормозил аккультурацию.
То, как дети учатся языку у старших, определяет, в какой мере они будут в состоянии изучать новые языки уже во взрослом возрасте. Они могут учить каждый новый язык как некую систему, сопоставимую с прежними, что делает возможным перенос навыков. Так поступают новогвинейские народы, окруженные группами, говорящими на других языках; так делали евреи и армяне. Либо же они могут учить свой собственный язык как единственно верную систему, считая все другие системы несовершенным ее вариантом. Так американцы учили английский, когда им преподавали учителя, отвергшие родной язык своих родителей.
Итак, в течение веков детей воспитывали методами, выработанными культурой. Однако эти методы были пригодны для подавляющего большинства, но не для всех детей, родившихся в этом обществе. Различия между детьми проводятся по их индивидуальным отличительным особенностям, а сами эти особенности принимаются за некие универсальные категории, приложимые в той или иной мере к каждому ребенку. Балийцы считают, что есть дети по природе непослушные и дети по природе же рассудительные и добродетельные. Решение, в какую группу зачислить балийского ребенка, принимается очень рано и безотносительно к тому, было ли оно верным или неверным, принимается на всю его жизнь до старости. Самоанцы и французы делят детей по возрасту на тех, кто достиг возраста, когда он может понимать происходящее вокруг него, и на тех, кто этого возраста не достиг. Но ни одна известная нам культура не выработала еще достаточно разнообразных нормативов ожидаемого поведения, которые смогли бы охватить всех детей, рожденных в ее лоне. Иногда ребенок, слишком сильно отклоняющийся от этих нормативов, умирает. Иногда он лишь отстает, озлобляется или оказывается вынужденным отождествить себя с противоположным полом; такие дети, вырастая, мешают нормальной жизни людей вокруг них. Неврозы, если их понимать как выражение неэффективности принятой системы воспитания для отдельных индивидуумов, имеют место во всех известных нам обществах.
Во всех системах воспитания должны быть предусмотрены какие-то средства решения конфликта между просыпающейся сексуальностью ребенка и малыми размерами его тела, его подчиненным. положением, отсутствием зрелости. Иногда формы культуры почти рассчитаны на-какие-то стороны преждевременного созревания детей; так обстоит дело в обществах охотников и рыболовов, где пяти-шестилетние мальчики могут учиться у своих родителей искусству добывания пищи и могут жениться сразу же по достижении половой зрелости. Иногда от очень маленьких мальчиков требуется незаурядная смелость, как, например, у мундугуморов на Новой Гвинее, отправляющих своих детей заложниками в племя, с которым они заключили временный союз. Детей при этом учат побольше разузнать об этом племени, так чтобы со временем они смогли стать проводниками в охоте за головами в ту же самую деревню. В более сложных обществах однако, где исполнение взрослых ролей невозможно для семи- или шестнадцатилетних детей, должны практиковаться иные методы, для того чтобы примирить детей с отсрочкой их зрелости. Родители должны защитить себя от возрождения в детях их собственной, давно уже подавленной ранней детской сексуальности. В этом, может быть, и кроется причина того потворствования, когда маленьким балийским мальчикам разрешают бродить группами, непричесаниыми, неумытыми, не подчиняющимися никакой дисциплине; когда маленьких мальчиков батонга4 отдают на воспитание братьям их матерей и отнимают у их суровых отцов; когда родители-зуньи избегают ссор со своими детьми, проявляют кажущуюся снисходительность и вместе с тем втайне приглашают танцоров в страшных масках прийти к ним и дом и побить ослушников.
Итак, в любом постфигуративном обществе появление в каждом новом поколении эдипова вызова авторитету мужчины, вызова, по-видимому биологически целесообразного на ранних ступенях развития человека, но во всех известных нам культурах неуместного у детей, слишком юных для того, чтобы производить потомство и нести ответственность за него, должно найти соответствующий ответ, если общество хочет сохраниться. Ни в коем случае нельзя пользоваться преждевременной половой реактивностью детей; отсюда мы везде встречаем правила, запрещающие инцест. В то же самое время и взрослые должны быть защищены от воспоминаний, страхов, проявлений враждебности и отчаяния, возрождаемых в них их собственными детьми. В противном случае взрослые могли бы отвергнуть и уничтожить своих детей.
Можно также ожидать, что каждая социальная система произведет некоторые счастливые исключения - детей, которых одно событие за другим убеждает в том, что они находятся под особым благословением, что у них счастливая судьба, что они избраны для свершения дел более великих, чем ждут от их товарищей. Исключительность таких детей может быть институциональна, как у американских индейцев в тех культурах, где подростки вместе со взрослыми стремятся к экстатическому опыту, а люди, обладающие способностью к видениям и большой силой внушения, становятся вождями. Это допущение, что может появиться гений - особая комбинация силы темперамента, природной одаренности и установок социального окружения,- означает, что, если люди и идеи созрели, прозрение или мечта отдельных людей может творить новые формы культуры. Совпадение способностей с благоприятствующим им жизненным опытом зависит от самой культуры. В культурах, где отсутствует сама идея нововведения, изменения, нужны особоодаренные личности, чтобы внедрить даже самое малое новшество, такое, например, как небольшое изменение в существующем художественном стиле, в использовании нового сырья или увеличение размеров воинского отряда. Эти весьма малые изменения могут потребовать столь же большой одаренности, как открытия Галилея или Ньютона, творивших в русле великой традиции развития науки.
Мы все ещё очень мало знаем, как происходят такие благотворные прорывы в системах, воспроизводящих конформизм и повторение прошлого. Мы не знаем, как некоторые дети сохраняют свою непосредственность в системах, ее глушащих и регламентирующих, как они еще умеют удивляться, услышав столько сухих ответов, как они самым поразительным образом все еще хранят надежду среди господствующей нищеты и отчаяния. В течение истекшего полувека мы очень много узнали о травме рождения5, о влиянии на младенцев или детей событий, которые они не в состоянии или не подготовлены понять, но мы еще очень мало знаем о тех, кто необычайно одарен. А это одна из тех областей, о которой молодые люди задают вопросы.
Отношения между поколениями в постфигуративном обществе необязательно бесконфликтны. В некоторых обществах от каждого молодого поколения ждут мятежа - презрения к пожеланиям старших и захвата власти у людей старших, чем они сами. Детство может переживаться мучительно, и маленькие мальчики могут жить в постоянном страхе, что их взрослые дяди и тетки схватят их и подвергнут устрашающим ритуалам в их честь. Но когда эти маленькие мальчики подрастут, они будут ожидать от своих братьев и сестер тех же самых церемоний во имя своих детей, церемоний, которые так пугали и мучили их! И действительно, для некоторых из наиболее устойчивых постфигуративных культур, таких, как австралийские аборигены или же банаро6 с реки Керам в Новой Гвинее, характерно вовлечение всего населения в ритуалы пыток, инициации, коллективного обладания женщиной. Многие стороны этих обрядов нельзя охарактеризовать иначе, как пытки, вызывающие стыд и страх у жертвы.
Точно так же как узник, спящий на жесткой постели, много лет мечтает о мягкой и находит, выйдя из тюрьмы, что может спать только на жесткой, как голодающие люди, переехав к месту, где пища лучше, находят, что их тянет к менее питательной и ранее казавшейся невкусной пище их детства, так и всяким народ, по-видимому, более упорно держится за те культурные традиции, которые он усвоил ценою страданий, чем за приобретенные в удовольствиях и радостях. Дети, счастливо выросшие в комфорте, обнаруживают большую уверенность в себе, с большей легкостью приспосабливаются к новой обстановке, чем дети, первые жизненные уроки которых были связаны с наказаниями и страхом. Чувство принадлежности к определенной культуре, внушенное с помощью наказаний и угрозы изгнания из нее, удивительно устойчиво. Чувство принадлежности к определенной нации, связанное со страданием и способностью страдать, гордостью за прежние героические муки предков, может быть сохранено и в изгнании, в условиях, когда можно было бы ждать, что оно улетучится. Некоторые поразительно устойчивые общины, такие, как еврейская или армянская, обнаруживают перед нами сохраняющееся чувство национального характера в течение веков преследования и изгнания.
Но прототипом постфигуративной культуры служит эта изолированная примитивная культура, культура, в которой только лабильная память ее представителей сохраняет предания прошлого. У народов, не имеющих письменности, нет книг, спокойно дремлющих на полках, чтобы сверить действительно бывшее с вымыслом. Безгласные камни даже тогда, когда они обработаны и вырезаны рукою человека, с легкостью вписываются в пересмотренные версии о прошлом мира. Генеалогия, не связанная документами, конденсирует историю таким образом, что мифологическое и близкое прошлое сливаются вместе. "Ах этот Юлий Цезарь! Он заставил всю эту деревню поработать на дорогах". "Вначале была пустота". Разрушение памяти о прошлом или сохранение ее в форме, просто утверждающей настоящее, всегда было высокоэффективным средством адаптации примитивных народов даже с более развитым историческим сознанием, когда они начинали думать, что их маленькая группа возникла именно в том месте, где они живут сейчас.
Именно на основании знакомств с обществами такого рода антропологи приступили к разработке понятия культуры. Кажущаяся стабильность и чувство неизменной преемственности, характерные для этих культур, и были заложены в модель "культуры, как таковой", модель, которую они предложили другим, не антропологам, пожелавшим воспользоваться антропологическими категориями для истолкования человеческого поведения. Но всегда существовало явное противоречие между этнографическими описаниями малочисленных примитивных гомогенных, медленно изменяющихся обществ и разнообразием примитивных племен, населяющих такие регионы, как Новая Гвинея и Калифорния. Очевидно, что с течением времени, хотя и в пределах одного и того же технологического уровня, должны происходить большие изменения. Народы разделяются, языки дивергируют. Люди, говорящие на тех же самых языках, оказываются живущими за сотни миль друг от друга, группы людей резко противоположных физических типов могут говорить на одном языке, принадлежать к той же самой культуре.
Мне представляется, что до настоящего времени недостаточно обращали внимание на одно обстоятельство: когда у народа нет письменности, нет документов прошлого, то восприятие новизны быстро сглаживается и топет в общей атмосфере прошлого. Старшие, редактирующие ту версию культуры, которая передается молодым, мифологизируют или вообще отрицают перемену. Народ, всего лишь три или четыре поколения которого прожили в вигвамах на просторах великих американских прерий и который заимствовал саму форму вигвама у других племен, может придумать историю, как его предки научились делать вигвам, подражая форме свернутого листа. На Самоа старики вежливо выслушали рассказ о длительных морских путешествиях, некогда совершенных полинезийскими предками, из уст Те Ранги Хироа, гостя-полинезийца из Новой Зеландии, народ которого сохранил священный список древних путешествий, хранимый в памяти каждого поколения. Затем они твердо возразили ему: "Очень интересно, по самоанцы возникли здесь, в Фитиуте". Гость, полуполинезиец, полуевропеец и высокообразованный человек, будучи сильно раздражен, не нашел другого выхода, как спросить их, христиане ли они и верят ли в сады Эдема.
В размывании контуров какой-то перемены, в поглощении ее отдаленным прошлым играет немаловажную роль и ненадежность пашей памяти в воспроизведении пережитого. Мы нашли, что народ, который мог описать каждую деталь какого-нибудь события, происшедшего в период относительной стабильности, давал самые противоречивые и путаные отчеты о событиях более поздних, если они происходили в неспокойные времена. События, которые должны быть соотнесены с непривычной обстановкой, приобретают некий оттенок нереальности и со временем, если их не забывают вообще, принимают в памяти привычные формы, а их своеобразные черты, равно как и процесс, приведший к их появлению, забываются. Неизменность поддерживается в памяти вытеснением из нее всего того, что нарушает непрерывность и тождество.
Даже в культурах, включающих в себя идею изменения, обращение к сочным деталям для того, чтобы укрепить память о событиях как отдаленного, так и недавнего прошлого, помогает сохранить чувство преемственности в очень длительных промежутках времени. Это один из приемов оживления памяти, который может быть утрачен вместе со связанными с ним установками культуры в отношении ее индивидуальности и традиций. Но он может быть и возрожден. Устойчивое, не допускающее сомнения чувство своей особенности, всепроникающее сознание правильности любого аспекта жизни, характерное для постфигуративных: культур, может проявиться - и может быть восстановлено - на любом уровне культуры любой сложности.
Иммигранты, прибывающие в новую страну, такую, как Северная Америка или Австралия, из другой, где письменность уже насчитывает тысячелетия, а каждый город украшен зданиями, свидетельствующими об исторической последовательности перемен, могут утратить саму идею изменения. Без старых хроник, без старых ориентиров, рынков, деревьев или гор, вокруг которых оседала история, прошлое свертывается. Важен здесь и стиль их жизни в новой стране, стиль, сохраняющий многое из прошлого. То, что они продолжают говорить на своем языке, возобновляют свои привычные занятия (выращивают виноград па похожих почвах, сеют пшеницу на полях, сходных со старыми, строят дома, сохраняющие старые формы), и то, что ландшафт и даже ночь с ее привычным движением Большой Медведицы через северное неба им знакомы,- все это может дать иммигрантской общине чувство непрерывной преемственности. И это чувство может длиться: столько же, сколько люди живут группами, в которых деды сохраняют весь свой авторитет, а предписания, как выращивать урожай, хранить пищу или же как справляться с бедствиями, остаются в силе. В скандинавских общинах Северной Миннесоты иммигранты, приложившие очень много усилий к сохранению, старого образа жизни, сохранили и очень много сторон своей культуры.
Культура в детстве может быть усвоена настолько полно. и безусловно, а контакт с представителями других культур может быть настолько поверхностным, враждебным или заключать в себе такие контрасты, что чувство собственной культурной индивидуальности у человека может не поддаваться почти никаким изменениям. Отдельные индивидуумы поэтому могут жить в течение многих лет среди представителей других культур, работая и питаясь с ними, иногда даже вступая с ними в браки и воспитывая детей, и при этом не ставить под вопрос свою культурную-индивидуальность, не стремиться ее изменить. Окружающие, со своей стороны, и не предлагают им сделать этого. Или же целые группы могут выработать у себя обычай ограниченных миграций, как в Греции или в Китае. Все мужчины, достигнув определенного возраста, могут уходить в море, идти работать на рудники, виноградники или фабрики другой страны, оставляя своих женщин и детей дома. Через несколько поколений вырабатываются новые привычки жить в отсутствие отцов, но культура, хотя и в видоизмененной форме, все же передается в ее цельности.
Однако возможности перемен значительно вырастают, когда;, группа перемещается в иную среду, причем все три поколения покидают, свою страну и поселяются в местности, ландшафт которой сопоставим с прежней - здесь так же бегут реки и с тем же шумом море бьется о берег. В этих условиях старый образ жизни может быть сохранен в значительной мере, а воспоминания дедов и опыт внуков оказываются параллельными. Тот факт, что в новой стране уже холодно в начале сентября, а на старом месте грелись на солнышке вплоть до октября, что здесь нет семян подсолнуха, что ягода, собранная в начале лета, черная, а не красная, что у собранных осенью орехов иная форма, хотя их и называют, как и раньше,- все эти изменения вводят новый элемент в суждение дедов: а "в прежней стране" было иначе.
Это осознание различий ставит ребенка перед новым для него выбором. Он может слушать и понимать, что "здесь" и "там" - это различные места, делая тем самым факт миграции и перемены частью своего собственного сознания. Осознав же происшедшее, он может либо хранить в памяти контраст и с любовью смотреть на то немногое, что было унаследовано от старого образа жизни, либо же считать все эти воспоминания предков скучными, малопривлекательными и отбросить их. Правительство новой страны может требовать, чтобы иммигранты приняли новую идеологию, отбросили жизненные привычки прошлого, делали прививки своим детям, платили налоги, посылали свою молодежь в армию, а детей в школы изучать государственный язык. Но даже и без этих требований имеется много других факторов, мешающих молодым прислушиваться к старикам. Если их воспоминания слишком ностальгичны - если они рассказывают о многоэтажных домах, в которых они некогда жили, как делали йеменцы, прибывшие в Израиль, или романтизируют старые уютные крестьянские коттеджи, как это делают ирландцы в клетках городских трущоб,- то они только вызовут раздражение у их внуков. Прошлое величие - плохая компенсация за пустую кастрюлю, и оно никак не мешает разгуливать современным сквознякам.
Поэтому неудивительно, что многие из иммигрантов, даже живя вместе, своей общиной в стране, куда они иммигрировали, отбрасывают многое из прошлого, исключают из своей сузившейся жизни значительную долю богатств своего домиграционного прошлого. Люди, в свое время приобщенные к этому прошлому, хотя и в весьма ограниченной степени, как крестьяне или рабочие, позволяют умереть отголоскам прошлой книжности и истории, когда-то в них жившим, и удовлетворяются оскудевшей жизнью на новом месте. Именно такую жизнь вели англоязычные поселенцы гор на американском Юго-Востоке. Их культура, вне всякого сомнения, была британской по своему происхождению. Но в начале первой мировой войны были найдены группы, которые никогда не покидали своих долин и ничего не знали о стране, в которой они жили, даже названия ближайшего крупного города. И тем не менее они в свое время принадлежали к культурной традиции, в которой большое место занимала борьба королей и баронов, и эмигрировали они в Америку по религиозным и политическим причинам.
Угасание старой культуры такого рода, культуры, вполне пригодной для иного места распространения, иных средств к жизни или же популяции иных размеров, происходит повсюду в мире. Мы знаем южноамериканских индейцев, которые умеют прясть, но прядут они только орнаментальные нити для украшения своих тел и не ткут. Есть пароды, у которых система родственных связей развилась до такой степени, что превратилась в единственную форму социальной организации, а их предки входили в состав некогда созданных империй. Такие народы, как майя или критяне, образ жизни которых даже в том же самом ареале культуры потерял свою цельность, фрагментировался, утратили многое из того, что составляло внутреннюю суть культуры их предков.
Изменения такого рода модифицируют качественную характеристику культуры. Я полагаю, что мы можем сформулировать рабочее определение характера таких изменений и того момента, когда происходит коренное преобразование сути культуры, момента, когда мы уже не можем говорить о постфигуративной культуре и должны рассматривать то, что возникло, как культуру другого типа. Единственно существенная и определяющая характеристика постфигуративиой культуры или же тех ее аспектов, которые остаются постфигуративными среди всех громадных изменений в ее языке и традициях, состоит в следующем: группа людей, включающая в себя представителей по крайней мере трех поколений, принимает данную культуру за нечто само собой разумеющееся, так что ребенок, вырастая, принимает без тени сомнения все то, в чем не сомневался никто в его окружении. При таких обстоятельствах количество автоматически усваиваемых поведенческих реакций, отвечающих всем стандартам данной культуры, и внутренняя взаимосвязанность огромны, но только небольшая часть из них осознается: пирожные, готовящиеся к рождеству,- предмет самого пристального внимания, соль же в кастрюлю кладут автоматически. Магические знаки, намалеванные на коровниках, для того чтобы молоко не скисало, получают свои названия, а на соотношение накошенного сена с полученным молоком не обращают внимания. Предпочтения, оказываемые некоторым людям и животным, тонкости отношений между мужчиной и женщиной, привычка укладываться спать и вставать, способы сберегать и тратить деньги, реакции на удовольствие и боль - все это разветвленные структуры поведения, унаследованные индивидуумом. Можно показать, анализируя их, что они обладают внутренней согласованностью и универсальны, и тем не менее они остаются за порогом сознания. Именно это свойство подсознательности, невербализованности, необозначенности и придает постфигуративной культуре и постфигуративным аспектам всех культур их великую устойчивость.
Положение тех, кто усваивает новую культуру во взрослом возрасте, точно так же может включать в себя большое число механизмов обучения постфигуративного стиля. Фактически никто не учит иммигрантов из другой страны, как ходить. Но когда женщина покупает одежду своей новой родины и учится носить ее - сначала неуклюже натягивает снизу одежду, которую она видит на улице на женщинах, а затем приспосабливается к ее стилю, начинает надевать ее через голову,- она вместе с тем постепенно приобретает осанку и формы женщин в новой культуре. Другие женщины также реагируют на это подсознательно и начинают относиться ко вновь прибывшей скорее как к одной из соотечественниц, чем как к чужеземке, впускают ее в спальни, удостаивают доверия. Когда мужчины надевают на себя странные новые одежды, они учатся вместе с тем, когда прилично, а когда неприлично стоять, засунув руки в карманы, не вызывая замечаний или оскорблений со стороны окружающих. Это процесс многосторонний, и во многих отношениях, по-видимому, он столь же не требует приложения специальных усилий и столь же бессознателен, как процесс, в котором ребенок обучается в своей культуре всему, что не стало предметом специальных форм обучения и внимания. Народ, среди которого чужак нашел себе прибежище, так же мало ставит под вопрос свое собственное привычное поведение, как и старики, прожившие всю свою жизнь в рамках одной-единственной культуры.
Эти два условия - отсутствие сомнений и отсутствие осознанности - представляются ключевыми для сохранения любой постфигуративной культуры. Частота, с которой постфигуратирные стили культур восстанавливаются после периодов мятежей и революций, осознанно направленных против них, указывает, что эта форма культуры остается, по крайней мере частично, столь же доступной современному человеку, как и его предкам тысячи лет тому назад. Все противоречия, заложенные в памятниках письменности и истории, в архивах и кодексах законов, могут быть реабсорбированы такими системами, так как они принимаются некритически, находятся за порогом сознания и потому не могут подвергнуться атакам аналитического мышления.
Чем ближе такие неанализируемые, культурно детерминированные поведенческие реакции оказываются к реакциям самого наблюдателя, тем труднее их распознать даже опытному и хорошо подготовленному исследователю. Во время второй мировой войны редко приходилось сталкиваться с психологическим сопротивлением научному культурологическому анализу, пока речь шла о Японии, Китае, Бирме или Таиланде (такое сопротивление обычно возникало лишь у тех, кто пользовался иными стилями наблюдения-"старая китайская школа", как их называли). Но те же самые интеллектуалы, кто охотно принимал анализ культур азиатских или африканских народов, возражали упорно и взволнованно, когда речь заходила об анализе европейских культур, содержавших много подсознательных элементов, аналогичных их собственным. В этих случаях защитная реакция против самоанализа, реакция, позволявшая любому представителю одной евро-американской культуры думать о себе как о свободно действующем, не скованном культурой индивидууме, действовала и против анализа родственного культурного типа, например немецкого, русского, английского.
Соответственно и внезапное распознание какой-нибудь специфической постфигуративно выработанной формы культурного поведения, когда ее находят в собственном окружении наблюдателя, в людях его образовательного уровня, оказывается особенно поучительным. Подсознательное убеждение, что другие люди, которые внешне весьма отличаются от нас или живут на совсем ином социальном уровне, должны сильно отличаться и в каких-то глубинных наследственных отношениях, очень живуче. При этом люди могут настойчиво разглагольствовать о своей преданности науке, утверждающей, что расовые или классовые установки прививаются культурой, а не передаются генами. Но всякий раз, когда совокупность постоянных различий между людьми велика, прибегают к ее генетическим объяснениям. Большинство людей считают, что если другие люди очень сильно отличаются от них, то эти отличия могли быть только унаследованными. Поэтому культурно обусловленные различия приобретают всю свою психологическую реальность только тогда, когда человек должен обратиться к культурному объяснению необъяснимых элементов в поведении его французского или немецкого коллеги той же самой внешности.
Именно эти глубинные, не ставшие предметом анализа, необозначенные устойчивые поведенческие структуры, усвоенные от несомневающихся старших или же от несомневающихся представителей той культуры, где обосновались пришельцы, и должны стать предметом анализа, чтобы определенное понимание культуры смогло сделаться частью интеллектуальных наук о человеке, частью той духовной атмосферы, в которой эти науки только и могут процветать. Коль скоро люди знают, что они говорят на языке, отличном от языка их соседей, что их язык был усвоен ими в детстве и может быть усвоен иностранцами, они становятся способными к изучению второго и третьего языка, к построению грамматики, к сознательному видоизменению родного языка. Язык, взятый с этой точки зрения,- это просто тот .аспект культуры, в отношении которого уже давно было признано, что он не имеет ничего общего с наследственностью человека. Задача понимания другой культуры во всей ее целостности, понимании самых .глубинных механизмов эмоций, самых тонких отличий поз и жестов не отличается от задачи понимания другого языка. Но задача анализа таких целостностей требует других инструментов - дополнения опытного аналитического глаза и уха фотокамерами, магнитофонами и инструментами анализа.
Сегодня мы располагаем обилием примеров различных форм постфигуративных культур народов, представляющих все последовательные фазы истории человечества - от времен охоты и собирательства до современности. В нашем распоряжении теория и техника их исследования. И хотя примитивные народы, необразованные крестьяне и бедняки из сельских захолустий и городских трущоб не могут прямо рассказать нам обо всем, что они видели и слышали, мы можем зарегистрировать их поведение для последующего анализа, мы можем также дать им в руки камеры, так что они могут зафиксировать и помочь нам увидеть то, что мы в силу нашего воспитания не можем увидеть непосредственно. Известное прошлое человечества открыто перед нами и может рассказать нам о том, как после тысячелетия постфигуративной культуры и кофигуративной культуры, в котором люди учились старому от своих родителей, а новому от своих сверстников, мы подошли к новой стадии в эволюции человеческих культур.
Глава 2. Настоящее: Кофигуративные культуры и знакомые сверстники
Кофигуративная культура - это культура, в которой преобладающей моделью поведения для людей, принадлежащих к данному обществу, оказывается поведение их современников. Описан ряд постфигуративных культур, в которых старшие по возрасту служат моделью поведения для молодых и где традиции предков сохраняются в их целостности вплоть до настоящего времени. Однако обществ, где кофигурация стала бы единственной формой передачи культуры, мало, и не известно ни одного, в котором бы только эта модель сохранялась на протяжении жизни нескольких поколений. В обществе, где единственной моделью передачи культуры стала кофигурация, и старые и молодые сочтут "естественным" отличие форм поведения у каждого следующего поколения по сравнению с предыдущим.
Во всех кофигуративных культурах старшие по возрасту по-прежнему господствуют в том смысле, что именно они определяют стиль кофигурации, устанавливают пределы ее проявления в поведении молодых. Имеются общества, в которых одобрение старших оказывается решающим в принятии новой формы поведения, т.е. молодые люди смотрят не на своих сверстников, а на старших как на последнюю инстанцию, от решения которой зависит судьба нововведения. Но в то же самое время там, где общепризнано, что представители некоторого поколения будут моделировать свое поведение по поведению своих современников (в особенности когда речь идет о подростковых группах сверстников) и что их поведение будет отличаться от поведения их родителей и дедов, каждый индивидуум, коль скоро ему удастся выразить новый стиль, становится в некоторой мере образцом для других представителей своего поколения.
Кофигурация начинается там, где наступает кризис постфигуративной системы. Этот кризис может возникнуть разными путями: как следствие катастрофы, уничтожающей почти все население, но в особенности старших, играющих самую существенную роль в руководстве данным обществом; в результате развития новых форм техники, неизвестных старшим; вслед за переселением в новую страну, где старшие всегда будут считаться иммигрантами и чужаками; в итоге завоевания, когда покоренное население вынуждено усваивать язык и нравы завоевателей; в результате обращения в новую веру, когда новообращенные взрослые пытаются воспитать своих детей в духе новых идеалов, неосознанных ими ни в детском, ни в юношеском возрасте, или же в итоге мер, сознательно осуществленных какой-нибудь революцией, утверждающей себя введением новых и иных стилей жизнидля молодежи.
Условия для перехода к кофигуративному типу культуры становятся особенно благоприятными после возникновения высших цивилизаций, этих средств мобилизации ресурсов. Высшие цивилизации создают возможность представителям одного общества аннексировать, покорить, присоединить, поработить или обратить в свою веру представителей других обществ и контролировать или же направлять поведение младших поколений. Часто, однако, кофигурация как стиль культуры длится только в течение краткого времени. <...>
Тем не менее убеждение в возможности объединить в составе одного общества очень большое число взрослых, получивших различное воспитание, взрослых с различными установками, вносит значительные изменения в культуру этого общества. Поведение уже не так тесно связано с рождением в данном обществе, чтобы представляться чем-то скорее врожденным, чем приобретенным. Кроме того, так как новые группы, поглощенные коренным населением, все же сохраняют некоторые стороны своей собственной культуры, становится возможным провести различие между детьми, являющимися членами данного общества по праву рождения, и детьми, рожденными в группах, включенных в него. Вера в то, что можно ассимилировать большое число индивидуумов различных возрастов, может привести к большей гибкости, к большей терпимости к различиям. Но она может также побудить культуру к выработке некоторых контрмер, например к проведению более жестких границ между кастами, чтобы помешать пришельцам пользоваться привилегиями людей, принадлежащих к этой культуре по праву рождения.
Полезно сравнить разные виды культурной абсорбции. Там, где она принимает форму рабства, большие группы взрослых, как правило, насильственно уводятся из их родных мест. Им отказывают в праве придерживаться большинства их собственных обычаев, а их поведение регулируется темя, кто их поработил. В примитивных африканских обществах рабство практиковалось в больших масштабах. Порабощение применялось в качестве меры наказания; но и рабы, являвшиеся выходцами из других групп, в культурном и физическом отношении были подобны своим поработителям. Во многих случаях они располагали неотчуждаемыми правами. И после относительно небольшого промежутка времени семьи и потомки порабощенных включались в свободное общество. Клеймо рабства оставалось позорным клеймом на таких семьях, и можно было прибегнуть к различным уловкам, чтобы как-то скрыть прошлое, но не было никаких существенных различий в культуре или внешнем виде, различий, как-то ограничивающих право потомков рабов принадлежать к культуре, в которой они были рождены.
Иммиграция в США и в Израиль - типичный случай такого включения в культуру, когда от молодежи требуется, чтобы их поведение резко отличалось от поведения, характерного для культуры их предков. В Израиле иммигранты из Восточной Европы не обращают внимания на стариков - представителей старшего поколения, сопровождавших своих детей в иммиграцию. Они проявляют в отношении к ним меньше уважения как к людям, не имеющим больше власти, своего рода пренебрежение, подчеркивающее, что старшие не являются более хранителями мудрости или моделью поведения для молодежи.
В постфигуративной культуре молодежь может отворачиваться от слабостей стариков, она может и жаждать овладеть мудростью и могуществом, олицетворяемым ими, но в обоих случаях она сама со временем станет тем, чем сейчас являются старики. Но для потомков иммигрантов безотносительно к тому, была ли эта иммиграция добровольной или же вынужденной, отвернулось ли старшее поколение от нищеты и бесправия своего прошлого или же тосковало по прежней жизни, поколение дедов представляет собой прошлое, оставшееся где-то там... Глядя на это поколение, дети видят в них людей, по чьим стопам они никогда не последуют, и вместе с тем тех людей, какими бы стали они сами в другой обстановке, где влияние стариков сказалось бы и на них через родителей.
В медленно развивающихся обществах небольшие констатируемые изменений поведения, отличающие старшее поколение от младшего, могут трактоваться как изменение моды, т. е. как незначительные нововведения, привносимые молодежью в одежду, манеры, виды отдыха, нововведения, относительно которых у старших нет оснований для волнения. На Новой Гвинее, где народы постоянно заимствуют новые стили одежды друг у друга или даже торгуют ими, все женщины одного племени, молодые и старые, могут перенять новый модный стиль травяной юбки, сделав ее длинной спереди и короткой сзади (вместо короткой спереди и длинной сзади). Старуху, продолжающую носить старые, вышедшие из моды юбки, заклеймили бы как старомодную. Небольшие вариации в пределах господствующего стиля культуры не изменяют характера постфигуративной культуры. В любом случае девушки знают, что им придется действовать так же, как действовали их бабки. Когда они сами станут бабушками, они также либо примут новые моды, либо предоставят молодежи следить за сменяющимися модами. За идеей моды стоит идея непрерывности культуры. Подчеркивая модность чего-либо, хотят сказать, что ничто важное не меняется.
В новогвинейских культурах не проводят различия между изменениями, глубоко затрагивающими сердцевину культуры, и изменениями поверхностными, которые могут происходить многократно, не касаясь этой сердцевины, Во всей этой зоне мы сталкиваемся с принципиальной однородностью тех характеристик культуры, которые могут заимствоваться и отбрасываться. Многие из них кочевали от племени к племени неоднократно. Анализ новогвинейских культур показывает, как непрерывные малые изменения на поверхности могут фактически создавать устойчивую преемственность и стабильность более глубинных уровней культуры.
В отличие от этого ситуация, в которой имеет место кофигурация, характеризуется тем, что опыт молодого поколения радикально отличен от опыта их родителей, дедов и других старших представителей той общины, к которой они непосредственно принадлежат. Будут ли эти молодые первым поколением, родившимся в эмиграции, первыми по праву рождения представителями нового религиозного культа или же первым поколением, воспитанным группой победивших революционеров, их родители не могут служить им живым примером поведения, подобающего их возрасту. Молодежь сама должна вырабатывать у себя новые стили поведения и служить образцом для своих сверстников. Нововведения, осуществленные детьми пионеров - теми, кто первыми вступил на новые земли или вошел в общество нового типа,- имеют характер адаптации и могут быть истолкованы представителями старших поколений, понимающими свою собственную неискушенность в жизни новой страны, свою неопытность в вопросах новой религии или делах послереволюционного мира, как продолжение их собственной целенаправленной деятельности. Ведь именно они мигрировали; они рубили деревья в лесах или осваивали пустоши, создавали новые поселения, в которых дети, подрастая, получали новые возможности для своего развития. Эти уже частично сориентировавшиеся в новой жизни взрослые, хотя они то здесь, то там все еще совершают ошибки, справедливо гордятся лучшей приспособленностью своих детей.
В ситуациях такого рода конфликт между поколениями начинается не по вине взрослых. Он возникает тогда, когда новые методы воспитания детей оказываются недостаточными и непригодными для формирования того стиля жизни во взрослом возрасте, которого, по понятиям первого поколения иммигрантов, пионеров, должны были бы придерживаться их дети.
Пионеры и иммигранты, прибывшие в США, Канаду, Австралию или Израиль, не имели в своем прошлом опыте никаких прецедентов, основываясь на которых они могли бы не задумываясь строить систему воспитания своих детей. Какую свободу следует предоставить детям? Как далеко от дома им можно разрешать отлучаться? Как управлять их поведением - так же, как их отцы в свое время управляли ими, угрозой лишения наследства? Но и дети, выросшие в новых условиях, дети, создающие прочные связи друг с другом, борющиеся и с условиями новой среды, и с устаревшими представлениями своих родителей, копируют поведение друг друга все еще на очень подсознательном уровне. В США, где в одной семье за другой один за другим сын разрывал со своим отцом и уезжал на Запад или в другую часть страны, сама распространенность этого конфликта придавала ему видимость естественных отношений между отцами и сыновьями.
В обществах, где мы сталкиваемся с сильным конфликтом между поколениями, конфликтом, находящим свое выражение в стремлении отделиться или же в длительной борьбе за символы власти при переходе ее от одних к другим, вполне возможно, что сам этот конфликт является результатом какого-нибудь серьезного изменения среды. Будучи один раз включенными в культуру и принятыми за неизбежность, конфликты такого рода становятся составной частью постфигуративных культур. Прадед ушел из дому, так же поступил дед, и так же сделал, в свою очередь, отец. Или же, наоборот, дед ненавидел школу, куда его отец послал его; отец также ненавидел ее, но это не мешает ему послать своего сына в школу, хорошо зная, что и тот будет ее ненавидеть. Возникновение разрыва между поколениями, когда младшее, лишенное возможности обратиться к опытным старшим, вынуждено искать руководства друг у друга,- очень давнее явление в истории и постоянно повторяется в любом обществе, где имеет место разрыв в преемственности опыта. Такие конфигуративные эпизоды могут затем усваиваться культурой - общество резко дифференцируется по возрастным группам, восстание против авторитета старших на определенной стадии созревания институционализуется.
Ситуация, однако, приобретает совсем иной характер, когда родители сталкиваются у своих детей и внуков с таким стилем поведения, пример которому дают представители каких-то других групп: победители в завоеванном обществе, господствующая религиозная или политическая группа, коренные жители страны, куда они прибыли как иммигранты, старожилы какого-нибудь города, куда они мигрировали. В ситуациях такого рода родители вынуждены, в силу ли принуждения извне или же собственного желания, поощрять своих детей становиться частью нового порядка (разрешать детям отходить от них), осваивая новый язык, новые обычаи и новые манеры. Все это, с точки зрения родителей, может представляться как принятие детьми новой системы ценностей.
Новое культурное наследие передается этим детям взрослыми, которые не являются их родителями, дедами, жителями их собственных иммигрантских поселков, куда они недавно прибыли или где родились. Часто доступ ко всей полноте внутренней жизни той культуры, к которой они должны приспособиться, очень ограничен, а у их родителей его вообще нет. Но когда они поступают в школу, начинают работать или идут в армию, они вступают в контакт со своими сверстниками и получают возможность сравнить себя с ними. Эти сверстники в состоянии дать им более практические модели поведения, чем те, которые могут предложить взрослые, офицеры, учителя и чиновники - люди с непонятным для них прошлым и будущим, столь же труднопредставимым для них, как и их собственное.
В подобных ситуациях вновь прибывшие обнаруживают, что их сверстники, принадлежащие к данной системе,- наилучшие наставники. Так же обстоит дело и в таких учреждениях, как тюрьмы или психиатрические клиники, где существует резкий разрыв между их обитателями или пациентами и всесильной администрацией и их уполномоченными. В учреждениях такого рода обычно предполагается, что персонал - доктора и сестры, надзиратели и другие охранники - очень сильно отличаются от пациентов и заключенных. Вот почему новички моделируют свое поведение по поведению заключенных и пациентов, прибывших сюда ранее.
В кастовом обществе, как, например, в старой Индии, где социальная мобильность происходила в пределах касты, но не между кастами, представители различных каст жили в непосредственной близости друг от друга в рамках единой в своих основных чертах постфигуративной культуры. Невозможность выйти за границы касты - приобрести статус, прерогативы, нормы поведения представителя других каст - позволяет ребенку провести четкие границы в своем самосознании, чем он может и чем не может быть. В большинстве обществ тот же самый результат достигается при воспитании мальчиков и девочек. Представители каждого пола усваивают поведение другого в качестве отрицательной модели и отвергают ее. В этих условиях любой переход за границы, отделяющие один пол от другого, когда, например, мужчина выбирает род занятий, считающийся женским (а потому изнеживающим), или же женщина пытается выбрать мужскую профессию, приводит к резкому конфликту между поколениями.
Однако конфликты между поколениями прежде всего присущи классовым обществам с высокой вертикальной мобильностью. Молодой человек, завоевывающий иное положение в обществе, отличное от его родителей, будь они крестьянами или представителями средних классов в аристократическом обществе, представителями угнетенной расовой или этнической группы, должен открыто и осознанно разорвать с постфигуративными моделями, олицетворяемыми его родителями и дедами, и искать новые модели для своего поведения. Он может это осуществить разными способами. В некоторых обществах, например где обычай уходить на заработки в город и усваивать городские нравы распространен лишь среди небольшого количества жителей деревни или крестьян, мигранты рассматривают формы городского поведения в качестве параллельных, а не противоречащих деревенским формам. Они не порывают со своим прошлым воспитанием. После многих лет жизни в городе мелкий чиновник возвращается на родину и доживает там свои дни, питаясь той же самой пищей: и придерживаясь тех же обычаев, что и его отец.
Но в большинстве классовых обществ изменение рода занятий и социального положения, влекущее за собой видоизменение поведения, также связано и с изменениями в структуре личности. Как правило, первый разрыв со стилем поведения родителей возникает в результате полученного образования, в тех случаях, когда родители выбирают для своих детей образование нового типа, ставят перед ними задачу приобрести другую профессию. Последствия, однако, здесь зависят от ситуации. Если число таких молодых людей велико, они становятся образцами поведения друг для друга и, отвергая в новых условиях поведенческие модели взрослых, рассматривают своих учителей и администраторов как противостоящую им силу, которую скорее нужно перехитрить, чем следовать ее примеру. Но когда число новообращенных, учащихся, новичков, вовлеченных в изменения, мало, моделью для их поведения служит поведение большинства. Либо же одинокий подросток, возможно, привяжется к одному наставпику, который как-то сможет поддержать его и повести по пути к зрелости.
Эта страстная привязанность к взрослому ментору может придать большую глубину духовному миру подростка, но она же может породить и отчуждение молодого человека от своей собственной возрастной группы. В этом случае ему не только не удастся воспроизвести с достаточной точностью поведение своих вновь обретенных сверстников, но он также перестанет себя вести, как свойственно представителю его класса или культурной группы. Он не вписывается в свое новое окружение, а возвращаясь в родную среду, не может восстановить там прежние взаимоотношения. И наоборот, мальчики и девочки, с энтузиазмом включающиеся в жизнь школы или колледжа, устанавливающие хорошие отношения со своими собственными сверстниками, возвращаясь домой на краткое время, в состоянии передать это чувство непринужденности своим близким. Одинокий, ориентирующийся на взрослых подросток, возвращаясь домой, будет казаться чужим своим товарищам, но группа школьников, выработавшая свой стиль поведения, может послужить моделью для своих младших братьев (и сестер), которые будут считать естественным следовать их примеру.
Вторжение в любую взрослую группу чужаков с иным опытом жизни неизбежно приводит к изменениям в армии, школе, системе монашеской жизни; часто при этом вся возрастная группа начинает ставить перед собой такие цели, которые резко отличаются от целей их офицеров, учителей или наставников. Новые пришельцы могут принести с собой стиль поведения, не укладывающийся в рамки нормального и одобряемого поведения коренных представителей данного общества. Они, вводя новые жаргонные выражения и новые точки зрения, могут видоизменять стиль поведения коренных представителей данного общества и становиться для них образцом для подражания. Но во всех случаях кофигуративное поведение с его расплывчатыми представлениями и о прошлом и о будущем, поведение, направляемое какой-либо кликой или группой, по необходимости оказывается неглубоким и в известной мере оторванным от постфигуративного опыта детства. Когда отрыв детей от дома, призванный нарушить связи между подростками и родителями, подростками и местными группами, становится нормальной практикой в их профессиональном обучении, освобождение подростка от власти традиций детства институционализируется. Мальчик из английской школы-пансионата не считает возможным очень много распространяться о своих школьных переживаниях, хотя он и знает, что школьный опыт его собственного отца точно такой же. Само-тождество этого опыта может создавать барьер в общении отца и сына.
Исследователи подросткового возраста подчеркивают присущий ему конформизм. Но этот подростковый конформизм свойствен культурам двух типов: культурам, в которых кофигуративное поведение стало социально институционализированным на протяжении жизни многих поколений, например в обществе с институционализированными возрастными градациями, или же - противоположный случай - культурам, где большинство подростков, не находя примера в поведении своих родителей, чей опыт им чужд, вынуждены ориентироваться на указания извне, кототрые могут дать им чувство принадлежности к новой группе.
В своей простейшей форме кофигуративное общество - это общество, в котором отсутствуют деды и бабки. Молодые взрослые, мигрирующие из одной части страны в другую, могут оставлять своих родителей на старом месте или же, эмигрируя в новую страну, на родине. Точно так же старшее поколение; не редко отсутствует в современном мобильном обществе, таком, как США, где как молодые, так.и старые часто переезжают с места на место. Это явление свойственно и индустриальным высокоурбанизированным обществам, в которых обеспеченные или очень бедные люди отделяют от себя престарелых, предоставляя им для жительства специальные дома или районы.
Переход к новому образу жизни, требующему приобретения новых умений и форм поведения, представляется более легким тогда, когда нет дедов, помнящих о прошлом, формирующих опыт растущего ребенка, закрепляющих непроизвольно все невербализованные ценности старой культуры. Отсутствие старшего поколения, как правило, означает и отсутствие замкнутых узких этнических общин. И наоборот, если деды составляют часть группы, иммигрировавшей в чужое общество, тесные связи внутри деревенской общины могут обеспечить ее целостность.
Когда молодые взрослые предоставлены самим себе и создают новые связи, отвечающие новому стилю жизни, ослабляются и связи между двоюродными братьями и сестрами. Именно старшие поколения поддерживают контакты между младшими. В США живущие дяди и тетки, поддерживая отношения со своими племянниками и племянницами, сохраняют и отношения между двоюродными братьями и сестрами. Когда они умирают, эти отношения слабнут.
С физическим удалением поколения дедов и бабок из мира в котором воспитывается ребенок, его жизненный опыт сокращается на поколение, а его связи с прошлым ослабевают. Характерная черта постфигуративной культуры - вопроизведение в отношении человека к своему ребенку или к своим родителям опыта прошлого - исчезает. Прошлое, когда-то представленное живыми людьми, становится туманным, его легче отбросить или же исказить в воспоминаниях.
Нуклеарная семья, т. е. семья, состоящая только из родителей и детей, действительно представляет собой очень гибкую социальную группу в тех ситуациях, в которых большая часть населения или каждое следующее поколение должны усваивать новые жизненные привычки. Легче приспособиться к стилю жизни в новой стране или к новым условиям, если иммигранты и пионеры отделены от своих родителей и других старших родственников и окружены людьми своего собственного возраста. И принимающее общество также может больше получить от иммигрантов, прибывающих из многих культур, если все, они изучают новый язык и новую технологию и поддерживают друг у друга обязательства, вытекающие из нового образа жизни.
В больших организациях, от которых требуется, чтобы они менялись, и менялись быстро, уход на пенсию - социальное выражение той же самой потребности в гибкости. Устранение старших чиновников, престарелого персонала, всех тех, кто своей личностью, памятью, неменяющимся стилем отношения к молодежи укрепляет и поддерживает устаревшее, аналогично по своему характеру устранению дедов из семейного круга.
Когда этого поколения нет или когда оно потеряло власть, молодежь может сознательно игнорировать стандарты поведения старших или же быть безразличной к ним. Подросток играет свою ограниченную и четко определенную роль перед аудиторией более младших, и возникает полная кофигурация, при которой те, кто служит примером, всего лишь на несколько лет старше тех, кто у них учится.
Это происходит сегодня на Новой Гвинее, в деревнях манус на островах Адмиралтейства. В 1928 году молодые люди, уходившие на заработки по договору как неквалифицированные рабочие, вновь полностью сливались со своей общиной. Они могли служить моделью поведения для молодых только в том смысле, что младшие мальчики тоже хотели уйти на заработки и затем вернуться. Теперь же, однако, мальчики и девочки, возвращающиеся из школ домой, с их школьной формой, транзисторами, гитарами и учебниками, представляют в своем лице законченную картину иного образа жизни. Хотя сейчас на острове много сельских школ, именно подростки, возвращающиеся домой из школ-интернатов, служат образцами поведения для мальчиков и девочек младше их. Взрослые одобряют все это, но сами они мало чем могут помочь детям в усвоении радикально новых форм поведения.
Нуклеарные семьи, исключающие поколение дедов и очень сильно ослабляющие все остальные родственные связи, типичны для условий иммиграции, в которых большое число людей перемещается на далекие расстояния или вынуждено приспосабливаться к новому стилю жизни, очень несходному с прежним. Со временем эта установка на организацию нуклеарной семьи усваивается новой культурой; даже в тех случаях, когда в семью входят представители старшего поколения, их влияние сводится к минимуму. Никто больше не ждет от них, что они будут служить образцами поведения для своих внуков либо же что они будут осуществлять строгий контроль над браками и карьерами своих взрослых детей. Установка на то, что дети уйдут от своих родителей либо же окажутся вне их влияния, как в свое время сделали и сами родители, становится частью такой культуры.
Если все те, кто мигрировал в большой город или же уехал в отдаленную колонию, принадлежат к одной культуре, то власть уходит из рук старшего поколения, с мнением которого не считаются. Она сосредоточивается в более младшей возрастной группе, и первое поколение детей, приспособившихся к новым условиям, вырабатывает стиль поведения, в котором может возродиться некоторый ослабленный вариант старой культуры. В конригурациях такого рода потеря старшего поколения не компенсируется. Когда мигрировавшие взрослые сами достигнут пожилого возраста, они, исключая конфессиональные группы, живущие в изоляции, или же аристократию, не восстанавливают утерянную трехгенерационную организацию семьи. Новой культуре часто не хватает глубины и разнообразия. Если она теряет эти качества, как это и происходит во многих этнических анклавах США и Аргентины, культура становится менее гибкой, менее открытой для адаптационных нововведений, чем старая постфигуративная культура. Доказательством тому могут служить хорошо известное сужение воображения в колониальных культурах, сохранение архаических форм речи, восстановление родственных связей внутри поколения, неприятие чужаков.
В старых и очень сложных обществах постфигуративные культуры или секты в состоянии пережить самые разные социологические изменения. Примером может служить культ игрушечной лошадки в Англии7, где участники церемоний носят маски, напоминающие самые примитивные культуры, и выполняют ритуальные действия, передаваемые от одного поколения к другому в течение сотен лет. В Англии, как и в других местах, такие пережитки существуют бок о бок с обычаями середины двадцатого века.
В истории снова и снова нужно было изыскивать способы стабилизации культуры в новом окружении. В свое время для этого всегда можно было, разумеется, прибегнуть к помощи поколения дедов, но можно найти способы стабилизации культуры и не обращаясь к пожилым. Так, например, технология и культ эскимосской культуры не требовали познаний или же эзотерической мудрости стариков. Стиль этой культуры, включавшей далекие переезды и длительные семейные визиты, настоятельно требовал разработки очень быстрых и эффективных способов ориентации охотника на новых местах. В отличие от австралийских аборигенов, стиль обучения у которых связан со знанием территории, приобретаемым в течение всей жизни, с наделением этой территории глубоким сверхъестественным смыслом, эскимосы разработали методы быстрой передачи информации, которые позволили им свободно и легко перемещаться по новым местам. В этой культуре не было необходимости в стариках как носителях знаний. Когда старики становились бременем, угрожавшим выживанию молодых, они сами предпочитали умереть. Сопоставимо с этим положение старого шахтера в США и Великобритании - странах, в техническом отношении чрезвычайно отдаленных от эскимосской культуры: в них шахтер, переживший период своего расцвета, перестает играть активную роль в замкнутых, строго регулируемых общинах, населенных исключительно горняками. В Польше до первой мировой войны крестьяне-землевладельцы обычно передавали землю своему женатому сыну в обмен на гарантии, что он будет заботиться о пожилой паре в течение всей оставшейся жизни. Но эти гарантии иногда оказывались необязательными для детей, и стариков выгоняли нищенствовать по дорогам.
Та легкость, с которой многие представители второго и третьего поколений американцев снимали с себя всякую ответственность за пожилых, связана с утратой санкций в этой области. Крах системы этих санкций, когда-то осуществлявшихся самими стариками, владевшими собственностью до смерти, может означать, что прежнее положение стариков в обществе никогда уже не будет восстановлено. Аналогичным образом и там, где продолжительность жизни стариков в результате улучшения медицинского обслуживания выходит за пределы ожидаемой нормы, их могут лишить обязанностей, которые следующее поколение с полной готовностью возьмет на себя. Каждый такой сдвиг в культуре, отражающий ее адаптацию к новым условиям, несет с собой возможности изменения и устранения глубинных характеристик постфигуративных культур.
В условиях быстрого изменения культуры в новой стране или же в новой обстановке мужчины и женщины могут реагировать на него совершенно различно. Новые способы заработка могут радикально изменять положение мужчин, которые переходят, например, от полной сопричастности жизни всех в деревенской общине или же от косной, строго контролируемой жизни арендатора к анонимной жизни городского неквалифицированного рабочего. Но условия жизни для женщин при этом могут меняться очень мало, так как они продолжают готовить пищу и воспитывать детей во многом так же, как делали их матери. В таких обстоятельствах те части культуры, которые передаются женщинами в ходе формирования личности ребенка в первые его годы, могут остаться нетронутыми, в то время как другие ее части, связанные с резким изменением условий работы мужчины, меняются радикально и, в свою очередь, ведут к изменениям характера у детей.
Культуры можно отличать друг от друга не только по относительной значимости ролей, играемых старшим поколением и другими сородичами, но и по тому, насколько неизменна форма того, что передается от старшего поколения к внукам. Например, там, где произошло изменение в стиле жизни, где, например, женщины, выходящие замуж, вместо того чтобы оставаться рядом со своими матерями, уезжают жить к мужьям, об этой перемене будет свидетельствовать и разрыв с традиционными стилями рукоделия. С другой же стороны, чрезвычайный консерватизм стилей пения, обнаруженный Аланом Ломаксом8 в его сравнительном исследовании песенных стилей мира, может быть частично приписан неизменности тех колыбельных песен, которые поколения матерей напевали своим детям вопреки всем грандиозным изменениям в образе жизни народа.
Консерватизм в воспитании детей - характерная черта тех культур, в которых маленькие дети присматривают за младенцами, а младший ребенок по своему возрасту очень близок к по-посредственному прошлому своей маленькой няньки. Эта маленькая нянька очень мало требует от него и очень мало может ему дать; она предпочитает таскать его за собой, чем научить его заботиться о себе. В очень сложных культурах няньки из крестьян, придерживающие детей у своей юбки, сводящие стимуляцию ребенка к минимуму, также оказывают характерно консервативное влияние на своих воспитанников.
Когда в общество, использовавшее детей в качестве нянек, вводятся школы, культурные традиции могут быть нарушены во многих отношениях. Старших детей отрывают от непрерывного усвоения традиционных умений, их отделяют от семей и ставят под руководство учителей, стиль и содержание обучения у которых могут быть чем-то совершенно новым для данного общества. В то же самое время матери должны взять на себя заботу о младших детях. Это, естественно, происходит и тогда, когда крестьянство не поставляет больше нянек для ухода за детьми обеспеченных людей. В обоих случаях в жизненной ситуации возникает новый элемент. Матери и отцы, имеющие другие серьезные обязанности, значительно более требовательны к детям, менее терпимы, с меньшей охотой мирятся с их зависимым, инфантильным положением. К тому же пример, являемый ими своим детям, значительно более сложен, требует от них усвоения большого числа навыков.
Наличие кастового компонента в воспитании детей порождает очень сложные взаимоотношения между двумя группами. На американском Юго-Востоке, где дети, принадлежащие к высшим классам белых, воспитывались негритянками, белый ребенок приобретал чувство близости к черным, а нянька училась относиться к своему подопечному не так, как она относится к собственному ребенку. Своего рода интимность отношений, существовавшая между этими двумя взаимодействующими группами, совершенно отсутствовала у других, кто, будучи белыми, не имели слуг, а если черными, то не трудились в качестве домашней прислуги. Нынешний рост взаимоотчуждения и проявлений взаимной враждебности между белыми и черными представляет собой новый вид сегрегации, порожденный тем, что меньшее число семей держит слуг и меньшее число черных вступает в близкий контакт с белой общиной в качестве ли нянек, сиделок или же, наоборот, в качестве пациентов, забота о которых ранее осуществлялась белыми сестрами, докторами или представителями других профессиональных групп.
В США консервативные и стабилизирующие последствия старых межкастовых и межклассовых отношений исчезают очень быстро. Со времен второй мировой войны перемены в образовании, отказ выполнять наемные работы по дому, возникновение новых возможностей для приложения труда, включая его высококвалифицированные сферы, новые закономерности расселения - все это привело к общему краху старой системы взаимоотношений между теми, кто следует стандартам старой культуры, и теми, кто по причине цвета кожи, образования, социальной изоляции или личных склонностей отказывается им следовать.
Каждая культура при воспитании детей придает особое значение только некоторым возрастным периодам созревания ребенка, в различных слоях одного и того же сложного общества эти периоды могут быть разными. На их выборе сказываются характер отношений между поколениями, равно как и возрастные и классовые факторы внутри поколений, он изменяется в зависимости от преобладающих генерационных структур семей. В культурах, обращающих особое внимание на кормление ребенка в раннем детстве, важную роль соответственно играют матери и бабки. Где мальчик очень рано начинает учиться управлять своим телом и осваивать навыки, связанные с приобретением мужских умений, там отец и дед приобретают важное значение, как только мальчик начинает ходить и говорить. И в той мере, в какой мужская и женская личность в обществе противопоставлены, воспитание, даваемое мальчикам и девочкам па этой эдиповой фазе их развития, оказывается различным.
Когда среди иммигрантов утвердится новый культурный стиль, когда примитивные или крестьянские народы подпадают под прямой контроль национальных государств или же когда народу навязываются новые образовательные или технические стандарты, то стадия развития ребенка, на которой требуется дать ему образование, соответствующее новому стилю, может отличаться от той, что была в прошлом. Максимальному давлению в этом плане может подвергнуться молодой человек тогда, когда он оставляет дом и призывается в национальную армию, подросток, когда оставляет сельскую школу, чтобы поступить в региональную, или же шестилетний ребенок, когда он поступает в сельскую школу, организованную на иностранный манер. Либо же начальное влияние нового стиля может прийти с новыми способами ухода за ребенком, пропагандируемыми среди молодых взрослых работниками здравоохранения в деревнях, почти не затронутых никакими нововведениями.
Когда бы ни возникла кофигурация - будет ли она иметь место тогда, когда молодых мужчин муштруют, заставляя подражать своим согражданам; тогда, когда мальчиков в школе обучают новому образу жизни, или же тогда, когда детей школьного, возраста загоняют в сельские школы, а затем обучают по моделям, разработанным далеко от их мест, в обществах иного типа,- возраст и состояние людей, приобщаемых к новой культуре, место и положение этой группы в старой постфигуративной культуре будут иметь большое значение. Если группа уже усвоила установку на изменения, осуществляемые с помощью образования детей, она может пережить громадные перемены, оставаясь неизменной в главном. Группа может даже сменить свои установки на противоположные, как в случае с европейскими евреями в США. В соответствии с европейским стилем отцы подыскивают дочерям многообещающих женихов; согласно стилю Америки многообещающие молодые люди ищут дочерей богатых отцов. Чем сильнее установка на изменение, тем менее разрушающими по своим вероятным последствиям окажутся внедряемые в общество кофигурации.
По мере адаптации к американской культуре представителя всех иммигрантских групп, не говорящих на английском, должны были отказаться от своего языка и своей особой культуры. Главным механизмом адаптации было образование детей. Родители не определяли характера нового образования; более того, в большинстве случаев они никак не влияли и на систему образования в тех странах, откуда они прибыли. Они были вынуждены доверить своих детей школам и принять от своих детей толкование того, что такое правильное американское поведение. Дети же здесь руководствовались только предписаниями своих учителей и примером своих сверстников. Со временем опыт детей иммигрантов стал опытом всех американских детей, теперь уже - представителей новой культуры и людей нового века. Их авторитет, их способность служить моделью поведения в глазах родительского поколения значительно выросли.
К подобным же результатам могут привести и жизненные условия в быстро развивающихся странах. В Индии, Пакистане или в новых государствах Африки дети также становятся экспертами но вопросам нового образа жизни и родители теряют свое право на оценку и руководство их поведением. Но там, где изменения происходят в одной стране, там суммарный груз старой культуры, реинтегрирующая сила старых ориентиров, физическое существование старшего поколения ослабляют притязания на власть, выдвигаемые детьми. В странах же мультиэтнической иммиграции, однако, сила кофигурации удваивается и родители, смещенные во времени и пространстве, находят вдвойне трудным сохранять любую власть над своими детьми или даже веру, что такой контроль и возможен и желателен.
Когда кофигурация среди сверстников институцнонализуется культурой, мы сталкиваемся с явлением молодежной культуры или культуры "тинэйджеров"; возрастная стратификация, поддерживаемая школьной системой, приобретает все возрастающее значение. В США последствия кофигурации, охватывающие всю культуру, стала ощущаться к началу двадцатого столетия. Утвердилась форма нуклеарной семьи, близкие отношения между старшим поколением и внуками потеряли силу нормы, а родители, утратившие господствующее положение, решение задачи разработки стандартов поведения отдали на откуп детям. К 1920 году задача выработки стиля поведения начала переходить к средствам массовой информации, решавшим ее во имя последовательно сменявших друг друга подростковых групп, а родительская власть переходила в руки во все возрастающей мере враждебной и озлобленной общины. В культурном отношении кофигурация стала доминирующей, преобладающей формой передачи культуры. Очень немногие из пожилых претендовали на какое бы то ни было отношение к современной культуре. От родителей же ожидалось, сколь бы они при этом ни ворчали, что они поддадутся настойчивым требованиям своих детей, требованиям, которым их обучили не школа, не другие, более адаптировавшиеся к культуре дети, а средства массовой информации.
Общества, сознательно пользующиеся возможностями, заложенными в кофигурации, общества, побуждающие подростков или взрослых образовывать группы, в которых их не воспитывают и не обучают, часто оказываются очень гибкими, легко адаптирующимися к новым условиям. В той мере, в какой формальные группы, возникающие в ученичестве различных типов, при посвящении в члены каких-либо сообществ, на предварительных этапах подготовки для службы в армии или для работы в какой-нибудь профессии рассматриваются как одна из конденсированных форм обучения детей друг у друга либо же, наоборот, как абсолютно постфигуративное явление, они оказываются весьма эффективным механизмом преподавания и обучения.
Индивидуум, выросший в нуклеарной семье с ее двухгенерационным закреплением установок в раннем возрасте, знает, что его отец и мать отличаются от своих родителей и что, когда его дети вырастут, они будут отличаться от него. В современных обществах этот прогноз дополняется другим: образование, полученное в детстве, в лучшем случае лишь частично подготовит ребенка для членства в группах, отличных от семьи. Все это, вместе взятое,- жизнь в изменяющейся нуклеарной семье и опыт индивидуума, связанный с его членством в новых группах,- заставляет его осознать, что он живет в непрерывно меняющемся мире. Чем сильнее ощущается разница между поколениями в семье, чем сильнее социальные перемены, являющиеся следствиями вовлечения человека в новые группы, тем более хрупкой становится социальная система, тем менее уверенно, вероятно, будет себя чувствовать индивидуум. Идея прогресса, придающая смысл и цель этим неустойчивым ситуациям, делает их в какой-то мере переносимыми. Иммигранты в Америке надеялись, что их дети получат лучшее образование, больше преуспеют в жизни, и эта надежда поддерживала их в борьбе с трудностями переходного периода.
Я рассмотрела кофигуративные элементы, возникающие в поколении пионеров, где взрослые должны вместе учиться справляться с новой жизненной ситуацией, и кофигуративные элементы в культуре второго поколения, в которой дети вновь прибывших, первые среди переселенцев родившиеся в новых условиях, должны выработать стиль поведения, не имеющий аналогов в поведении их родителей. Я показала, каким образом можно установить некоторые закономерности для жизненных условий поколения пионеров, как дифференциация общества по возрастным классам, мятеж молодых, конфликт поколений и установка на обязательность отхода детей от родительских моделей поведения оказываются заложенными в самой культуре. Я высказала некоторые предположения о формах восстановления постфигуративных культур - в виде ли культур изолированных культовых групп, пытающихся заморозить новую модель поведения, увековечить ее навсегда, или же на более высоком уровне интеграции, с помощью некой господствующей религии или национального государства. Местные разновидности новой культуры или новой религии могут нести в себе сильные кофигуративные элементы; но в то же самое время в культурах такого рода доминирует предположение или религиозное убеждение, что то, что есть, будет продолжать существовать таким, каково оно есть, без изменений.
Я определила постфигуративную культуру как культуру, в которой большая часть неизменного, традиционного не стала предметом аналитического сознания, как культуру, воплощенную в трех поколениях, находящихся в непрерывном контакте. В обществе, подобном нашему, с большой социальной мобильностью разрыв между поколениями по образованию и по стилям жизни неизбежен. Тем не менее молодые люди в своем движении вверх и вовне сталкиваются с определенными ценностями, разделяемыми большинством взрослых в двух старших поколениях. Характерно, что эти незыблемые убеждения, разделяемые всеми взрослыми, восприняты некритически, точно так же как в постфигуративных культурах. В изолированном обществе относительно легко установить жесткое единство мнений среди взрослых. Но в современном взаимосвязанном мире нужны железные или бамбуковые занавесы, для того чтобы сотворить некое подобие единодушия. Для современных обществ значительно более характерно исчезновение ранних форм постфигурации. И в то же самое время делаются все новые и новые попытки возродить некритическое единодушие, абсолютную лояльность. Последователи нативистских, революционных или утопических культов пытаются создать закрытые сообщества, видя в них способ увековечить желательный образ жизни.
Для современного мира характерно и то, что он принимает факт разрыва между поколениями, ждет, что каждое новое поколение будет жить в мире с иной технологией. Однако прогнозы этого рода не идут достаточно далеко, не доходят до признания того, что эти изменения в жизни поколении могут иметь качественно новый характер. На протяжении жизни поколений две культурные группы, евреи и армяне, прививали своим детям установку на социальную мобильность, на усвоение новых языков без потери ими чувства культурного своеобразия. Очень сходным образом дети в нашей собственной и многих других культурах воспитываются в духе установки на изменения в пределах неизменного. Простое допущение того, что ценности молодого поколения или же некоторой группы в нем могут качественно отличаться от ценностей старших, рассматривается как угроза любым моральным, патриотическим или религиозным ценностям родительского поколения, ценностям, утверждаемым с постфигуративным некритическим пылом или же с новоприобретенной постфигуративной преданностью.
Старшее поколение предполагает, что все еще существует общее согласие относительно природы доброго, истинного и прекрасного, что человеческая природа с ее прирожденными механизмами восприятия, чувствования, мышления и действия, по существу, остается неизменной. Убеждения этого рода, конечно, никак не могли бы существовать, если бы были до конца осознаны открытия антропологии, которая обстоятельно доказала, что нововведения в технологии и в формах социальных учреждений неизбежно ведут к изменениям в характере культуры. Поразительно, как легко сочетается вера в прогресс с верой в неизменность даже в тех обществах, представителям которых доступны обширные исторические анналы, в обществах, где все согласны с тем, что история не просто сумма гипотетических конструктов, продиктованных желаниями современности, а совокупность проверяемых фактов.
Современные заявления о человеческих бедах или же, наоборот, о новых возможностях человека не учитывают возникновения новых механизмов изменения и передачи культуры, механизмов, принципиально отличающихся от постфигуративных и кофигуративных, нам уже знакомых. Но я думаю, что сейчас рождается новая культурная форма, я называю ее префигурацией. Я понимаю это так. Дети сегодня стоят перед лицом будущего, которое настолько неизвестно, что им нельзя управлять так, как мы это пытаемся делать сегодня, осуществляя изменения в одном поколении с помощью кофигурации в рамках устойчивой, контролируемой старшими культуры, несущей в себе много постфигуративных элементов.
Я думаю, что мы сможем, и это было бы лучше для нас, применить в нашей современной ситуации модель пионеров-иммигрантов первого поколения в неизвестной и ненаселенной стране. Но мы должны представление о миграции в пространстве (географической миграции) заменить на новый образ - миграции во времени.
За два десятилетия, 1940-1960 годы, произошли события, необратимо изменившие отношение человека к человеку и к миру природы. Изобретение компьютера, успешное расщепление атома: и изобретение атомной и водородной бомбы, открытия в области биохимии живой клетки, исследование поверхности нашей планеты, крайнее ускорение роста населения Земли и осознание неизбежности катастрофы, если этот рост продолжится, кризис городов, разрушение природной среды, объединение всех частей мира реактивной авиацией и телевидением, подготовка к созданию спутников и первые шаги в космосе, только недавно осознанные возможности неограниченных источников энергии и синтетических материалов и преобразование в наиболее развитых странах вековых проблем производства в проблемы распределения и потребления- все это привело к резкому необратимому разрыву между поколениями.
Еще совсем недавно старшие могли говорить: "Послушай, я был молодым, а ты никогда не был старым". Но сегодня молодые могут им ответить: "Ты никогда не был молодым в мире, где молод я, и никогда им не будешь". Так всегда бывает с пионерами и их детьми. В этом смысле все мы, рожденные и воспитанные до 1940-х годов,- иммигранты. Подобно первому поколению пионеров, нас обучили навыкам, привили нам уважение к ценностям, лишь частично отвечающим новому времени. Но мы, старшие, все еще распоряжаемся механизмами управления и власти. И как пионеры-иммигранты из колонизирующих стран, мы все еще цепляемся за веру, что дети в конце концов будут во многом напоминать нас. Однако этой надежде сопутствуют страхи: дети на наших глазах становятся совсем чужими, подростков, собирающихся на углах улиц, следует бояться, как передовых отрядов вторгшихся армий.
Мы ободряем себя словами: "Мальчишки всегда мальчишки". Мы утешаемся объяснениями, говоря друг другу: "Какие неспокойные времена", или: "Нуклеарная семья очень неустойчива", или же: "Телевидение очень вредно действует на детей". Мы говорим одно и то же о наших детях и о новых странах, которые, только возникнув, сейчас же требуют воздушных лайнеров и посольств во всех мировых столицах: "О, они очень незрелы и молоды. Они научатся. Они вырастут".
В прошлом, несмотря на долгую историю кофигуративпых механизмов передачи культуры и широкое признание возможностей быстрого изменения, существовали громадные различия в том, что знали люди, принадлежащие к различным классам, регионам и специализированным группам в какой-нибудь стране, равно как и различия в опыте народов, живущих в разных частях мира. Изменения все еще были относительно медленными и неровными. Молодые люди, жившие в некоторых странах и принадлежавшие к определенным классовым группам, знали больше, чем взрослые в других странах или же взрослые из других классов. Но всегда были взрослые, знавшие больше, опыт которых был больше, чем знание и опыт любого молодого человека.
Сегодня же вдруг во всех частях мира, где все народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых людей возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было и не будет у старших. И наоборот, старшее поколение никогда не увидит в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта перемен, сменяющих друг друга. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ.
Сегодняшние дети вырастают в мире, которого не знали старшие, но некоторые из взрослых предвидели, что так будет. Те, кто предвидел, оказались предвестниками префигуративной культуры будущего, в которой предстоящее неизвестно.
VII. Духовная атмосфера и наука об эволюции
"Духовная атмосфера и наука об эволюции" (The Climate of Opinions and the Study of Evolution).
"Духовная атмосфера и наука об эволюции" - первая из серии лекций, прочитанных М. Мид в Иельском университете в 1963 г. на средства фонда Терри. Лекции были изданы в 1964 г. под общим названием "Преемственности в эволюции культуры" - Continuities in Cultural Evolution. Yale University Press. New Haven - London, 1964. В соответствии с завещанием основателя фонда лекции и их печатные издания, организуемые в его рамках, должны служить "не столько содействию научным открытиям, сколько их усвоению и истолкованию, их применению во благо человечества". Это определило информационный характер лекций Мид, стремление охватить в них все важнейшие теории американской и западноевропейской антропологии и этнографии. Как и во всех других работах Мид, теоретический и фактический материал суммирован здесь с микропсихологической точки зрения на эволюцию культуры. Исследовательницу прежде всего интересуют проблемы развития специфических, психобиологичеекпх способностей человека, непрерывность передачи культурного наследства через органы чувств человека, идентификация групп, выступающих новаторами в области культуры. Особое внимание в лекциях уделено проблеме сознательного управления развитием культуры. И в первой лекции, как и во всей книге, исследовательница указывает на опасность угрозы самому существованию человечества в бесконтрольном, неуправляемом развитии общества, применении достижений его гения - атомных взрывах в Хиросиме и Нагасаки. Для всей серии лекций Мид характерна антивоенная направленность. С методологической точки зрения серия лекций Мид интересна ее решительным поворотом в сторону эволюционизма и историзма в антропологии и этнографии, казалось бы совершенно похороненных господством структурализма и функционализма в 20-х и 30-х годах нашего века (Малиновский, Радклифф-Браун).
Для перевода выбрана первая глава книги, представляющая панораму развития эволюционных теорий в антропологии и этнографии в послеморгановский период американской этнологии.
В этой книге мы займемся тем вкладом, который антропология, в особенности полевые исследования современных примитивных народов, может внести в наше конструктивное понимание процесса эволюции. Я подчеркиваю слово "конструктивное" потому, что предметом нашего анализа будет то, что, как мы понимаем, влияет или может повлиять на наши действия. Я займусь некоторыми аспектами эволюционного процесса, наблюдаемого у Homo sapiens, поняв который мы в состоянии будем его видоизменять, приложив сознательные усилия, основывающиеся на научном знании. Мы, человечество, находясь в разгаре эволюционного кризиса, вооружены новым фактором эволюции - осознанием этого кризиса. Это осознание и представляет собой наш уникальный вклад в эволюционный процесс. В этой книге мы рассмотрим некоторые новые пути нашего возможного соучастия в эволюции.
Хотя эволюция, как мы ее понимаем, охватывает громадный временной интервал, о котором нам позволяют судить лишь окаменевшие фрагменты прошлого, выводы я буду основывать прежде всего на данных, полученных от групп существ, живущих в настоящем. Ими могут оказаться и стаи гусей, стада оленей или обезьян, ими могут быть и группы современных человеческих существ. Наше вмешательство в эволюцию должно осуществляться именно среди этих групп живых существ, и мы по необходимости более всего нуждаемся в понимании свойств этих групп.
Постановка проблемы исследования в пауке никогда полностью не свободна от более широкой сферы общественного мнения. По мере того как наука все более становится признанной частью жизни, по мере того, как она все более перестает быть изолированным отсеком для частных и специальных исследований лиц, таинственно предающихся своей эзотерической деятельности, связь между направлением научного поиска и обществом становится все более тесной. Это особенно касается наук о человеке, где самый неискушенный в науке человек почти автоматически проявляет интерес к выводам исследователя, осмелившегося думать о человеческих существах. Если мы уменьшим барьеры между тем, что называется "чистой наукой", научными изысканиями, которые проводятся прежде удовлетворения интеллектуального любопытства либо проблемами, поставленными самими научными дисциплинами, теми изысканиями, которые называются "прикладной наукой" т.е. исследованиями, имеющими ясно осознаваемое и непосредственное применение к людским делам, то участие широкой публики в выборе проблем исследования становится и более выраженным, и неизбежным. Это вмешательство неудобно для ученого, стремящегося навязать свою точку зрения или какую-нибудь реформу, им защищаемую, публике, которую про себя именует "невежественной массой". Но это участие общества благотворно и высоко ценится теми учеными, которые считают, что любой разрыв между ученым и другими членами общества - порок, подлежащий скорейшему исправлению.
Выбор проблемы, в свою очередь, определяет как выбор нами системы понятий, так и нашу точку зрения - нашу интеллуктуальную позицию. Интерес к эволюционному процессу то нарастал, то убывал в зависимости от меняющейся атмосферы общественного мнения в западном мире - расширялось или же сужалось представление мыслящих людей о мире, требовало ли понимание места человека во вселенной углубления или ослабления его связей с остальным миром живого. Интервал времени, в котором западный человек осознавал себя в качестве деятеля, претерпевал аналогичное расширение и сужение. По временам люди не заглядывали ни очень далеко вперед, ни очень далеко назад. Философские потребности общества удовлетворялись знанием библейских времен или же, для скептиков, их эквивалента - греческой истории. И поразительное расширение современного мира, которое принесли с собою европейские географические открытия, начатые в XV веке, и углубление биологического прошлого человека до неизвестных эр, связанное с открытием возраста Земли и созданием эволюционной теории, могли быть без особых затруднений освоены этнографической наукой путем очень своеобразного применения эволюционного учения к недавно открытым дикарям, населявшим все еще мало исследованные континенты и разбросанные в океане острова.
И действительно, чем ближе мы подходим к пониманию человека как всего лишь одного из проявлений жизни на одной планете, в одной солнечной системе, в одной из многих галактик тем больше нас пугают попытки растворить человека во вселенной таких огромных размеров. В конце XIX столетия, столетия стриженных изгородей и столов с закругленными углами для детей, потребность придать человеку только ему присущее достоинство, достоинство человека, как такового, привела к искажениям идей эволюции изобретением мифов о нордическом превосходстве и в равной мере мифологических теорий об эволюции человеческого общества от примитивного коллективизма через развитие института частной собственности к конечному царству коллективного утопизма1, или же от примитивного группового брака и матриархата к конечной патриархальной капиталистической моногамии2.
Злоключения, выпавшие на долю попыток включить историю человеческих культур в рамки эволюционной теории, были в столь же сильной степени вызваны и политическими идеями,. имевшими хождение в то время. Ранняя американская мысль, развивавшаяся среди утопий европейского происхождения, занялась отношением складывающейся американской культуры к европейским, породившим ее. Она все еще была полна надежд на то, что "новая нация, рожденная на этом континенте", достигнет более высокого, чем у наций Европы, морального статуса. Ей чрезвычайно импонировал постулат эволюционной последовательности, по которому культура достигла своей высшей точки на современном Западе. Здесь крылась надежда, что Америка когда-нибудь станет воплощением Утопии. Идеи Льюиса Моргана об упорядоченной последовательности социальных форм мы связываем с влиянием современных ему социальных теорий; эти идеи, выраженные в таких его книгах, как "Древнее общество или Исследования о направлениях прогресса человечества от дикости через варварство к цивилизации", привлекли внимание Фридриха Энгельса и, таким образом, стали составной частью интеллектуального аппарата марксизма3.
Франц Боас, иммигрировавший в США в молодом возрасте, был господствующей фигурой американской антропологической мысли следующего периода, в то время, когда мы начали осознавать специфический характер нашей собственной цивилизации, в которую внесли свой вклад и индейцы, и африканцы, и азиаты, равно как и европейцы. Работая в атмосфере утрированно независимого и изоляционистского общественного мнения, антропологи деятельно занимались поисками доказательств независимости развития высших цивилизаций Нового Света. Вероятность истинности их теорий повышалась благодаря тому, что эти цивилизации не оставили нам ни колеса, ни прирученных животных Старого Света, ни форм его письменности, ни некоторых других показателей культуры, имеющих диагностическое значение. Боас никогда не бросал вызова общим аксиомам эволюционной теории. Не ставил он под вопрос и теорию развития человеческих культур из изначально более простых форм. И действительно, он всячески подчеркивал, что выбор точки развития, в которой мы можем говорить о человеке как о "человеке", произволен и оправдывается лишь соображениями удобства и целесообразности. Однако все его интересы были направлены на ниспровержение постулата гладкого, линейного развития культуры, вершиной которого оказывается наша евро-американская цивилизация, так как он считал эту точку зрения и чрезмерно упрощенной, и не соответствующей действительности. Никогда не ставя под вопрос большую простоту социальных форм, он детальнейшим образом документировал свое опровержение любой, хотя и неизбежно краткосрочной линейной последовательности культурного развития, которую какой-нибудь эволюционист пытался ввести в свои рассуждения.
Среди хорошо документированных антропологических дискуссий, пожалуй, лучше всего известна критика Боасом теории эволюции искусства Хаддона4. Хаддон попытался доказать существование односторонней тенденции развития в искусстве - от реалистического к геометрическому. Боас написал свою статью о декоре ящичков для иголок у эскимосов только для того, чтобы доказать равную возможность для искусства развиваться от геометрического к реалистическому, фигуративному. В сущности же Боас, безусловно признавая эволюцию в глобальном масштабе, отрицал правомерность применения эволюционных категорий к временным последовательностям событий, насчитывающих всего лишь несколько столетий, так как изменения могут идти в любом направлении - к упрощению или же к усложнению.
Эту точку зрения приняло бы большинство современных эволюционистов. Но американские антропологи начала этого века, скованные рамками идеологии американского изоляционизма, интересовались только кратковременными рядами событий. Культурный эволюционизм отождествлялся с учением о неизбежности прогрессивного развития изобретений и перемен в любом обществе, развития, которое не зависит от каких бы то ни было заимствований. Так как любая грамотно проведенная полевая работа по исследованию примитивных культур и знакомство с соседними культурами (в пределах исследуемой зоны) ясно показывают ложность и бессмысленность этой точки зрения, то исследование эволюции культур стало столь же неблагодарным и немодным занятием, как и поиски истоков явлений американской культуры в Старом Свете и путей их проникновения в Америку через Азию. И тем не менее в то же самое время, когда защита еретической теории азиатского происхождения высших цивилизаций майя и инков (или хотя бы даже каких-то сторон менее сложных культур) лишала ученого всякой академической поддержки, поиски европейских или африканских корней современной индейской или негро-американской культуры начали расцветать в трудах Элси Клюз Парсонс5 и Мелвила Херсковица6. Таким образом, в одно и то же время мы утверждали, что культурные явления, возникшие вне двух Америк, проникли в культуры американских индейцев и сохранились в американо-негритянской культуре в большей степени, чем ожидалось, и вместе с тем бдительно охраняли независимость происхождения высших культур Анд и Мексики и менее развитых культур северо-западного побережья.
Между тем впечатляющий прогресс техники придал новое: направление взаимосвязи развивающегося общественного мнения с проблематикой исследований в антропологии. Боас последовательно отделял возрастающий и кумулятивный технологический, контроль человека над природой от его социальных нововведений, таких, как формы брака или формы искусства. При анализе художественных форм им было показано, что одна из них вытесняет другую, не будучи более прогрессивной, не обладая: никакими явными преимуществами по отношению к ней. До последнего времени очень мало кто признавал, что общественные науки могут привести ко все возрастающему контролю человека над самим собой и над социальными институтами, среди которых он живет. Марксистская точка зрения, обычно называемая "экономической интерпретацией истории", отводит людям некоторую роль в изменении темпа развития, но не его направления. Другие институты считались зависящими от состояния технологии, которое, в свою очередь, определяется скорее различными формами организации и распределения, чем уровнем потребления энергии, как в теории, которая позднее стала господствовать в мышлении других детерминистов (см., например, работы Лесли Уайта7).
Идея неизбежности технологического изменения аналогичным образом охватила и немарксистское мышление. В "Социальном изменении в его отношении к культуре", работе, отразившей взгляды школы Боаса на кумулятивность и необратимость технологического развития, Огберн8 выдвинул идею, что многие социальные институты представляли собой попытку приспособления к противоречиям, созданным технологическим изменением. Социальные дилеммы человека, утверждал он, суть результат так называемого "отставания". В то время как марксисты с уверенностью движутся к миру, в котором социальные институты находились бы в полном соответствии со стадией экономического развития, американские социологи и антропологи, подчеркивая неизбежность роста технологической усложненности, вместе с тем относятся к социальному развитию как к чему-то капризному, плохо контролируемому, непрогрессивному.
Другие интеллектуальные течения также повлияли на современные взгляды на человека и, следовательно, на отношение антропологов к эволюции. Психоанализ, вновь утвердив животную природу человека, противопоставил цивилизацию именно этой природе, ибо цивилизация была интерпретирована им в качестве невроза - побочного продукта борьбы человека с самим собой9. Педагогической теории терпимости мы обязаны тем, что она внесла в эту картину в меру своих сил более оптимистический взгляд на возможности человека. Эксцессы в ее применении карикатурно представлены в рассказе о ребенке, которого перевели из "терпимой" школы в "нетерпимую". После нескольких дней учебы он вздохнул там с облегчением: "Если ты хочешь быть хорошим, то можешь им быть; если не хочешь драться, то можно не драться". Признание человека животным было окрашено страхом перед его бессознательными импульсами, связано с учением о низменных корнях того, что ранее признавалось за его высшую природу. В популярных интерпретациях фрейдизма величайшие творения человека представлялись в качестве простой сублимации10. В 20-х годах одной из самых влиятельных книг (ныне почти забытой) была книга "Разум в действии" Робинсона. Она формировала мышление тех, кто верил, что они следуют самым строгим предписаниям научного исследования. Слово рационализация11 в его значении глянца, прикрывающего низшие побуждения человека, конкурировало с рационализмом - понятием, с помощью которого описывали высшие способности человека в век Просвещения.
Параллельно с психоанализом действовали различные американские интерпретации павловской теории условного рефлекса. В своей специфически американской форме бихевиоризм устранил все внутренние различия между людьми по свойствам их темпераментов и исходил в своей теории только из действия окружающей среды на очень узкий набор инстинктивных рефлексов. Эта точка зрения была выражена в чрезвычайно популярной книге "Почему мы ведем себя как человеческие существа" Джорджа Дорси, довольно путанного и во всех остальных отношениях заурядного этнолога. Само собой разумеется, что антропология сочувственно отнеслась к бихевиоризму, так как и она рассматривала всех людей, безотносительно к уровню цивилизации, достигнутому любым народом в данный момент, как равных членов вида Homo sapiens и подчеркивала идею приобретенности культуры и идею независимости развития расы, языка и культуры друг от друга.
Обе школы мысли - так та, что считала "животную природу" человека неискоренимой, а цивилизацию несовершенной и старой, как мир попыткой укротить ее, так и та, что рассматривала человеческое существо при рождении в качестве tabula rasa, формируемой в дальнейшем воздействием окружающей среды,- продолжают влиять на исходные посылки теорий эволюции культуры в современной антропологии вплоть до настоящего времени. Одна теория во все возрастающей степени обращалась к естественнонаучному наблюдению и к эксперименту в исследовании живых существ всех видов. Однако впоследствии в ней произошел сдвиг от господствовавшего ранее интереса к человекообразным и низшим обезьянам к наблюдению и экспериментам с такими отдаленными от Homo sapiens существами, как черепахи, пауки и тараканы. Другая школа мысли строила свои модели на экспериментах с лабораторными животными, преимущественно с крысами, опираясь па данные о способностях крыс к обучению, полученные в ситуациях, где экспериментатор полностью контролирует все условия эксперимента, как в случае экспериментов с лабиринтами.
Эти два подхода к человеку - первый, который рассматривает его как биологическое существо, обладающее характерными для его вида системами инстинктов, продолжающими действовать и в условиях цивилизации, и второй, лишающий человека специфических для него как биологического вида поведенческих структур, считающий, что, вырабатывая в нем соответствующие условные рефлексы, его можно приспособить к любой системе, обеспечивающей выживание,- перечеркивают друг друга. Уотсоновский оптимизм 20-х годов12 был сильно подорван событиями трех последующих десятилетий, когда "методики" выработки условных рефлексов были поставлены на службу абсолютной и безответственной власти. Не случайно, что Б. Ф. Скиннер13, озабоченный ростом бюрократического контроля над людьми, в то же самое время разрабатывает теорию программированного обучения математике и языкам с помощью обучающих машин. Аналогичную путаницу можно обнаружить в работах Элиота Д. Чэппла14, в которых строго бихевиористский подход к человеческому поведению как детерминируемому культурой сочетается с уважением, под стать самому Павлову, к прирожденным инвариантам поведения, обусловленным разностью темпераментов. Точно так же и В. Грей Уолтер15 сочетает склонность к бихевиористским объяснениям с интересом к устойчивым факторам поведения, вытекающим из темперамента.
Второе, менее принципиальное направление дискуссии о наличии или отсутствии в человеческой природе свойств, не поддающихся перестройке (отличных от простых потребностей в пище, воде, отдыхе, которые роднят человека со всеми остальными органическими существами), сосредоточилось на проблеме первостепенной значимости опыта раннего детства. Здесь этологические исследования, такие, как работы К. Лоренца16 и Н. Тинбергена17, дали нам одну из поведенческих моделей, утверждавших решающую роль опыта раннего детства. Бихевиористы, занимавшиеся психологией человека, выступили против фрейдовской модели, а бихевиористы, предпочитавшие лабораторный эксперимент наблюдению в естественных условиях, выступили против этологической модели.
В результате мы сталкиваемся с забавным парадоксом. С одной стороны, те, кто стремится выявить прирожденные различия поведения среди индивидуумов одного и того же вида, различия, основывающиеся на разнице темпераментов, подозреваются в склонностях к расистским идеям. С другой стороны, как среди тех, кто симпатизирует коммунизму, так и тех, кто боится возможного его всеобъемлющего господства, можно встретить людей, настаивающих па почти бесконечной подверженности человека изменениям, на относительно малой значимости качественных индивидуальных различий, людей, отрицающих первостепенную роль раннего детского опыта в сравнении с его более поздними формами. И все это может выражаться языком этологических, психоаналитических или антропологических теорий.
Эти любопытные пересечения и переплетения идей, характеризующих разные теоретические установки, ярко показывают, в какой мере духовная атмосфера, где явно политические и религиозные установки не более чем ее компоненты, создает среду, предопределяющую выбор учеными соответствующего периода конкретных решений, которые им кажутся продиктованными лишь состоянием их дисциплины.
Между тем в качестве реакции на быстро увеличивающуюся мощь техники - развитие авиации и связи, электронной автоматики, высвобождение ядерной энергии - анализ эволюции культуры сместился: вместо анализа технологии, как таковой, и необходимости технических нововведений стали изучать количество потребляемой энергии. Огберн, экономист по образованию, обратившийся к антропологическому материалу, был представителем первого подхода. Лесли Уайт с его физическим образованием, впоследствии ставший антропологом, подчеркивал значение второго. Признание главенствующей роли использования энергии было основной целью технократического движения18.
Количество энергии, находящееся в распоряжении некоторой человеческой группы в качестве показателя степени развития культуры, представляет собой хорошую макроскопическую систему индикаторов политического и технологического развития. Развитие техники и энергетики иногда происходит синхронно, иногда же их темпы не совпадают. Общество, которое может воспользоваться трудом тысяч рабов для помола зерна, может иметь в своем распоряжении то же самое количество энергии, что и общество использующее для этой работы ветряные мельницы. Технологическое развитие второй группы может быть более высоким, чем первой, но ее политическая организация - менее развитой. Однако соображения этого рода не должны приниматься за опровержение теории энергетических индикаторов развития при условии, что мы примем во внимание всю планетарную цивилизацию и будем брать длительные интервалы времени в качестве масштаба временных единиц нашего анализа.
В 1930-х и в 1940-х годах работы Лесли Уайта в США и В. Гордона Чайлда19 в Англии не вызывали большого интереса и энтузиазма ни у кого, исключая тех, кто непосредственно работал с ними над решением всех этих проблем. В 1930-х годах мы были в тисках мировой экономической депрессии, и проблемы, с которыми сталкивалось человечество, считались скорее политическими, чем техническими. В условиях, когда продовольствие, не нашедшее сбыта, сжигалось в одной стране, в то время как люди умирали от голода в другой, неудивительно, что политические решения и соотвественно научные проблемы, ориентированные на краткие промежутки времени, прежде всего привлекали к себе внимание исследователей. Изоляционизм в США благоприятствовал этому сужению временных перспектив, так как оно было удобно для учения о параллельном развитии высших цивилизации в обеих Америках. Временной горизонт исторического мышления еще более ограничивался конъюнктурными соображениями: как уменьшить фрустрацию, которая, как считалось, обязательно поведет к агрессии, как поддержать местную инициативу и улучшить положение групп национальных меньшинств и т.п.
Вместе с подъемом нацизма внимание исследователей фокусировалось на групповых контактах, и с началом второй мировой войны интерес к краткосрочным в масштабах исторического времени изменениям еще более обострился. Внимание прежде всего уделялось таким проблемам, как проблема путей внешнего вмешательства, которое могло бы привести к изменению форм социальных институтов (особенно в Германии и Японии) с последующим изменением структуры национального характера, видоизменением политического поведения народов, что могло бы опосредованным образом привести и к росту политической стабильности в мире. Второй кратковременной целью исследования, связанной с первой, стало изучение культурных процессов для целей психологической войны и других задач, поставленных потребностями военного времени. После 1948 года работы по эволюции культуры, начатые в годы войны, были продолжены в исследованиях, сделавших своим предметом Восточную Европу и Дальний Восток.
Даже провозглашение четырех свобод и наступивший сразу же после войны расцвет надежд, вызванный уверенностью в возможностях современной технологии прокормить все население мира, не обратили внимания исследователей на долгосрочные в масштабах исторического времени проблемы, поднятые Чайлдом и Уайтом. Джулиан Стюард20, который с 1936 года активно занимался долговременными параллельными линиями развития, имеющими место при равных экономических условиях, на время отложил свои исследования, возглавив пуэрто-риканский проект "развития разнообразных сельских подкультур в Пуэрто-Рико" с его устремленностью на получение быстрых, непосредственных, положительных результатов.
Тот же самый широко распространенный интерес к быстрым и немедленным изменениям можно усмотреть и во многих других теоретических установках в антропологии. Все они - часть послевоенного оптимизма, исходящего из возможности быстрого подъема слаборазвитых стран до уровня современного мира. Сколь бы ни отличались в своих установках Аренсберг21, Бейтсон, Бердвистелл22, Чэппл, Фрайд23, Горер, Кизинг, Мид, Стюард и Вагли24, все они концентрируются на проблеме изменения в пределах жизни одного поколения. Слаборазвитые страны должны сравняться с передовыми. Люди, мигрировавшие из сельского в городское окружение, должны найти формы приспособления к новым условиям жизни. Расовые противоречия должны быть разрешены путем растущего взаимопонимания и соответствующего законодательства. Дети, рожденные в деревне, авторитарной по своей структуре, должны быть воспитаны в духе свободных институтов. Распространенность душевных заболеваний должна быть уменьшена изменением социальных иститутов, порождающих болезни, или созданием в самих этих институтах новой атмосферы, целебной для душевнобольных. Безразлично при этом, делался ли акцент во всех этих построениях на устранении монокультур в сельском хозяйстве, на снятии ограничений для свободного передвижения групп меньшинства, на законодательстве, ставящем задачей уменьшение расовых трений, либо же на благотворных последствиях программ обмена студентами, производственных кооперативах или же программах культурного обмена, господствовала уверенность в возможности "улучшить положение в наше время". Исследователи были уверены в том, что рост знаний о процессе социального изменения может внести существенный вклад в достижение всех этих целей.
И тем не менее, хотя временная перспектива и была краткосрочной, общий подход по преимуществу оставался макроскопическим, ибо вплоть до наших дней лишь очень немногие исследователи поняли, что новые технические средства регистрации первичных данных для последующего анализа делают возможным громадное увеличение глубины исследования.
Но пока продолжались эти исследования в краткосрочной временной перспективе, возникло растущее понимание угрозы ядерной катастрофы. Стало расти и сознание необходимости каких-то глубоких перемен, для того чтобы не дать этой возможности стать реальностью. Первые попытки найти решение этой проблемы были сделаны ядерными физиками и теми немногими антропологами, психологами и социологами, которые увидели опасность для будущего, ту опасность, для которой взрывы в Лос-Аламосе и в Хиросиме были только прелюдией. Более широкое признание того факта, что человечество сейчас в состоянии уничтожить себя как вид, пришло позже. Первая реакция на новую ситуацию выразилась в буме на продажу участков земли "в безопасном отдалении" от крупных городов, таких, как Нью-Йорк, и спорах о том, какая перуанская долина лучше всего пригодна к тому, чтобы сохранить документы нашей цивилизации. Но с началом применения атомных реакторов в промышленных целях, со вступлением в эру космических исследований стала складываться новая атмосфера общественного мнения.
Интерес к отдаленному будущему и межзвездному пространству рос одновременно и параллельно с чувством непосредственной угрозы и растущим сознанием того, что будущего вообще может не быть. Спорам о мутациях, кумулирующихся только на протяжении жизни нескольких поколений, противостояла паника, вызванная обнаружением в молоке стронция-90, который может "повредить моему ребенку теперь". Американцы, которые никогда не заглядывают очень далеко вперед, поначалу приветствовали известие об атомной бомбардировке Хиросимы почти как известие о том, что найдена наилучшая "быстрая и безболезненная смерть", когда "вы даже не знаете, что вас сразило". Эта первая реакция начала понемногу меняться лишь тогда, когда Джон Херси опубликовал в 1946 году свою "Хиросиму" и мысль о часах или днях "без всякой медицинской помощи" начала проникать в общественное сознание.
В 1955 году Национальная Академия наук образовала шесть комитетов для исследования воздействия радиации высокой энергии на живые существа. В "Биологических воздействиях ядерного облучения", первом открытом для публики отчете, опубликованном Комиссией по исследованию генетических последствий ядерного облучения, где были приведены технические сведения и: рекомендации, совершенно четко был поставлен вопрос о временном интервале: "Рассмотрение вредных генетических последствий по необходимости включает; с одной стороны, вполне осязаемую и близкую угрозу, трагедию, которая может произойти с нашими детьми и внуками; с другой стороны, мы должны учитывать и более отдаленную опасность, с которой может столкнуться очень большое число людей в будущем.
Никто не смог бы точно сопоставить эти два вида опасности. Как можно сравнивать современный факт серьезно искалеченного ребенка с возможностью того, что большое число людей, может быть, столкнется со значительно меньшими поражениями через сто или более поколений?"
Гуманисты негодовали при одной мысли о возможности "серьезно искалеченного ребенка" в настоящем. В их мышлении вопрос о степени риска, которому мы подвергаем себя в этой связи (риска значительно меньшего, чем риск, связанный с нашим поощрением моторизованной цивилизации), был спутан с этической проблемой, поставленной Достоевским, спрашивавшим, может ли новый общественный порядок основываться на смерти хотя бы одного ребенка.
Новый интерес к проблемам биологических мутаций вновь вызвал к жизни расхождение теоретических установок. С одной стороны, высказывались опасения насчет того, к каким конечным последствиям может привести увеличение темпа мутаций; с другой стороны, возник интерес, по-разному выраженный, к развитию людей с иными свойствами. Так, например, появился повышенный, хотя в основном и замаскированный интерес к экстрасенсорной чувствительности. Стали признавать возможности современной медицины, которая сохраняет жизнь людям, страдающим от какого-нибудь телесного недуга и в прошлом обреченным на смерть. Появились требования избирательной защиты генетического фонда. Возникли фантастические планы жесткого вмешательства в процессы передачи наследственности, планы, строившиеся вокруг идей инцеста и сохранения репродуктивных тканей великих людей, так чтобы каждое поколение имело свой запас "Черчиллей" или же иных общепризнанных великих людей. Контрастом к этим оптимистическим фантазиям выступали мрачные прогнозы деградации человечества, сетования по поводу излишней "изнеженности" современного человека, его "негодности" к воспроизводству, опасения насчет того, что "ущербные" люди, сохраняемые в слишком большом количестве, возобладают над "пригодными", и т. д. Каждая из этих теоретических установок могла быть аргументирована логически. Но под поверхностью рациональных доказательств скрывались иррационалистические страхи: опасались возможной победы "желтой" или "черной" расы над "белой", гибели западного мира от рук возникшего политического расизма в Азии и Африке. Реакция на демографический взрыв, выражавшая чувство беспомощности, растерянности перед ходом событий, в иной форме повторяла лишь тот же страх перед неизбежностью всеобщей катастрофы.
Но мере того как интерес к отдаленному будущему и отдаленным космическим пространствам начал формировать современные надежды и страхи, в качестве дополнения к нему появился интерес к далекому прошлому и океанским глубинам. Несчастные дети наших городов, питаемые телевидением и комиксами, отражающие с пугающей точностью современное состояние общественного сознания, устали от космонавтов сразу же после запуска "Эксплорера" и обратились вместо них к аквалангистам. А интерес к истории, который у среднего читателя все еще удовлетворяется сокращенной версией книги Тойнби25 и поисками ответа па вопрос: "Падет ли наша цивилизация, как римская?", начал трансформироваться в интерес к эволюции человека в течение тысяч или миллионов лет.
И действительно, модель нашего подхода к анализу процессов, происходящих с человеком в природе, должна основываться на познании характера долговременных изменений. Пессимисты - те, кто рассматривает историю человечества как последовательность циклов, несущих в конечном счете в самих себе семена своего собственного уничтожения, циклов все более сложных, но не имеющих эволюционных последствий - взывают к краткосрочным перспективам писаной истории, для того чтобы провозгласить закат Европы, упадок Америки и возвышение других центров цивилизации со сравнительно короткими сроками жизни. И в противоположность им люди, занимающиеся эволюцией как телеологическим и эмерджентным процессом26, не только основываются на значительно длительном ретроспективном подходе к человеку, но и яснее осознают, что условия существования человека в настоящем отличаются от всего, что было в прошлом.
И наконец, в противоположность нашему сегодняшнему интересу к бесконечно большому времени - эрам, множеству других галактик - противостоит интерес и к бесконечно малому - к отдельному индивидууму, отдельному гену. Как раз тогда, когда Харлоу Шапли сказал, что размеры человека в четвертый раз сокращены в галактических масштабах, Джордж Бидл своим сравнением сложности строения гена со сложностью вселенной поднял достоинство человека. Не так давно ученые с презрением говорили о "так называемой роли личности в истории", и возникла целая школа литературной биографии, построенная на развенчании мифа о великом человеке. Сегодня изменившиеся установки вызвали новый интерес к вкладу отдельного человека в историю.
Когда в мире жило около полумиллиарда людей, а лица, принимавшие решения в национальных государствах, исчислялись сотнями, с большой охотой говорили о необходимости исторических процессов, о необходимости повторения изобретений и открытий (даже самой эволюционной теории). Например, существовала школа мысли, полагавшая, что с Гитлером или без него возрождение национализма в Германии все равно пошло бы тем же самым путем. И в апреле 1941 года, когда Теодор Абель представил доклад на тему о том, что войны делаются отдельными людьми, принимающими свои собственные решения, его идеи были отвергнуты с порога. В противоположность этому сейчас существует гипертрофированный интерес к отдельным индивидуумам, к членам туземных элит, к психологическим процессам у лидеров, пророков, к культам, основывающимся на мистическом, переживании отдельного индивидуума, и т.п. Пятая конференция Мэйси27 по проблемам сознания завершилась призывом изучать личность. Гарднер Мерфи предложил удачное выражение "наука об уникальном", и работа Эдит Кобб с ее концепцией индивидуальности как "спецификации" наконец-то появилась в печати. Более восприимчивый климат общественного мнения делает сейчас возможным серьезный анализ ограниченности интроспекции, о чем в свое время говорилось еще в статье Брикнера о телеэнцефализации и в его кинолентах о двухголовой черепахе. А в 1959 году заявление министерства обороны о том, что после тщательных медицинских проверок оно ограничило число возможных кандидатов для первого полета в космос семью, не было должным образом оценено. За ним стояло повышение значимости индивидуальной человеческой жизни в условиях, когда взаимосвязи человека и природы становятся более обширными, более сложными, более тесными и более опасными по своим возможным последствиям.
Кроме того, развитие машин нового типа, расширяющих высшие способности человека (ранее машины по большей части расширяли его менее развитые и в меньшей степени специфически человеческие способности), также внесло свой вклад в изменение духовной атмосферы. Первые орудия человека, грубообтесанные камни, едва ли сильно отличались от тех предметов, которыми стадо обезьян отбивается от вторгшегося врага. Ранние формы жилища уступали по сложности гнездам, сооружаемым некоторыми видами птиц. Первым великим шагом было создание орудий труда, орудий, не просто расширяющих физические возможности человека, когда он толкал или тянул, поднимал или бросал, отражал удар или наносил его, но орудий, расширяющих его возможности создавать нечто. По мере того как увеличивалась способность человека создавать орудия для изготовления орудий и увеличивался его контроль над окружающим миром, возник вопрос, куда, если говорить упрощенно, относить эти орудия - к миру одушевленного или неодушевленного? Если же этот вопрос поставить в более утонченной форме, то он бы звучал так: не связаны ли некоторым образом эти орудия с процессом жизни? Эта проблема периодически вновь и вновь завладевала умами ученых. Многие примитивные народы наделяют орудия труда и оружие своей собственной жизнью (маной, говоря на профессиональном языке, от меланезийского термина). И это отношение к орудиям труда вечно; его мы находим вновь и вновь у тех людей, восприятие которых не было дисциплинировано разумом,- у детей, примитивных народов, необразованных людей, поэтов и художников,- когда они обращаются к судну, поезду, автомобилю, аэроплану как к чему-то живому.
Важно понять, что эта проблема в определенном смысле но меняется. Вера в "одушевленность" вещей - объектов - формировала мышление людей в самых различных культурах: житель острова Манус, считающий, что его господин Дух (дух недавно умершего мужчины из его дома) может похитить "душу" у его рыболовных снастей, точно так же как он может похитить душу человека; барды и менестрели, которые описывали наделенный душой меч героя (Дюрандаль Роланда, Бальмунг Зигфрида, Экскалибур Артура, Тирфинг Ангантира); люди, наделяющие судно хорошей и дурной репутацией; те, кто впервые видя машину с двигателем, приписывают ей определенную степень жизни. К ним нужно отнести и тех, кто сегодня предсказывает будущее, когда "компьютеры" заменят людей и выступят проектировщиками и создателями новых машин, будущее, в котором компьютер "родит другой, маленький компьютер" или в котором мы с запозданием обнаружим, "что в течение всей нашей жизни нами откуда-то управлял большой компьютер". Эта загадка отношения человека к средствам, расширяющим его творческие возможности, прояснилась, и сегодня ее можно выразить как загадку отношения Жизнь - Человек - Машина. Именно так ее и сформулировал один из наших наиболее одаренных специалистов по человеческому фактору при проектировании систем человек - машина. Одна из сторон этих поэтических образов - конфликт в умах у тех, кто желал бы видеть в продуктах творчества человека образец для него самого и тем не менее боится, что попытки такого рода приведут к какой-нибудь философии мрачного редукционизма.
Другая линия развития, начавшаяся значительно позже в истории,- расширение человеком с помощью техники своих способностей восприятия внешнего мира. С изобретением телескопа и микроскопа человек начал головокружительное расширение мощи своих перцептивных возможностей, которое сегодня привело к созданию электронного микроскопа, к бомбардировки одиночной хромосомы, к таким проектам, как превращение поверхности Луны в гигантский рефлектор. Первые восторги, сопровождавшие открытие бесконечно большого и бесконечно малого и вызвавшие к жизни множество фантастических путешествий в космос и игр с изменением масштабов, были предвосхищением того, что и сегодня владеет нашими умами.
Но в то время как эти ранние изобретения в чрезвычайно большой степени расширили способность человека видеть самое отдаленное и самое малое, сохранение во времени увиденного через линзы зависело от зарисовки, сделанной рукой человека. Даже после изобретения фотокамеры можно было запечатлеть увиденное лишь в его мгновенности, а связи, объединяющие одно изображение с другим, должны были представляться иным путем.
Но вслед за изобретением кинокамеры и методов записи звука, а впоследствии - изобретением автоматической синхронизации зрительного образа со звуковой записью и совсем недавним изобретением методов замедленной съемки, позволившей анализировать запись движения в мельчайших деталях, стал возможным и микроанализ. Сейчас, например, разработаны методики съемки фильмов о росте растений, фильмов, регистрирующих взаимодействие рыб или животных в экспериментально контролируемых условиях и - недавно - фильмов, регистрирующих сложные структуры уникальных событий, происходящих в группах людей.
Параллельно с этими нововведениями появились новые точные методы определения длительных промежутков времени с помощью анализа годовых колец на дереве, радиоуглеродной датировки и другие методики геохронологии. Аналогичным образом были созданы новые и более тонкие методы обработки и интерпретации временно-пространственных отношений в воздушной археологии.
Так было продолжено это ритмическое развитие мысли о человеке, создающее такую духовную атмосферу, где ныне процветает троякий подход к его эволюции: исследование эволюции, оперирующее очень длительными временными периодами, громадными изменениями, сопровождающими культурное развитие человечества после появления Homo sapiens; исследование сопоставимых эволюционных рядов, в которых человеческие группы, начиная с общей совокупности идей, разрабатывают их приблизительно одинаковым образом (многолинейная эволюция Стюарда); исследование фактически происходящих процессов изменения, имеющих место в одном поколении или же между близкими поколениями.
Интерес к этим трем подходам к эволюции выходит за рамки антропологии. Мы сталкиваемся с ними в исследованиях Уоддингтоном поколений дрозофил, учитывающих опыт каждого из них, в исследованиях Лоренцом поведения отдельных особей диких гусей, в исследованиях закономерностей развития звуковой сигнализации у птиц, выросших в разных условиях (Торп и другие), и в детальных исследованиях небольших человеческих сообществ в процессе изменения.
Когда мы изучаем такие небольшие группы, мы оказываемся в состоянии понять вклад в эволюцию, сделанный отдельными людьми не только в качестве носителей "хороших" генов или мутантов с репродуктивными возможностями. Мы в состоянии понять и вклад человека, такого, как он есть и каким он может стать, в ту культуру, в которой он должен жить. Поэтому сейчас уже не имеет смысла настаивать, как это делали Добжанский28 и Бердселл, что единственно значимым в эволюционном развитии является биологический вклад индивидуума в последующие поколения; следует считать несостоятельным и тезис Лесли Уайта, по которому индивидуум, как таковой, незначим.
Сегодня мы в состоянии изучать достаточно детальным образом вклад индивидуума в эволюцию культуры, и мы можем высказываться с большей определенностью о возможностях, заложенных в исследования как дивергентных, так и конвергентных явлений.
Библиография важнейших работ М.Мид
1. Coming of Age in Samoa. A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation. Morrow. N. Y., 1928.
2. Growing Up in New Guinea. A Comparative Study of Primitive Education. Morrow. N. Y., 1930.
3. Social Organization of Manua.- Bernico P. Bishop Museum Bulletin, 76. Honolulu, 1930, с 1-218.
4. The Changing Culture of an Indian Tribe. Columbia University Press. N. Y., 1932.
5. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. Morrow. N. Y., 1935.
6. [Mead M., ed.] Cooperation and Competition among Primitive Peoples. McGraw Hill. N. Y., 1937.
7. The Mountain Arapesh. I. An Importing Culture.- Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, 36. Pt 3, 1938, с 139-349.
8. The Mountain Arapesh. II. Supernaturalism.- Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, 37. Pt 3, 1940, с 317-451.
9. Mead M. and Bateson G. Baiinese Character: A Photographic Analysis. N. Y., 1942 (Special Publications of the New York Academy of Sciences, II).
10. Male and Female. A Study of the Sexes in a Changing World. Morrow. N. Y., 1949.
11. The Mountain Arapesh. V. The Record of Unabelin with Rorshach Analyses.- Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, 41. Pt 3, 1949, с 285-390.
12. The School in American Culture. Harvard University Press. Cambridge, Mass., 1951.
13. The Study of National Character.- Policy Sciences. Ed. by Daniel Lerner and Harold D. Lasswell. Stanford Press, 1951, с 70-85.
14. [Mead M., ed.] Cultural Patterns and Technical Change. Unesco. P., 1953.
15. National Character.- Anthropology Today. Ed. by A. L. Kroeber, 1953.
16. Research on Primitive Children.- Manual of Child Psychology. Ed. by Leonard Carmichael. 2nd ed. Wiley. N. Y., 1954, с 735-780.
17. New Lives for Old.: Cultural Transformation - Manus, 1928-1953. Morrow. N. Y., 1956.
18. Cultural Determinants of Behavior.- Behavior and Evolution. Ed. by Anne Roe and George G. Simpson, 1958, с 480-503.
19. Cultural Determinants of Sexual Behavior.- Sex and Internal Secretion. Vol. 1-2. 3rd ed. W. С Young. 1961, 2, с 1433-1479.
20. "Totem and Taboo" Reconsidered with Respect.- Bulletin of the Menninger Clinic, 27, Л" 4 (1963), с 185-199.
21. Continuities in Cultural Evolution. Yale University Press. New Haven and London, 1964.
22. Anthropology: A Human Science. Van Nostrand. Princeton, 1964.
23. An Anthropologist at Work: Writings of Ruth Benedict. Houghton Mifflin. Boston, 1959.
24. Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap. Natural History Press/Doubleday and Co. N. Y., 1970.
25. Blackberry Winter. My Earlier Years. Morrow. N. Y., 1973.
26. Culture and Commitment. The New Relationships Between the Generations in the 1970s. Rev. and Updated Edition. N. Y., 1978.
Книги, написанные исследовательницей в соавторстве
27. Mead M. and Bunzel R., eds. The Golden Age of American Anthropology. Braziller. N. Y., 1960.
28. Mead M. and Macgregor F. С. Crowth and Culture. Putnam. N. Y., 1951.
29. Mead M. and Metraux R., eds. The Study of Culture at a Distance. University of Chicago Press, 1953.
30. Mead M. and Wolfenstein M., eds. Childhood in Contemporary Cultures. University of Chicago Press, 1955.
Полная библиография работ М.Мид на 1975 г., составлена Джоан Гордон
И.С.Кон. Маргарет Мид и этнография детства
Маргарет Мид (1901-1978)
Имя американского этнографа Маргарет Мид (1901-1978), избранные сочинения которой по этнографии детства представлены в настоящем сборнике, хорошо известно не только этнографам и антропологам, но и социологам, психологам, историкам, педагогам, да и вообще читающей публике. Ни один этнограф в мире до нее не пользовался такой широкой популярностью и не был так читаем. Тираж первой же ее книги "Взросление на Самоа" (1928) превысил два миллиона экземпляров, и она была переведена на шестнадцать языков, к которым теперь прибавляется семнадцатый - русский. Многие люди на Западе благодаря Мид впервые узнали о существовании науки этнографии (в США ее называют культурной антропологией или этнологией) и о том, что ее на первый взгляд сугубо экзотические данные не только занимательны, но и весьма важны для понимания нашего собственного сегодняшнего и завтрашнего бытия. Кроме высоких научных отличий Мид была удостоена множества почетных социальных званий. В 1949 г. американские издатели назвали ее Выдающейся Женщиной Года в области науки, в 1956 г.- одной из выдающихся женщин XX столетия. В 1970-х годах Мид стала, по выражению одного американского ученого, "символом всей этнографии"; журнал "Тайм" 21 марта 1969 г. назвал ее "Матерью Мира".
Чем обусловлена эта известность?
1.
Прежде всего Мид была выдающимся и очень плодовитым ученым. Она опубликовала свыше 25 книг, была редактором нескольких важных коллективных трудов и автором сотен научных и публицистических статей1. При этом она никогда не занималась частными, второстепенными сюжетами. Ее книги, статьи и выступления всегда были посвящены актуальным, теоретически и социально значимым темам. Этнографические труды Мид в значительной степени основаны на результатах ее собственных полевых исследований. Она впервые описала образ жизни и культуру нескольких народов Океании, причем сделала это чрезвычайно талантливо. Этнографические книги Мид отличаются конкретностью, живостью и образностью изложения, создавая у читателя впечатление, будто он сам побывал в этих отдаленных землях и лично видел описываемые нравы и сцены. В предисловии к последнему (1973) изданию книги о Самоа исследовательница подчеркивала, что "это было первое антропологическое полевое исследование, написанное без внешних признаков научности, призванных мистифицировать неспециалистов и поразить собственных коллег. Мне казалось тогда - и все еще кажется,- что, если наши исследования образа жизни других народов хотят иметь какой-то смысл для народов индустриального мира, они должны писаться для них, а не упаковываться в жаргон, понятный лишь специалистам"2.
Но простота изложения у Мид обманчива. За ней стоит сложная теоретическая мысль и тщательно продуманная методология, описание которой обычно дается в приложениях или более специальных публикациях (например, "Взросление на Самоа" дополняется специальной работой о социальной организации островитян3). Мид никогда ничего не описывает "просто так", она всегда имеет, в виду какую-то теоретическую проблему. В зависимости от характера издания и уровня ее разработанности эта проблема может формулироваться в житейских или специальных терминах, но она всегда есть и, как правило, четко поставлена. С именем Мид связано выдвижение целого ряда новых научных гипотез, например о природе родительских чувств, соотношении материнских и отцовских ролей, происхождении и функциях мужских и женских инициации, психологических механизмах формирования половой идентичности ребенка и т. д. Ею впервые введены некоторые понятия и термины. Например, различение культур, в которых дети обучаются в основном практически, на собственном опыте, но под руководством старших (learning cultures), и культур, где существуют специализированные институты обучения детей (teaching cultures)4. Или разграничение понятий социализации и инкультурации (enculturation), где первое обозначает социальное научение вообще, а второе - "реальный процесс научения, как он происходит в специфической культуре"5.
Важнейшая особенность научной деятельности Мид - ее междисциплинарность. Эта женщина вообще не признавала дисциплинарных границ. Этнографическое описание культуры отдельного народа то и дело органически перерастает у нее в обсуждение общих проблем социальной, возрастной или дифференциальной психологии, социологии или теории воспитания. Причем все это делается профессионально, с хорошим знанием специальной социологической или психологической литературы. Недаром публикации Мид или ссылки на ее работы можно найти не только в этнографических, но и в самых солидных социологических, психологических, психиатрических, сексологических, педиатрических и педагогических изданиях. Ее избирали не только президентом Американской антропологической ассоциации, но и президентом Всемирной федерации психического здоровья, Общества по исследованию общих систем, Всемирного общества эристики (наука о человеческих поселениях, синтезирующая данные технических, социально-экономических наук, архитектуры и эстетики), Американской ассоциации содействия прогрессу науки и т. п. В наш век узкой научной специализации, когда об ученых, работающих на стыке наук, чаще отзываются полуиронически: "NN - лучший психолог среди этнографов и лучший этнограф среди психологов", такое широкое признание поистине беспрецедентно.
Узкая научная специальность Маргарет Мид была сугубо академической: всю жизнь она была музейным работником - сначала сотрудницей, а затем хранительницей отдела этнологии Американского музея естественной истории. Однако ее исследования были обращены к современности. Уже подзаголовок ее первой книги - "Психологическое исследование примитивной юности для западной цивилизации" - был поистине программным. Изучение далекого прошлого было для нее орудием понимания настоящего и воздействия на будущее.
Всю свою сознательную жизнь Мид оспаривала формулу "Нельзя изменить человеческую природу", считая совершенствование людей и общества главной задачей этнографии. В 1973 г. она писала о своей первой книге: "Я написала эту книгу как вклад в наше познание того, насколько сильно человеческий характер, способности и благополучие молодых людей зависят от того, чему они учатся, и от социальных порядков общества, в котором они родились и воспитаны. Чтобы вовремя изменить наши современные общественные учреждения и предотвратить катастрофу, нам все еще нужно что-то знать. В 1928 г. несчастьем, перед лицом которого мы стояли, была надвигавшаяся война; в 1949 г. это была возможность мировой ядерной войны; сегодня это также экологический, технологический и демографический кризис, угрожающий нашему существованию"6.
Для Мид мир при всем его многообразии всегда был единым целым. Она критиковала и разоблачала расизм, боролась за равноправие женщин, отстаивала интересы детей и молодежи, вскрывала пороки американского образа жизни и противоречия капиталистической индустриализации и "вестернизации" бывших колониальных народов, подрывающие их национальную самобытность и культуру.
Разумеется, не все ее теоретические диагнозы и политические рекомендации были правильны. Основываясь на позициях буржуазного либерализма, Мид часто предавалась политическим иллюзиям, оценивая социальные конфликты современности с точки зрения внеклассового просветительства и гуманизма. Однако она всегда поддерживала идею равенства и дружбы народов, основанную на признании единства и общности коренных интересов "планетарного сообщества" как целого. "Планетарное сообщество состоит теперь из всех обитателей планеты, и его цельность и безопасность зависят от каждого из них"7. Человечество не может пожертвовать ни одной, самой малой своей частью, не подвергая опасности гибели всех остальных. На этнографа, который лучше всех других ученых понимает единство и одновременно множественность, устойчивость и одновременно хрупкость человеческой культуры, это накладывает особые обязанности. "Одно из великих открытий антропологии в годы второй мировой войны состояло в том, что мы все время должны были говорить и писать так, как если бы все нас слушали. Сегодня требование, чтобы каждый слушал и был выслушан, составляет надежду нашего находящегося в опасности, но потенциально способного к самоизлечению мира"8.
Диапазон научных занятий Мид исключительно широк. В нем можно выделить несколько основных тем. Во-первых, этнография детства - закономерности развития и воспитания детей и подростков в зависимости от этнографических и социальных особенностей образа жизни народов. Во-вторых, проблемы пола - закономерности дифференциации мужских и женских социальных ролей, полового разделения труда, стереотипов маскулинности и фемининности и связанных с ними психологических и поведенческих черт, включая сексуальное поведение мужчин и женщин. В-третьих, проблемы этнопсихологии, закономерности формирования и проявления национального характера, этнического самосознания и этнокультурные особенности психических процессов у разных народов. В настоящий сборник включены главным образом работы, относящиеся к этнографии детства, в которой М.Мид оставила особенно заметный след. Недаром ее называют "первым антропологом детства и юности"9. Как же складывались и развивались эти исследования?
2.
Маргарет Мид родилась в Филадельфии 16 декабря 1901 г. и училась сначала в знаменитом женском Барнард-колледже, а затем в Колумбийском университете10. Первоначально она собиралась специализироваться по психологии, но осенью 1923 г. под влиянием Франца Боаса и Рут Бенедикт переключилась на этнографию. Темой ее первой работы был сравнительный анализ этнографических данных об особенностях строительства каноэ и жилищ и татуировки у народов Полинезии.
1920-е годы, когда формировались научные взгляды и программа будущих исследований Мид, были годами сильного интеллектуального брожения в общественных науках11. В социологии и этнографии шел яростный спор о соотношении биологических и социальных факторов развития человека и общества, который Фрэнсис Галтон в 1874 г. сформулировал в виде шекспировской антитезы "природы и воспитания"12. "Выражение "природа и воспитание", - писал Галтон, - удобное словосочетание, потому что оно разделяет на две рубрики бесчисленные элементы, из которых состоит личность. Природа - это то, что человек приносит с собой в мир, а воспитание - все влияния извне, которым он подвергается после рождения"13. Эта оппозиция формулировалась в различных терминах (природа и культура, наследственность и воспитание, биологическое и социальное, врожденное и наученное, индивидуальность и среда) и относилась к разным объектам (одни подразумевали свойства индивида, другие - популяции (нации или расы), третьи - общества, социальные системы). Однако сторонники биологического детерминизма, крайней формой которого была евгеника, отдавали предпочтение природе (по мнению Карла Пирсона14, влияние среды составляет меньше одной пятой, а вполне возможно - даже одной десятой доли влияния наследственности), тогда как сторонники культурного детерминизма подчеркивали значение культуры и воспитания.
Ведущим представителем последней ориентации в американской этнографии был выдающийся антрополог, этнограф и лингвист Франц Боас. Школа Боаса в 1920-х годах занимала господствующие позиции в американской науке, из нее вышли многие выдающиеся ученые: Альфред Льюис Крёбер, Александр Гольденвейзер, Роберт Лоуи, Нол Радин и Рут Бенедикт.
С точки зрения Боаса и его учеников, культура - явление особого рода, которое не может быть ни сведено к биологии, ни выведено из нее, ни подведено под ее законы. По выражению Крёбера, культура - вещь sui generis, которая может быть объяснена только из самой себя - omnis cultura ex cultura. Требование объяснять культуру из нее самой подводит нас ко второму водоразделу, чрезвычайно важному для обществоведения первой четверти XX в.- проблеме эволюции.
Для социологов и этнографов-эволюционистов второй половины XIX в., например Эдуарда Бернетта Тэйлора, объяснить какое-либо явление значило выяснить его происхождение, проследить его историческое становление. История культуры в целом и отдельных ее элементов казалась более или менее единым, последовательным и непрерывным процессом. На рубеже XX в. научная парадигма меняется15. Эволюционизм вытесняется, с одной стороны, диффузионизмом, согласно которому распространение культурных явлений объясняется заимствованиями и взаимными влияниями, а с другой - функционализмом, который считает, что любой социальный институт или факт культуры объясняется прежде всего теми функциями, которые он выполняет в поддержании и развитии соответствующего социального целого (Эмиль Дюркгейм в социологии, Бронислав Малиновский в этнографии).
Интерес к социальному целому охватывает и психологов. Если представители "психологической социологии" второй половины XIX в. апеллировали в первую очередь к "имманентным" законам" индивидуального сознания, то дюркгеймовская школа выдвигает на первый план задачи изучения коллективных представлений и соответствующих конфигураций культуры. Известный американский социолог Уильям Филдинг Огберн, лекции которого Мид слушала в Барнард-колледже и позже короткое время работала под его началом, учил, что "мы никогда не должны искать психологических объяснений социальных явлений, пока не исчерпаны попытки объяснить их в терминах культуры"16. Эта полностью соответствовало установкам школы Боаса.
Желание понять этническую специфику не только социальных институтов, но и мотивов человеческого поведения способствует на рубеже XX в. сближению этнографии с психологией. Но в психологии этого периода также идут острые споры. С одной стороны, в ней очень силен инстинктивизм, особенно в психоаналитическом варианте, постулирующий наличие имманентных законов человеческого развития и универсальных мотивационных синдромов (эдипов комплекс и т. д.). С другой стороны, в начале 1920-х годов резко возрастает влияние бихевиоризма, утверждающего, что человеческое поведение главным образом результат научения. Эту позицию разделяет и молодая социальная психология. Как писал в 1924 г. в прямой полемике с Пирсоном известный американский социолог Лестер Бернард, "ребенок, достигший разумного возраста, в девяти десятых или девяносто девяти сотых своего характера реагирует непосредственно на среду и только в незначительном остаточном сегменте своей природы действует непосредственно инстинктивно"17.
Споры эти имели самое прямое отношение и к этиологии. Уже в 1920-х годах Малиновский поставил под сомнение универсальность эдипова комплекса, ссылаясь на многообразие исторических форм семьи и брака и свои полевые наблюдения за сексуальным поведением и воспитанием детей у тробрианцев18, что вызвало острую и длительную, продолжающуюся по сей день полемику. В 1930-х годах в США сложилось особое предметное направление - психологическая антропология, теоретической основой которой стала неофрейдистская концепция "базовой личности", которую развивали Ральф Линтон, Абрам Кардинер и др.19.
Теоретические споры имели вполне определенный политико-идеологический смысл. Биологические теории человека были тесно связаны с расизмом, тогда как школа Боаса была прогрессивно-либеральной. Существенно различались и их практические выводы. Если умственные способности являются врожденными, образование должно ориентироваться на одаренную элиту, если же все зависит от среды и воспитания - нужно искоренять социальное и расовое неравенство. Если разные человеческие общества - только ступеньки единой эволюционной лестницы, то "отсталые" народы должны просто "европеизироваться". Если же каждая этническая культура имеет собственное ядро, то изменить отдельные ее элементы, не меняя целого, невозможно; европейцы, с одной стороны, должны учить "отсталые" народы, а с другой - сами учиться у них.
Но как проверить, какая теоретическая ориентация правильна? "Фундаментальная трудность, стоящая перед нами, - писал Боас в октябре 1924 г.,- состоит в отделении того, что внутренне заложено в телесной структуре, от того, что приобретается при посредстве культуры, в которую включен каждый индивид; или, если выразить это в биологических терминах, что определено наследственностью и что - условиями среды, что эндогенно и что экзогенно"20. Единственно возможным способом проверки теории культурного детерминизма Боасу казалось сравнительное изучение детства и юности у народов, живущих в разных культурных условиях. Согласно общепринятой в США в те годы психологической концепции Стэнли Холла, отрочество и юность - это период "бури и натиска", поиска себя, конфликта отцов и детей и т. д. Но чем обусловлен этот драматизм? Если, как полагали большинство психологов, он коренится в закономерностях полового созревания, эти черты должны быть инвариантными и повторяться во всех обществах и культурах, независимо от уровня их социально-экономического развития, общественного строя, структуры семьи и т. д. Любое исключение из этого правила было бы его опровержением, доказывая, что протекание юности зависит не столько от всеобщих закономерностей онтогенеза, сколько от свойств конкретной культуры, детерминирующей соответствующий тип личности и его развитие.
Выяснить этот вопрос на примере самоанских девушек Боас поручил своей 23-летней аспирантке, причем, как свидетельствует его письмо от 1925 г., цитируемое Мид (наст. изд., разд. I), теоретическая задача была поставлена им совершенно четко.
Хуже обстояло дело с методологией и техникой. Воспоминания Мид о ее первых полевых исследованиях (наст. изд., разд. I) - исключительно яркий, живой человеческий документ, позволяющий понять трудности работы этнографа в те далекие годы. Следует сказать, что техническая неподготовленность к работе в поле, о которой пишет Мид, была характерна не только для учеников Боаса. Этнография 1920-х годов имела еще сравнительно мало кодифицированных исследовательских методов и приемов, так что молодые ученые вынуждены были многому учиться в основном на собственном, часто горьком опыте. Воспоминания старейших советских этнографов, учеников Л.Я.Штернберга и В.Г.Богораза, об их первых студенческих полевых экспедициях в Сибирь или на Крайний Север содержат немало похожих эпизодов.
Недостаточный профессионализм в сочетании с жаждой открытий нередко оборачивался просчетами и ошибками в описании и интерпретации фактов. Зато ему сопутствовали свежесть восприятия и широкий охват явлений, что иногда теряется при слишком узком профессионализме. Это касается не только этнографического "поля". Канадский историк Эдуард Шортер, сравнивая описание европейского крестьянского быта сельскими врачами, священниками и другими бытописателями XVIII - начала XIX в. с работой позднейших профессиональных фольклористов и этнографов, с грустью замечает, что, хотя любители часто бывали неточны и наивны, они пытались воспроизвести и понять живую жизнь, тогда как профессионалы нередко ограничиваются "пустой каталогизацией ее форм"21.
Читая "Взросление на Самоа", приводимое нами с некоторыми сокращениями, легко представить себе огромное впечатление, которое производила эта книга шестьдесят лет назад. Правда, картина самоанской жизни местами выглядела идиллически, напоминая "счастливых дикарей" просветительской литературы
XVIII в. Но в книге не скрывались и теневые стороны этой жизни: материально-техническая и социальная отсталость, слабое развитие индивидуальности и многое другое. Предисловие самого Боаса гарантировало высокий научный уровень книги, и фактически для своего времени первые полевые исследования Мид были технически достаточно грамотными, хотя шестимесячного пребывания в стране и наблюдения за 68 девушками от 8 до 20 лет при довольно слабом владении местным языком явно недостаточно, чтобы уверенно судить о национальном характере самоанцев и об отличиях их народной педагогики от америконской.
Яркая, высокоинформативная и острая книга Мид, подвергающая критике всю систему семейных отношений, воспитания детей и половой морали американского общества, сразу же стала бестселлером и получила высокую оценку специалистов.
Не только близкие к Боасу Р. Бенедикт и Р. Лоуи, но и весьма критичный Малиновский назвали "Взросление на Самоа" "выдающимся достижением" и "абсолютно первоклассным образцом описательной антропологии"22. К этим оценкам в дальнейшем присоединились Бертран Рассел, Хэвлок Эллис, Лесли Уайт, Эдуард Эванс-Причард, Мелвил Херсковиц, Отто Клайнберг, Джон Хонигман, Джордж Девере, Роберт Левайн и многие другие авторитетные ученые.
Сама Мид до конца жизни считала "Взросление на Самоа" своей лучшей книгой и никогда не переделывала ее, а только снабжала новыми предисловиями. Пусть мир, изображенный в этой книге, неузнаваемо изменился, а ее исследовательские методы устарели. Монографии о первобытных обществах не могут переписываться. Подобно портретам умерших знаменитостей, они "всегда будут служить просвещению и развлечению будущих поколений и навсегда останутся истинными, потому что невозможно дать более правдивую картину того, что уже ушло"23.
Даже сами самоанцы стали, казалось, изучать свои прошлые обычаи по книге Мид. В 1956 г. журнал "Нью-Йоркер" опубликовал остроумную карикатуру, изображающую группу выстроившихся в ожидании инициации туземных юношей, которым вождь вручает книгу со словами: "Молодые люди, вы достигли возраста, когда вам пора узнать обряды и ритуалы, обычаи и табу нашего острова. Но вместо того чтобы подробно рассказывать о них, я хочу просто подарить каждому из вас по экземпляру прекрасной книги Маргарет Мид"24.
Неожиданный успех первой книги вдохновил молодую исследовательницу на новые экспедиции. В 1928-1929 гг. она едет на острова Адмиралтейства, где изучает детей племени манус, в 1930-1933 гг.- па Новую Гвинею для изучения папуасских племен арапешей, мундугуморов, ятмулов и чамбули (часть этих исследований она проводила вместе с мужем Рео Форчуном). В 1936-1939 гг. вместе с новым мужем, также известным этнографом, Грегори Бейтсоиом Мид осуществляет большое полевое исследование на острове Бали (Индонезия). В 1953 г. она организует вторую экспедицию на остров Манус, который кратковременно посещает также в 1965, 1966 и 1967 гг. Атмосфера и результаты первых из этих экспедиций хорошо описаны в ее воспоминаниях (наст. изд., разд. I).
За новыми экспедициями следуют новые книги. В 1930 г. выходит книга "Как растут на Новой Гвинее" с подзаголовком "Сравнительное исследование примитивного воспитания", в которой подробно описываются воспитание, поведение и психология детей племени манус и в свете этого опыта обсуждается ряд современных психолого-педагогических проблем. В настоящем издании переведены несколько разделов этой книги ("Введение", "Воспитание в раннем детстве", "Семейная жизнь", "Мир ребенка" и "Воспитание и личность" и опубликованная в качестве приложения статья "Этнологический подход к социальной психологии").
В 1935 г. вышла книга "Пол и темперамент в трех примитивных обществах", в которой сравнивается образ жизни трех папуасских племен: арапешей, мундугуморов и чамбули. В настоящем издании переведены ее введение и большая часть раздела об арапешах; сведения о чамбули частично отражены в воспоминаниях Мид.
Позже, в 1939 г., все три книги ("Взросление па Самоа", "Как растут на Новой Гвинее" и "Пол и темперамент") были изданы вместе25, но продолжали переиздаваться и по отдельности.
Мид часто утверждала, что цель ее первых работ сводилась к тому, чтобы "снова и снова документировать тот факт, что человеческая природа не является жесткой и неизменной"26, не претендуя на теоретические обобщения. Это не совсем так.
В книге о Новой Гвинее Мид как бы между прочим опровергает теорию Люсьена Леви-Брюля о том, что анимистические компоненты первобытного мышления аналогичны мыслительным процессам ребенка. Дикарь и ребенок, по мнению Леви-Брюля, одинаково одухотворяют явления природы, наделяя их человеческими свойствами. Мид считала эту гипотезу сомнительной, полагая, что наличие или отсутствие спонтанного анимизма у детей зависит от уровня развития их воображения и, следовательно, от воспитания. Чтобы проверить свое предположение, она систематически изучала две группы детей манус: от двух до шести и от шести до двенадцати лет. Кроме непосредственного общения с этими детьми и наблюдении за их играми Мид использовала ряд дополнительных методов: тест Роршаха, анализ детских рисунков и специальные вопросы, рассчитанные на то, чтобы спровоцировать анимистические реакции. Оказалось, что если в жизни взрослых манус магия играет важную роль, то сознание маленьких детей вполне реалистично. События, которые взрослые объясняли вмешательством духов, дети приписывали естественным причинам. В детских рисунках манус (Мид собрала их свыше 30 тысяч) не оказалось ничего антропоморфного. Когда исследовательница спрашивала детей о сорвавшейся с причала лодке: "Эта лодка ушла в море потому, что она нехорошая?" - она неизменно получала реалистические ответы типа: "Нет, лодка была плохо привязана". Между тем, по Леви-Брюлю, чем ниже уровень умственного развития, тем анимистичнее должно быть мышление.
Однако реалистичность мышления маленьких меланезийцев по сравнению с их американскими сверстниками - не преимущество, а недостаток. Сторонники модной в США в 1920-х годах теории свободного воспитания утверждали, что дети сами, без помощи взрослых могут создать достаточно сложную культуру, взрослые им скорее мешают. На примере культуры манус Мид показывает ошибочность этого мнения. Там, где взрослые не развивают у детей фантазию, не рассказывают малышам сказок и легенд, не поощряют их художественное творчество, детское воображение оказывается более бедным. "Чтобы детское воображение расцвело, ему необходимо дать пищу. Хотя исключительный ребенок может создать что-то свое, подавляющее большинство детей не сумеют вообразить даже медведя под кроватью, если взрослый не снабдит их медведем"27. В психологической литературе этот вопрос остается спорным. Большинство западных психологов сочли методы Мид ненадежными и неспособными выявить спонтанный детский анимизм28. Однако советские психологи Пеэтер Тульвисте и Анна Лапп, применив методику Мид к 75 эстонским детям от трех до пяти лет, нашли, что она вполне удовлетворительно выявляет наличие или отсутствие анимизма и что гипотеза Мид о его культурном происхождении заслуживает более серьезного внимания29.
Уже в первых своих работах Мид уделяла большое внимание различиям в способах воспитания, физического развития и поведения мальчиков и девочек. В книге "Пол и темперамент" эта проблема становится центральной, как и в более поздней обобщающей книге "Мужчина и женщина: Изучение полов в изменяющемся мире" (1949), которая в нашем сборнике представлена главой об отцовстве (разд. V).
По словам Мид, "Пол и темперамент" - "самая непонятая" ее книга30. Прежде всего непонимание касалось ее предмета. Во введении к книге подчеркивалось, что автор не пытается ответить на вопрос, "существуют ли реальные и универсальные различия между полами и являются ли они количественными или качественными", а хочет лишь показать, "как три примитивных общества сгруппировали свои социальные установки относительно темперамента в связи с вполне очевидными фактами половых различий"31. Говоря современным языком, речь идет не о психофизиологических половых различиях и даже не о дифференциации половых ролей и о половой стратификации, а только о стереотипах маскулинности и фемининности. Но читатели истолковали тему расширительно, как общую теорию половых различий, что навлекло на Мид обвинение в отрицании их биологического субстрата. Некоторые основания к этому и вправду были, так как в заключительной части книги Мид настойчиво подчеркивала, что "многие, если не все, личностные черты, которые мы называем маскулинными или фемининными", имеют не биологическую, а социальную природу. "Мы вынуждены заключить, что человеческая природа почти невероятно пластична, аккуратно и контрастно реагируя на различные социальные условия. Различия между индивидуумами, членами разных культур, как и различия между индивидуумами внутри одной и той же культуры, почти полностью сводятся к различиям в условиях их жизни, особенно в раннем детстве, причем форма, в которой реализуются эти условия, детерминирована культурой. Именно таковы стандартизированные личностные различия между полами: они являются порождениями культуры, требованиям которой учится соответствовать каждое поколение мужчин и женщин"32.
Утверждение, что многие так называемые маскулинные и фемининные свойства не вытекают непосредственно из природных половых различий, а отражают нормативные представления и особенности образа жизни различных обществ, было, несомненно, новаторским и прогрессивным. Вклад Мид в становление социологии и этнографии половых ролей и половозрастной стратификации огромен. Однако ее постановка проблемы была слишком общей и недостаточно гибкой.
Дело не только в соотношении биологического и социального. Степень поляризации мужских и женских ролей и стереотипов и само их содержание варьируют не только от одного общества к другому, но и в зависимости от сферы деятельности, о которой идет речь. Чем теснее тот или иной вид деятельности связан с осуществлением репродуктивной функции, в которой заключается изначальный биологический смысл полового диморфизма, тем больше транскультурных констант и универсалий обнаруживается в половом разделении труда и соответствующих социокультурных нормативах. Даже у чамбули, где, по наблюдению Мид, традиционные стереотипы маскулинности и фемининности - властный, безличный и деятельный мужчина и пассивная, отзывчивая, предпочитающая ухаживать за детьми женщина - перевернуты, уход за детьми, приготовление пищи и целый ряд других традиционно фемининных занятий остаются прерогативой женщин.
Проблема соотношения предметно-инструментального "мужского" и эмоционально-экспрессивного "женского" стиля жизни занимает важное место и в сегодняшней социологии и психологии. Однако ученые строго различают, идет ли речь о ценностно-нормативных ориентациях культуры или об индивидуальных психологических различиях и в каких именно социальных ролях. Мид, обсуждавшая проблему в расплывчатых понятиях теории темперамента, это сделать не могла. Но упрекать ее было бы несправедливо, так как именно ее труды и поднятые ими споры способствовали уточнению постановки вопроса.
Книга "Пол и темперамент" вызвала критику и с другой стороны. Сравнивая стиль воспитания детей и взаимодействия мужчин и женщин у трех папуасских племен, Мид обнаружила между ними глубокие качественные различия. В обществе арапешей "и мужчины и женщины действуют так, как мы привыкли ожидать от женщин, - мягко, по-родительски отзывчиво"; у мундугуморов, наоборот, оба пола ведут себя на мужской манер - агрессивно, напористо и инициативно, а у чамбули "мужчины действуют по нашему "женскому" стереотипу - они по-кошачьи коварны и кокетливы, завивают волосы и ходят за покупками, тогда как их женщины энергичны, хозяйственны и не заботятся об украшениях"33. Читателей удивили не только сами эти различия, но и слишком большая "чистота" схемы, которая казалась заранее сконструированной и слишком стройной, чтобы быть истинной.
В своей рецензии на "Пол и темперамент" известный немецкий этнограф Рихард Турнвальд писал, что идиллическое изображение арапешей, среди которых якобы нет ни агрессивных, ни жадных, ни эгоистичных людей, противоречит фактам, приводимым в самой книге, где часто слышны крики дерущихся детей, мужчины ссорятся из-за женщин, жена избивает мужа и т. д.34.
Отвечая Турнвальду, Мид отклонила его критику, сославшись на то, что все примеры, противоречащие основной модели поведения арапешей, содержатся в главе, посвященной девиантному поведению, без которого не обходится ни одно общество, хотя такие люди и поступки составляют меньшинство. В книге о Самоа, анализируя "нормальную" траекторию жизни девушек, Мид также приводила случаи отклонения от общей нормы, хотя статистических данных о количестве или степени распространенности "аберрантов" и "девиантов" она не имела, утверждая, что "исследование примитивных народов, допускающее статистическую проверку, при существующих условиях работы невозможно"35.
Впрочем, позже Мид признала, что метод, применявшийся в её первых трех работах, "имел много серьезных ограничений: он нарушал правила присущего науке точного и операционального изложения; слишком сильно зависел от индивидуальных факторов стиля и литературного мастерства; его данные трудно было воспроизвести и оценить"36.
Новые полевые исследования, проведенные Мид на острове Бали совместно с Бейтсоном и Макгрегором37 (см. их краткое описание в разд. I наст. изд.), выполнены совершенно иначе. Импрессионистские описания сменились скрупулезным анализом и фиксацией с помощью кино- и фотокамеры отдельных форм и элементов моторного поведения, способов вербальной и невербальной коммуникации и т. д. Исследователи засняли около 25 тысяч слайдов и около 7 тысяч метров кинопленки. Хотя интерпретация этих материалов оказалась довольно сложной, они сделали Мид заметной фигурой в развитии таких новых междисциплинарных отраслей знания, как соматическая этнография и психология экспрессивного поведения.
Наряду с полевыми исследованиями Мид много занимается теорией и обобщением литературных данных. В 1937 г. под ее редакцией вышел большой коллективный труд "Кооперация и конкуренция среди примитивных народов"38, где сравнивались формы социального поведения, включая воспитание детей, у арапешей, гренландских эскимосов, индейцев оджибва, квакиютль, ирокезов, зуньи и дакота, африканских народностей бачига (или кита) и тсонга, филиппинцев-ифугао, меланезийцев-манус и новозеландцев-маори. В 1949 г. Мид публикует уже упоминавшуюся книгу "Мужчина и женщина", в которой детально изложены ее взгляды на природу половых различий и их изменения в современном обществе. В 1950-х годах появляется серия ее работ о понятии и методах изучения национального характера39, весьма критическая книга об американской школе40; вместе с Мартой Вольфенстайн Мид составляет и редактирует сборник "Детство в современных культурах"41. В 1964 г. выходит ее теоретическая книга "Преемственность в эволюции культуры"42 (первая глава ее приведена в наст, изд., разд. VII), в 1961 г. - важная обобщающая статья "Культурные детерминанты сексуального поведения"43. Мид много занимается также историей этнографии44, издает свои воспоминания и письма из экспедиций45. На подъем молодежного движения в 1960-е годы Мид ответила книгой о конфликте поколений (1970), которая сразу стала бестселлером и была переведена на восемь языков; в 1978 г. вышло ее новое, переработанное и дополненное издание, отражающее опыт 1970-х годов46.
"Я ожидаю смерти, но я не собираюсь уходить в отставку",- говорила Мид на рубеже своего 75-летия. Смерть застигла ее 15 ноября 1978 г. в разгар работы.
3.
Быть прижизненным классиком науки, пожалуй, труднее, чем чемпионом мира. Прежние рекорды здесь не только перекрываются новыми, но подчас даже перечеркиваются. Не успели забыться торжественные некрологи, как весной 1983 г. известный австралийский этнограф Дерек Фримэн. посвятивший изучению Самоа сорок лет жизни и шесть лет проживший на Западном Самоа, опубликовал книгу "Маргарет Мид и Самоа. Создание и развенчание одного антропологического мифа"47, где подверг сокрушительной критике не только методологию, по и все конкретные выводы ее важнейшей работы.
По словам Фримэна, когда в апреле 1940 г. он впервые приехал на Самоа, он свято верил каждому слову Мид, но постепенно понял, что нарисованная ею картина не соответствует действительности пи в целом, ни в частностях.
Мид пишет, что самоанской культуре чужд дух соревновательности; в действительности там идет и всегда шла ожесточенная борьба за престиж и социальный статус.
По мнению Мид, самоанцы на редкость миролюбивы и невоинственны; в действительности вся их история наполнена межплеменными войнами, уже Лаперуз отмечал их воинственность.
Вопреки утверждениям Мид, самоанская культура требует от людей абсолютного и безусловного повиновения вышестоящим вождям, и нарушение дисциплины карается здесь сурово и безжалостно. Такая же жестокая авторитарная дисциплина действует и в семейном воспитании; самоанские дети полностью зависят от своих родителей и часто подвергаются физическим наказаниям.
Вопреки уверениям Мид о мягкости и податливости самоанского характера, самоанцы - люди эмоционально страстные, гордые, обладающие высокоразвитым чувством собственного достоинства, оскорбление которого может повлечь за собой даже самоубийство.
Совершенно неверно описаны Мид и их сексуальные нравы. Самоанское общество никогда не было "царством свободной любви"; женская девственность здесь строго охраняется, а потеря ее считается величайшим бесчестьем. Вопреки наивным впечатлениям юной Мид, мужская сексуальность у самоанцев, как и у остальных народов мира, содержит сильные элементы агрессивности; самоанские юноши считают дефлорацию девственницы важным личным достижением и доказательством собственной маскулинности. По числу изнасилований на душу населения, согласно самоанской судебной статистике, изученной Фримэном, Западное Самоа стоит на первом месте в мире, вдвое опережая США и в двадцать раз - Англию. Обычай моетотоло, тайного овладения спящей девушкой, изображенный Мид в романтическом свете, в большинстве случаев настоящее насилие. Успех этого предприятия наносит непоправимый ущерб репутации жертвы, поэтому страх разглашения отдает ее целиком во власть соблазнителя; недаром юношей, застигнутых на месте преступления, сплошь и рядом убивают.
Тезис Мид о гладком, бесконфликтном переходе самоанцев от детства к взрослости опровергается высоким числом правонарушений, самоубийств, истерии и нервных заболеваний среди самоанских подростков и юношей от 12 до 22 лет; местная статистика в этом отношении ничем не отличается от статистики других стран.
Короче говоря, книга Мид рисует совершенно искаженный облик "подлинного" Самоа, и все основанные на ней выводы, включая исходные принципы культурного детерминизма,- лишь "этнографический миф", который следует отбросить, заменив более научной программой.
"Если бы путешественник, вернувшись из далеких стран, стал сообщать нам о людях, совершенно отличных от тех, с которыми мы когда-либо были знакомы, людях, совершенно лишенных скупости, честолюбия или мстительности, находящих удовольствие только в дружбе, великодушии и патриотизме, мы тотчас же на основании этих подробностей открыли бы фальшь в его рассказе и доказали, что он лжет, с такой же несомненностью, как если бы он начинал свой рассказ повествованиями о кентаврах и драконах, чудесах и небылицах"48,- писал Юм. Между тем Мид рассказывает о самоанцах именно это, и тем не менее все ей поверили! Как могло случиться подобное? - спрашивает Фримэн.
Несмотря на свое откровенно враждебное отношение к Мид, Фримэн нисколько не сомневается в ее научной честности и добросовестности. "Заблуждения" Мид он объясняет отчасти методологической неискушенностью, плохим знанием языка и специфическим подбором информантов. Поселившись не среди туземцев, а в доме знакомых американцев, Мид тем самым невольно сузила круг своих возможных человеческих контактов. Девушки, которых она расспрашивала о крайне деликатных сексуальных сюжетах, могли просто подшутить над ней или поведать молодой исследовательнице то, что ей хотелось услышать. Но главное - Мид приехала на Самоа во власти предвзятой идеи и не столько проверяла, сколько пыталась доказать ее. А восторженный прием, оказанный книге, объясняется тем, что миф о мире, где живут счастливые люди, не знающие конкуренции и погони за несбыточным, пользующиеся сексуальной свободой и т. д., как нельзя лучше отвечал духовным запросам мечтавшей об идеале американской и западноевропейской публики 1930-х годов.
Книга Фримэна произвела эффект взорвавшейся бомбы и вызвала бурную полемику не только в научной, но и в массовой прессе.
Крушение репутаций и пересмотр казавшихся бесспорными концепций - дело в истории науки нередкое. Этнографические описания экзотических народов, которых мало кто видел, довольно часто оказываются недостоверными, особенно если речь идет о психологии и символической культуре. Например, много лет классическим описанием образа жизни обитателей Маркизских островов считалась работа Ральфа Линтона49. Но когда в 1956 и 1957 гг. острова посетил более молодой и методологически искушенный исследователь, выяснилось, что Линтон приписал маркизцам взгляды и обычаи, прямо противоположные тем, которых они в действительности придерживались50. Источниками Линтону часто служили разговоры с одним-единственным информантом или наблюдение единичного случая. Кроме того, он не знал ни маркизского, ни даже французского языка. А говорить о табуируемых или интимных отношениях через двух переводчиков - дело заведомо безнадежное. Вежливые туземцы рады пойти навстречу гостю, рассказав то, что ему хочется услышать, а он, в свою очередь, лучше воспринимает то, что вписывается в его теоретическую схему.
Разве не могло случиться подобное и с Маргарет Мид?
Мнения ученых, как обычно, разделились. То, что Мид нарисовала чересчур идиллический, розовый образ Самоа, мало кого удивило. Но, признавая ошибочность ряда суждений Мид, несовершенство ее полевой техники и склонность к слишком широким обобщениям, ведущие американские этнографы Беатриса Уайтинг, Роберт Левайн, Уорд Гуденаф, Роберт Леви, Брэд Eiop, Лоуэлл Холмс, Дебора Геверц, Джордж Маркус, Колин Тэрибулл и другие в целом выступили в защиту Мид51.
Прежде всего ученых шокировала тенденциозность и категоричность Фримэна. Л. Холмс, специалист по Самоа, который еще двадцатью годами ранее на основе собственных полевых наблюдений отметил ошибочность некоторых утверждений Мид (на него прямо ссылается Фримэн), заявил, что книга Фримэна больше напоминает ему памфлет правого толка, чем этнографическое исследование.
На чисто фактическом уровне спор между Фримэном и Мид подчас неразрешим, так как далеко не все их данные сопоставимы. Во-первых, между их полевыми исследованиями лежит временной интервал от 14 до 42 лет. Во-вторых, Фримэн изучал население Западного Самоа, которое по многим параметрам сильно отличалось от населения Восточного Самоа, описанного Мид. В-третьих, они опирались на разные источники: Фримэн опрашивал в основном женатых мужчин и отцов семейств, а информантками Мид были молоденькие девушки.
По мнению Фримэна, Мид преувеличила степень сексуальной свободы, существовавшей в самоанском обществе. Но отношение самоанцев к сексуальности фактически было двойственным52. С одной стороны, как и у некоторых других народов Полинезии (тонга, мангаиа, мангарева, пукапука и др.), у них существовал культ "священной девственницы". С другой стороны, был распространен обычай "сексуальной кражи", причем разобраться, где было изнасилование, а где - условный ритуал, не так легко. Мид и Фримэн просто по-разному расставляют акценты (и подчас одинаково односторонне).
Но главная слабость книги Фримэна - методологическая. Фримэн призывает этнографов ориентироваться на социобиологию и генетику, что обеспечило ему симпатии ряда ученых-биологов (изданию его книги сильно способствовал профессор зоологии Гарвардского университета Эрнст Майр). Однако он не приводит ни одного доказательства того, что методы этих дисциплин объясняют самоанский или какой-либо другой характер лучше, чем культурологический подход. Его важнейшие обобщения основаны не на данных биологии, а на личных впечатлениях и данных социальной статистики. Эти источники всегда небезупречны, но какой этнограф может без них обойтись?
Детальная оценка полевых работ Мид - дело специалистов. Новые факты и исследовательские методы неизбежно вносят поправки в старые схемы53. Но шторм вокруг М. Мид не сводится к вопросу о том, каковы "настоящие" самоанцы, арапеши или Малийцы. Спор идет о самой сущности этнографического знания и критериях его ценности и объективности.
Говорят, что наши недостатки - продолжение наших достоинств. У Мид одинаково ярки и те и другие. Она пыталась описать целостность каждой данной культуры, характерный для нее тип личности и механизмы, посредством которых осуществляется "го передача из поколения в поколение (отсюда и интерес к детям и способам их воспитания). Но как это сделать?
Американский этнограф Освальд Вернер иронически заметил, что многие этнографические монографии похожи на кубистические портреты: в них невозможно узнать изображаемое лицо54.
В конце 1982 г. редакция журнала "Советская этнография" провела "круглый стол" по проблемам этнопсихологии. Из опубликованных материалов55 ясно видно, что ученые по-разному понимают ее предмет и методы, причем отчетливо прослеживается противоборство и одновременно взаимопереплетение культурологических и психологических, а также качественно-синкретических и количественно-аналитических тенденций и методов. Сорок лет назад эти вопросы, право же, не были яснее.
Этнография предполагает сравнение. Но что, с чем и как сравнивать? В 1935 г., поручая Мид руководить сравнительным исследованием соотношения кооперативного, т. е. основанного на сотрудничестве, и соревновательного поведения нескольких "примитивных народов", ей рекомендовали обойтись "без этой чепухи, на которой всегда настаивают антропологи, твердящие о "целостных культурах"; просто сравните кооперативные и соревновательные навыки приблизительно в дюжине культур"56. Казалось бы, чего проще? Тем более что психологи дали этнографам готовые определения: соревнование - "акт желания или попытки добыть то, к чему в то же самое время стремится другой", а кооперация - "акт совместной работы для достижения общей цели"57.
Увы! В дополнение к дихотомии кооперативного и соревновательного поведения Мид пришлось еще разграничить индивидуальное и коллективное поведение, а на уровне мотивации - использовать психоаналитические понятия "силы Я" и "чувства надежности" плюс развести значения терминов "вина" и "стыд", а также "внутренних" и "внешних санкций"58. И все равно поведенческие характеристики не совпадают с мотивационными, культурологические понятия - с психологическими (это наглядно видно на примере таких понятий, как "стыд" и "вина"), а количественные градации - с качественными различиями. Абстрактное понятие "соревновательного поведения" включает в себя и буржуазную конкуренцию, и социалистическое соревнование. Этнография же стремится к конкретному, целостному знанию.
Может ли этнограф вообще судить о свойствах национального характера изучаемого народа? Конечно. Но при этом он должен всегда помнить и указывать подразумеваемый эталон сравнения, ситуацию, в которой происходили оцениваемые действия, особенности исторической эпохи и многое другое. Мид этого часто не делала.
Фиксируя в первую очередь межкультурные различия, Мид нередко преувеличивала их, не замечая существенных стадиально-исторических и внутрикультурных вариаций. Нарисованные ею психологические портреты арапешей, мундугуморов и чамбули выглядят особенно контрастными оттого, что арапеши и чамбули описываются в их современном (в 1930-х годах) состоянии, тогда как об образе жизни мундугуморов рассказывается преимущественно по их доколониальному прошлому, которого Мид не застала, поэтому они кажутся особенно жесткими и агрессивными" Между тем раньше мужчины-чамбули были такими же воинственными охотниками за головами, как и мундугуморы59.
Иногда подразумеваемый эталон (например, сравниваются ли арапеши с мундугуморами или с американцами) вообще не указывается, что делает итоговый этнопсихологический портрет односторонним или расплывчатым; другие исследователи характеризуют тот же самый народ совершенно иначе. Если Фримэн и Шор считают, что жители Самоа самолюбивы и агрессивны, то Холмо солидарен с мнением Мид и пишет, что за четыре года жизни на островах он ни разу не слышал ни об изнасиловании, ни о моетотоло, не видел ни одной кулачной драки, а по всем психологическим тестам самоанцы "выглядели мягкими, готовыми к сотрудничеству, сдержанными и послушными людьми".
Предприимчивые журналисты не поленились проинтервьюировать самих самоанцев. Но и здесь мнения разошлись. Одни согласны с Мид, другие - с Фримэном, третьи же считают, что оба этнографа оклеветали их народ (Мид - приписав ему "сексуальную свободу", а Фримэн - изобразив мрачным и агрессивным) и что иностранцы вообще не способны правильно о нем судить60. В спорах о национальном характере беспристрастия ждать но приходится, и любые обобщения чреваты скандалом...
Результаты психологического тестирования убедительно показывают, что любая этническая группа имеет в своем составе индивидов разных темпераментов, не говоря уже о типах личности61. Хотя наши житейские представления о различии темпераментов у разных народов небеспочвенны, природные различия непонятны без учета социальных факторов. Современная социология эмоций показывает, что их проявление зависит от социального контроля: одни чувства разрешается и даже поощряется проявлять открыто, другие же нужно подавлять или скрывать. Культура структурирует не сами эмоции, а нормативные ситуации их проявления62. Всем известна изысканная вежливость японцев в межличностных отношениях, но в обстановке анонимной массовости и скученности, например в общественном транспорте, эти нормы не действуют, те же самые японцы ведут себя, по оценке европейских наблюдателей, крайне грубо. Спорить, какое поведение "правильно" выражает японский характер, бессмысленно.
Подчеркивая значение социальных и культурных факторов развития человека, Мид была в принципе - в тенденции - права. Другое дело, что она нередко делала слишком широкие и неправомерные обобщения.
Коренной недостаток всех теоретических построений Мид, как и вообще "психологической антропологии",- склонность рассматривать семейно-бытовые и межличностные отношения вне системы общественно-производственных и политических отношений. Отчасти это связано с общей установкой боасовской школы. Если явления культуры объясняются из нее самой, изучение материальной жизни общества не кажется столь уж обязательным и необходимым. Мид никогда серьезно не занималась экономикой и скептически относилась к историческому материализму. Ее представления о социально-экономичеокой структуре общества были довольно расплывчаты, а отсюда и неясности в вопросе о характере и уровнях детерминации социальных явлений.
Следует отметить и еще одно важное обстоятельство. До Р.Бенедикт и М.Мид этнография была практически исключительно мужским занятием, причем исследователи-мужчины, как и в остальных отраслях обществоведения, обращали преимущественное внимание на поведение и деятельность мужчин, так что известная американская женщина-социолог Джесси Бернард однажды иронически сказала, что вся западная социология - это "мужские исследования мужского общества". Мид пробила в этой стене первую брешь. Одна из ее главных научных и общественных заслуг заключалась именно в том, что она стала изучать но мальчиков, а девочек. Впрочем, в своих полевых исследованиях в Океании она и не могла поступить иначе, так как принятая в этих обществах жесткая половая сегрегация неминуемо распространяется и па этнографов: женщины не станут откровенно говорить с ученым-мужчиной, а мужчины не раскроются перед женщиной63.
Но выбор информантов и изучаемой сферы деятельности отчасти предопределяет и исследовательские результаты. Материальное производство и политика как преимущественно мужские зачатия оставались вне сферы непосредственного наблюдения Мид, которая смотрела на них как бы с женской половины. А ведь именно там развертывались основные социальные конфликты, без учета которых невозможно оценить степень "соревновательности" или "кооперативности" любого народа. Да и сами свойства агрессивности и соревновательности всюду считаются скорее мужскими, чем женскими. Поэтому, кстати, данные Фримэна о преступности среди самоанских юношей не могут оез дополнительных уточнений рассматриваться в качестве опровержения тезиса Мид о бесконфликтности переходного возраста у девушек.
Очень сложными были отношения Мид с фрейдизмом. Представление о решающей роли культуры в формировании личности и акцент на различиях между культурами были несовместимы с биологизмом и универсалистскими притязаниями психоанализа. Однако позже, в середине 1930-х годов, занявшись теорией национального характера, Мид сблизилась с представителями неофрейдистской школы "культуры и личности". Ее влияние сильнее всего проявилось в работе о балийском характере; Мид также подсказала английскому этнографу Джофри Гореру идею связать особенности русского национального характера с принятой в русских семьях практикой длительного тугого пеленания младенцев, под влиянием которого у детей якобы формируется привычка к терпению и послушанию64. Хотя Мид категорически отмежевывалась от попыток установить прямую причинную связь между способами ухода за ребенком и переживаниями младенческого возраста, с одной стороны, и характером взрослого человека и типом культуры - с другой65, "пеленочный детерминизм" вошел в историю науки как пример механицизма и тенденциозности.
Как сильные, так и слабые стороны Мид ярко проявились в ее концепции межпоколенных отношений, навеянной студенческими волнениями 1960-х годов.
Связывая межпоколенные отношения с темпом общественного развития и господствующим типом семейной организации, Мид различает в истории человечества три типа культур: постфигуративные, в которых дети учатся главным образом у своих предков; кофигуративные, в которых и дети и взрослые учатся прежде всего у равных, сверстников; и префигуративные, в которых взрослые учатся также у своих детей.
Постфигуративная культура, по словам Мид, преобладает в традиционном, патриархальном обществе, которое ориентируется главным образом на опыт прежних поколений, т.е. на традицию и ее живых носителей - стариков. Традиционное общество живет как бы вне времени, а всякое новшество вызывает подозрение: "наши предки так не поступали". Взаимоотношения возрастных слоев там жестко регламентированы, каждый знает свое место, и никаких споров на этот счет не возникает.
Ускорение технического и социального развития делает опору опыт прежних поколений недостаточной. Кофигуративная культура переносит центр тяжести с прошлого на современность. Для нее типичная ориентация не столько на старших, сколько на современников, равных по возрасту и опыту. В науке это значит, что мнение современных ученых считается важнее, чем, скажем, мнение Аристотеля. В воспитании влияние родителей уравновешивается, а то и перевешивается влиянием сверстников и т.д. Это совпадает с изменением структуры семьи, превращающейся из "большой семьи" в нуклеарную. Отсюда - растущее значение юношеских групп, появление особой молодежной культуры и всякого рода межпоколенных конфликтов.
Наконец, в наши дни, считает Мид, темп развития стал настолько быстрым, что прошлый опыт уже не только недостаточен, но часто оказывается даже вредным, мешая смелым и прогрессивным подходам к новым, небывалым обстоятельствам. Префигуративная культура ориентируется главным образом на будущее. Поэтому не только молодежь учится у старших, как было всегда, по и старшие во все большей степени прислушиваются к молодежи. Раньше старший мог сказать юноше: "Ты должен слушаться меня, потому что я был молодым, а ты не был старым, поэтому я лучше тебя все знаю". Сегодня он может услышать в ответ: "Но вы никогда не были молоды в тех условиях, в которых нам предстоит жить, поэтому ваш опыт для нас бесполезен". Отсюда Мид выводит и молодежную контркультуру, и студенческие волнения в США.
Концепция Мид правильно схватывает зависимость межпоколенных отношений от темпов научно-технического и социального развития н подчеркивает, что межпоколенная трансмиссия культуры включает в себя не только информационный поток от родителей к детям, но и встречную тенденцию: молодежная интерпретация современной ситуации и культурного наследства оказывает влияние и на старшее поколение. В эпоху научно-технической революции удельный вес молодежных инноваций в развитии культуры и социальная потребность в них резко возрастают. Но как бы ни усиливалась эта тенденция, взаимоотношения старших и младших и распределение между ними социальных функций не могут стать симметричными. Какие бы новшества ни предлагала молодежь, они всегда основаны на опыте прошлых поколений и, следовательно, на определенной культурной традиции.
Не следует фетишизировать и темпы культурного обновления. Разные элементы культуры изменяются отнюдь не в одинаковом ритме. Обновление и устаревание специализированных научно-технических знаний и навыков происходит значительно быстрее, чем смена важнейших ценностных ориентации, верований и. т. п. Следовательно, и степень межпоколенных различий в этих сферах будет разной.
В рассуждениях Мид не уточняются ни субъектные (идет ли речь о взаимоотношениях старших и младших вообще, или родителей и детей, или просто разных возрастных когорт), ни объектные (передача каких именно знаний, норм или навыков имеется в виду), ни процессуальные (как передаются эти знания или ценности) аспекты межпоколенной трансмиссии культуры. А без этого невозможно конкретное исследование.
Современная этнография детства, безусловно, сильно отличается от того, что делала Маргарет Мид. Расширилась междисциплинарная кооперация, возникли новые методы, вопросы, исследования66. Многие проблемы, вокруг которых ломали копья 20- 30 лет назад, потеряли смысл или формулируются иначе.
Сегодня никто уже не надеется, что закономерности развития человека можно вывести только из биологии, или только из этнографии, или только из психологии. Междисциплинарная кооперация предполагает тщательный учет всех имеющихся подходов и данных.
Однако труды Маргарет Мид и сегодня представляют интерес для специалистов всех разделов человековедения. Не потому, что эти работы безошибочны и их можно принимать на веру, отнюдь нет. Но очень многие положения и идеи американского этнографа прочно вошли в общенаучный оборот, а ничто так не помогает развитию методологической рефлексии и способности к самокритике, как изучение истории науки.
История науки свидетельствует, что хорошие вопросы часто оказываются ценнее, чем правильные ответы на них. Маргарет Мид хорошо понимала это, процитировав однажды прекрасные слова из "Гамлета" Арчибальда Мак-Лиша:
Мы выучили все возможные ответы,
Но мы не ведаем, в чем состоит вопрос67.
Лучшие работы Мид остаются этнографической классикой не потому, что дают окончательные "правильные" ответы, а потому, что в них поставлены важные, не утратившие значения вопросы. Главный вопрос, с которым Мид ехала па Самоа и который задавала себе всю жизнь, по свидетельству ее коллеги и друга Рут Бунзель, был не "Как мы можем понять других?", а "Как мы можем понять себя?"68.
Этнография всегда была и остается важным средством самопознания культуры путем познания других культур и народов. Другой, с которым мы соприкасаемся, может казаться похожим или совсем не похожим на нас, плохим или хорошим, близким или далеким. Но общение с ним неизбежно стимулирует наш самоанализ и помогает осознать фундаментальную общность стоящих перед человечеством проблем.
Известный советский этнограф М.О.Косвен еще в 1946 г, писал, что собранный Мид материал и "сделанные ею отдельные обобщения и выводы имеют, с нашей точки зрения, большое научное значение и могут быть с успехом использованы в советской туке. Работы Мид должны, по нашему мнению, заинтересовать у нас (не говоря об этнографах) не только педагогов, но и психологов, историков первобытного общества, историков религии, наконец, и более широкие круги советского читателя"69.
Сегодня, сорок лет спустя, эта оценка не устарела. Из множества трудов Мид по этнографии детства мы старались отобрать те, которые наиболее характерны для нее как ученого и вместе с тем представляют интерес для разных читателей. Чтобы уложиться в заданный объем, многие работы пришлось переводить но полностью. Все сокращения и купюры обозначены в тексте и оговорены в комментариях. Так как книгу будут читать люди разных специальностей, мы сочли нужным прокомментировать также некоторые теоретические понятия, персонажи и фактические данные. При редактировании и уточнении текста большую помощь переводчику и редакторам оказали сотрудники ленинградской части Института этнографии АН СССР Н. А. Бутинов, Е. В. Иванова и Е.В.Ревуненкова, которым мы приносим искреннюю благодарность. Мы также благодарны Американскому музею естественной истории, который любезно предоставил для публикации фотографии Маргарет Мид.
I. Иней на цветущей ежевике
1
Боас (Boas) Франц (1858-1942)-один из крупнейших американских этнографов и антропологов, специалист но языкам и культурам американских индейцев. Родился и получил географическое образование в Германии. Интерес к этнологии возник у Боаса во время его первой экспедиции на Баффинову Землю (1883-1884). С 1886 г. он организовал несколько этнографических экспедиций в Британскую Колумбию (Канада) для изучения квакиютлей и других племен. С 1899 г.-профессор антропологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке, основатель и декан антропологического факультета в этом университете. Противник спекулятивного эволюционизма, Боас разработал основы строго описательной методики анализа языков и культур, которая стала методологией самой значительной школы в американской этнографии. Внес крупный вклад в физическую антропологию - измерение формы черепов у нескольких поколений иммигрантов. Использовал полученные данные для резкой критики теорий "нативизма" (прирожденно биологических детерминантов человеческого поведения), в особенности расизма. Инициатор широкого привлечения женщин к полевым этнографическим исследованиям. Подробный анализ взглядов Ф.Боаса и его места в американской этнографии см. в книге Ю.Аверкиевой "История теоретической мысли в американской этнографии" (М., 1979).
(обратно)2
Бенедикт (Benedict) Рут (1881-1948) - американский этнограф и этнопсихолог, преподавательница антропологического Факультета Колумбийского университета, ученица Ф.Боаса, известная своими работами по культуре и религии. Основным предметом исследования Р. Бенедикт были религия и фольклор американских индейцев ["Мифология зуньи" (Zuni Mythology. Vol. 1-2), 1934]. В своей знаменитой книге "Модели культуры" (Patterns of Culture, 1934) Р.Бенедикт дает этнопсихологическую трактовку культуры как системы императивов, предъявляемых ею к нравственному облику и образу жизни каждого ее члена. При этом Р. Бенедикт подчеркивает, что лишь небольшая часть возможных форм человеческого поведения санкционируется этими императивами, по-разному определяемыми разными обществами. Теоретические построения Р.Бенедикт неоднократно подвергались критике за чрезмерную релятивизацию социальных норм, драматизацию культурных контрастов между обществами. Считается вместе с Маргарет Мид основоположницей сравнительной этнопсихологии в американской антропологии. Оказала значительное влияние на парадигмы анализа эмпирического материала у М.Мид.
(обратно)3
Зуньи - одно из оседлых индейских племен (пуэбло), ныне проживающих в штате Нью-Мексико; язык относится к юто-ацтекской семье. Племя известно своим богатым фольклором, традициями народного искусства (резьба по дереву).
(обратно)4
Квакиютль - индейское племя, проживающее в Британской Колумбии (Канада), на севере острова Ванкувер; язык относится к семье чима-куа-вакаш. Одно из наиболее изученных племен индейцев Канады. В настоящее время старый образ жизни племени исчез под влиянием отмены канадским правительством первобытнокоммунистического обычая потлача - раздачи имущества гостям, приглашенным на пир. Численность племени по сравнению с XVIII в. резко сократилась. Сохраняются некоторые традиции народного искусства - тотемной резьбы по дереву.
(обратно)5
Бунзель (Bunzei) Рут (р. 1898) - американский этнограф, одна из учениц Ф.Боаса. Многочисленные полевые работы Р.Бунзель были посвящены исследованию церемониальной жизни индейцев пуэбло, образу жизни индейцев Гватемалы. В годы второй мировой войны работала в разведывательных органах администрации США, анализируя информацию с тихоокеанского театра военных действий. Послевоенные работы Р.Бунзель посвящены сравнительной этнографии - сопоставлению национального характера китайцев и американцев.
(обратно)6
Малиновский (Malinowski) Бронислав (1884-1942) - английский этнограф, антрополог и социолог. Родился в Польше, окончил Краковский университет, изучал этнопсихологию у Вундта. Заинтересовавшись книгой Фрэзера "Золотая ветвь", продолжил этнографическое образование в Великобритании. Полевые работы Б. Малиновского связаны с Меланезией (1914- 1918), индейцами Юго-Запада США, Мексики, народами Африки. Основатель функционалистского направления в этнографии. См. о нем подробнее: Токарев С.Л. История зарубежной этнографии. М., 1978, гл. 9. В работах 20-х годов обнаружил сильное влияние фрейдизма, критикуемое Ф.Боасом в письме к М.Мид
(обратно)7
Ф. Боас имеет в виду статью Малиновского "Psychoanalysis and Anthropology", появившуюся в IV томе "Psyche. Annual oi General and Linguistic Psychology" (1924-1925), в двух частях. Материалы статьи в переработанном виде легли в основу монографии Малиновского "Sex and Repression in Savage Society". Статья представляла собой одну из первых попыток широкого применения концептуального аппарата фрейдизма к анализу этнографического материала. Эта направленность статьи вызвала резкую критику со стороны ряда этнографов, см., например: Jones E. Mother Right and the Sexual Ignorance of Savages. L., 1925. Скептическое отношение к фрейдизму как к методологии этнографического исследования звучит и в письме Боаса к М. Мид.
(обратно)8
Холл (Hall) Гренвил Стэнли (1845-1924) - американский педагог и психолог. Автор имеет в виду раннюю работу Холла "Adolescence - its Psychology and its Relation to Physiology" (1905). Следует отметить, однако, что спекулятивно-биологическая теория психического развития ребенка не является главным вкладом Холла в детскую психологию как науку. С. Холл - пионер экспериментальной детской, психологии в США, сам проведший более 200 опросов детей, создатель ряда специализированных институтов по изучению психологии ребенка.
(обратно)9
"Немецкая теория" - сложившаяся в Венском институте психологии в 20-е годы школа дифференциальной (детской) психологии возглавленная Карлом и Шарлоттой Бюлер. Взгляды школы нашли свое выражение в таких монографиях, как: Вuhler Ch. Das Seelenleben des Jugendlichen. Jena, 1922; Hetzer H. Die Einfluss der negatives Phase auf Sozialverhalten und literarische Produktion pubertierender Madchen. Jena, 1926,- и др. Заслугой школы явилась четкая постановка проблемы стадиальности развития психики ребенка. Однако автор совершенно правильно критикует "немецкую теорию" за присущий ей биологизм, превращение так называемого "подросткового бунта" в обязательную "негативную фазу" психического развития.
(обратно)10
Тробрианцы (самопазвание - киливина) - жители островов Тробриан, расположенных около восточной оконечности острова Новая Гвинея. Численность тробрианцев - около 15 тыс. человек, язык относится к австронезийской семье. Широкую известность получили благодаря работам Б.Малиновского.
(обратно)11
Сепир (Sapir) Эдуард (1884-1944) -американский лингвист и этнограф, профессор антропологии Иельского университета. Внес крупный вклад в изучение языков и культур американских индейцев. Основоположник этнолингвистического направления в языкознании. Идеи Э. Сепира были развиты американским лингвистом Б.Л.Уорфом, предложившим так называемую "теорию лингвистической относительности" ("гипотеза Сепира - Уорфа"), согласно которой картина мира и культура каждого парода обусловлены структурой соответствующего языка.
(обратно)12
Лоуи (Lowie) Роберт Генри (1883-1957) - американский этнограф. Полевые работы Лоуи падают в основном на период с 1906 по 1916 г. и связаны с исследованием индейцев северных районов США, прерий, племени хопи. Работал в Американском музее естественной истории, с 1925 г.- профессор антропологии в университете в Беркли (Калифорния).
(обратно)13
Теория Фрейда о тождественности характера мышления современных примитивных народов мышлению наших отдаленных предков была сформулирована им в одном из его первых экскурсов в область этнографии - в "Тотеме и табу" ("Totem und Tabu", 1913): "Душевная жизнь диких народов приобретает особый интерес для нас, если мы можем обнаружить в ней хорошо сохранившуюся предварительную ступень нашего собственного духовного развития" [с. 15 русского перевода этой работы (Л., 1925)]. Фрейд повторяет ее и в других работах, связанных с философией и психологией культуры: "Я и Оно", "Моисей и монотеизм" и др. С развернутой оценкой М. Мид экстраполяции фрейдизма на область этнографии читатель может Познакомиться в ее статье ""Totem and Tabu" reconsidered with respect".- Builetin of the Menninger Clinic. 1963, Vol. 27, № 4. Необходимо отметить, что (влияние фрейдизма на собственные теоретические построения М. Мид, которое нельзя отрицать, особенно сильно сказывается в конце 30-х и в 40-х годах, т. е. после появления ее основных монографий, осмыслявших данные ее главных этнографических экспедиций. Поздние работы Мид, в том числе и ее автобиография "Иней на цветущей ежевике", содержат много критических замечаний в адрес фрейдизма в антропологии и этнографии.
(обратно)14
Шварц (Schwartz) Теодор - американский этнограф, психоаналитик-неофрейдист. Работал с М. Мид и Эрихом Фроммом (совместная экспедиция в мексиканский поселок). В 1963-1967 гг. по следам Мид и Р.Форчуна провел исследования на острове Манус (острова Адмиралтейства). Автор ряда исследований по этнографии Меланезии.
(обратно)15
Омаха - племя американских индейцев, проживающее в штате Небраска. Язык относится к семье ючи-сиу. Численность - около 1400 человек.
(обратно)16
(Kroeber) Альфред Льюис (1876-1961) - американский этнограф и антрополог, профессор антропологии Калифорнийского университета, директор Музея антропологии этого университета. Изучал индейцев Юго-Запада США (Аризона, Калифорния). Исследовал систему родства индейцев зуньи; автор обобщающей монографии по индейцам Калифорнии.
(обратно)17
Хэнди (Handy) Э.Крэгхилл - американский этнограф. Известен работами но этнографии, фольклору и физической антропологии Французской Полинезии, Гавайев, островов Самоа (20-е годы нашего века).
(обратно)18
Стивенсон (Stevenson) Роберт Льюис (1850-1894) - английский писатель. С 1889 г. поселился па острове Уполу в усадьбе Ваилима (сейчас в черте г. Апиа). Об: этом периоде жизни писателя см.: Стивенсон Ф., Стивенсон Р. Л. Жизнь па Самоа. М., 1969.
(обратно)19
Лютер - Лютер Крессман, первый муж М. Мид, студент-теолог, затем преподаватель социологии.
(обратно)20
Фи-Бета-Каппа - одно из "тайных" студенческих обществ США, возникшее еще в колониальный период (1776 г.). По традиции именовало, себя начальными буквами греческих слов - в данном случае "дружба, правственнность, наука".
(обратно)21
Кава - широко распространенный в Океании возбуждающий напиток из корня "перечного растения (Piper methysticum). На Самоа приготовление и употребление кавы носит церемониальный характер. Напиток изготовляется таупоу - девственницей благородного происхождения.
(обратно)22
Оратор (сам. tulafale) - социальный ранг самоанской знати ниже ранга вождя (ali'i). Подробнее о социальных рангах у самоанцев см. в книге "Взросление на Самоа" (разд. II наст, изд., гл. IV).
(обратно)23
М.Мид имеет в виду Западное Самоа, которое, с 1899 г. было германской колонией: и во время перврй мировой войны было оккупировано Новой Зеландией, управлявшей этой территорией до получения Западным Самоа независимости в 1962 г. (с 1920 г.- в качестве мандатной территории. Лиги наций, с 1946 г.-в качестве подопечной территории ООН).
(обратно)24
Метод возрастных срезов - метод возрастной психологии, исследующий все психофизическое развитие личности на подборках людей соответствующих возрастов, представляющих либо весь жизненный путь человека, либо же отдельный этап его онтогенетического развития. Данный метод, ускоряющий ход научного исследования, широко применялся в экспериментальной психологии до Мид. Говоря о том, что она "открыла" метод возрастных срезов, автор, по-видимому, хочет сказать, что она . самостоятельно пришла к мысли о возможности проследить психофизиологическое развитие ребенка на выборках детей различных возрастов. Метод возрастных срезов противопоставляется так называемому лонгитюдному методу - методу монографического и длительного описания психического развития отдельных личностей. Обобщения, полученные по этому методу, считаются более надежными, так как при методе возрастных срезов очень трудно, а подчас и невозможно уравнять выборки испытуемых в отношении исследуемой переменной.
(обратно)25
Общая численность самоанцев в настоящее время достигает 250 тыс. человек; они живут на Западном Самоа (159 тыс.), Восточном Самоа (33 тыс.), в Новой Зеландии (42 тыс., эмигранты с Западного Самоа), в США (ок. 15 тыс., в основном на Гавайях и в Калифорнии, эмигранты с Восточного Самоа); небольшое число самоанцев проживает также в Канаде, на островах Тонга и Фиджи.
(обратно)26
Бейтсон (Bateson) Грегори (р. 1904) - английский этнограф и этолог. Исследовал этнические группировки бассейна Сепика на Новой Гвинее, культуру балийцев в Индонезии. Внес крупный вклад в развитие методов этнографических исследований, широко применив фото- и кинорегистрацию первичного материала. Муж М. Мид и коллега по ее предвоенным работам на Бали.
(обратно)27
Искаженный самоанский; возможно,- "упала пуговица".
(обратно)28
Риверс (Kivers) Уильям (1864-1922) - английский психолог и этнограф, один из основоположников экспериментальной и физиологической психологии в Великобритании. Совершил этнографические.экспедиции на острова Торресова пролива (1898) и в Индию (1905). На теоретические концепции Риверса большое влияние оказал несколько модифицированный им Фрейд. Основные монографии Риверса посвящены системам родства и социальной организации в индийских общинах, истории меланезийской общины, анализу бессознательного.
(обратно)29
Malinowski В. Argonauts of the Western Pacific. L., 1922. M. Мид приводит неточное название книги.
(обратно)30
Fortune Reo F. Sorcerers of Dobu. N. Y., 1932.
(обратно)31
Mead M. Kinship in the Admiralty Islands. N. Y., 1934 (Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 34, pt 2).
(обратно)32
Жена известного американского социолога, пионера эмпирической социологии в США У.Огберна (1886-1959).
(обратно)33
Бартлет (Bartlett) Фредерик Чарлз (1887-1969) - английский психолог, профессор экспериментальной психологии в университете в Кембридже, директор психологической лаборатории этого университета. Известен своими экспериментальными исследованиями памяти.
(обратно)34
Маккерди (McCurdy) Джоп Томас (р. 1886)-англо-американский психолог. В описываемые Мид годы - профессор психопатологии в Кембридже.
(обратно)35
Хаддон (Haddon) Альфред Корт (1855-1940) - английский антрополог, профессор кафедры антропологических исследований Кембриджского университета. По образованию биолог. Заинтересовался антропологией и этнографией во время экспедиции в Торресов пролив (1888 г.). Вел полевые работы на Новой Гвинее и в Сараваке.
(обратно)36
Радклифф-Браун (Radcliff-Brown) Альфред Реджинальд (1881- 1955) - крупный английский этнограф, президент Королевского института этнографии Великобритании (конец 30-х годов). Создатель школы социальной антропологии, ставящей своей основной задачей выведение индуктивным путем универсальных законов существования и развития человеческих сообществ. Теоретик так называемого структурно-функционального метода в этнографии. Полевые работы Радклифф-Браун проводил на Андаманских островах, в Австралии и Африке.
(обратно)37
Mead M. Social Organization of Manua (Bernice P. Bishop Museum Bulletin, vol. 76
(обратно)38
Mead M. A Lapse of Animism among a Primitive People.-Tsyche, 1928, vol. 9, с 72-77.
(обратно)39
Годдард (Goddard) Плиний Эрл (1869-1928) - американский этнограф, исследователь индейцев Северной Америки, с 1914 г.- главный хранитель этнографической коллекции Американского музея естественной истории.
(обратно)40
Паркинсон (Parkinson) Рихард (1844-1909) - немецкий этнограф, колониальный администратор и предприниматель. Исследовал народы Меланезии, Микронезии, Новой Гвинеи. Основная книга Паркинсона - "Тридцать лет в Южных морях" (Dreissig Jahre in der Siidsee. В., 1907; 2. Aufl., 1926). Вместе с А.Вегером создал альбом этнических типов папуасов (1894).
(обратно)41
Имеется в виду плод арековой пальмы, который с небольшим количеством извести заворачивается в лист перечного растения бетель и используется в качестве жвачки. Жевание бетеля широко распространено в Южной и Юго-Восточной Азии и Меланезии.
(обратно)42
Пиджин-инглиш - первоначально язык европейско-океанийской меновой торговли; имел неустоявшуюся грамматику и небольшой словарный состав (около 200-300 слов, в основном английского происхождения). С конца XIX в. широко использовался как язык общения представителей различных этнических групп на плантациях. Позднее стал наиболее распространенным языком межэтнического общения на Новой Гвинее и близлежащих островах. В настоящее время ток-писин (так обычно называется сейчас этот язык) является родным языком нескольких десятков тысяч человек (в частности, и на островах Адмиралтейства). Это полноценный язык с собственной грамматикой и богатым словарем, один из официальных языков Папуа - Новой Гвинеи, па нем издается литература, ведется радио- и телевещание.
(обратно)43
"Естественный анимизм детей" - теория, утверждающая, что одухотворение неживого присуще мышлению ребенка по природе.
(обратно)44
Арапеши - народность на Новой Гвинее, расселенная на границе провинций Восточный и Западный Сеиик в западной части гор Торричелли и на близлежащей территории к северу (на морском побережье) и к югу. Говорят на двух близкородственных языках семьи торричелли - южный арапеш (10,6 тыс. человек) и горный араиеш (10,3 тыс. человек); с языковой точки зрения жители побережья относятся к горным арапешам. Подробно исследованы М. Мид и Р. Форчуиом (см. "Горные арапеши", разд. IV наст. изд.). Ятмул - народность, расселенная в среднем течении реки Сепик; язык относится к группе иду семьи сепик-раму. Численность - около 10 тыс. человек. Балийцы - народ, населяющий остров Бали и западную часть острова Ломбок (Республика Индонезия). Общая численность балийцев - около 2700 тыс. человек, язык относится к австронезийской семье, вероисповедание - разновидность индуизма.
(обратно)45
См. выше, примеч. 40.
(обратно)46
Вест (Best) Элсдон (1856-1931) -новозеландский этнограф. Не получил специального образования. В совершенстве овладев языком маори, собрал громадный этнографический материал, работая в качестве констебля новозеландской полиции, смотрителя на строительстве дорог. С 1905 г.- инспектор колониальной администрации по работе с маори. Этнографический материал Вест обобщил в 25 монографиях и 50 статьях, представляющих собой ценный вклад в исследование фольклора, культуры и истории маори.
(обратно)47
Рохейм (Roheim) Геза (1891-1953) -американский этнограф и психоаналитик венгерского происхождения. До эмиграции в США накануне второй мировой войны - хранитель этнографической коллекции в Национальном музее Венгрии. Заимствовал у Фрейда теорию примитивного стада и циклопической семьи, применив ее к изучению австралийских аборигенов. После эмиграции в США занимался индейцами юго-западных штатов США. Основные работы посвящены психоаналитическому толкованию тотемизма (1925), психоаналитическим интерпретациям культуры. См. о нем подробнее: Токарев С. А. История зарубежной этнографии, с. 193-201.
(обратно)48
Хогбин (Hogbin) Герберт Ян (р. 1904) - американский антрополог. Полевые работы Хогбина посвящены проблеме устойчивости и социального изменения культур народов Полинезии и Новой Гвинеи.
(обратно)49
Чоунинг (Chowning) Энн - американский лингвист. Полевые исследования на Новой Гвинее вела с 1954 г. Известна работами по языку молима (близок к изучавшемуся Р.Форчуиом добу) и различным языкам Новой Британии.
(обратно)50
Уисслер (Wissler) Кларк (1870-1947)-американский этнограф, главный хранитель этнографической коллекции Американского национального музея естественной истории. Полевые работы и исследования Уисслера посвящены индейцам США (обобщающая монография по североамериканским индейцам издана в 1917 г.).
(обратно)51
Селигмаи (Seligman) Чарлз Габриель (1873-1940) - английский этнолог, учитель Б. Малиновского. Полевые работы Селигмана связаны с изучением культур Новой Гвинеи и Судана. Организатор первых крупномасштабных этнографических экспедиций в конце XIX в.
(обратно)52
Тест интеллекта Стэнфорд - Бине - метод проверки уровня интеллектуального развития ребенка, основанный на методике, разработанной в 1905 г. известным французским психологом А.Бине (1857-1911). Тест (серия задач, предлагаемых ребенку) выявляет остроту его зрения, слуха, величину его словарного запаса, объема памяти, развитость логического мышления и т. д. Тест получил название "Стэпфорд - Бине" потому, что психологи Стэнфордского университета в США Терман и Мерилл преобразовали его для американских условий. В настоящее время тест Бине с модификациями, внесенными в него, является одним из основных психометрических инструментов зарубежной психологии, педагогики, психиатрии. Модифицированные версии теста (Айзенк, Векслер и др.) применяются для замеров интеллекта взрослых.
(обратно)53
"Оральность", "анальность" - термины психодинамики Фрейда, обозначающие концентрацию интересов на оральных (рот) и анальных областях тела в догенитальных фазах сексуального развития человека.
(обратно)54
Баининг - народность, населяющая центральные районы восточной части острова Новая Британия; язык относится к восточнопапуасской семье; численность - около 5 тыс. человек.
(обратно)55
Бипи - небольшой островок у западного побережья острова Манус (острова Адмиралтейства).
(обратно)56
Турнвальд (Turnwald) Рихард (1869-1954) -немецкий этнолог и социолог. Профессор этнографии в университетах Галле и Берлина, продолжатель этнопсихологических традиций Вундта в немецкоязычной этнографии в период между двумя мировыми войнами. Работал в Микронезии и Меланезии, Австралии, Африке.
(обратно)57
Банаро - народность, населяющая среднее течение реки Керам (правый приток нижнего Сипика); язык относится к группе раму семьи сепик-раму; численность - менее 3 тыс. человек.
(обратно)58
Мундугумор (в настоящее время чаще называются биват) - народность, населяющая среднее течение реки Юат (правый приток нижнего Сепика); язык относится к группе юат семьи сепик-раму; численность - 1,7 тыс. человек.
(обратно)59
"Чистая эпистемология"- в англоязычной литературе термин "эпистемология" обозначает теорию познания. Говоря о "чистой эпистемологии", М. Мид имеет в виду интерес к проблематике познавательного процесса, как такового, безотносительно к его частному выражению, т. е. логико-философский анализ.
(обратно)60
Уоддингтон (Waddington) Конрад Хал (1905-1976) -английский генетик, профессор генетики в Эдинбургском университете. Много занимался проблемами генетики человека, этики социальных наук.
(обратно)61
Нидэм (JVeedham) Джозеф (р. 1900) - ученый широкого круга интересов, биохимик, историк китайской культуры. В 1946-1948 гг.- глава отдела естественных наук при ЮНЕСКО.
(обратно)62
Хаттон (Hutton) Джон Генри (р. 1885) - профессор антропологии в Кембриджском и Оксфордском университетах. Специалист по языкам и культурам народов Индии.
(обратно)63
Вашкук (квома) - народность, расселенная в среднем течении реки Сепик, в районе поселка Амбунти, западнее народности ятмул. Язык относится к группе сепик семьи сепик-раму; численность - около 4 тыс. человек.
(обратно)64
Чамбули (правильнее - чамбри) - народность, расселенная около озера Чамбри, в районе среднего течения реки Сепик, к западу от народности ятмул. Язык относится к группе нор-пондо семьи сепик-раму; численность- около 1 тыс. человек.
(обратно)65
О грамматических родах принято говорить, если их число не превышает трех (мужской - женский - средний, или мужской - женский, или общий - средний). В языке чамбри имеется не менее пяти аналогичных образований, которые обычно трактуются как согласовательные классы. Принадлежность существительного к одному из этих классов влияет на выбор формы согласуемого с ним числительного и глагола.
(обратно)66
Даути (Doughty) Чарлз Монтегю (1843-1921) - английский путешественник и этнограф, поэт и эссеист. В 70-х годах XIX в. Предпринял серию путешествий по Ближнему Востоку из Дамаска (путешествие с паломниками в Мекку, с торговыми караванами). М. Мид меет в виду его книгу, написанную под впечатлением этих путешествий, "Travels in Arabia Deserta", ставшую фактом классической англоязычной литературы. Сама книга, стилизованная под язык и образ мыслей английского Возрождения, представляет собой скорее художественное, чем научное, произведение.
(обратно)67
Четырехчленная теория темперамента Юнга - одва из многих попыток типологизации и классификации человеческих личностей, предложенная известным швейцарским психоаналитиком К.Юнгом (1875-1960). Выделяя четыре основных процесса психической деятельности - мышление, восприятие, эмоции, интуицию, К. Юнг делит людей на четыре типа в зависимости от доминирования в психическом складе личности того или иного процесса: мыслительный, перцептивный, эмотивный и интуитивный типы. Теория была сформулирована Юнгом в 1921 г. Есть перевод работы Юнга на русский язык: Психологические типы. М., 1924
(обратно)68
Степень расхождения между языками различных групп полинезийцев не меньше, чем между славянскими или германскими языками. По современным представлениям, разделение первоначально единого праполинезийского народа произошло еще до нашей эры. Значительно разошлись полинезийцы и в культурном отпошении.
(обратно)69
По-видимому, М. Мид здесь является жертвой буржуазной пропаганды. Никаких "экспериментов" с однояйцовыми близнецами советские генетики и педагоги не проводили.
(обратно)70
Конституциональные типы Кречмера - одна из наиболее распространенных типологий людей по констеллациям (синдромам) прирожденных: анатомических, физиологических и психологических характеристик, предложенная немецким психиатром Э.Кречмером (1888-1964). Деля людей по типам телесных конституций на три вида - пикники, лепосомики (астеники) и атлеты, Кречмер стремится найти для каждого из них типичные формы протекания физиологических и психических процессов как в норме, так и в патологии. Для типологии Кречмера характерны грубый механицизм и биологизм.
(обратно)71
Доллард (Dollard) Джон (р. 1900) - американский социальный психолог, исследовавший долговременное влияние факторов сегрегации на психику черных и белых жителей одного из небольших городов Юга США (30-е годы).
(обратно)72
Имеется в виду работа: Cooperation and Competition among Primitive Peoples. N. Y., 1937.
(обратно)73
Bateson G. Naven. Cambridge, 1936; 2-nd ed.: Stanford, 1958.
(обратно)74
Спайс (Spies) Уолтер - английский художник-сюрреалист, проведший бблыпую часть своей жизни в Индонезии (Ява, Бали).
(обратно)75
Балийская письменность - разновидность яванской, которая, в свою очередь, восходит к алфавиту южноиндийского типа.
(обратно)76
Льюис (Lewis) Нолан (1889-1963) - американский психиатр, профессор психопатологии Колумбийского университета, директор Психиатрического института штата Нью-Йорк.
(обратно)77
Ангкор Ват - гигантский монументальный храмовый комплекс (1113-1150) на территории современной Кампучии.
(обратно)78
Модально-зональная теория развития личности Э. Эриксона - попытка усовершенствования фрейдовской теории развития человеческой личности, предпринятая американским ученым Эриком Гамбургером Эриксоном (р. 1902). См. о нем: Анцыферова Л. Я. Эпигенетическая концепция развития личности Эрика Г. Эриксона.- Принцип развития в психологии. М., 1978.
(обратно)79
Mead M. and Bateson G. Balinese Character. A Photographic Analysis. N. Y., 1943.
(обратно)80
Имеются в виду события 1965-1966 г., когда правые, пришедшие к власти в Индонезии, физически расправились со многими тысячами своих идеологических противников.
(обратно)81
Метро (Metraux) Рода - американский антрополог, соавтор ряда работ М. Мид.
(обратно)82
Горер (Gorer) Джоффри (р. 1905) - английский антрополог, много занимавшийся проблемами национального характера. Создатель методики так называемой "антропологии на расстоянии" и теории "пеленочного детерминизма".
(обратно)83
Ленча - один из гималайских народов, проживающий в индийском штате Сикким и соседнем княжестве Бутан. Язык относится к сино-тибетской семье; общая численность - около 50 тыс. человек.
(обратно)84
В 1939 г. у Маргарет Мид родилась дочь Мэри Кэтриц Бейтсон.
(обратно)II. Взросление на Самоа
1
Бихевиоризм - направление в американской психологии, рассматривающее психику как совокупность поведенческих реакций на стимулы внешней среды.
(обратно)2
Упоминание в некоей "экспериментальной колонии" Геродота, вероятно, результат контаминации сведений из источников, которая произошла у Мид. С одной стороны, Геродот по инициативе Перикла основал афинскую колонию Фурия в Великой Греции (Южная Италия) (445-444 гг. до н. э). Однако никаких данных о социопедагогических экспериментах Геродота в этой колонии античные источники не дают. С другой стороны, в "Истории" Геродота (II, 2) рассказано об "эксперименте" египетского фараона Псамметиха, который изолировал от людского общества двух младенцев, чтобы определить, на каком языке они заговорят, и тем самым выявить "праязык" человеческого рода и узнать, какой народ самый древний.
(обратно)3
Таро (Colocasia esculenta) - тропическое растение семейства ароидных. В пищу употребляются клубни, имеющие высокое содержание крахмала.
(обратно)4
Бопито (Katsuwonus sp.)-крупная рыба, разновидность тунца, одна из наиболее распространенных промысловых рыб Океании.
(обратно)5
Ямс (Dioscorea) - род тропических и субтропических растений. В питании полинезийцев важное значение имеет вид Dioscorea alata, клубни которого достигают веса в несколько десятков килограммов.
(обратно)6
Наиболее распространенным способом термической обработки пищи в Океании было тушение в земляной печи: па дно ямы укладывалось топливо и поджигалось, на нем располагался слой камней. Когда камни раскалялись, их покрывали травой, укладывали на нее куски пищи, завернутые в банановые или другие крупные листья, затем укрывали пищу слоем листьев и земли. Процесс тушения занимал несколько часов.
(обратно)7
Плюмерия (Plumeria sp.) - невысокое дерево с ароматными цветами, по запаху напоминающими жасмин.
(обратно)8
Кава (Piper methyslicum) - перечное растение, кустарник до 4 м высотой. См. примеч. 21 к автобиографии (разд. 1 наст. изд.).
(обратно)9
В традиционном полинезийском обществе мужчины и женщины готовили пищу и питались раздельно.
(обратно)10
Ткачество не было известно самоанцам, как и другим полинезийцам. В качестве "материи" использовалась так называемая тапа, изготовлявшаяся из луба некоторых растений путем вымачивания и отбивания. Готовые полотнища тапы обычно окрашивались, на них наносился рисунок,
(обратно)11
Панданус (Pandanus)-род растений семейства пандановых. В Полинезии наиболее распространен Pandanus odoratissimus - дерево с ветвящимся стволом, снабженное большим количеством дополнительных воздушных корней. Длинные узкие листья пандануса используются для плетения циновок, корзин и т. п.
(обратно)12
Имеется в виду бумажная шелковица (Brussonetia papirifera) - небольшое дерево или кустарник семейства тутовых, луб которого шел на изготовление лучших сортов тапы.
(обратно)13
Лавалава (сам.) - набедренная повязка из тапы или материи.
(обратно)14
М.Мид смешивает два слова: исконное самоанское loli - "морской огурец", съедобный вид голотурии, и заимствованное lole (из англ. lolly) - "конфета".
(обратно)15
Пуа - гардения (Gardenia sp.), невысокое дерево с ароматными цветами.
(обратно)16
Банан (Musa) - род многолетних растений, насчитывающий около 70 видов, гигантская трава в несколько метров высотой. Ствол банана издали напоминает древесный, но представляет собой травянистый стебель. Плоды некоторых видов бананов доводятся до состояния полной спелости в специальных подземных хранилищах; отдельные виды становятся съедобными лишь после термической обработки.
(обратно)17
В оригинале неточность: для плетения используются волокна или узкие полоски, вырезанные из пальмового листа.
(обратно)18
Точное значение слова ауманга - "компания тех, кто употребляет каву".
(обратно)19
У самоанской знати имелось четыре основных титула: tui - "верховный вождь" (правитель острова или области), ali'i - "вождь", tulafale - "оратор" и matai - "глава большесемейной общины". Функции носителей различных титулов М.Мид подробно разбирает ниже (с. 108-116). Традиционная система титулов в основном сохранилась до настоящего времени; так, на Западном Самоа избирательным правом пользуются лишь титулованные самоанцы (около 7% населения).
(обратно)20
Характерной особенностью самоанского языка является стратификация лексики по степени вежливости. При обращении к лицам различных рангов или при упоминании о них для многих слов выбирается один из ряда синонимов. В этих случаях по отношению к самому себе говорящий может использовать самоуничижительную лексику. Так, в качестве глагола "болеть" кроме нейтрального ma'i могут использоваться, например, такие слова: fa'atafa (о высших вождях), falufu (о вождях), gasegase (об ораторах), uagagau (самоуничижительное).
(обратно)21
В самоанской системе родства термины, обозначающие родных братьев и сестер, используются также и по отношению к кузенам.
(обратно)22
Свечной орех -дерево (Aleurites sp.), высушенные плоды которого использовались для освещения.
(обратно)23
Самоанское soa имеет значение "близкий друг, партнер (в делах, в сексуальных отношениях, в танце и т.п.)"; soa может быть и противоположного пола.
(обратно)24
Siva буквально означает: "танцевать"; "танец".
(обратно)25
Очевидно, имеется в виду выражение tautalaitiiti "вести себя неприлично, нахально" (букв. "говорить больше, чем следует по возрасту").
(обратно)26
Sub rosa (лат.) - секретно (букв. "под розой"). У древних римлян роза была эмблемой тайны. Если над пиршественным столом нодвешивалась роза, все происходившее не должно было разглашаться.
(обратно)27
Сохранение девственности до брака в традиционном самоанском обществе было обязательным лишь для таупоу. Дигитальная обрядовая дефлорация таупоу производилась на малаэ, деревенской площади, в присутствии всех жителей селения.
(обратно)28
Маланга - церемониальный визит, совершаемый, по самоанскому обычаю, группой лиц в торжественных случаях, а также сама такая группа.
(обратно)29
Манаиа - титул сына вождя.
(обратно)30
"Любовные похождения Анатоля" - М. Мид имеет в виду цикл из семи одноактных пьес "Анатоль", созданных известным австрийским писателем и драматургом Артуром Шницлером (1862-1931) в 1893 г.
(обратно)31
Сердце в анатомическом смысле (сам. fatu), по представлениям, самоанцев, является лишь физиологическим органом. Сердце как местоположение эмоций, орган чувств, противопоставленный разуму (сам. loto; исконное значение - "внутренняя часть чего-либо"), анатомически, не локализуется.
(обратно)32
"Христианская наука" - мистическая секта, возникшая в конце XIX в. в США, отвергающая любую истину, источником которой не оказывается непосредственное божественное откровение. Последователи этой секты, например, не обращаются к врачам.
(обратно)33
"Открытый цех" - в отличие от "закрытого цеха" право предпринимателя принимать и увольнять рабочих со своего предприятия без согласия соответствующего профсоюза. Профсоюзы США и Великобритании всегда вели ожесточенную стачечную борьбу против антипрофсоюзной практики "открытого цеха". Термин "открытый цех" появляется у Маргарет Мид не случайно. Время написания книги совпало с ожесточенной борьбой рабочего класса США против антирабочего законодательства "открытого цеха". Рабочее движение стремилось взять реванш за поражение 1910 г.- законодательное введение "открытого цеха" в ряде отраслей индустрии и регионов США (Юг).
(обратно)34
Дальтон-план - модная в 20-х годах реформа школьного обучения, разработанная в г. Дальтоне (США). Эта реформа фактически отвергала саму идею обязательного урока и обязательной программы обучения, всемерно подчеркивая значимость индивидуального подхода к учащемуся. Дальтон-план нашел свое отражение и в советской школе 20-х годов в виде тaк называемого "бригадио-лабораторного метода".
(обратно)35
Laissez faire - сжатое изложение экономического кредо французских физиократов второй половины XVIII в. Борясь со стеснениями экономичен ской жизни, заложенными в самой системе феодального экономического и правового порядка, они в качестве основного требования провозгласили лозунг: Laissez faire, laissez passer - букв. "Дайте делать, не мешайте".
(обратно)III. Как растут на Новой Гвинее
1
Лига трезвости (Лига антисалунов) - общественная организация США, возникшая в 80-х годах XIX в. и боровшаяся за полное запрещение производства и продажи спиртных напитков в Америке. Наибольших успехов Лига вместе с Партией запрещения достигла в 20-е годы нашего столетия, добившись принятия в 1919 г. поправки к конституции США, запрещавшей производство и продажу алкогольных напитков в стране. Поправка была отменена в 1933 г. в связи с полной ее неэффективностью - развитием черного рынка продажи спиртного, ростом организованной преступности, столкновением с коммерческими интересами фирм и т. д.
(обратно)2
Наиболее распространенный в Океании тип судна для плавания в открытом море - каноэ с балансиром, у которого для придания устойчивости основной корпус при помощи особой выносной стрелы - аутригера - соединяется с параллельным корпусу поплавком.
(обратно)3
Faux pas (франц.) - ошибка, ложный шаг.
(обратно)4
Предшествующие лингвистические рассуждения М.Мид выглядят довольно наивно. Явление редупликации (полного или частичного удвоения основы слова) действительно очень характерно для австронезийских языков (в частности, и для языков островов Адмиралтейства), однако применение редупликации того или иного типа в каждом языке подчинено строгим правилам грамматики этого языка. Употребление редуплицированных форм точно так же регламентируется законами языка, как, например, употребление форм с суффиксами в индоевропейских языках. Обучение же детей языковым навыкам при помощи повторения отдельных слов и фраз, о котором идет речь ниже, по-видимому, свойственно всем народам мира.
(обратно)5
Пере - поселок, в котором М. Мид проводила полевые исследования народа манус.
(обратно)6
Лаплап (яз. ток-писин) - набедренная повязка; небольшая юбочка из ( растительных волокон или материи.
(обратно)7
См. примеч. 42 к автобиографии (разд. I наст. изд.).
(обратно)8
Ни настоящий кедр (род Cedrus), ни известная у нас под именем кедра сибирская кедровая сосна (Pinus sibirica) в Океании не встречаются. Очевидно, имеется в виду какое-то другое дерево, близкое к кедру по фактуре.
(обратно)9
У народа манус черепа и некоторые другие кости предков было принято хранить в доме в специальных чашах. Считалось, что в этих чашах обитают духи предков.
(обратно)10
Пятна Роршаха - чернильные пятна неопределенной формы, толкование которых используется в одной из методик диагностирования личности. Тест предложен немецким психологом Г. Роршахом в 1921 г.
(обратно)11
Чейенн - индейская народность, проживавшая на территории современного штата Висконсин (США); язык относится к семье алгонкин-ритва.
(обратно)12
Кафры - устаревшее название некоторых народов группы банту, расселенных на юге Африки, в первую очередь коса (5,4 млн. человек, ЮАР).
(обратно)13
Кабелл (Cabeil) Джеймс Брэнч (1879-1958) -американский романист и эссеист, очень модный в 1920-е годы; отличался крайне вычурным стилем.
(обратно)14
Зуньи - см. примеч. 3 к автобиографии (разд. I наст. изд.).
(обратно)15
"Мидлтаун" - известное исследование социальной структуры и классовых отношений в среднем по величине американском городе, проведенное супругами Р. и Э. Линд в конце 1920-х годов. Книга была опубликована в 1929 г.
(обратно)16
Мориори - полинезийский народ, коренное население островов Чатем, к востоку от Новой Зеландии. В 1835 г. новозеландские маори из племени таранаки заняли острова, частично истребив, частично обратив в рабства аборигенов, позднее ассимилировавшихся с маори. К концу XIX в. Родной язык помнили лишь отдельные старики-мориори.
(обратно)17
Остров Лорд-Хау, у восточного побережья Австралии, был необитаем. В данном случае, очевидно, имеется в виду атолл Онтонг-Джава, расположенный к северу от Соломоновых островов, который в XIX - начале XX в. иногда также называли Лорд-Хау. Численность населяющих этот атолл полинезийцев-луангиуа с середины прошлого века быстро сокращалась, но в конце 1930-х годов стабилизировалась, а затем стала расти. Сейчас насчитывается около 1,1 тыс. луангиуа.
(обратно)IV. Горные арапеши
1
См. примеч. 44 к автобиографии (разд. I наст. изд.).
(обратно)2
Древесные кенгуру - род сумчатых, насчитывающий семь видов. Распространены на Новой Гвинее и в Квинсленде (Австралия). Длина тела50-90 см (с хвостом - до 170 см). Ведут древесный образ жизни, но хорошо передвигаются и по земле. Валлаби - род сумчатых семейства кенгуру, насчитывающий шесть видов. По размерам и образу жизни близки к другим кенгуру. Опоссумы - семейство сумчатых, распространенное исключительно на Американском континенте. Видимо, имеются в виду внешне похожие на опоссумов представители семейства кускусов и другие сумчатые небольших размеров. Казуары - семейство крупных (рост - до 1,8 м) нелетающих птиц, близких к страусам эму; распространены на Новой Гвинее и в тропиках Австралии. Мясо казуаров высоко ценится папуасами.
(обратно)3
Дюгонь - крупное морское млекопитающее отряда сирен. Длина тела - 3 м и более, вес - несколько сотен килограммов. Ценится из-за вкусного мяса и жира.
(обратно)4
Папуасские женщины переносят тяжести в плетеных сетках, укрепляемых на лбу и свешивающихся за спиной.
(обратно)5
Абелам - народность, расселенная к югу от арапешей до среднего течения реки Сепик. Язык относится к группе иду семьи сепик-раму; численность - около 40 тыс. человек.
(обратно)6
Имеется в виду скорлупа ореха арековой пальмы. Ср. примеч. 41 к автобиографии (разд. I наст. изд.).
(обратно)7
Скарификация - нанесение шрамов па лицо и тело с ритуальными или эстетическими целями.
(обратно)8
Бандикуты (сумчатые барсуки) - семейство сумчатых, насчитывающее девятнадцать видов, из них восемь распространены па Новой Гвинее. Размеры небольшие (длина тела - 17-50 см, длина хвоста - 9-26 см; вес - до 4,7 кг). Внешне напоминают кроликов и крыс.
(обратно)9
См. примеч. 64 к автобиографии (разд. I наст. изд.).
(обратно)10
М. Мид уделяет такое большое взимание игре с губами, рассматривая ее как субститут сосания пальца. Последнее в психоанализе считается одним из ранних проявлений детской сексуальности.
(обратно)11
Вероятно, речь идет о классификаторном родстве.
(обратно)12
Лайм - цитрусовое растение, напоминающее лимон; плоды несколько мельче, мякоть с зеленоватым отливом.
(обратно)13
Имеется в виду опущенная в переводе пятая глава "Рост и инициация мальчиков у арапешей".
(обратно)14
Rites de passage (франц.) - обряды перехода из одной социально возрастной группы в другую, инициации.
(обратно)V. Отцовство у человека - социальное изобретение
1
Джайны - последователи джайнизма, индийского религиозно-философского учения, возникновение которого связывается с именем Махавиры Джины (VI в. до н. э.). Джайны отличаются крайним аскетизмом и бережным отношением ко всему живому.
(обратно)2
Вероятно, речь может идти об исламизированных жителях балканских стран.
(обратно)3
См. примеч. 10 к автобиографии (разд. I наст. изд.).
(обратно)4
Ментавай - группа островов у западного побережья Суматры (Республика Индонезия).
(обратно)5
Зуньи - см. примеч. 3 к автобиографии (разд. I часть изд.).
(обратно)6
Ареои - сильно стратифицированное общество, имевшееся у таитян в доколониальный период. Члены общества были связаны обетом безбрачия, практиковали оргиастические ритуалы, видимо связанные с культом плодородия. Принадлежность к обществу обязывала к инфантициду. Подробнее см.: Веллвуд П. Покорение человеком Тихого океана. М., 1986.
(обратно)7
Натчез - индейское племя, обитавшее на Юго-Востоке США. Говорило на языке группы натчез-мускоги.
(обратно)8
По-видимому, известное влияние на стереотипы полового поведения мужчин и женщин оказали механизмы естественного отбора. Степень сексуальной активности женских особей не особенно влияла на факт появления у них потомства. Вероятность же появления потомства от сексуально более активных, более "промискуитетных" мужских особей была выше, чем от особей менее активных. В процессе филогенеза человека такая поведенческая характеристика могла наследоваться потомством мужского пола.
(обратно)9
Среди коренного населения островов Адмиралтейства выделяются три группы: усиаи, населяющие остров Манус, центральный и единственный крупный остров архипелага; матанкор, живущие на десятках мелких островков, окружающих Манус; манус (или титан), давшие имя самому большому острову, но живущие в свайных постройках на мелководье к югу от него. Первые две группы этнически разнородны.
(обратно)10
Кивай - группа родственных народов, населяющих дельту реки Флай и западное побережье залива Папуа (юго-запад Папуа - Новой Гвинеи). Языки группы киваи относятся к трансновогвинейской семье. Общая численность кивай - около 23 тыс. человек.
(обратно)11
Имеются в виду предшествующие разделы книги "Мужчина и женщина", перевод которых в настоящем издании не публикуется.
(обратно)12
Каинганг - индейская народность, проживающая на юге Бразилии. Язык относится к группе же же-пано-карибской семьи языков. Численность каинганг - около 5 тыс. человек.
(обратно)V. Отцовство у человека - социальное изобретение
1
Эта - низшая каста японского феодального общества, еще в 1922 г. насчитывавшая до 1300 000 человек. Это одна из групп так называемых сенминов, "неприкасаемых". Членам касты запрещались браки со всеми другими сословиями, все виды деятельности, кроме забоя скота и разделки туш и обработки кожи.
(обратно)2
Гуттериты - одна из сект леворадикального движения в период Реформации, разновидность анабаптизма. Носит название по имени ее тирольского лидера Якова Гуттера. Для секты характерны уравнительно-коммунистические идеалы. Колонии гуттеритов (американское название - меннониты) до сих пор существуют в США.
Амиши - одна из разновидностей протестантской секты меннонитов в США, отличающаяся крайним консерватизмом в одежде и образе жизни. В настоящее время в США не более 17 тыс. амишей.
Данкерды - одна из баптистских сект.
Сикхи - последователи сикхизма, реформистского движения в индуиэме, возникшего в XVI в. В настоящее время одна из религий Индии. Большинство сикхов проживает в провинции Пенджаб. В Индии насчитывается около 10 млн. последователей сикхизма.
Духоборы - русская религиозная секта протестантского толка, возникшая в XVIII в. В 1899 г. в результате преследований царского правительства большинство духоборов эмигрировало из страны (собственное название секты - "Христианская община всеобщего братства") и осело в Британской Колумбии (Каиада). Существование секты в Канаде также связано с рядом эксцессов (нудистские парады, поджоги и т. д.) и судебными преследованиями ее членов канадским правительством.
(обратно)3
Иши - последний представитель южной группы калифорнийских индейцев яна. Последние годы жизни провел в антропологическом музее Сан-Франциско. Судьба Иши описана Теодорой Крёбер, супругой американского этнографа А. Л. Кребера (русский перевод: Крёбер Т. Иши в двух мирах. М., 1970).
(обратно)4
Батонга (тонга) - один из народов банту. Проживают в Замбии (900 тыс. человек) и в Зимбабве (150 тыс. человек).
(обратно)5
Травма рождения - термин из области психоаналитики: первый испуг, переживаемый ребенком при его появления на свет и связанный с переходом па дыхание собственными легкими. По 3. Фрейду, источник всех последующих иррациональных страхов.
(обратно)6
См. примеч. 57 к автобиографии (разд. I наст. изд.).
(обратно)7
Культ игрушечной лошадки (hobbyhorse) - распространенный народный обычай в Англии. Во время массовых народных гуляний и празднеств актеры скачут на деревянных лошадках, распевая сатирические баллады, сыпля прибаутками. Восходит ко временам феодальной Англии.
(обратно)8
Ломакс (Lomax) Алан (р. 1915) - американский специалист по народной музыке. Разработал методику межкультурного сравнения стилей исполнения народных песен, так называемую кантометрику.
(обратно)VII. Духовная атмосфера и наука об эволюции
1
В данном случае М.Мид ошибочно рассматривает исторический материализм как разновидность позитивистского эволюционизма, к которому марксисты всегда относились весьма критически. См. подробнее: История буржуазной социологии XIX - начала XX в., М., 1979.
(обратно)2
Имеется в виду Э.Вестермарк (1853-1936) с его "Историей человеческого брака" (The History of Human Marriage, 1921).
(обратно)3
Mopган (Morgan) Льюис Генри (1818-1881) - выдающийся американский этнограф, археолог и историк первобытного общества. Основоположник научной этнографии неевропейских народов. Фактические материалы и теоретические выводы Моргана, относящиеся к жизни североамериканских индейцев, были высоко оценены Энгельсом в его книге "Происхождение семьи, частной собственности и государства": "...Морган в Америке по-своему вновь открыл материалистическое понимание истории, открытое Марксом сорок лет тому назад" (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21, с. 25). Однако с точкой зрения Мид, по которой эволюционизм Моргана вошел "в интеллектуальный аппарат марксизма", согласиться нельзя. Дентальной проблемой творчества Моргана была проблема форм родства и развития семейно-брачных отношений. Решая ее, он иногда давал "экономическое" обоснование динамики этих отношений, по-своему, указывает Энгельс, открывая материалистическое понимание истории. Но эти "обоснования" Энгельс счел совершенно недостаточными и заново их переработал (см. там же, с. 27).
(обратно)4
Полемика Боаса с Хаддоном по вопросу о линейности развития искусства - от реалистического к геометрическому - изложена им в его статье: Decorative Designs of Alaskan Needle-Class.- Proceedings of the US National Museum, 1908, и книге: Primitive Art, 1927.
(обратно)5
Парсонс (Parsons) Элси Клюз (1875-1941) - американский этнограф; известна своими работами по индейцам Юго-Запада США, Мексики и Эквадора (пуэбло).
(обратно)6
Херсковиц (Herskovits) Молвил Жан (1895-1963) -основоположник научных афро-американских исследований, первый африканист США, ученик Франца Боаса. Автор ряда значительных теорий организации примитивной экономики, изменения в культуре, культурной адаптации. См. о нем подробнее: Артановский С. А. Историческое единство человека и взаимное влияние культуры, с. 57-83.
(обратно)7
Уайт (White) Лесли Алвин (1900-1975) - американский антрополог-теоретик. Одним из первых возродил в американской этнографии понятие эволюции культуры, дискредитированное функционалистами (Evolution of Culture, 1950). Выдвинул так называемое энергетическое понимание культуры как системы производства и управления энергией. См. о нем подробнее: Аверкиева 10. П. Историко-философские взгляды Лесли А. Уайта (1900-1975)-Этнография за рубежом. Историографические очерки. М., 1979.
(обратно)8
Огберн (Ogburn) Уильям (1886-1959) - американский социолог. Занимался проблемами социальной динамики и факторами социального изменения.
(обратно)9
Фрейдовское учение о цивилизации, построенное на понятиях вытеснения и сублимации первичного полового импульса (либидо), действительно видит в ней источник всех невротических заболеваний.
(обратно)10
Сублимация - термин из области психоаналитики; во фрейдизме бессознательный процесс, в котором половой импульс преобразуется таким образом, чтобы найти свое выражение в какой-нибудь несексуальной и социально приемлемой деятельности.
(обратно)11
Рационализация - во фрейдизме защитный механизм оправдания задним числом какого-нибудь поступка, снимающий или уменьшающий чувство вины.
(обратно)12
Уотсон (Watson) Джон Броудас (1878-1978) - американский психолог, ведущий представитель бихевиористского направления в психологии США. Говоря об "уотсоновском оптимизме 20-х годов", М.Мид имеет в виду один из постулатов его книги "Бихевиоризм" (1925). По Уотсону, стоящему на позициях крайнего "энвиронментализма", человечество вступило в эпоху безграничного самоусовершенствования.
(обратно)13
Скиннер (Skinner) Б. Ф. (р. 1904) - гарвардский психолог, крупнейший представитель современного бихевиоризма. Методику программированного обучения, построенную на его теории "оперантного рефлекса", Скиннер развивает в целом ряде своих работ. Мид отмечает противоречие между гуманистическими декларациями бихевиоризма и его механистическим подходом к человеку как к существу, формируемому системой внешних воздействий.
(обратно)14
Чэппл (Chappie) Элиот Дисмор (р. 1909) - антрополог и психолог, занимавшийся проблемой реабилитации психических больных. М.Мид правильно отмечает несоответствие грубомеханического подхода к человеку, свойственного бихевиоризму, с учением И. П. Павлова о типах человеческого темперамента, прирожденных особенностях нервных процессов.
(обратно)15
Имеется в виду книга Grey Walter W. The Living Brain, 1953.
(обратно)16
Лоренц (Lorenz) Конрад (р. 1903) - австрийский зоолог и этолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии. Исследовал агрессивные формы поведения животных.
(обратно)17
Тинберген (Tinbergen) Николас (р. 1907) - голландский этолог, профессор кафедры поведения животных в Оксфордском университете, лауреат Нобелевской премии. Один из основоположников современной этологии.
(обратно)18
"Технократическое движение" - одно из социал-реформистских направлений американской мысли 20-30-х годов. Духовным отцом его был экономист и острый критик американского образа жизни Торстейн Веблен. В 30-е годы его возглавил Говард Скотт. Правильно констатируя глубокое противоречие между неизмеримо возросшими возможностями производительных сил капиталистического общества и устаревшими формами производственных отношений, теоретики движения видели панацею от всех бед в передаче политической власти менеджерам и инженерам. В конце 30-х годов движение скомпрометировало себя связями с американским фашизмом. В настоящее время отдельные ячейки "технократов" еще существуют только в северо-западных штатах Америки.
(обратно)19
Чайлд (Childe) Вир Гордон (1892-1957) - прогрессивный английский антрополог и археолог. Возродил в Англии и особенно в США интерес к широким эволюционным построениям в области истории и теории культуры. Во многом опираясь на методологию марксизма, в ряде работ, в особенности в "Man Makes Himself" (1936) и "What Happened in History" (1942), подчеркивал органическую связь способа производства в идеологией общества.
(обратно)20
Стюард (Steward) Джулиан (1902-1972) - американский теоретик эволюции и экологии культуры. Внес особо важный вклад в экологию культуры, подчеркнув двойственность процесса адаптации человеческих сообществ к среде: приспособление к физической среде (техпоэнвироментальный процесс) и приспособление к другим сообществам (техноэкономический процесс), преодолев тем самым ограниченности чисто географического детерминизма. Полевые работы Стюарда связаны с индейцами Калифорнии и Южной Америки. Данные о "Пуэрто-риканском проекте" см.: Steward I. II. а. о. The People of Puerto Rico, 1956.
(обратно)21
Аренсберг (Arensberg) Конрад (р. 1910) - американский антрополог и социолог. Выдвинулся как участник проекта исследования социальной стратификации Янки Сити. Работы по этнографии ирландцев США, полевые работы в Индии. Область интересов - экономическая антропология.
(обратно)22
Вердвистелл (Birdwistell) Рэй Ли (р. 1918) - американский аптрополог, создатель так называемой "кйпесики" - распространения теории и методологии липгвистического анализа на телодвижения и жесты, имею- щие символическое значение.
(обратно)23
Фрайд (Fried) Мартин Герберт (р. 1923) - американский этнограф. Область интересов - эволюция социополитических форм. Занимался этнографией Китая и китайцев.
(обратно)24
Вагли (Wagley) Чарлз В. (р. 1913) - американский этнограф, специалист по этнографии Латинской Америки. Соавтор типологии латиноамериканских культур.
(обратно)25
Имеется в виду сокращенное издание многотомногоисследования английского философа и историка А. Тойнби: Toynbee A. I. The Study of History. Vol. 1-2, 1947, 1957.
(обратно)26
Телеологические и эмерджентные теории эволюции - идеалистические теории развития, основывающиеся на учении, что развитие осуществляет некую извне поставленную цель, недетерминированности качественных скачков. Главными философскими теоретиками этого подхода к развитию были Бергсон, Александер, Морган. Как правило, концепция такого рода связаны с теологическими картинами мира.
(обратно)27
Мэйси (Масу) Джошуа (р. 1924)-американский биофизик и математик, автор исследований в области теоретических моделей передачи информации в человеческих группах, а также в центральной нервной системе. Будучи сыном крупного издателя, он на средства своего отца, еще во время аспирантуры в Гарварде, финансировал проведение общеамериканских конференций, посвященных анализу процессов человеческого сознания с помощью кибернетических методов. Всего было пять таких конференций (1951-1955).
(обратно)28
Добжанский (Dobzhansky) Феодосий (р. 1901) - американский генетик русского происхождения. Известен своими работами по генетике популяции и биологической эволюции.
(обратно)И.С.Кон. Маргарет Мид и этнография детства
1
Список важнейших книг Мид см. в конце данного издания. Полную библиографию ее сочинений до 1975 г. см.: Gordon J, Margaret Mead: The Complete Bibliography 1925-1975. The Hague, 1976.
(обратно)3
См.: Mead M. The Social Organization of Manu'a. Honolulu, 1930 (Bernice P. Bishop Museum Bulletin, 76); 2-nd rev. ed., 1969.
(обратно)4
См.: Mead M. Educational effects of social environment as disclosed by studies of primitive societies.- Symposium on Environment and Education. Ed. by E. W. Burgess et al. Chicago, 1942.
(обратно)5
Mead M. Socialization and enculturation.- Current Anthropology. 1963, vol. 4, с 184-188.
(обратно)6
Coming of Age in Samoa, 1973, предисловие.
(обратно)7
Mead M. Culture and Commitment: The New Relationships Between the Generations in the 1970s. Rev. and Updated Edition. N. Y., 1978, с 152.
(обратно)8
Там же, с. 157.
(обратно)9
Money I. A., Foerstal L, Margaret Mead: Firsh anthropologist of diildliood and adolescence.- American Journal of Disabled Children. 1979, vol. 133, с 480-481.
(обратно)10
Ценнейшим источником для биографии Мид являются ее воспоминания, наиболее интересные главы которых переведены в настоящей книге (разд. 1). Существует также несколько ее биографий.
(обратно)11
См. об этом подробнее: Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М., 1978; История буржуазной социологии XIX -начала XX в. Отв. ред. И. С. Кон. М., 1979; Аверкиева Ю. П. Теоретические проблемы американской этнологии. М., 1979; Вромлей Ю.В. Совроменные проблемы этнографии. Очерки теории и истории. М., 1981.
(обратно)12
В "Буре" (акт IV, сцена 1) Просперо говорит, что Калибан - "прирожденный дьявол, природу которого не может изменить воспитание" (a born devil, on whose nature, nurture can never stick). Противопоставление nature и nurture стало образным обозначением многих позднейших дискуссии.
(обратно)13
Gallon F. English Men of Science: Their Nature and Nurture. L., 1874, с. 12.
(обратно)14
Pearson K. Nature and Nurture: The Problem of the Future. L., 1913. с. 27.
(обратно)15
Кроме литературы, указанной в примеч. 11, см. также: Артановский С.Н. Историческое единство человечества и взаимпое влияние культур. Л., 1967; Никишенков А.А. Из истории английской этнографии. Критика функционализма. М., 1986; Старостин Б. С. Освободившиеся страны: Общество и личность. М., 1984.
(обратно)16
Ogburn W. F. Social Change with Respect to Culture and Original Nature. N. Y., 1950, с 11.
(обратно)17
Bernard L. L. Instinct: A Study in Social Psychology. L., 1924, с 524.
(обратно)18
См.: Malinowski В. Sex and Repression in Savage Society. L., 1927 (первая часть отой книги была опубликована в апреле 1924 г. в журнале "Psyche", vol. IV, с. 293-332); он же. The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. N. Y., 1929.
(обратно)19
См. о ней: Соколов Э.В. Культура и личность. Л., 1971; Кон И. С. К проблеме национального характера.- История и психология. М., 1971; Токарев С.А. История зарубежной этнографии, гл. 7 и 11; Аверкиева Ю.П. Теоретические проблемы американской этнологии, и др.
(обратно)20
Boas F. The question of racial purity.- American Mercury. 1924, vol. 3, с. 124. - Цит. по: Freeman D. Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Cambridge, Mass., 1983, с 55.
(обратно)21
Shorter E. The Making of the Modern Family. N.Y., 1975, с. 13.
(обратно)22
The Nation. 1928, vol. 127, с. 402.- Цит. пo: Freeman D. Margaret Mead and Samoa, с. 99.
(обратно)23
Mead M. Coming of Age in Samoa. N. Y., 1961, предисловие к изд. 1061 г., с. 4.
(обратно)24
Цит. по: Howard J. Angry Storm over the South Seas of Margaret Mead, - Smithsonian, February 1983, с 69.
(обратно)25
Mead M. From the South Seas. N. Y., 1939.
(обратно)26
Там же, с. X.
(обратно)27
Mead M. Growing Up in New Guinea. N. Y., 1968, с 187.
(обратно)28
См., например: Jahoda G. Child animism. I. A critical survey of cross-cultural research. - Journal of Social Psychology. 1958, vol. 47, с 197-212; он же. Child animism. II. A study in West Africa. - Journal of Social Psychology. 1958, vol. 47, с 213-222.
(обратно)29
См.: Tulviste P., Lapp A. Could Margaret Mead's methods reveal animism in manus children? A partial replication study in a European culture.- Проблемы общения и восприятия. Тарту, 1979 (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 474. Труды по психологии. VII).
(обратно)30
Mead M. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. N. Y., 1950, предисловие.
(обратно)31
Там же, с. VIII, XVI.
(обратно)32
Там же, с. 191.
(обратно)33
Sex and Temperament, 1950, предисловие.
(обратно)34
American Anthropologist. 1936, vol. 38, с, 558-561.
(обратно)35
Mead M. A reply to a review of "Sex and Temperament in Three Primitive Societies".- American Anthropologist. 1937, vol. 39, с. 559.
(обратно)36
Bateson G. and Mead M. Balinese Character: A Photographic Analysis. N. Y., 1942, с XI.
(обратно)37
Там же; Mead M. and Macgregor F. C. Growth and Culture: A Photographic Study of Balinese Childhood. N. Y., 1951.
(обратно)38
Cooperation and Competition Among Primitive Peoples. Ed. by M. Mead. Enlarged ed. Boston, 1961.
(обратно)39
Mead M. National Character.- Anthropology Today. Ed. by A. L. Kroeber. N. Y., 1953, с 642-667.
(обратно)40
Mead M. The School in American Culture. Cambridge, Mass., 1951.
(обратно)41
Childhood in Contemporary Cultures. Ed. by M. Mead and M. Wolfenstoin. Chicago, 1955.
(обратно)42
Mead M. Continuities in Cultural Evolution. New Haven - London, 1964.
(обратно)43
Mead M. Cultural Determinants of Sexual Behavior. - Sex and Internal Secretions. Ed. by W. С Young. Baltimore, 1961, vol. 2, с 1433-1479.
(обратно)44
См.: Mead M. An Anthropologist at Work: Writings of Ruth Benedict. Boston, 1959; The Golden Age of American Anthropology. Ed. by M. Mead and R. Bunzel. N. Y., 1960.
(обратно)45
Mead M. Letters from the Field: 1925-1975. N. Y., 1976.
(обратно)46
Mead M. Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap. N. Y., 1970.
(обратно)47
Freeman D. Margaret Mead and Samoa.
(обратно)48
Юм Д. Исследование о человеческом познании. - Юм Д. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1966, с. 85.
(обратно)49
Linton R. Marquesan culture.- The Individual and His Society. Ed. by A. Kardiner. N. Y., 1930.
(обратно)50
См.: Suggs R. С Sex and personality in the Marquesas: A discussion of the Linton-Kardiner Report,- Human Sexual Behavior. Variations in the Ethnographic Spectrum. Ed. by D. S. Marshall and R. G. Suggs. N. Y. - L., 1971, с 103-186.
(обратно)51
См.: Marshall E. A controversy on Samoa comes of age.- Science. Vol. 219, 4 March 1983, с 1042-1044; Marcus G. E. One man's Mead.- The New York Times Book Review. March 27, 1983; Begley S., Carey J. and Robinson C. In search of real Samoa.- Newsweek. February 14, 1983; Howard J. Angry storm over the South Seas of Margaret Mead.- Smithsonian. February 1983; Goodenough W. Margaret Mead and Cultural Anthropology. - Science. Vol. 220, 20 May 1983, c. 906-908; Levy R. L. The Attack on Mead .- Там же, с. 829- 832; Turnbull CM. Trouble in Paradise.- New Republic. March 28, 1983, с 32- 34; Fields С. М. Controversial Book Spurs Scholars' Defense of the Legacy of Margaret Mead.- Chronicle of Higher Education. May 11, 1983, Levenson T. Coming of Age in Anthropology. - Discover. April 1983, с 26-37.
(обратно)52
См.: Shore B. Sexuality and gender in Samoa: conceptions and missed conceptions.- Sexual Meanings. The Cultural Construction of Gender and Sexuality. Ed. by S. B. Ortner and II. Whitehead. Cambridge - London - New York etc., 1981; Ortner S. B. Gender and sexuality in hierarchical societies: The case of Polinesia and some comparative implications,- Там же, с, 359-409.
(обратно)53
См.: Holmes L. Ta'u: Stability and Change in a Samoan Village. Wellington, New Zealand, 1958; Shore B. Sala'ilua. A Samoan Mistery. N. Y., 1982; Tazin D. F. and Schwartz T. Margaret Mead in New Guinea: An Appreciation.- Oceania. 1980, vol. L, № 4, с 241-247; Geertz C. The Interpretation of Cultures. N. Y., 1973; Gewertz D. B. Sepik River Societies: A Historical Ethnology of Chambuli and Their Neighbours. New Haven, 1983.
(обратно)54
Цит. по: Shweder R. A. Storytelling Among the Anthropologists.- New York Times Book Review. September 1986.
(обратно)55
См.: Советская этнография. 1983, № 2-4,
(обратно)56
Cooperation and Competition, с. V.
(обратно)57
Там же, с. 8.
(обратно)58
Там же, с. VII.
(обратно)59
См.: Barnouw V, Culture and Personality. Homewood, III., 1973.
(обратно)60
См.: Trumbull R. Samoan Leader Declares: "Both Anthropologists aro Wrong".- New York Times. May 24, 1983.
(обратно)61
Jahoda G. Psychology and Anthropology; A Psychological Perspective. L.- N. Y., 1982.
(обратно)62
См. об этом подробнее: Этнические стереотипы поведения. Под ред. А. К. Байбурина. Л., 1985.
(обратно)63
Между прочим, это научило этнографов осторожности. Американский этнограф Джильберт Хердт, проживший два года среди папуасов самбия на Новой Гвинее и описавший их систему полового символизма, подчеркивает, что речь идет только об "идиомах маскулинности", принятых среди мужчин. Для изучения женских представлений потребовалась бы этнограф-женщина (см.: Herdt G. H. Guardians of the Flutes: Idioms of Masculinity. N. Y., 1981). Раньше такие вещи никому не приходили в голову.
(обратно)64
См.: Gorer G. and Rickman J. The People of Great Russia. L., 1949.
(обратно)65
См.: Mead M. The swaddling hypothesis: Its reception. - American Anthropologist. 1954, vol. 56, c. 395-409.
(обратно)66
См.: Кон И.С. Этнография детства. Историографический очерк. - Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1983, с. 9-50.
(обратно)67
"Hamlet of A. MacLeish".- Цит. по: Mead M. Culture and Commitment, с. 89.
(обратно)68
Цит. по: Howard J. Angry storm, с. 74.
(обратно)69
Косвен М.О. Проблемы воспитания и психологии ребенка в свете этнографического материала (Работы Маргарет Мид). - Советская этнография. 1946, № 2, с. 232.
(обратно)
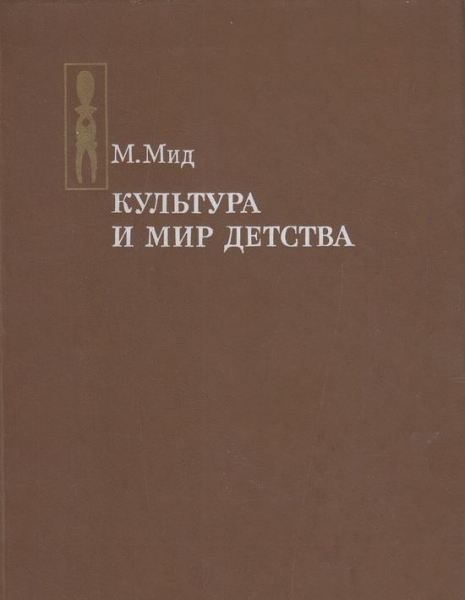

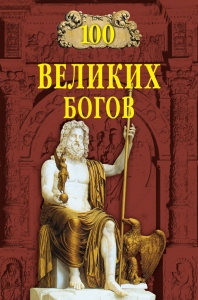

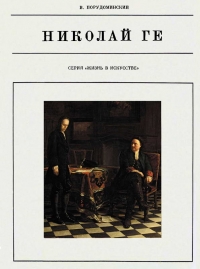
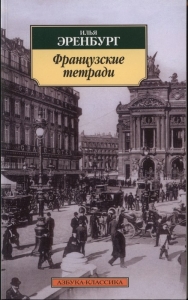
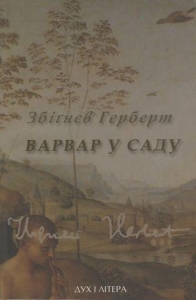
Комментарии к книге «Культура и мир детства», Маргарет Мид
Всего 0 комментариев