Александр Тимофеевич Хроленко Основы лингвокультурологии
Предисловие
О культорологии в последние годы пишут много. И это естественно: культура – существенный признак человека и общества. Этот признак (явление) обнаруживает себя по-разному в материально-экономической, общественной и духовной жизни народа.
Важное место в жизни человека и общества занимает язык, являющийся и культурой, и формой её существования, и культурной и иной памятью народа. В этом плане вполне закономерным кажется возникновение и довольно быстрое развитие культурологии как особого научного направления.
Предлагаемая читателям книга проф. А.Т. Хроленко, известного специалиста по общему языкознанию, посвящена лингвистической культурологии – направлению, которое переживает стадию становления. Анализ культуры с позиции лингвистики и ее методами заметно обогащает (расширяет и углубляет) понимание и самой культуры, и языка (этноязыка). Автор предваряет рассмотрение основных вопросов лингвокультурологии обзором проблемы «Язык и культура в мировой и отечественной науке», рассматривая, в частности, мнения В. Гумбольдта, Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, К. Фосслера, Э. Сепира, Н.И. Толстого, О.Н. Трубачёва, А. Вежбицкой и др. Обсуждается вопрос о дисциплинарном статусе лингвокультурологии и предмете её исследования. Лингвокультурологов интересуют «не описания конкретных примеров взаимодействия отдельных явлений культуры с тем или иным языковым явлением… а выявление механизмов взаимодействия, взаимовлияния двух фундаментальных феноменов (языка и культуры!], обусловливающих феномен человека».
В разделе II «Базовые понятия лингвокультурологии?» читателя ожидает научный, но очень простой и занимательный рассказ о таких актуальных для современной науки вопросах, как культура – мир смыслов, этническая ментальность» концептуальная и языковая картина мира, этническая культура и язык. Показательно, что в поле зрения автора – выражение ментальности не только традиционно рассматриваемыми средствами лексики и фразеологии, но и средствами морфологии и синтаксиса.
О содержании раздела III «Аккумулирующее свойство слова» дает представление эпиграф – цитата из пушкинского «Евгения Онегина»: «Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нём отозвалось!».
Здесь рассмотрены два уровня проявления культурного фона в лексике и фразеологии: 1) через отражение специфики материальной культуры и традиций народа, 2) через культурную память, фиксируемую семантикой слова.
Кроме основной» рациональной семантики, у многих слов бывает «побочная чувственная окраска», обычно называемая коннотацией. Этим термином, возникшим в середине XIX столетия, в настоящее время обозначают очень широкий круг устойчивых ассоциаций – co-значений: представление изобразительное, эмоционально-чувственное, культурно-цивилизационное, мировоззренческое и др. Нередко как раз в коннотациях проявляется национальное своеобразие в обозначении и оценке одних и тех же предметов внешнего мира (например, разное содержание в русском слове вода и французском eau), что доставляет, кстати сказать, много проблем переводчикам.
Раздел III разделён на две части – «Слово и этническая принадлежность»; «Слово и художественная литература». Первая включает рассмотрение места языка в национальном самосознании, чувства родного языка, вторая посвящена роли языка и национальной принадлежности художественного произведения (на примерах творчества Т.Г. Шевченко и др.) и вопросам художественного билингвизма.
Информативно и ярко в разделе IV «Экология языка и культуры» рассматриваются современные проблемы на примерах произведений отечественной и зарубежной литературы.
Теоретическую и практическую ценность представляет заключительный (V) раздел книги «Исследовательский инструментарий культурологии», в котором читатель найдёт много полезного по такой важной проблематике, как наука и её метод, и, кроме того, вполне доступное описание различных приёмов и методик (концептуальный анализ, дискурсный анализ, квантитативная лингвистика и её методы, «корпусная лингвистика», анализы доминантный, кластерный и др.).
В. Бондалетов
Раздел I История постановки и решения проблемы «Язык и культура» в мировой и отечественной науке
Тезис известного российского лингвиста Г.О. Винокура о том, что «всякий языковед, изучающий язык <…> непременно становится исследователем той культуры, к продуктам которой принадлежит избранный им язык» (Винокур 1959: 211], – убедительно подтверждается всей историей лингвистической мысли, начиная с того времени, когда языковедение становится самостоятельной областью научного поиска.
Об активном и конструктивном свойстве языка и его способности воздействовать на формирование народной культуры, психологии и творчества определенно говорили И. Гердер (1744–1803) и В. фон Гумбольдт (1767–1831).
И. Гердер в «Трактате о происхождении языка» (1770) связывал четыре фундаментальных феномена человека – язык, культуру, общество и национальный дух. Язык по своему происхождению связан с культурой и совершенствуется вместе с обществом. Органическая связь языка с культурой и обществом делает его важнейшим компонентом национального духа. «Наипрекраснейшим эссе об истории и разнообразнейшей характеристикой человеческого разума» называл И. Гердер сравнение языков, «ибо r каждом из них втиснут разум данного народа и его характер» [Гердер 1977: 233]. «В самом деле, чем был первоначально язык, как не собранием элементов поэзии?» – вопрошал он [Гердер 1959: 148]. С этим утверждением позже согласились многие изустные филологи.
В. Гумбольдт с 1795 г. разрабатывает идею «сравнительной антропологии» – сопоставления различных человеческих сообществ с целью выявления специфики их духовной организации. Изучение языка – наиболее плодотворный путь к разгадке тайны человека и характера народов. В письме к Ф. Вольфу в 1804 г. Гумбольдт писал: «Мне удалось открыть – и этой мыслью я все больше проникаюсь, – что посредством языка можно обозреть самые высшие и глубокие сферы, всё многообразие мира» [Гумбольдт 1984: 6),
Для Гумбольдта язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека, и в нем наличествуют такие чувственно воспринимаемые объекты, как «белизна», «нежность» или «животное», которые отсутствуют во внешнем мире. Позже многие культурологи стали считать и культуру промежуточным миром, второй природой.
Универсальность и творческая мощь языка предопределена его целостностью и системностью. «Язык невозможно было бы придумать, если бы его тип не был уже заложен в человеческом рассудке. Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово не просто как чувственное побуждение, а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих взаимосвязях уже должен быть заложен в нем. В языке нет ничего единичного, каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь как часть целого» [Гумбольдт 1984: 313–314].
Гумбольдт стремился выработать метод, с помощью которого можно было бы подойти к изначальному единству языка и мышления, а также феноменов культуры. Автор вступительной статьи к «Избранным трудам по языкознанию» Г В. Рамишвили делает закономерный вывод о том, что великий мыслитель и языковед заложил лингвистический фундамент для объединения наук о культуре. Это подтверждают исследования В. Гумбольдта, собранные в томе «Язык и философия культуры» (М.: Прогресс, 1985).
Разработка проблемы «Язык и культура» в первые десятилетия XIX столетия связана с именами братьев Гримм, создателями мифологической школы, получившей развитие в России в 60—70-х годах XIX в. в трудах Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева и А. А. Потебни. Важность культурологического подхода во многих областях языкознания и, прежде всего, в лексикологии и этимологии продемонстрировала австрийская школа, известная под названием «Слова и вещи».
Русский филолог, знаток русской народной культуры и педагог Ф.И. Буслаев (1818–1897) неоднократно обращал внимание ка аккумулирующее свойство слова, благодаря которому «язык, многие века применяясь к самым разнообразным потребностям, доходит к нам сокровищницею всей прошедшей жизни нашей» [Буслаев 1992: 271) и становится основным этническим признаком народа.
Несколько фундаментальных мыслей В. Гумбольдта были развиты А.А. Потебней (1835–1891), которому особенно был близок вывод великого немца: «…Слово проявляет себя как сущность совершенно особого свойства, сходная с произведением искусства…» [Гумбольдт 1984: 306]. А.А. Потебня сформулировал доминантную для своего научного творчества идею о языковой деятельности человека как о творческом познании мира и об изначальной «художественности» этого процесса. «…Язык есть полнейшее творчество, какое только возможно человеку, и только потому имеет для него значение…» [Потебня 1989:198]. Эпиграфом к сборнику работ А.А. Потебни «Теоретическая поэтика» избраны слова замечательного филолога: «Слово только потому есть орган мысли и непременное условие всего позднейшего развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения» [Потебня 1990]. Слово, по Потебне, «соответствует искусству, причем не только по своим стихиям, но и по способу их соединения» [Потебня 1990:26–27]. Как в слове различаемы три элемента (звучание, значение и внутренняя форма), так и во всяком поэтическом произведении им соответствуют три такие же элемента [Потебня 1989: 228].
Глава школы эстетическою идеализма немецкий филолог К. Фосслер (1872–1949), развивавший гумбольдтовские идеи о связи языка и искусства, в книгах «Язык как творчество и развитие» (1905), «Культура Франции в зеркале развития языка» (1913; в переиздании 1929 г. – «Культура и язык Франции»), «Дух и культура в языке» (1925) исследовал связь языка с религией, наукой и поэзией. Стилистические особенности литературных текстов и разговорной речи К. Фосслер изучал в контексте истории культуры. Он показал, как история языка сливается с историей культуры. Рассматривая язык как культурно-историческое явление, которое невозможно исследовать вне связи с культурой и историей народа, К. Фосслер и его последователи расширили и обогатили проблематику науки о языке. Ими были поставлены задачи – создать лингвистическую стилистику, изучать язык писателя в его соотношении с общенародным языком, определить роль художественной литературы в развитии национального литературного языка [ЛЭС 1990: 595].
Пожалуй, никто из известных лингвистов так много и плодотворно не занимался проблемой «Язык и культура», как знаменитый американский лингвист и культуролог начала XX в. Э. Сепир (1884–1939). Обратимся к его «Избранным трудам по языкознанию и культурологии» (М., 1993). Этот том дает возможность очертить круг тех вопросов, которые в сумме и составляют проблему «Язык и культура».
Что такое культура? Культура, по Сепиру, – это социально унаследованная совокупность практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни (здесь и далее в квадратных скобках указаны страницы тома) [185]. Культура, согласно другой интерпретации Сепира, – это ценностный отбор, осуществляемый обществом [193]. Культура сопоставляется им с поведением, поскольку первая и второе «тяжело нагружены символами» [207].
Что возникает раньше: язык или культура? Э. Сепир считал, что язык предшествует культуре, поскольку по отношению к ней является инструментом выражения значения [42]. Эту мысль позже разделял наш современник, блестящий культуролог Ю.М. Лотмаи. Однако, по Сепиру язык – продукт социального и культурного развития [265]. Позже известный этнолог К. Леви-Строс разрешил это противоречие, предложив формулу в духе христианской Троицы: «Язык – часть культуры, ее продукт и ее основание». «Язык не существует… вне культуры»– (185]. Он не является оторванным от остальной культуры комплексом, а составляет важную часть культуры народа, живущего в определенное время и в определенном месте [537]. Язык есть наиболее массовое из всех искусств, созданное гигантской и анонимной работой многих поколений [194]. Любой культурный стереотип, любой единичный акт социального поведения включают коммуникацию (язык!) в качестве составляющей части [210]. Язык, подытоживает Сепир, – строго социализированная часть культуры [265].
Что общего у языка и культуры? Во-первых, и речь, и культура требуют концептуального отбора [60]. Во-вторых, и языки, и культуры редко бывают самодостаточными [173]. Различие этих двух феноменов Сепир сформулировал следующим образом: культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает, язык же есть то, как думают [193].
Как язык и культура взаимодействуют? Язык по отношению к культуре обладает кумулятивным свойством накапливать культуру и наследовать ее. Причем кумулятивность – свойство и примитивных, и развитых языков и культур [233]. Самыми существенными формами сохранения культуры, по мнению Сепира, являются «пословицы, лечебные заклинания, стандартизированные молитвы, народные предания, родословные». Перечень «внешних форм» этим не исчерпан [233]. Языковые различия – свидетельства различий в культуре [245].
Как развиваются языки и культуры? Развитие языка и развитие культуры – несопоставимые, взаимно не связанные процессы. Культурные изменения протекают с большей скоростью, чем изменения языковые [242]. Резкое изменение культурной организации общества сопровождается ускорением языкового развития. На некоторые вопросы развития Сепир искал ответы все время, а потому у него заметны противоречия: «история языка и история культуры развиваются параллельно» [194], и «изменения в сфере культуры не параллельны языковым изменениям» [282]. Он отмечал, что изменения в области культуры в какой-то степени – результат осознанных процессов [281], а языковые изменения – более тонкий психологический процесс, не контролируемый сознанием или волей [282].
Существует ли корреляция форм языков и форм культур? Хотя культура определяется, выражается и передается только с помощью языка, и роль языковых элементов – их формы и содержания – в более глубоком познании культуры очевидна, не существует простого соответствия между формой языка и формой обслуживаемой им культуры [242]. Между языковым типом и языковой структурой общей корреляции не существует. В пользу этого тезиса самым убедительным образом говорит тот факт, что культура распространяется чрезвычайно быстро, несмотря на наличие глубоких языковых различий «между заимствующим и дающим народом» [242]. Видимо» полагает Сепир, культурное значение языковой формы лежит не на поверхности определенных культурных стереотипов, а в подоснове, на неосознаваемом уровне [242]. Единообразная культура встречается у народов, говорящих на крайне различных по форме языках. «…Языки американских индейцев молчаливо опровергают тех, кто пытается установить врожденную психологическую связь между формами культуры и языка» [268], – пишет замечательный знаток языков и культур аборигенов Америки.
Особого внимания требует вопрос о соотношении сложных языковых форм и усложненной культуры. Для Сепира очевиден факт наличия постоянной корреляции между степенью сложности языка и культуры (276]. Отмечает он тенденцию к упрощению морфологической системы языка в результате усложнения культуры, а также, что формы языка адекватнее отражают состояние прошлых стадий культуры, нежели ее современное состояние [283].
Словарь как зеркало культуры. Словарь, полагает Сепир, в значительной степени должен отражать уровень развития культуры. Словарь как содержательная сторона языка всегда выступает в виде набора символов» отражающих культурный фон данного общества [276]. Изменения в лексике вызываются самыми разными причинами, большинство которых носит культурный характер. «Лексика – очень чувствительный показатель культуры народа, и изменение значений, утеря старых слов, создание или заимствование новых – все это зависит от истории самой культуры» [243]. Общество, не имеющее представления о теософии, не нуждается в наименовании ее: туземцы, никогда не видевшие лошади и не слышавшие о ней, вынуждены были изобрести или заимствовать слово для наименования этого животного, когда они с ним познакомились [194]. Каждая новая культурная волна приносит с собою новый груз лексических заимствований [174]. Богатый словарь, считает Сепир, служит надежным показателем древности тех или иных культурных комплексов.
Роль лингвистики в изучении истории культуры. Поскольку язык есть символическое руководство к пониманию культуры, он приобретает все большую значимость в качестве руководящего начала в изучении культуры: «Я возьму на себя смелость сделать вывод, что ни одно исследование культурного комплекса не может считаться исчерпывающим в историческом отношении без тщательного изучения объема и характера его словаря» [546].
Отношение языка к истории культуры Э. Сепир сравнивает с отношением геологии к палеонтологии. Язык и культура состоят из элементов разного времени возникновения. И если науке удастся связать изменения в культуре с изменениями в языке, она приобретет (в зависимости от обстоятельств, – приблизительную или точную) меру измерения относительного возраста элементов культуры [537]. С помощью языковых данных можно установить относительную хронологию элементов культуры, поскольку очевидно, что связанное с архаическим языковым процессом культурное понятие само является старым. В качестве примера Сепир указывает на то обстоятельство, что нерегулярные формы множественного числа типа sheep ‘овцы’ и oxen ‘быки’ имеют позитивную культурную значимость как указывающие на длительную градицию разведения овец и крупного рогаюго скота предками англичан [548].
Изучая культурно значимые термины, наука может показать историю открытий и идей в новом свете. Особое внимание лингвистов и культурологов привлекают языковые заимствования. «Тщательное изучение таких заимствованных слов, – пишет Сепир, – может служить интересным комментарием к истории культуры» [174]. Направление культурного влияния можно установить с помощью анализа происхождения слов. В качестве убедительного примера Сепир избирает английский язык, лексика которого чрезвычайно заметно расслоена в культурном отношении: античная латынь, средневековый французский, латынь и греческий гуманистов эпохи Возрождения, современный французский. Эти слои лексики «служат довольно точным средством измерения времени, масштаба и характера различных иностранных культурных влияний, которые способствовали формированию английской цивилизации» [240].
Лингвистам и культурологам следует учитывать замеченный Сепиром парадокс: культурное воздействие языка не всегда прямо пропорционально его собственной литературной значимости и месту, занимаемому в мировой культуре его носителями. Примером может служить древнееврейский язык, который, будучи языком, представляющим весьма значимую культурную традицию, не оказал на другие языки такого влияния, как родственный ему арамейский язык [240].
К сожалению, многие вопросы, поставленные американским лингвистом, до сих пор не решены, а идеи не получили своего развития. И это является задачей науки XXI столетия.
В 1941 г увидела свет программная статья известного российского лингвиста Г.О. Винокура (1896–1947) «О задачах истории языка», которая позже вошла в его «Избранные работы по русскому языку» (1959). В ней четко сформулировано несколько глубоких идей, связанных с проблемой «Язык и культура».
«Язык есть условие и продукт человеческой культуры», – таков исходный тезис лингвокультуроведческой концепции Г.О. Винокура, суть которой составляют несколько положений. Общие законы культурного развития человечества, равно как и законы человеческого языка вообще в силу местных условий проявляются разновременно и своеобразно, и потому конкретная история каждой культуры и созданного этой культурой языка мало похожи на остальных. Язык в качестве пережитка способен сохранить следы породившего его этапа культурного развития. Язык – один из продуктов духовного творчества данного культурно-исторического коллектива – народа – стоит в одном ряду с письменностью, наукой, искусством, государством, правом, моралью, но при этом занимает особое положение, поскольку он одновременно составляет условие всех других культурных образований. У языка и истории народа, носителя этого языка, отношения сложные. Язык – не только зеркало истории народа, но и часть этой истории, одно из созданий народного творчества. Чисто лингвистический вопрос о характере и причинах языкового генезиса может быть решен только с учетом данных культурной истории народа.
Из сказанного следует, что история языка «есть наука культурно-историческая в абсолютно точном смысле этого термина» [Винокур 1959: 216]. Всякое изучение языка своим предметом имеет культуру. Язык, история и культура неразрывны, и потому должны изучаться комплексно. Конкретный язык как индивидуальное и неповторимое историческое явление принадлежит индивидуальной культурной системе, а потому изучаться он должен «во всей полноте своих жизненных проявлений, отношений и связей». Даже если лингвист изучает данный язык с чисто языковедческой целью и не стремится с помощью языка получить доступ к явлениям культуры, находящим в языке свое выражение, он уже изучает соответствующую культуру, причем самую важную главу её истории. Для того, кто изучает соответствующую культуру, прямой и непосредственной задачей является изучение связанного с ней конкретного языка.
Известный французский лингвист Э. Бенвенист (1902–1976) сформулировал антропоцентрический принцип в языке: язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка, в соответствии с ним язык и должен изучаться.
Одна из частей главной книги ученого озаглавлена «Человек в языке», а завершается «Общая лингвистика» разделом «Лексика и культура», в котором поставлена и скрупулезно исследуется проблема культуроведческого подхода к слову «Мы только начинаем понимать, какой интерес представляло бы точное описание истоков <…> словаря современной культуры» [Бенвенист 1974: 386). Одна из глав «Общей лингвистики» представляет собой «Словарь индоевропейских социальных терминов», а последняя посвящена термину цивилизация, истории слова в английском и французском языках.
Немало плодотворных мыслей о связи языка и культуры высказано академиком Н.И. Толстым (1923–1997). По его мнению, отношения между культурой – прежде всего культурой народной – и языком могут рассматриваться как отношения целого и части. Язык может восприниматься как компонент культуры или орудие культуры, и в то же время язык автономен по отношению к культуре в целом и может рассматриваться отдельно от культуры или в сравнении с культурой как с равнозначным и равноправным феноменом. Сравнение культуры и языка вообще и в особенности конкретной национальной культуры и конкретного языка обнаруживает некий изоморфизм (сходство) их структур в функциональном и системном плане. Сходство структуры культуры со структурой языка видится в том, что в обоих объектах можно обнаружить явления стиля жанра, факт синонимии, омонимии, полисемии. В истории культуры, как и в языке, обнаруживаются процессы взаимодействия, наслоения культур на культуры. Вся народная культура диалектна, что свойственно и народному языку. Важен вывод Н.И. Толстого: «Дальнейшее развитие исторических фразеологических исследований может быть плодотворно лишь при условии серьезного внимания к языку как вербальному коду культуры и к языку как творцу культуры» [Толстой 1995: 24].
В наши дни проблема «Язык и культура» исследуется в разных аспектах, в том числе и в аспекте «свой/чужой». Язык рассматривается как инструмент групповой стереотипизации поведения, как система кодирования и передачи культурно-семантической информации. Делается предположение, что с момента своего возникновения первейшей функцией языка была культурная дифферениированность общества. Позже актуальной стала функция зтнической, затем и социальной дифференцированности общества. Вербальная речь, отделяя «своих» от «чужих», с самого начала выполняла функцию групповой идентификации. Культурная функция языка обеспечила победу Homo sapiens sapiens над неандертальцем [Чужое… 1999: 352].
Во второй половине XX в. в методике преподавания языка как иностранного проблема «Язык и культура» также стала принципиально важной, поскольку преподаватели ощутили недостаточность передачи только лингвистических сведений. Актуальным оказался вопрос о так называемых фоновых знаниях, в сумме составляющих объем лингвострановедения. Основной целью страноведения считают способности восприятия чужой культуры, способности эмпатии (от греч. empatheia ‘сопереживание’), а также формирование определённых навыков и стратегий поведения при контакте с другими культурами. Классическим примером является книга (Верещагин, Костомаров 1990].
«Фоновые знания» (background knowledge) позволяют правильно интерпретировать не только эксплицитно выраженный, но и имплицитный смысл высказывания. Значительная часть переводческих ошибок проистекает от дефицита фоновых знаний. Понятна поэтому практическая целесообразность словарей типа: Американа. Англо-русский лингвострановедческий словарь (Смоленск, 1996).
Отечественные методисты-преподаватели русского языка как иностранного считают необходимым наличие специальной дисциплины – россиеведения.
Примером эффективного преподавания гуманитарных дисциплин в контексте культуры может служить учебный комплекс Ю.А. и И.А. Сипииёвых «Русская культура и словесность. Кн. 1: Учебно-методическое, литературоведческое и культурологическое пособие (V класс)» (СПб., 1993), получивший первую премию на конкурсе «Петербургский учебник».
Лингвострановедческая разработка фундаментальной проблемы «Язык и культура», ценная в учебно-методической практике, обнаруживает известную теоретическую одномерность, поскольку увеличение количества фактов свидетельствует только о том, что некая связь между языком и культурой существует, и она отражается прежде всего на языке – количестве и номенклатуре лексем, семантическом содержании слова.
В конце XX столетия проблема «Язык и культура» перемешается в центр исследовательского внимания и становится одним из приоритетных направлений в развитии науки о языке. Общая антропологическая направленность современной лингвистики обнаруживает когнитивный и культурологический аспекты. Если ранее связь языка и культуры рассматривалась в известной мере как факт важный, но в целом попутный, то теперь эта связь изучается специально. В Институте языкознания РАН утверждена программа «Язык и культура» (руководитель – академик Ю.С. Степанов).
В рамках этой программы в 1998 г. состоялся Международный симпозиум «Фразеология в контексте культуры». На симпозиуме обсуждались следующие проблемы: методологические аспекты лингвокультурологии; принципы лингвокультурологического анализа фразеологизмов; фразеологизм в аспекте культурно-языковой идентичности; культурно-национальная специфика фразеологизмов; культурный комментарий и способы его представления в словарях [Известия РАН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 5, № 5. С. 77–80].
В 1998 г. на базе Института славяноведения и балканистики РАН прошла Международная конференция «Слово и культура», посвященная памяти академика Н.И. Толстого, много сделавшего в изучении связи народной культуры и общенародного языка.
В 1999 г. Министерство образования РФ утвердило межвузовскую научную программу «Язык, культура и общество: комплексные исследования по социальной и культурной антропологии», одним из трех направлений которой стала «Лингвистика. Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере».
Интересные результаты вводятся в научный обиход академическими сборниками типа «Национально-культурная специфика речевого поведения» (М.: Наука, 1977), «Этнокультурная специфика языкового сознания» (М.: Наука, 1995).
Среди монографий в области лингвокультуроведения получила известность книга В.Н. Телия «Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты» (М.: Школа «Язык русской культуры», 1996).
В 1999 г. языковые институты РАН выпустили по большой коллективной монографии, посвященной вопросу «Человек – язык – культура». Это «Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке» (М.: Индрик, 1999) и «Славянское и балканское языкознание: Проблемы лексикологии и семантики: Слово в контексте культуры» (М.: Индрик, 1999).
Работа группы московских лексикографов над первыми 25-ю томами «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (издание ещё не завершено) выявила громадный культурологический потенциал этого труда Промежуточным итогом стал сборник «Историко-культурный аспект лексикографического описания русского языка» (М., 1995), материал которого позволяет разрабатывать проблемы лингвокультурологии. Руководитель коллектива составителей этого словаря, Г.А. Богатова в своих публикациях подчеркивает, что страницы словарей и энциклопедий могут показать, каковы идеалы, какова нравственность, авторитеты и ценности. Эти книги конкретно и честно отвечают на многие вопросы, составляющие главный смысл бытия. Словари, – замечает лексикограф, – в становлении нации значат гораздо больше, чем революции. «Словари, обобщая и преумножая языковое, а значит, и ментальное богатство, дают четкость государственному слову, ясность в вопросах происхождения языка и народа, отражают многообразие народного литературно-речевого творчества. В сложнейшей духовной ситуации рубежа III тысячелетия вавилонским столпотворением «общечеловеческих ценностей» мудрость заслуживающего выживания государственного организма определяется тем, какое место отводит нация в культурной политике, в системе жизнеобеспечения языка экономическим и организационным средствам его развития и изучения и, в первую очередь, национальной словарной и энциклопедической службе… Исследования по диахронической лингвистике и фундаментальные словари аккумулируют историческую память народа. Это своего рода барьер на пути развеяния национальных духовных ценностей, превращения нации через стадию «населения» в «популяцию» [Богатова 1998: 118].
Переводчик «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера на русский язык и автор фундаментального этимологического словаря академик О.Н. Трубачев в книге «Этногенез и культура древнейших славян» пишет: «…Значение данных языкознания, лексикологии, этимологии для подлинного понимания культуры абсолютно во все времена, в том числе и в современную эпоху, изобилующую письменными источниками» [Трубачев 2002: 170].
В вузах начали читать спецкурсы по лингвокультурологии.
Например, в спецкурсе «Русский язык и культура», разработанном профессором Воронежского госуниверситета Ю.Т. Листровой-Правда, русский язык рассматривается как национально-культурная ценность и обсуждаются такие теоретические вопросы, как бытовое и научное понятие культуры: признаки и функции культуры; культура и язык; взаимодействие языка и культуры; культура и цивилизация; языковая картина мира; этнолингвистика, лингво страноведение и лингвокультурология [Листрова-Правда 1998].
В Белгородском университете С А. Кошарная читает спецкурс «Основы лингвокультурологического описания языковой картины мира». В Брянском госпедуниверситете читается спецкурс «Русская традиция и русская культура в зеркале языка».
Пишется немалое количество диссертационных работ по лингвокультуроведческой тематике. Одна из последних: Козина Н.О. Лингвокультурологический анализ русского концепта «грех» (на материале лексических, фразеологических и паремических единиц) (Иваново, 2003).
В работах последних лет выявляется круг лингвокультурологических вопросов, среди которых чаще других указываются: языковая картина мира (частный случай – фразеологическая картина мира, паремиологическая картина мира и т. п.); культурные лакуны; культурная интертекстуальность; национально-культурный компонент значения; культурная коннотация; «языковая память»; традиции речевого поведения; фразеологизмы как знаки культуры; и др.
Проблема «Язык и культура» с той или иной степенью полноты находит отражение в многочисленных учебниках и учебных пособиях по культурологии. Примером может служить книга [Левяш 1998], в которой несколько параграфов отведены освещению интересующих нас вопросов. Например: 1.5. Язык и культура: роль, функции, проблемы; 2.5. Язык субъектов культуры и цивилизации; 3.3. Системность функций языка в культуре; 4.4. Динамика культуры и лингвистической деятельности.
Однако, по утверждению знатока японского языка и культуры страны Восходящего Солнца В.М. Алпатова, культурологи все же явно недостаточно обращают внимание на языковые аспекты культуры, хотя строй и происхождение языка могут определять очень многое. Так, японские ученые именно в особенностях языка склонны видеть корни своей национальной специфики. Если для европейцев слово – это прежде всего то, что сказано, а письмо – лишь вспомогательное средство, то для японца оно в первую очередь осознается как нечто написанное. [Алпатов 1995:96, 98]. Неслучайно, что в китайском и японском искусстве слово в его иероглифическом виде – непременный элемент произведений живописи.
Одним словом, язык как культурный код народа представляет обширную область научных исследований.
Рекомендуемая литература
1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов/Пер. с англ. М., 2001.
2. Колесов В.В. философия русского слова. СПб., 2002.
3. Мамонов А.С. Язык и культура: Сопоставительный аспект изучения. М., 2000.
4. Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1992.
5. Толстой Н.И. Язык и культура // Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. 2-е изд., испр. М., 1995. С. 15–26.
1. Дисциплинарный статус лингвокультурологии
Исследовательский интерес к проблеме «Язык и культура», а также культурологический бум последнего десятилетия XX столетия послужили толчком к возникновению направления, чаще всего называемого лингвокультурологическим и составляющего часть антропологической лингвистики, которая, будучи обширным полем исследования, реализуется в нескольких направлениях, постепенно приобретающих форму научных дисциплин.
Внутренняя дифференциация антропологической лингвистики связана с наличием в её компетенции фундаментальных феноменов – языка, ментальности, культуры, человека, этноса и общества. Изучение соотношения сложнейших феноменов сформировало чрезвычайно широкое и неравномерно освоенное поле исследований. Одновременный учет всех феноменов для современной науки – дело пока неподъемное. Этим можно объяснить формирование нескольких научных дисциплин, которые, стремясь удержать в поле внимания все феномены, концентрируют исследовательские усилия на одной из возможных связей.
Перед современными лингвистами как пионерами в разработке проблемы связи языка и культуры встало несколько вопросов: что такое лингвокультуроведение; какие научные дисциплины могут войти в комплекс лингвокультуроведческих наук; каков статус каждой из них и какова их иерархия; каким должно быть методологическое и методическое обеспечение лингвокультуроведческих дисциплин.
И, наконец, необходимо определить, какая из научных дисциплин может дать целостное представление о связи языка и культуры.
Видный теоретик языка Е.Д. Поливанов (1891–1938) проблему «Язык и культура» относил к компетенции филологии, которой в своём «Толковом терминологическом словаре по лингвистике» (1935–1937) дал следующее определение: «Филология – совокупность дисциплин (дисциплин общественных наук), изучающих явления культуры, отраженные в памятниках слова, т. е. в языке и в памятниках литературы, а также (поскольку другие искусства, в свою очередь, тесно прилегают к литературе) и в памятниках других искусств. Следовательно, история литературы (именно как история культуры в памятниках литературы) и история искусства входят в понятие филологии, но лингвистика (= наука о языке) входит сюда лишь частично» [Поливанов 1991:444).
Свои права на разработку лингвокультурной проблематики заявила этнолингвистика, изучающая взаимодействие лингвистических, этнокультурных и этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка. Эта новая дисциплина ставит и решает вопросы языка и этноса, языка и культуры, языка и народной ментальности, языка и мифологии. Этнолингвистику интересует роль языка в формировании и функционировании народной культуры, народной психологии и народного творчества. В широком плане этнолингвистика включает в себя диалектологию, язык фольклора, часть истории языка, связанную с исторической диалектологией, с культурной и этнической историей народа, а также почти все аспекты изучения языка как социального явления [Толстой 1995: 27–40]. Этнолингвистика изучает с помощью лингвистических методов «план содержания» культуры, народной психологии и мифологии независимо от способов их формального проявления (слово, предмет, обряд и т. п.) [ЛЭС 1990: 597].
В понимании Н.И. и С. М. Толстых, этнолингвистика – дисциплина, которая изучает язык сквозь призму человеческого со-знания, менталитета, бытового и обрядового поведения, мифологических представлений и мифологического творчества [Славянские древности 1995: 5]. Возникнув в результате двух импульсов – 1) исследований в области мифологии славянских, индоевропейских и других народов, изучения древнейших форм народного религиозного сознания; и 2) исследования в области семиотики, изучающей принципы организации (структуру) и функционирования так называемых вторичных знаковых систем и текстов, обслуживающих культуру [Славянские древности 1995: 5], – этнолингвистика обращена в прошлое. Красноречиво само название этнолингвистического словаря: «Славянские древности»-, которое отражает, с одной стороны, широту материала («славянские»), а с другой, узость временного диапазона («древности»).
Составной частью этнолингвистики, в понимании Н.И. Толстого, является лингвофольклористика, сложившаяся в отечественной филологии во второй половине XX столетия на базе основополагающих работ А. А. Потебни, А.Н. Веселовского, П.Г. Богатырева, А.П. Евгеньевой, И. А. Оссовецкого. Лингвофольклористы изучают язык устного народного творчества и как средство постижения этнической ментальности и традиционно-культурных смыслов. Для лингвокультуроведа весьма привлекательны фольклорные тексты, поскольку они коллективно-анонимны, минимально субъективны, традиционны, устойчивы, являются «исповедью народа» и представляют собой образцы высокой культуры. Фольклорные тексты представляются тем идеальным исследовательским полем, на котором можно отработать методологию лингвокультуроведения. Неслучайно появление таких работ, как монография М.А. Кумахова и З.Ю. Кумаховой «Нартский эпос: Язык и культура» (М., 1998).
Лингвофольклористика, составляя органичную часть этнолингвистики, не подменяет последней, поскольку фольклор и его язык лишь частично интересуют этнолингвистов. В этнолингвистическом словаре «Славянские древности» (под ред. Н.И. Толстого) специально оговаривается: «Фольклорные источники привлекаются лишь в той мере, в какой это необходимо для характеристики обрядового и мифологического круга фактов, т. е. в первую очередь обрядовый фольклор, неразрывно связанный с самими обрядами и нередко концентрирующий в себе семантику обряда, затем былички, предания, заговоры и другие жанры, наиболее непосредственно отражающие народное мировоззрение и древнейшие мифологические представления, и, наконец, так называемые малые жанры фольклора, т. е. загадки, пословицы, приговоры, заклинания, словесные формулы и клише, которые благодаря своей устойчивости часто сохраняют черты чрезвычайной культурной архаики» [Славянские древности 1995: 13].
Редактор и один из авторов сборника «Фразеология в контексте культуры» (М., 1999) В.Н. Телия в концептуальной статье определяет три направления (ориентации, типа анализа) – этнолингвистическое, лингвокультурологическое и контрастивное. Этнолингвистическая ориентация, по мнению известного фразеолога, нацелена преимущественно на исторически реконструктивный план обнаружения культурных смыслов в языковых (в данном случае фразеологических) единицах. Лингвокультурологический анализ выявляет способность знаков отображать современное культурное самосознание народа, рассматриваемое как основа его ментальности, и выражать его в живом употреблении в текстах различного типа. Контрастивное направление преследует цель выявить этнически, или национально-культурную специфику единиц (фразеологизмов) того или иного языка, извлекаемую на фоне «наивной» картины мира, «в сотворении характерных черт которой они участвуют» [Телия 1999: 15].
Отмечая, что основные методологические установки лингвокультурологического анализа органично переплетены с методами и приемами этнолингвистики, и объясняя это обстоятельство тем, что последняя и по времени ее становления как особой дисциплины, и по временному срезу её материала предшествует становлению лингвокультурологии, В.Н. Телия уточняет те различия, которые несомненно существуют между тесно переплетенными предметными областями, целями и задачами этих ответвлений социальной антропологии [Телия 1999: 15]. Различие между этнолингвистикой и лингвокультурологией фразеологу видится в направлении анализа – диахроническое или синхроническое.
Вслед за Н.И. Толстым автор считает, что основные задачи этнолингвистики сводятся к реконструкции по данным языка культурных, народно-психологических и мифологических представлений и «переживаний» в их диахроническом движении, дающем богатый материал для сопоставления культур этнических сообществ (со ссылкой на Н.И. Толстого: [Телия 1999: 16]). Для лингвокультурологии же характерна синхронная ориентация, т. е. «исследование и описание взаимодействия языка и культуры в диапазоне современного культурно-национального самосознания и его знаковой презентации» [Телия 1999: 16]. Предметом лингвокультурологии должно стать исследование и описание синхронно действующих средств и способов взаимодействия языка и культуры. Целью лингвокультурологии В.Н. Телия считает выявление «повседневной» культурно-языковой компетенции субъектов лингвокультурного сообщества. Сформулировано три задачи данной научной дисциплины: 1) выявление способов проявления культурно маркированных сигналов; 2) уточнение понятия культурной коннотации; 3) разработка типологии культурных коннотаций [Телия 1999:17].
Вслед за основополагающими статьями академика Н.И. Толстого появилось и первое учебное пособие «Введение в этнолингвистику» [Герд 1995], в котором рассматриваются такие лингвистические понятия новой дисциплины, как типы языковых состояний, языковая политика, этногенез, моделирование знаний о народной культуре. Автор, профессор А.С. Герд, предметом этнолингвистики считает язык в его соотношении с этносом и этнос в его отношении к языку Этнолингвистика – пограничная дисциплина, лежащая между языкознанием, этнографией и социологией. Цель этнолингвистики – показать, как язык в разных формах его существования, на разных этапах его истории влиял и влияет на историю народа, на положение того или иного этноса в современном обществе. Объектом этнолингвистики являются все стороны языка в его устной форме (фольклор, диалект, городская речь, паремии) и всё многообразие письменных текстов. Задачей этнолингвистики является анализ пользования языком в различных языковых ситуациях в разных этносоциальных слоях и группах. Во многих отношениях социолингвистика и этнолингвистика – это две части единой дисциплины, этносоциолингвистики.
В итоге вся область разработки проблематики «Язык и культура» оказывается как бы поделенной на две иерархически рядоположенные исследовательские территории – этнолингвистическую и лингвокультурологическую.
Появилось немало публикаций по лингвокультуроведческой проблематике» обозначивших обширное исследовательское пространство, нуждающееся в структуризации в связи с уточнением предмета научных дисциплин, разрабатывающих проблему «Язык и культура».
Польский лингвист Януш Анушкевич предлагает разграничить культурную лингвистику, антропологическую лингвистику (этнолингвистику) и лингвистическую антропологию. Каждая из трех дисциплин, имея в виду язык, культуру, человека (общество) и действительность, в качестве исходной точки выбирает один из четырех феноменов и одну из связей. Культурная лингвистика изучает связи между языком и культурой. Исследователь движется от языка к культуре. Язык трактуется как условие, часть, носитель существенных смыслов и средств их интерпретации. Антропологическая лингвистика, или этнолингвистика, изучает связи и взаимозависимости между языком и человеком (этносом, обществом). Попутно учитываются культура и окружающая среда. Цель – увидеть человека, творящего язык, сквозь призму его языка, выявить, как образ человека отражается и сохраняется в языке. Лингвистическая антропология в качестве исходной точки берет культуру и через нее постигает язык и обслуживаемое им общество (Вопросы языкознания. 1997. № 2. С. 171].
Представляется, что вся совокупность культурно-языковой проблематики может быть обозначена как лингвокультуроведение. Термины лингвокультурология и лингвокулътуроведение разграничиваются: первый предполагает сложившуюся науку, такой тип знания, когда на основании имеющихся данных и логической структуры данного знания возможны дедуктивные выводы; второй обозначает тип знания, когда важна не строгая дедукция, а эрудиция в предмете [Рождественский 1996:3]. Лингвокультуроведение можно определить как область научных поисков, которые ориентированы на выявление характера связей и отношений между языком, этническим менталитетом и культурой, так как язык и культура, строго говоря, с действительностью напрямую не связаны и не могут быть связаны. Ландшафтное и иноэтническое окружение преломляются в этническом менталитете, который определяет и национальный характер, и своеобразие национального мировидения и реализуется в фактах культуры – материальной, духовной и художественной.
Лингвокультуроведение исходит из признания того факта, что язык, менталитет и культура органически связаны друг с другом, предполагают друг друга, ни один из них не может быть исключен и ни один не может быть признан доминантным. В силу онтологического равноправия феноменов исходной точкой анализа может быть любой из них. Выбор зависит от профессиональной ориентированности исследователя: философ или психолог пойдут от ментальности, культуролог – от фактов культуры, лингвист – от языка. Лингвокультуровед, естественно, тоже идет от языка. Он убежден, что вербальный текст, помимо явного содержания, из-за которого он, собственно, и создается, в неявной форме содержит информацию об этнической (и индивидуальной) ментальности автора (авторов) текста и отражает культурные смыслы, в том числе и этнические.
Лингвокультуроведение отличается от культурологии тем, что в центре внимания находятся язык и культура в их неразрывной и диалектической связи, а от этнолингвистики тем, что отсутствует этническое ограничение рамок языка и культуры. Лингвокультуроведение рассматривает проблему «Язык и культура» в принципе, не ограничиваясь конкретным языком и конкретной культурой с целью выявить механизмы взаимодействия языковых и культурных факторов на примере различных языков и культур. Лингвокультуроведение – междисциплинарная наука, которая выясняет, как в слове аккумулируются культурные смыслы и как слово способствует функционированию культуры. Итак, лингвокультуроведение – это не специальная наука, а направление, область, поле, разрабатываемое комплексом лингвокультуроведческих дисциплин, перечень которых не ограничивается этнолингвистикой и лингвокультурологией. Очевидно, лингвокультурологические дисциплины находятся в иерархических отношениях, различаясь степенью обобщенности своего основного предмета.
«Первичными» – не по времени формирования, а по степени эмпиричности своего материала – являются те дисциплины, которые исследуют взаимодействие одной из форм общенародного языка с той или иной формой материальной, духовной и художественной культуры. Примером может служить лингвофольклористика, которая исследует взаимосвязь явлений языка фольклора, скажем, русского этноса с его духовной и/или художественной культурой. Отечественная лингвофолыслористика ввела в научный обиход значительный объем нетривиальной лингвокультуроведческой информации. Лингвофолыслористика может быть частной (русской, немецкой, английской, польской ит.д.), сопоставительной и общей (язык фольклора всех народов и этническая духовная и/или художественная культура).
В последние годы о себе заявила как «первичная» научная дисциплина и этнодиалектология, ориентированная на изучение взаимодействия диалектной формы языка с элементами духовной культуры этноса. Примером может служить этнодиалектный проект Н.В. Дранниковой из Поморского университета (Архангельск). В центре её исследовательского интереса оказываются семейная и календарная обрядность, демонологические рассказы, магия слова и действия. Особое внимание уделяется предметам и явлениям, которые местные жители считают оберегами (соль, пояс, можжевельник, щучьи зубы и др.) или атрибутами колдунов. Записывается несказочная проза, заговоры и заговорные формулы, собираются приметы, пословицы, поговорки, загадки, присловья, прозвища, а также лексика обрядовой одежды и пищи, фиксируются обрядовые игры, а также игры, утратившие связь с обрядом и перешедшие в разряд необрядовых или детских. Разумеется, запись материалов ведется с сохранением диалектных особенностей. Такие материалы, по мнению автора, позволяют реконструировать традиционную «картину мира» жителя данной местности, в частности, пинежанина [Дранникова 2000].
Специалисты кафедры филологии Кемеровского университета и секции речевой коммуникации института германистики факультета интеркультурного образования университета Кобленц-Ландау (ФРГ) разрабатывают направление этногерменевтики, центром которого является национально-культурная семантика, т. е. те языковые знания, которые отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению собственную языковую картину мира [Этногерменевтика 1998: 3].
Вполне возможно, что в наши дни складываются и другие, пока что безымянные «первичные» дисциплины. Например, в книге Н.Б. Мечковской «Язык и религия» (М., 1998) представлены результаты анализа связи литературной формы языка с религией как видом духовной культуры.
Все «первичные» дисциплины входят в состав этнолингвистики, которую мы, в отличие от Н.И. Толстого и его последователей, понимаем широко: этнолингвистика призвана исследовать взаимосвязь явлений конкретного языка (например, русского) с фактами русской же культуры, изучать все случаи влияния этнической ментальности на структуру и квантитативные характеристики общенародного языка, отражения в лексиконе языка фактов истории народа, элементов материальной, духовной и художественной культуры. Этнолингвистика – это более высокий уровень лингвокультуроведческого обобщения. Суммируя факты и идеи «первичных» дисциплин, она призвана выявить механизмы взаимодействия языка и культуры в культурной и языковой деятельности конкретно рассматриваемого народа как в синхронии, так и в диахронии. Этнолингвистик поэтому может быть столько, сколько существует языков и культур, базирующихся на этих языках. Разумеется, они (этнолингвистики) могут быть частными и сравнительными.
Что же касается лингвокультурологии, то её цель – обобщение всей информации, накопленной этнолингвистикой (этнолингвистиками) и входящими в неё (в них) дисциплинами, выявление механизмов взаимодействия языка и культуры. Этнолингвистика и лингвокультурология соотносятся так же, как частное и общее языкознание. Этнолингвистика может быть русской, английской, польской и любой другой, а лингвокультурология, по нашему убеждению, национальной быть не может. Лингвокультурология – это философия языка и культуры. Объектом лингвокультурологии является язык и культура, что и отражено в корнях сложного термина. В этом плане лингвокультурология занимает место рядом с языкознанием и наукой (науками) о культуре, отличаясь от них собственным предметом. Предметом являются фундаментальные вопросы, связанные с преобразующей стороной связи языка и культуры: изменения языка и его единиц, обусловленные динамикой культуры, а также преобразования в структуре и изменения в функционировании культуры, предопределенные языковой реализацией культурных смыслов.
Лингвокультурологию должны интересовать не описания конкретных примеров взаимодействия отдельных явлений культуры с тем или иным языковым явлением (это предмет более частных лингвокультуроведческих исследований и дисциплин), а выявление механизмов взаимодействия, взаимовлияния двух фундаментальных феноменов – языка и культуры, обусловливающих феномен человека. Воспользуемся аналогией. Различные ярусы языка изучаются специальными дисциплинами – фонетикой и фонологией, морфемикой и морфологией, лексикологией и т. д., отдельные языки и группы языков – тоже предмет специальных наук – русистики, славистики, индоевропеистики и т. п. Наконец, человеческий язык в целом исследуется обобщающей дисциплиной – общим языкознанием (теорией языка). Есть все основания полагать, что лингвокультурология в пределах лингвокультуроведения соответствует статусу общего языкознания в системе наук о языке. Подобно общему языкознанию, лингвокультурология призвана выявлять и описывать наиболее общие закономерности взаимообусловленности, взаимодействия языковой и культурной практики человека и общества. Эта аналогия помогает понять, что лингвокультурология, как и общее языкознание, возможна только в системе других, более конкретных по предмету и иных по методологии исследования научных дисциплин.
Система лингвокультуроведческих дисциплин с лингвокультурологией в центре складывается благодаря усилиям лингвистов, а потому налицо некоторый исследовательский перекос. Говоря о связи языка и культуры, лингвокультурологи имеют в виду прежде всего влияние культуры на язык* и всё внимание уделяется языку как аккумулятору культурных смыслов, хотя союз и в формулировке проблемы «Язык И культура» предполагает взаимовлияние – «участие языка в созидании духовной культуры и участие духовной культуры в формировании языка» [Постовалова 1999]. Возникает законный вопрос: кто должен и может исследовать «участие языка в созидании духовной культуры». Работы такого плана нам пока не известны. Видимо, это предмет некой новой дисциплины или системы дисциплин с приоритетом культурологов. Разумеется, при активном участии лингвистов.
Специалист по Японии В. М. Алпатов замечает, что европейские профессиональные культурологи обычно мало обращают внимания на языковые аспекты культуры, хотя японские учёные, полагая, что строй и происхождение языка определяют многое, давно уже в особенностях языка видят корни специфики своей культуры [Алпатов 19952: 98],
Образцом лингвокультуроведения может служить фундаментальное исследование ТВ. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и европейцы» с выразительным подзаголовком «Реконструкция и исторический анализ протоязыка и протокультуры». Перед нами лингвистическое исследование, ориентированное на реконструкцию протокультуры, семантический словарь индоевропейских древностей, своеобразная лингвистическая палеонтология. Когда-то Якоб Гримм заметил: «Существует более живое свидетельство о народах, чем кости, оружие и могилы: это язык». Речь идёт об историко-культурной эвристике, основанной на аккумулирующем свойстве слова. Логика такова: есть слова, в них закрепился фрагмент культуры, культура определена духом в формах национальной психологии, а дух и психология всегда несут на себе следы пространства, в котором они формировались. Примерно так и рассуждали Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, предложившие оригинальную гипотезу прародины индоевропейцев. Главный резерв аргументации этих учёных – лексика индоевропейских языков. Предложена не только содержательная концепция, но и в который раз подтверждён тезис, сформулированный Альфредо Тромбетти: «Язык есть наиболее богатый и надёжный архив человечества».
Исследовательской базой лингвокультурологии традиционно являлись и словари, особенно диалектные и исторические. Вполне естественно, что параллельно со становлением лингвокультурологии как научной и учебной дисциплины складывается и лингвокультуроведческая лексикография, началом которой справедливо считают «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля (1863–1866).
Культуроведческие словари призваны систематизировать ценности культуры, выраженные в понятиях, называемых культурными концептами. Примером такого лексикографического труда может служить словарь, единицами описания которого стали концепты типа «любовь», «вера», «правда», «слово», «душа», «интеллигенция» и т. п. [Степанов 1997].
«Сравнительный словарь мифологической смимволики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов» М. М. Маковского – это система лингвокультурных, семасиологических и аксиологических констант, составляющих индоевропейскую картину мира. Видно, что в переходах значения слов отражены обычаи, верования и способы мышления древнего человека. Даже форма слова тесно связана с основными установками языческого общества. Автор относит свой словарь к разряду «исследований в области лингвистической культурологии» [Маковский 1996: 5].
Необходимость полноценного изучения русской литературной классики предопределило появление словаря культуроведческой лексики русской классики по литературным произведения школьной программы [Бирюкова 1999]. В нем представлены «национально-характерные» слова художествен нот про из ведения – русские и иноязычные этнографизмы (бадья, сакля, боливар), историзмы (аршин, стряпчий, мюрид), религиозная лексика (алтарь, кутья, хоругвь), мифологическая и античная лексика (леший, домовой; грация, марс, фемида). Накопленный опыт лингвокультуроведческой лексикографии ставит перед филологами задачу теоретического осмысления этого опыта, выявления особенностей жанра лингвокультуроведческого словаря, определения объема и содержания основных понятий лингвокультуроведения, количественных и качественных характеристик массива культурологической лексики русского языка.
В поисках нового типа лингвокультуроведческих словарей 35 авторов из разных стран Европы предложили «Italien Lexicon» (Берлин, 1997), адресованный итальянским читателям, владеющим немецким языком. В словаре 900 вокабул (существительные или сокращения, имена собственные), много устойчивых словосочетаний. Лексика демонстрирует особенности итальянского мировидения (см.: [ВЯ. 2000. № 6. С. 130–132]).
Рекомендуемая литература
1. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: Становление антропологической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. № 1. С. 64–72.
2. Воробьёв В.В. Лингвокультурология (теория и методы). М., 1997.
3. Кошарная С. А. В зеркале лексикона: Введение в лингвокультурологию. Белгород, 1999.
4. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Лекционный курс. М., 2002.
5. Маслова В. А. Лингвокультурология. М., 2001.
6. Толстой Н.И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 27–40.
Раздел II Базовые понятия лингвокультурологии
1. Культура как мир смыслов
«Я знаю, что это такое, до тех пор, пока меня не спросят, что это такое». Эти слова принадлежат христианскому мыслителю средневековья Августину Блаженному. Они вполне применимы к известному всем понятию «культура».
Откроем последнюю по времени создания энциклопедию и прочтём: «Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), совокупность созданных человеком в ходе его деятельности и специфических для него жизненных форм, а также самый процесс их созидания и воспроизводства. В этом смысле понятие культуры – в отличие от понятия природы – характеризует мир человека и включает в себя ценности и нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи и установления (включая такие социальные институты, как право и государство), язык и искусство, технику и технологию и т. д. Различные типы культуры характеризуют определенные исторические эпохи (античная культура), конкретные общества, народности и нации (культура майя), а также специфические сферы деятельности (культура труда, политическая культура, художественная культура)» [НИЭ 2000:10].
Владимир Даль в своём знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» культуру определил так: «Обработка и уход, возделывание || Образование, умственное и нравственное».
Слово культура впервые появилось двести с лишним лет тому назад в одном из немецких словарей (1793), а первое научное определение дал знаменитый этнограф Э. Тейлор в 1871 г.: культура – совокупность знаний, искусства, морали, права, обычаев и других особенностей, присущих человеку как члену общества. Но научное сообщество одним этим определением не удовольствовалось. С 1871 по 1919 г. их стало уже семь, за период 1920–1950 гг. их число достигло 157; в 1970-х гг. – 250, а в конце 80-х – свыше 500.
Авторам определений культура представляется как:
• общий и принятый способ мышления;
• ненаследственная память коллектива;
• социально унаследованная совокупность практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни;
• ценностный отбор, осуществляемый обществом;
• идеальное представление;
• след, оставляемый искусственным окружением в сознании личности;
• система прецедентов и правил;
• система, стоящая между человеком и миром;
• закреплённая методика организации окружающего человека пространства в разумно-духовное пространство и т. д.
«В широком смысле культура есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов» [ФЭС 1998: 229].
Возникает естественный вопрос, почему так много определений у одного понятия, в общем-то известного каждому. Большой знаток культуры Ю.М. Лотман объяснил это тем, что значение термина зависит от типа культуры, а типов много, и каждый из типов на том или ином этапе существенно меняется. Известный американский лингвист и культуролог Э. Сепир отсутствие общепринятого толкования термина объяснял тем, что это «смутная мыслительная область».
Современные специалисты по наукологии (наука о науке) заметили, что «культура» в гуманитарных науках – такое же фундаментальное понятие, как «гравитация» в физике и «эволюция» и биологии. В сущности, культура включает в себя все, поэтому содержание понятия «культура» оказывается всеохватывающим и одновременно как бы пустым.
Предельно обобщённые понятия определений не имеют, потому что дать определение значит подвести определяемое под более общее понятие, а такового для «культуры* уже нет. Примером может служить одна из последних дефиниций: «Культура – это специфическая форма существования родового человека в пространстве и во времени. Навыки и умения человека, т. е. его родовые свойства, проявляющиеся в нем самом в процессе его деятельности, трансформируются в мир с помощью культуры. Тем самым культурная деятельность человечества и есть способ его самопостроения и самоосуществления. Культура в некотором смысле эквивалентна обществу, и потому ее изучение – это и изучение общества» [Сенкевич 1989: 229].
В подобных случаях определение заменяется интерпретацией, т. е. указанием на ту или иную сторону понятия, на то или иное свойство явления. Поскольку сторон и свойств может быть много, то и интерпретаций соответственно тоже. Когда мы пытаемся дать определение культуры, мы, строго говоря, формулируем своё понимаиие, как это сделала героиня рассказа Б. Зайцева, писателя русского зарубежья: «Она вздохнула и вспомнила об Анатоле Франсе. Вот где культура, порядок, уравновешенность! Тут ей представилось, что трудное слово куль-тура можно по-новому определить. Старческой рукой зажгла она вновь свечу и, надев очки, записала в книжечку афоризмов и наблюдений: «Культура есть стремление к гармонии. Культура – это порядок». Записью она осталась довольна и спокойно отошла ко снам» [Зайцев 1990: 62]. А вот как интерпретировал понятие «культура» Б. Пастернак, который в молодости выбирал, кем ему быть – музыкантом или поэтом: «Культура – плодотворное существование». Р. Браг, специалист по истории древнего Рима, отметил: «Культура есть работа над собой, возделывание самого себя, усилие по ассимиляции того, что превосходит индивида».
Среди интерпретаций могут встретиться и парадоксальные типа: «Культура – это то, что остаётся у человека, когда он теряет (забывает) всё».
В сотнях существующих и в тысячах потенциально возможных интерпретаций есть нечто общее: культура характеризует жизнедеятельность личности, группы и общества в целом; это специфический способ бытия человека; культура включает в себя особенности поведения, сознания и деятельности человека, вещи, предметы, произведения искусства, орудия труда, языковые формы, символы и знаки. «…Культура – это любое природное явление, преображенное человеческим вмешательством и в силу этого могущее быть включенным в социальный контекст» [Эко 1998: 35]. Одним словом, культура – исключительно человеческий феномен, поскольку в ней всё начинается и заканчивается человеком, а потому в человеке ищут ключ к пониманию феномена культуры.
Чем больше мы привлекаем интерпретаций понятия «культура» и настойчивее ищем в них нечто общее, тем отчетливее ощущаем, что первоисток культуры лежит в мыслительной деятельности человека. Обнимая мыслью все лежащее за пределами собственной персоны и внутри ее, человек включает увиденное в свою деятельность, на первом этапе всегда мыслительную. Справедливо замечено, что человек видит не глазами, а мозгом. «Увидеть – значит изменить» – это парадоксальное замечание в дневнике М. М. Пришвина подтверждает неоспоримый вывод о том, что интеллектуальное и чувственное познание мира одновременно есть и его умственное культивирование, возделывание. «…Культура по отношению к духовной жизни выступает как необходимый материал мысли, как нечто освоенное и наличное, как содержание. В качестве материала мысли культура нечто данное, а мысль – то, что из него создают; мышление тем самым есть становление культуры» [Моль 1973: 46]. Похожую идею в афористичной форме высказал один из наших современников: «…Природа, обручившись с человеческой мыслью, становится феноменом культуры» (Литературная газета. 1990. № 15. С. 4].
В сотнях интерпретаций понятия «культура» настойчиво проступает мысль о том, что ядром культуры являются смыслы. Для русского философа и социолога П.А. Сорокина культура – мир ценностей. Известный французский культуролог А. Моль полагает, что культура – это интеллектуальный аспект искусственной среды. Отечественный ученый Л. Баткин считает, что культура – это исторически определенный смысловой мир. Полемически заостренная реплика Л. Баткина: «В культуре не содержится ничего, кроме смыслов (и способов их передачи)», – не кажется преувеличением.
Цветок засохший, безуханный, Забытый в книге вижу я И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя: Где цвел? когда? какой весною? И долго ль цвёл? и сорван кем, Чужой, знакомой ли рукою? И положен сюда зачем? На память нежного ль свиданья, Или разлуки роковой, Иль одинокого гулянья В тиши полей, в тени лесной? (А.С. Пушкин)Сухой цветок – факт природы, рука человека над ним не трудилась, в нем нет ничего искусственного, но достаточно было связать с этим случайным цветком размышления, полные глубокого для человека смысла, как перед нами возникает явление культуры.
Философия культуры утверждает, что не всякая деятельность порождает культуру, а только та её часть, которая носит сакральный характер и связана с поиском смыслов, вычитываемых в бытии. Предмет или поступок становится культурным феноменом, если он обретает смысл; производство смыслов творит культуру [Гуревич 1994: 34–36].
Зададим себе вопрос, является ли солнце фактом культуры. На первый взгляд, нет. С другой стороны, известно, что все существующие культуры включают это понятие. Так, солнце для славян, германцев и вообще всех народов, живущих в умеренных широтах, – символ добра, тепла, ласки. «Ты мое солнышко» – обращение к любимым. Знаки солнца (солярные знаки) присутствуют в вышивках и в деревянной резьбе, выполняя роль оберега. В культурах же арабских стран и Средней Азии, мучимых нестерпимым дневным жаром, солнце воспринимается как зло. Говорят, что арабы не понимают сонета Шекспира, в котором любимая сравнивается с солнцем. «Солнце» в нашем мире – это не только природное явление, но и продукт культуры, факт человеческой истории, которая обеспечивает непрерывное обогащение и накопление смысла, вырабатываемого деятельностью в ходе практического и духовного освоения природы [Васильев 1988: 83].
В южных культурах особым ореолом окружена луна. Если в сознании русских луна устойчиво ассоциируется с миром тьмы, загробным миром, и ее восприятие связано с философскими размышлениями о мире и жизни (жить «под луной», «в подлунном мире»), если лунный свет у славян считался опасным, вредным, особенно для беременных женщин и новорожденных, то отношение к луне во вьетнамской культуре, например, иное. Жизнь вьетнамцев течет по лунному календарю, время измеряется в лунных месяцах, встречают Новый год – Тэт, Лунный праздник – самый любимый праздник вьетнамских детей. Луна часто сравнивается с юной девушкой, нежной и чистой, под луной гуляют влюбленные и посвящают ей стихи и песни. Всё жизненно важное для вьетнамцев связано с луной, которая вызывает у них только положительные эмоции [ЧиньТхи Ким Нгок 1998]. Высший комплимент красоте женского лица – сравнение его с ночным светилом. У русских же выражение «лицо, как луна», едва ли воспримут как восхищение красотой.
Один и тот же натурфакт (созданное природой) в двух рядом живущих культурах может оцениваться по-разному. Русские отрицательно воспринимают болото, недаром же существует неодобрительное определение коллектива («болото»), а и сознании финнов болото окружено положительной коннотацией (коннотация – co-значение), как, скажем, береза у русских, липа у чехов и дуб у немцев.
Русское слово баран ассоциируется с упрямством и глупостью, у американцев же название этого животного вызывает положительные ассоциации – ‘напористость’. Из американской рекламы: «Покупайте автомобиль «Додж»: он напорист, как баран».
В русской культуре слово корова может быть применено по отношению к полной, неповоротливой женщине, а в культуре Индии корова символизирует святость, материнство и правоту.
Для русских выражение съесть собаку означает ‘приобрести большой опыт, навык в каком-л. деле’. Английское соответствие to eat dog — ‘унижаться, пресмыкаться; быть в унизительном положении; нести оскорбление, проглотить обиду'. См. также русское: Вот где собака зарыта.
В русском языке слово свинья содержит негативную оценку (грязный, как свинья), в китайском языке свинья – это символ счастья, а потому китайцы не понимают русского фразеологизма подложить свинью. У них же отрицательно понятие «медведь» [Бао Хун 1999].
Как видим, смыслы выявляются только в сравнении. Мыслители давно заметили, что культура располагается на границе. Есть даже такое определение культурологии как науки о чужой культуре. Свою культуру мы понимаем только тогда, когда сталкиваемся с культурой иной. Поездки в другие страны делают каждого из нас стихийным культурологом («у нас так, а у них этак»). Например, гречневая каша у немцев – корм для свиней, а их суп из чечевицы для русских бедный обед.
В японской культуре важно не назвать человека по имени. Для русского человека важно как раз обратное. Но наша манера кажется многим народам неприятной, агрессивной. Для западного человека нормально не знать имён своих коллег – знают фамилии [Книжное обозрение. 2002. М., 27–28. С. 6].
Смыслы возникают и хранятся в человеческой голове, они бесплотны, их нельзя, говоря словами поэта, «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать». Чтобы стать явлением культуры, смыслы должны как-то себя проявить, материализовать, объективировать. Так вот смыслы реализуются в культурных кодах. Это могут быть слова, символы, мифологемы, идеологемы, стереотипы повеления, ритуалы, знаки и т. д. Факт культуры – это единство идеального и материального.
Само слово смысл заставляет думать, что стоящее за ним понятие рационально, создано и контролируется разумом. Это не так, вернее, не всегда так. Смыслы, как правило, подсознательны и иррациональны. К своему мы привыкаем и не замечаем, а вот в чужой культуре многое нам кажется странным, если не сказать подчас глупым. Смешными кажутся некоторые элементы ритуала, бессмысленными обряды. Однако не будем судить других, ибо многие смыслы в нашей культуре со стороны тоже кажутся странными.
Откуда берутся эти подсознательные и иррациональные смыслы? Учёные отвечают по-разному, иногда весьма экстравагантно: «Потенциально все смыслы изначально существуют во Вселенной. Человек своей демиургической силой создаёт из них тексты, и не только словесные, но и цветовые, и музыкальные. Так возникают культуры – различные варианты Мира смыслов. Интеллектуальная деятельность, включающая в себя и науку, – это вторичный процесс, порождаемый Миром смыслов». Так считал известный русский учёный В.В. Налимов [Налимов 1993: 230).
Глубинным уровнем культуры, на котором осознанное соединяется с бессознательным и который служит основой устойчивой системы смыслов и представлений, укорененных в сознании и поведении многих поколений, считается менталитет [Ерасов 1996: 20].
2. Этническая ментальность
Что такое менталитет, или ментальность? Неожиданный ответ нашёлся в одной из газетных заметок – письме читателя в редакцию. Наш соотечественник, будучи в ФРГ, как-то раз зашёл в кафе. Спустя некоторое время туда же вошёл пожилой немец. И хотя в большом зале было немало свободных столиков, посетитель, окинув внимательным взглядом посетителей, уверенно подошёл к столику, где сидел наш гражданин, и на русском языке попросил разрешения занять место за его столиком. Завязалась беседа. Когда пришло время прощаться, будущий автор газетной заметки задал немцу вопрос, почему тот подошёл именно сюда и почему с незнакомцем заговорил по-русски. Немец рассказал, что во время Второй мировой войны он служил в абвере, немецкой военной разведке, и внимательно штудировал книжку для служебного пользования «Приметы русских». Одна из таких примет была в том, что русские, чистя обувь, обычно всё внимание уделяют передней части сапога или ботинка, забывая о задней части обуви. С тех пор, – заключает автор заметки, – когда чищу обувь, ломаю свой русский менталитет и с особым усердием налегаю щёткой на задник ботинка. Та неосознаваемая сила, которая заставляет руку русского человека усердствовать над носком сапога и оставляет в небрежении его задник, в науке именуется менталитетом, или ментальностью.
Вспомним хрестоматийный эпизод из романа «Война и мир» Л.Н. Толстого. Наташа Ростова в поместье дяди в Отрадном принимает участие в народном танцевальном развлечении и вступает в круг танцующих. Автор, восхищаясь своей героиней, размышляет: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, – эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, – этот дух, откуда взяла она эти приёмы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приёмы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от неё дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошёл, и они уже любовались ею. Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для её дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чуждую ей, в шелку и бархате воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было в Анисье, и в отце Анисьи, и в тётке, и в матери, и во всяком русском человеке». Это ещё один пример неосознаваемой силы, которая заставляет разных представителей одного этноса в сходных обстоятельствах поступать удивительно одинаково.
Теперь обратимся к словарям. «Менталитет (лат.) – образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы?» [ФЭС 1998: 263]. Прилагательное mentalis впервые появилось в языке средневековой схоластики (XIV в.). Существительное mentality стало использоваться в английской философии XVII в. В обыденный язык это понятие ввел Вольтер. Первоначальное понятие «ментальность, менталитет» включало в свое содержание элемент ущербности, поэтому в этнологии (Леви-Брюль Л. Примитивный менталитет. 1922) оно относилось к сознанию дикаря, а в психологии (А. Валлон) – к сознанию ребенка. Писатель начала XX в. М. Пруст в романе «В поисках утраченного времени» использовал это понятие, характеризуя хаотичное и вместе с тем стереотипное сознание, противоположное мировоззрению [История ментальностей 1996]. К концу XX столетия активно используемое понятие утрачивает оценочность.
Кстати сказать, ментальность – это русифицированный вариант немецкого менталитета (Mentality). Последние по времени появления словари иностранных слов пытаются развести понятия (и термины) «менталитет» и «ментальность». В словаре 2001 г. читаем: Менталитет (от лат. Mens образ мысли) – склад ума, способ мировосприятия. Ментальность (лат. Mentalis умственный) – интеллектуальный мир человека» [Словарь иностранных слов. Ростов н/Д, 2001. С. 312).
Исследователи сходятся на том, что понятие ментальности, как и понятие культуры, относится к числу трудно определимых. Полагают, что ментальность можно скорее описать, чем определить.
Известный французский историк-медиевист Ле Гофф призвал «смириться с расплывчатостью термина ментальность для того, чтобы не потерять богатство, связанное с его многозначностью» [История ментальностей… 1996: 40]. Ему вторят психологи, полагающие, что поиск точного определения или оригинальной интерпретации популярного термина ментальность обречён на неудачу в силу того богатства, которое заключено в его расплывчатости [Акопов, Иванова 2003: 53].
Словом менталитет называют то, что не «политика», «социально-экономические отношения», «обычаи», «законы». Им объясняют то, что в культуре и истории других народов кажется странным и непонятным. Ментальность глубже мышления, норм поведения, сферы чувств. Она не структурирована и представляет собой некую предрасположенность, внутреннюю готовность человека действовать определенным образом, это своеобразная область возможного для человека, сфера автоматических форм сознания и поведения. Ментальность воспринимают как «самопонимание группы», как совокупность образов и представлений, которыми руководствуются. Это ставшие неосознанными ориентации и основания для чувствования» мышления и поведения. Проявляется ментальность в повседневности, полуавтоматическом поведении человека и его мышлении. В словаре Ожегова-Шведовой (1992) это мировосприятие, умонастроение. Менталитет скрывается в поведении, оценках, манере мыслить и говорить. Выучить и подделать его нельзя, можно лишь «впитать» вместе с языком, который вмешает в себя мировоззрение и коды данной культуры. Он выражает себя косвенно, исподволь «навязывая» содержимое и форму любому дискурсу [Геллер 1996:387].
Для психологов ментальное – это те установки и нравственные ориентиры, которые приобретаются и создаются людьми в процессе социализации с учётом особенностей культурно-исторической эпохи [Акопов, Иванова 2003: 54].
Мысль о ментальности возникает только при встрече с чем-то не похожим на нас самих, а потому менталитет может быть «тестирован» только извне. Очевидно, что вопрос «Каков ваш менталитет?» – лишен смысла, поскольку своим носителем менталитет не может быть отрефлексирован и сформулирован. Этим менталитет отличается от «мнений», «учений», «идеологий». Ментальность – это «общий тонус» долговременных форм повеления и мнений индивидуумов в пределах групп. Ментальность появляется во всем, о чем думает человек, что и как оценивает в жизни, как соотносит быт и бытие. Полагают, что менталитет лежит между двумя формами познания: рациональным и религиозным.
На учёте ментальных установок и стереотипов народов основываются так называемые этнические анекдоты о русских, евреях, украинцах, немцах, чукчах и т. д. В заметках акад. М.А. Гаспарова есть любопытное наблюдение над тем, как представители разных этносов реагируют на языковые ошибки собеседника-иностранца: «При ошибках в языке собеседник-француз сразу перестаёт тебя слушать, англичанин принимает незамечающий вид, немец педантично поправляет каждое слово, а итальянец с радостью начинает ваши ошибки перенимать» [Новое лит. обозрение. 1997. С. 27].
Перспективное поле поисков особенностей этнического менталитета представляет фольклор. Русский религиозный философ, правовед, князь Е.Н. Трубецкой на материале русской народной сказки пытался увидеть, как в ней отразилась русская душа, и пришёл к выводу, что в сказке выражается «по преимуществу женственное мирочувствие» [Трубецкой Е.Н. 1998:484]. Русский человек, полагает философ, интенсивно воспринимает действие сверху чудесной силы, которая может поднять и унести в заоблачную высь, а рядом необыкновенно слабо выражено действие снизу. Заметна слабость волевого героического усилия. «…Сказывается настроение человека, который ждёт всех благ жизни свыше и при этом совершенно забывает о своей личной ответственности» [Трубецкой Е.Н. 1998: 485].
Менталитет не монолитен. Он разнороден. Так, в сознании и поведении современного человека отыскивают фрагменты древнего магического сознания. Менталитет со временем изменяется. Говорят, что менталитет – это всегда система, элементы которой различаются по возрасту, происхождению, интенсивности. Историки школы «Анналов» различают варварский, придворный, городской, готический, суеверный, буржуазный, современный и многие другие менталитеты. Ментальность – «манера чувствоватъ и думать, присущая людям данной социальной системы в данный период их истории» [Гуревич 1984: 37].
Постепенно выявляется, что без учета этнической ментальности невозможно адекватно представить историю народа. Первыми это ощутили медиевисты – специалисты по истории средних веков. В европейской науке XX в. сложилась знаменитая школа «Анналов», которая от изучения событий перешла к изучению ментальности средневекового европейца. Представители этой школы исходят из теоретической посылки, что умы средневековых людей были устроены иначе и что без понятия ментальности исследователям не обойтись [История ментальностей 1996: 57].
«История ментальностей» – это разновидность «социальной истории», предмет которой – анализ поведения, ценностных ориентаций, особенностей быта, нравов, обычаев, форм жилища, моды и проч. История ментальностей предполагает: 1) интерес к коллективным психологическим установкам; 2) внимание к невысказанному и неосознаваемому; 3) интерес к устойчивым формам мышления – к метафорам, категориям, символике [История ментальностей 1996:56]. Цель истории ментальностей – изучить три рода феноменов: 1) интересы; 2) категории; 3) метафоры. Историки-медиевисты анализируют мировидение средневекового человека, ту «картину мира», которую он создавал в процессе своей социально-культурной практики. Исследователи ищут в тестах не высказанные явно, не вполне осознанные в культуре умственные установки, общие ориентации и привычки сознания, «психологический инструментарий» и «духовную оснастку» людей средневековья. Исследователь ментальности стремится выявить в дошедших до нас текстах то, что авторы не могли или не хотели высказать прямо, то есть случаи, где авторы проговариваются. За «планом выражения» ищется «план содержания». Это очень трудная и ответственная задача – возродить ментальный универсум в его истинности тех, кто давно канул в прошлое. Историки чувствуют, что памятники, оставленные людьми прошлых веков, содержат в себе ответа, выявить которые можно путём правильно поставленных вопросов. И тогда старые тексты окажутся неиссякаемыми источниками познания духовного мира людей их эпох. «…Историк, – делает вывод А.Я. Гуревич, – волей-неволей вынужден быть вместе с тем и историком ментальностей и картин мира, заложенных в сознании людей, составляющих это общество» [Гуревич 1999: 536].
Помимо научно-теоретического аспекта в изучении ментальности есть и аспект прагматико-политический. Стремление возродить Россию неизбежно ставит вопросы самосознания «Кто мы?», «Куда идем?», «Какое общество строим?». В решении подобных вопросов не последнее слово принадлежит этническому менталитету. К сожалению, о нем в нашем обществе стали говорить только в последнее время, да и само слово кажется совсем недавно заимствованным. В Малом академическом словаре русского языка оно отсутствует. Не было такого понятия и в «Большой советской энциклопедии». И это не случайно. Этнический менталитет в решении политических, экономических, социальных и культурных задач в России никогда не учитывался. Однако не учитываемый, он проявлялся и проявляется весьма неожиданно, парадоксально и подчас разрушающе. Без учёта ментальности, этого системообразующего для внутреннего мира человека и человеческих объединений фактора, не может быть современной науки управления и менеджмента, в основе которых лежат человеческие отношения. Изучение российской ментальности помогает глубже понять смысл отечественной истории, истоки российской государственности, духовности и патриотизма.
Роберт Ли, этнический кореец, родился в Дагестане, окончил Ростовский инженерно-строительный институт, кандидат технических наук, успешный бизнесмен в области строительства, написал книгу «Как Вам стать богатым в России» (Ростов н/Д, 1999). В заключительной главе книги «Как самобытность русской души помогает добиться успеха» автор размышляет о природе русского менталитета, в котором интуиция доминирует над умом. Интуиция компенсирует плохую организацию и отвратительное планирование. «Русский человек силен тем, что при внезапно возникшей опасности он полностью погружается в «здесь и сейчас» и каждую секунду живёт этой жизнью, не отвлекаясь ни на план и прочую постороннюю ерунду. Он вслушивается в интуицию и моментально реагирует на её малейшие изменения. Он сливается с жизнью, становясь ею самой. А сама жизнь всегда сильнее любого плана» [Ли 1999:270]. Если к этим особенностям русского менталитета добавить чёткое, грамотное планирование, эффект будет грандиозным. Кстати, замечает Ли, огромная жизнеутверждающая сила русской натуры объясняет, почему многие немцы в России ассимилировались очень быстро. Стоит помнить и ещё об одной особенности русской ментальности: мы слабеем, когда всё складывается удачно.
Этнический менталитет устойчив, но неестественные, порой насильственные формы существования народа меняют его, искажают соотношение элементов в строе мысли. И тогда следует обращаться к объективным свидетельствам об исконной специфике менталитета. Интерес к «особенной физиономии» народа обостряется в периоды мощных исторических разломов в истории нации. В первой четверти и в последнее десятилетие XX в. в России ощущался повышенный интерес к собственной самобытности. О том, что вопросы ментальности и этнической специфичности из разряда чисто теоретических переходят в разряд практических, свидетельствуют выступления и материалы научной конференции «Этническое и языковое самосознание» (Москва, 1995). В Гомеле (Беларусь) уже в третий раз проводится Международная научная конференция «Менталитет славян и интеграционные процессы».
Специалисты сразу столкнулись с тем, что изучать ментальность сложно не только по причине её глубокого «залегания» в человеке, отсутствия отрефлексированности и оформленности, но и потому, что исследователь находится в плену собственного менталитета, который незаметным образом преломляет его взгляд на материал источника, из которого «вычитывается» чужая ментальность. Если ментальность вычитывается из текстов прошлого, то трудности возрастают, ибо текст – не прямой слепок сознания, между текстом и сознанием всегда есть зазор. Отражая в себе
некую весть о творившей его ментальности, текст не в состоянии охватить всей глубины, многослойности, изменчивости и противоречивости живого сознания. Текст – всегда очищенное, упорядоченное, усеченное и измененное сознание, а потому, по словам историка, письменный источник – не только ключ к исторической ментальности, но и завеса над ней [Чужое… 1999:199].
Объективные трудности изучения ментальности провоцируют мнение о менталитете как некой абстракции, фантоме, понятии придуманном, а не открытом, Примечательно, что ментальность данного народа изучается исследователями, представителями другого этноса, и, следовательно, людьми с иной ментальностью. Имеется в виду сборник работ А. Вежбицкой, переведенных на русский язык [Вежбицкая 1996], в которых особенности русской ментальности выводятся из особенностей грамматики русского языка (об этом см. ниже).
В 1995 г. в Польше вышел в свет словарь «Русский менталитет». Основу словарных текстов составили известные оппозиции (своеобразные векторы самосознания): «Восток» | «Запад», «духовное» | «душевное», «правда» | «истина» и др. В словаре 222 понятия, так или иначе связанных с сознанием русских людей. Так, буква «Е» представлена словарными статьями «Евразия», «Евреи», «Европа», «Единомыслие», «Еретическая мысль» [см.: Вопросы философии. 1996. № 5. С. 189]. Словарь в целом получил позитивную оценку, однако было высказано несколько существенных замечаний. Во-первых, польские ученые отождествляют «менталитет», «дух (определенного) языка» и «культуру». Во-вторых, не растолковывается, что такое ум, дорога, добро, красота, север, юг, в словарь не вошло изрядное количество концептов, явно связанных со своеобразием русского менталитета (дом, семья). В-третьих, авторы не различают русской и советской ментальности. Поляки затруднились перевести слова благолепие, юродство, подвижничество [Геллер 1996: 387; Щукин 1996]. Интерес представляет также книга Т.Д. Марцинковской «Русская ментальность и её отражение в науках о человеке» (М., 1994).
В русской философской литературе (Н.А. Бердяев, М.О. Гершензон, А. Белый и др.) аналогом «менталитета» выступает понятие «самосознание», объединяющее два начала – «мысли» и «воли», интеллектуального и экзистенциального: что человек думает и как он поступает. Понятие «самосознание» не исключает понятия «менталитет». Если самосознание – это сознание «для себя», имманентное по отношению к собственным истокам, то менталитет – это категория, демонстрирующая сознание другим: миру в целом, другому народу, другому человеку. По этой причине предметом научного анализа избирается менталитет, а не самосознание [Вопросы философии. 1996. № 5. С. 189].
В современной культурологической литературе существуют попытки каким-то образом дифференцировать менталитет. К примеру, говорят о трех разновидностях ментальности: 1) «западный» дедуктивно-познавательный менталитет, стремящийся в форме понятий и суждений отражать окружающую действительность и имеющий практическую направленность; 2) «восточный» менталитет, ориентированный на интуитивное мышление, в большей степени направленный на созерцание, духовное самоусовершенствование, развитие внутреннего мира, чаще всего использующий не понятия, а смыслообразы и мифы; 3) менталитет «традиционного общества», ориентированный на предметное решение жизненных ситуаций и конкретных проблем, стоящих перед этнокультурной общностью [Белик 1998: 135]. В пределах трех указанных разновидностей ментальности можно говорить об этнической ментальности, которая как раз и разграничивает народы и определяет их «национальную физиономию».
И потому мне кажется желанной Различность и причудливость умов. Ум английский – и светлый и туманный, Как море вкруг несчетных островов. Бесстыдный ум француза, ум немецкий — Строительный, тяжелый и тупой, Ум русский – исступленно-молодецкий, Ум скандинавский – вещий и слепой. Испанский ум» как будто весь багряный, Горячий, как роскошный цвет гвоздик, Ум итальянский – сладкий, как обманы, Утонченный, как у мадонны лик. Как меч, как властный голос – ум латинский, Ум эллинский – язык полубогов, Индийский ум, кошмарно-исполинский, — Свод радуги, богатство всех тонов. (К. Бальмонт. Похвала уму)Менталитет – многообразие смыслов и значений, так или иначе ассоциирующихся с проблемой национального своеобразия [Кондаков 1994: 22]. Каждодневная жизнь и положение любого народа в непосредственном или удаленном окружении (славяне и неславяне, христиане и нехристиане, православные и католики, один славянский народ и другой и т. п.) моделируют и ментальность, и культуру данного народа [Сибинович 1995: 26]. Ментальность, по Гуревичу, – это общее» что рождается из природных данных и социально обусловленных компонентов и раскрывает представление человека о мире.
Мнения выдающихся представителей русской культуры о русском менталитете, его истоках и особенностях отражают влияние на русскую ментальность колоссальных просторов и континентального климата: «Так связаны в русской равнинности, в разливе деревенской России убожество заполняющих её форм с божественностью охватывающих её горизонтов» (Ф.А. Степун); «Равнинный, степной характер нашей страны наложил свою печать на нашу историю. В природе нашей равнины есть какая-то ненависть ко всему, что перерастает плоскость, ко всему, что слишком возвышается над окружающим» (Е.Н. Трубецкой); «Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность, широта» (Н.А. Бердяев). Странную подверженность русского человека безудержной радости и крайней, невыразимой тоске объясняют свойствами континентального климата.
Ещё одна особенность русской ментальности подмечена Н.В. Гоголем: «Вся беда наша в том, что мы не смотрим в настоящее, а смотрим в будущее» («Выбранные места из переписки с друзьями»). Вывод великого писателя: «Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего». Из наблюдений Юрия Крижанича, хорватского писателя XVII в., проводника идеи «славянского единства»: «Русские люди не умеют середним путём ходити, а всё ходят по пропастям да по окраинам». Русскому национальному характеру свойственны черты, которые писатель И. А. Гончаров собрал в понятии «обломовщина» и которые охарактеризовал Владимир Даль в своём Словаре: «Русская вялость, лень, косность; равнодушие к общественным вопросам, требующим дружной деятельности, бодрости, решимости и стойкости; привычка ожидать всего от других и ничего от себя; непризнанье за собою никаких мирских обязанностей» [Даль: 2: 593].
Вот слова, которые отразили русскую ментальность и трагический опыт России в XX в.: «Во всём доходить до крайности, до пределов возможного – несчастье русских. В России не было счастливого настоящего, а только заменяющая его мечта в счастливое будущее. Стремление русских во всём достигнуть последнего имеет и положительную сторону – способность колоссального развития духовной области» (Д.С, Лихачёв).
Рекомендуемая литература
1. Ануфриев Е.А., Лесная Л.В. Российский менталитет как социально-политический и духовный феномен // Социально-политический журнал. 1997. № 3. С. 16–27.
2. Большакова А.Ю. Феномен русского менталитета: Основные направления и методы исследования // Русская история: проблемы менталитета. М., 1995. С. 7—10.
3. Брагина А А. Ваш менталитет и наш менталитет // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 1999. № 4. С. 33–37.
4. Воронцова М.В. Немцы… они другие… (Размышления о современном страноведении) // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 1998. № 4. С. 67–75.
5. Голованивская М.К. Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка: Контрастивный анализ лексических групп со значением «высшие силы и абсолюты» «органы наивной анатомии», «основные мыслительные категории», «базовые эмоции»: Монография. М., 1997.
6. Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.
7. Милов Л.В. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Общественные науки и современность. 1995. № 1.
8. Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998.
3. Концептуальная и языковая картины мира
С ментальностью связана идея картины (иногда модели) мира. Восходящее к гипотезе Сепира – Уорф а положение о том, что в языке находит отражение «наивная» модель мира (картина мира) в настоящее время перешло в разряд общепризнанных. «Карты-на мира* в отличие от мировоззрения – совокупность мировоззренческих знаний о мире, «совокупность предметного содержания, которым обладает человек» (Ясперс). Картина мира рождена потребностью человека в наглядном представлении о мире. Полагают, что картина мира – это синтетическое панорамное представление о конкретной действительности и о месте каждого конкретного человека в ней.
Можно выделить чувственно-пространственную картину мира, духов но-культурную, метафизическую. Говорят также и о физической, биологической, философской картинах мира [ФЭС 1998: 201]. Выясняется, что ипостасей картины мира может быть гораздо больше: это языковая картина мира, фольклорная картина мира, этническая картина мира и т. п.
Понятие «языковая картина мира» имеет несколько терминологических обозначений («языковой промежуточный мир», «языковая организация мира», «языковая картина мира», «языковая модель мира» и др.). Чаше других используется языковая картина мира.
Понятия «ментальность» и «картина мира» разграничиваются по степени осознанности: «картина мира» – осознанное представление, а «ментальность» сознанием не рефлексируется. И тем не менее о своеобразии менталитета судят по специфике картины мира.
«Картина мира» становится одним из центральных понятий многих гуманитарных наук – философии, культурологии, этнографии и др. Существует немалое количество определений термина картина мира. Каждое определение зависит от того, какой дифференцирующий признак указан перед этим словосочетанием, например, языковая картина мира. По мнению Ю.Д. Апресяна, каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации («концептуализации») мира. Выражаемые в нём значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. В картине мира отражаются наивные представления о внутреннем мире человека, в ней конденсируется опыт интроспекции десятков поколений и в силу этого служит надёжным проводником в этот мир [Апресян 1995].
Самая строгая из гуманитарных наук – лингвистика – и та берёт в качестве методологического приёма идею картины мира, и это позволяет увидеть то, что раньше не замечалось (см. например: [Яковлева 1995]).
Идея картины мира складывается в начале XX в. Её подразумевал О. Шпенглер в своем труде «Закат Европы»: «Каждой культуре свойствен строго индивидуальный способ видеть и познавать природу, или, что то же, у каждой есть её собственная своеобразная природа, каковой в том же самом виде не может обладать никакой другой вид людей. Точно также у каждой культуры, а в пределах отдельной культуры, с меньшими отличиями, у каждого отдельного человека, есть свой совершенно особый вид истории…» [Шпенглер 1993: 198].
Русский поэт А. Белый примерно тогда же убедительно показал наличие индивидуальной картины мира у Пушкина, Баратынского и Тютчева. У этих поэтов небо разное: пушкинский «небосвод» (синий, дальний), тютчевская «благосклонная твердь», небо «родное», «живое», «облачное» Баратынского. Пушкин скажет: «Небосвод дальний блещет»; Тютчев: «Пламенно твердь глядит»; Баратынский: «облачно небо родное» [Белый 1983].
Картины мира структурированы категориальными, классификационными схемами, которые и должны изучаться историей ментальности. М. Фуко полагал, что у человека существует «сетка» представлений – скелет картины мира. Сумма или пересечения разных «сеток» дают ментальность. Картина мира, как мозаика, составлена из концептов и связей между ними, поэтому её иногда называют концептуальной картиной мира.
Концепт, в понимании воронежской научной школы, руководимой проф. З.Д. Поповой, – это глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант знания (здесь и далее – изложение концепции из книги: [Попова, Стернин 1999]). Концепты идеальны и кодируются в сознании единицами универсального предметного кода, в основе которых лежат индивидуальные чувственные образы, формирующиеся на базе личного чувственного опыта человека. Образы конкретны, однако они могут абстрагироваться и из чувственного превращаются в образ мыслительный. Многие концепты, если не все, сохраняют свою чувственную природу, например, концепты, представленные словами кислый, сладкий, гладкий, окурок, яма, ложка, стол, стул и под. У концепта, в отличие от понятия, нет чёткой структуры, жёсткой последовательности и взаиморасположения слоёв.
По содержанию концепты подразделяются следующим образом: 1) представление (мыслительная картинка) – яблоко, груша, холод, кислый, красный, шершавый, жара и др.; 2) схема – концепт, представленный некоторой обобщённой пространственно-графической или контурной схемой: схематический образ человека, дерева и т. п.; 3) понятие – концепт, который состоит из наиболее общих, существенных признаков предмета или явления, результат из рационального отражения и осмысления: квадрат – прямоугольник с равными сторонами; 4) фрейм — мыслимый в целостности его составных частей многокомпонентный концепт, объемное представление, некоторая совокупность: магазин, стадион, больница и др.; 5) сценарий – последовательность эпизодов во времени: посещение ресторана, поездка в другой город, драка, экскурсия; 6) гештальт – комплексная, целостная функциональная структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений в сознании: школа, любовь и др.
Концептуальные признаки выявляются через семантику языка. Значения слов, фразеосочетаний, схем предложений, текстов служат источником знаний о содержании тех или иных концептов. Концепты репрезентируются словами, однако вся совокупность речевых средств не даёт полной картины концепта. Слово своим значением в языке представляет лишь часть концепта, отсюда необходимость синонимии слова, потребность в текстах, совокупно раскрывающих содержимое концепта. «Муки слова», черновики, саморедактирование и литературное редактирование – следствие ограниченности языковых средств для вербализации концепта. Отсюда вывод о том, что словотворчество, речетворчество и художественное творчество – вечное право и обязанность человека.
Возможны случаи, когда концепт есть, а лексема для его вербализации отсутствует. Это называется лакуной (в русском языке есть молодожёны, но нет – старожёны). Существуют иллогизмы – отсутствие лексем и семем при наличии концепта, обусловленное отсутствием потребности в предмете (есть кролиководы, но нет лексем для специалистов по разведению носорогов).
Этническое сообщество подвергает образ определенной стандартизации, в результате чего концепты становятся общенациональными, групповыми или личными. Совокупность концептов в коллективном сознании этноса стали называть концептосферой. Концепты обладают национальной спецификой. Национальная концептосфера – это совокупность категоризованных, обработанных, стандартизованных концептов в сознании народа. Ряд концептов присущ одному этносу, а потому возможна безэквивалентная (непереводимая) лексика (например, смекалки, быт, очередник, земляк и др.). Однако значительная часть концептосфер различных этносов совпадает, чем объясняется возможность перевода с одного языка на другой.
Вербализация, языковая репрезентация, языковое представление концепта средствами лексем, фразем, высказываний – предмет когнитивной лингвистики, которой интересно, какие стороны, слои, компоненты концепта вошли в семантическое пространство языка, как они его категоризуют, в каких участках системы конкретного языка обнаруживается исследуемый концепт. Цель – представить в упорядоченном виде и комплексно описать участок системы языка, вербализующий данный концепт.
Итак, концепты реализуются прежде всего с помощью лексем. В итоге возникает языковая картина мира. <Языковая картина мира – это выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и многочастного мира, в своем строении и в осмысляемых языком связях своих частей представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, всё то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком мифов и социум» [Шведова 1999: 15].
Можно с большой долей уверенности предполагать, что картина мира концептуальная и языковая соотносятся. Картины мира, и тем более языковые, этнически специфичны. Национальное своеобразие видится в наличии/отсутствии тех или иных концептов, их ценностной иерархии, системе связей и пр. Этим можно объяснить наблюдение французского исследователя, что относительно бедная система, которой располагает гомеровский язык, не может дать такого же разделения цветового спектра, какое возможно, скажем, в современном французском языке [Турина 1998: 408].
Логичен вопрос о генезисе языковой картины мира в сознании каждого носителя данного языка. На первый взгляд, кажется, что она складывается у человека постепенно по мере обретения житейского опыта и освоения языка. Как считает французский философ» теоретик языка Ж. Деррида (род. 1930), с детства человек не рассуждая усваивает названия предметов и одновременно – систему отношений, некоторые акценты, определяющие представления, например, о вежливости, о мужском и женском, о национальных стереотипах, т. е. фактически все исходные постулаты, определяющие картину мира, которые «контрабандным образом» протаскиваются в языковых выражениях (см.: [Вайнштейн 1992: 51]).
Однако есть и противоположные суждения о картине мира как феномене врождённом. По мнению Дж. Макинтайра из Европейской лаборатории прикладных нейронаук, который исследовал «интуитивные» физические знания, характерные даже для несведущих в науке людей, эксперимент подтверждает идею о том, что мозг основывается не столько на непосредственных наблюдениях, сколько на внутренней модели физического мира, которую и используют для предсказания «поведения* окружающих нас предметов [Поиск. 2001. № 27. С. 15].
Становится очевидным, что исследование отдельных языковых и речевых единиц для выявления этнически своеобразного в языке весьма ограничено. Сегодня невозможно понять, почему Гомер называет море «винным», и трудно объяснить, почему невозможно перевести на французский язык английское слово humour [Турина 1998:408]. Нужен «тотальный», системный подход к решению поставленной проблемы. А.Д. Шмелёв, например, полагает, что весьма перспективно сопоставление «русской картины мира», вырисовывающейся в результате семантического анализа русских лексем, с данными этнопсихологии. Такое сопоставление уточнит выводы, сделанные в рамках как той, так и другой науки [Шмелёв 1995: 169]. Реализацией этой перспективы стала работа А.Д. Шмелёва «Русская языковая модель мира: Материалы к словарю» (М., 2002).
Выход видится также в изучении целых языковых полей, соответствующих фрагментам картины мира. Дом, как показали участники этнолингвистической конференции «Дом в языке и культуре» (Польша, Щецин, март 1995), является весьма важным элементом культуры, языка и литературных текстов. В докладе на тему «Дом в польской и английской фразеологии» было показано, как много общего в структуре польских и английских фразеологизмов и паремий на эту тему [Плотникова, Усачёва 1996:63].
Идея языковой картины мира носит эвристический характер. Так, комплексный анализ древнеанглийских лексических единиц, называющих пахотное поле, даёт возможность наглядно представить, какую важную роль в хозяйственной деятельности англосаксов играло поле, которое засевалось (32 названия), менее значительна роль поля под паром (7 названий) и ещё меньше – сжатого поля (2 названия). Выясняется, что культ поля к англосаксам перешёл от древних германцев и индоевропейцев [Хопияйнен 2000: 331].
Через картину мира ментальность связана с культурой. Наивная картина мира носителей данного языка отражается структурой смыслов слов и определяется культурой и ментальностью эпохи, местом человека в социальном пространстве, его самоидентификацией в качестве «Я» и в качестве «Мы» [Фрумкина 1999:8].
Полагают, что основной единицей ментальности является концепт данной культуры, реализуемый в границах словесного знака в частности и языка в целом и предстающий в содержательных формах как образ, как понятие и как символ (Никитина 1999]. Разрабатывается также идея профиля картины мира, или «картинок мира» [Шведова 1999: 5]. Например, фольклорная культурно-языковая картина мира в пределах различных народно-поэтических жанров может представать в виде «картинок мира» при одной культурной модели.
Выясняется, что, казалось бы, сугубо теоретичекое понятие «образ мира» должно учитываться в процессе подготовки специалистов различного профиля, для которых важна проблема «построения профессиональной судьбы». (См. учебное пособие «Образ мира в разнотипных профессиях» [Климов 1995].)
Подводя итоги достижений лингвистики XX столетия, к числу проблем, пока еще не получивших полного разрешения, наряду с проблемой языка и мышления относят и близкую к ней проблему национальной картины мира [Алпатов 1995: 18].
Рекомендуемая литература
1. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996.
2. Баксанский О.Е., Кучер Е. Н. Современный когнитивный подход к категории «образ мира» // Вопросы философии. 2002. № 8. С. 52–69.
3. Попова З.Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира. Воронеж, 2002.
4. Радченко О. А. Понятие языковой картины мира в немецкой философии языка XX века // ВЯ. 2002. № 6. С. 140–160.
5. Урысон ЕВ. Языковая картина мира VS Обиходные представления (модель восприятия в русском языке) // ВЯ. 1998; № 3. С. 3—21.
6. Шмелёв А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М., 2002.
4. Этническая ментальность, картина мира и язык
Ментальность отражается в языке на уровне лексики (ключевых слов) и на уровне грамматики (категории и структуры).
Ментальность и лексика
Современные авторы пытаются рассматривать семантику отдельных слов сквозь призму ментальности. В поле их зрения находятся такие лексемы, как авось, заодно, успеется, поутру, противопоставление «высокого» и «низкого» (правда/истина, добро/ благо, долг/обязанность, радость/удовольствие), «иррационального» и «безотчетного» (успеется, угораздило, да ну). По их мнению, силу и глубину чувств носитель русского языка реализует в «душевности» (душа, сердце, жалость – эти слова отличаются повышенной частотностью в русском языке по сравнению с другими языками). Русский язык специфическими лексемами выражает готовность обойтись без церемоний в человеческих отношениях (видно, небось и частица – ка) [Зализняк и др. 1995].
В публикации с красноречивым названием «“Русская ментальность” в зеркале лексических данных» автор показывает, как фундаментальные черты русского национального характера (тенденция к крайностям, эмоциональность, ощущение непредсказуемости жизни и недостаточность логического и рационального подхода к ней, тенденция к «морализаторству», «практический идеализм», т. е. предпочтение «горнего» «дольнему», тенденция к пассивности или даже к фатализму, ощущение неподконтрольности жизни человеческим усилиям, нелюбовь к дисциплине, склонность к отрыву теории от практики) ярко отражаются в нескольких лексических сферах;
1) слова, соответствующие определенным аспектам универсальных философских концептов (правда/истина, долг/обязанность, свобода/воля, добро/благо);
2) слова, соответствующие понятиям, существующим и в других культурах, но особенно значимым именно для русской культуры и русского сознания (судьба, душа, жалость);
3) слова, соответствующие уникальным русским понятиям (тоска, удаль и др.);
4) слова, отражающие специфику русского представления о пространстве и времени (пространственные и временные наречия и предлога: утром, наутро, под утро, с утра, поутру и др.);
5) слова, определенным образом концептуализирующие события, случившиеся в жизни субъекта, или его планы на будущее (собираюсь, постараюсь, успеется, сложилось, угораздило и др.);
6) модальные слова, частицы, междометия, выражающие не просто внутреннее состояние говорящего в момент речи, а его более или менее постоянную жизненную установку (авось, небось, заодно, видно, же, как будто, угу, – то, – ка и др.) [Шмелёв 1995].
Ключевыми словами русской ментальности считают слова душа, судьба, тоска. Они практически непереводимы на другие языки. 4…Тоска – это то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только, что это недостижимо. А когда объект тоски может быть установлен, это обычно что-то утерянное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях; ср.: тоска по родине; тоска по ушедшим годам молодости…» [Булыгина, Шмелев 1997:490). Великий поэт XX в. Райнер Мария Рильке (1875–1926), изучавший русский язык, в одном из писем по-русски писал, что ни в одном из известных ему европейских языков нет эквивалента русскому слову тост, называвшему глубокое чувство, свойственное русскому народу. Из «тоски», пишет Рильке, народились величайшие художники, богатыри и чудотворцы русской земли. Это чувство и слово по масштабу соответствует глубине народа, которому принадлежат (Рильке 1971:175].
Ключевым словом русской ментальности является слово подвиг, обратившее на себя внимание русского художника и мыслителя Н.К. Рериха. «Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, всезавершающую мысль, вложенную в русское слово «подвиг». «Героический поступок» – это не совсем то; «доблесть» – его не исчерпывает; «самоотречение» – опять-таки не то; «усовершенствование» – имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некоторое завершение, между тем как «подвиг» безграничен… Подвиг создаёт и накопляет добро, делает жизнь лучше, развивает гуманность. Неудивительно, что русский народ создал эту светлую, эту возвышенную концепцию. Человек подвига берёт на себя такую ношу и несёт её добровольно. В этой готовности нет и тени эгоизма, есть только любовь к своему ближнему, ради которого герой сражается на всех тернистых путях» [Рерих 1987: 65].
Акад. Д.С. Лихачёв в «Заметках о русском» приводит в качестве примера непереводимые русские слова воля, удаль, тоска. Поскольку русская культура считала волю и простор величайшим эстетическим благом для человека, они не могли не отразиться в языке. «…Воля вольная – это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением человека пространства». Вспомним, как Л. Толстой устами Феди Протасова («Живой труп») охарактеризовал цыганскую песню: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля». Если свобода соответствует европейским представлениям, связана с нормой, законностью, правопорядком, то воля понятие предельно русское. Воля не знает никаких пределов и границ, а потому в европейском понимании свободы мало конструктивна.
Русское понятие храбрости – это удаль, а удаль – это храбрость в широком движении. Это храбрость, помноженная на простор для выявления этой храбрости» [Лихачёв 1980:12–14].
«Русская душа ушибается ширью» (Н.А. Бердяев). Однако простор ассоциируется с тоской, и потому в семантике слова удаль присутствует предощущение неудачи. Писатель Фаз иль Искандер пишет: «Удаль. В этом слове ясно слышится – даль. Удаль – это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали.
В слове «мужество» – суровая необходимость, взвешенность наших действий, точнее, даже противодействий. Мужество от ума… Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью.
Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость.
Но, вглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла бы, хватив допинга.
Удаль требует пространства, воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненному жизнь – копейка. Удаль – это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль – возможность рубить, все время удаляясь от места, где лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться: а правильно ли я рубил?»
«А все-таки красивое слово: удаль! Утоляет тоску по безмыслию» (Цит. по: [Шмелев 1998: 51–52]). А.Д. Шмелёв резюмирует мысли Фазиля Искандера тем, что слово удаль заключает в себе парадокс. С одной стороны, в удали нет ничего особенно хорошего; это не такое превосходное качество, как мужество, смелость, храбрость, отвага, доблесть. С другой стороны» слово удаль в русском языке обладает яркой положительной окраской – удаль молодецкая. Существенный смысловой компонент слова удаль, – продолжает А.Д. Шмелёв, – соответствует идее любования и самолюбования. Для удали важна идея бескорыстия, удаль противостоит узкому корыстному расчету. Слово удаль родилось у бойкого народа, привыкшего к широким пространствам [Шмелёв 1998: 52–53).
Русский философ Н.А. Бердяев отметил «чудное русское слово “правда", которое не имеет соответствующего выражения на других языках». «Истина хороша, да и правда не худа» (В.И. Даль). Слово правда имеет синоним истина. Истина включает в себя представление о Божественном мире, о логическом пространстве, а правда связана с миром человека. Правда – это истина в зеркале жизни. Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелёв со ссылкой на работы
Н.Д. Арутюновой разграничивают лексемы правда и истина следующим образом. Правда указывает на практический аспект общефилософского понятия, а истина – на теоретический. Истина как ключевое понятие древнеславянского умозрения связана с гармонией и порядком и определяется не извне, а из самой себя. Зафиксировано 80 пословиц и поговорок со словом правда. Она – важнейшее условие духовной жизни человека и общества. По мнению Н.Д. Арутюновой, возможно словосочетание правда жизни, но нельзя сказать * жизненная истина. Правда относится к одушевленному миру. Правда о войне – речь идет прежде всего о людях на войне. Нельзя сказать в научном тексте * правда об атомах или молекулах. Для русского ума различны высказывания – истина о землетрясениях и правда о землетрясениях. Истина одна, а правд много – говорит русская народная мудрость: У каждого Павла своя правда. Правда градуальна: какая правда истиннее? Правда связана с сердцем, а истина – с разумом. Истину проповедуют, за правду сражаются. Выяснилось, что есть правда народа, но нет правды дворян. Истине служат жрецы религии и науки, правде – борцы и защитники угнетенных. Стихия истины – борение духа, стихия правды – социальная борьба. Историки стремятся к истине, художники – к правде» потому так различен Пушкин в «Истории пугачевского бунта» и «Капитанской дочке». В суде свидетели клянутся говорить правду, суд стремится установить истину, чтобы затем судить по правде. В русском миропонимании есть святая правда как высшая общечеловеческая ценность и истинная правда. По мнению А. Вежбицкой, слово истина обозначает не просто «правду» (truth), но, скорее, нечто вроде «окончательной правды», «скрытой правды» [Вежбицкая 2001: 33). В наши дни истина о рынке и собственности пришла в трагический конфликт с правдой о собственности и рынке (подробнее см.: [Булыгина, Шмелев 1997: 481–482]).
Типично русским словом считается авось – ‘в надежде на ничтожно малый шанс’, которое очень точно отражает ряд особенностей русской ментальности: «Авось, небось, да третий как-нибудь» (Пословица). У Пушкина: «Да понадеялся он на русский авось», Это слово, как и его производные (авоська, авоськать), связано с темой судьбы, неконтролируемости событий, означает существование в непознаваемом и не контролируемом рациональным сознанием мире. «Жизнь непредсказуема и неуправляема, и не нужно чересчур полагаться на силы разума, логики или на свои рациональные действия», – объясняет природу слова русского авось исследовательница [Вежбицкая 1997: 79).
Столь же специфично для русского языка слово небось, которое выражает общую установку на фамильярность в противоположность западноевропейскому представлению о неприкосновенности личности. С помощью «интимного» небось говорящий демонстрирует своё знание той или иной ситуации, высказывает предположение о чем-то близко знакомом ему в прошлом, хотя сейчас и недоступном его непосредственному наблюдению (В Крыму небось тепло). С помощью слова небось говорящий как бы вторгается в личную сферу адресата речи или третьего липа (Небось опять перебрали?), упрекает его (Небось не спросил обо мне?)у проявляет недружественную фамильярность (Пусть поработает. Небось не развалится), Подобные «мелкие слова» (выражение Л. В. Щербы) трудно переводить на другие языки из-за отсутствия простых и идиоматичных средств, поскольку выражение установки не входит в число культурно значимых стереотипов [Булыгина, Шмелёв 1997; 492–494].
Для русской ментальности характерно единство этического и эстетического, что проявляется в существовании слов типа пошлость, пошлый – ‘низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении’ и ‘неоригинальный, надоевший, избитый, банальный’. «Пошлость» – понятие синкретическое, включает в себя банальность, сексуальную непристойность, дурной вкус, отсутствие духовности. В. Набоков считал, что только русские способны были придумать понятие «пошлость», в котором этическое соединяется с эстетическим, слово, которое соотносится и с художественной тривиальностью, и с отсутствием духовности, и с непристойностью [Знание – сила. 1996. № 1. С. 23].
Этнически специфично отражение в языке символических действий. Ранее уже обращалось внимание на то, что трудно найти какой-либо другой язык, в котором было бы такое разнообразие «плевков», как в русском, о чем свидетельствует глагольный ряд: плюнуть, сплюнуть, плевать, наплевать, расплеваться, отплевываться и др. Подобные глаголы называют не только «материальный» акт: можно расплевываться, наплевать в душу, переплюнуть кого-либо ‘превзойти’, плевать в потолок ‘ничего не делать’, наплевательски относиться к своим обязанностям. Употребительны русские существительные наплевательство, наплевизм. Да плюнь ты..! – советуют человеку, если он кажется чрезмерно озабоченным какими-то трудностями. В английских эквивалентах типа: I spit at it //I spit (up) on this; I don’t care; Take it easy! – выражено скорее презрение, чем безразличие, столь отчетливо проступающее в русских выражениях Наплевать..! Плевать..! А я плевал..! Плевать я хотел..! Русские фразы образнее: говорящий не хочет думать и не хочет делать – безразличие и ничегонеделание. Английские выражения советуют избавиться от отрицательных эмоций, но не предлагают предаваться безделью. В русском Плевать! зафиксирована жизненная позиция: отринуть «житейскую суету», подняться до подлинно философского отношения к действительности. «В других языках тоже есть выражения, указывающие на безразличие, там тоже даются советы не расстраиваться по пустякам или отказаться от бесплодных усилий изменить ход дела. Но именно в русском языке все эти идеи сконцентрированы в одном слове плевать» [Булыгина, Шмелёв 1997: 521–522].
«Словарь культурно непереводимых слов» достаточно широк. Так, Р. Якобсон утверждал, что культурный подтекст русского слова быт (повседневная суета, повседневная рутина и т. п.) перевести на другой язык в принципе невозможно. Соборность – идеал духовной общности как альтернатива частной, личной жизни. Слово сострадание на Западе не понимают, ибо совместно можно переживать только страсть, а не боль и страдание. Культурно непереводимы слова типа privacy ‘личный мир, частная жизнь’ self я; ‘эго’ mentality ‘менталитет’ identify 'идентичность, самобытность’. Не переводится крылатая фраза Ильфа и Петрова «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Одно из своих публичных выступлений замечательный испанский поэт Гарсия Лорка посвятил слову duende, которое не только нельзя перевести на другие языки, но даже невозможно истолковать в испаноязычной аудитории, хотя каждый житель страны Сервантеса это понятие ощущает, как говорится, нутром [Лорка 1986].
Заимствованное слово, попадая в силовое поле новой ментальности, может изменить свой смысл. Так, популярное ныне слово мафиозность итальянского происхождения, но на русской почве синонимы к нему не покрывают богатства русской семантики, привившейся к итальянскому корню. Это не «коррупция», ибо коррупция ассоциируется только с верхними эшелонами власти. Это не «групповщина» – нечто явное, видимое. Мафиозность – тайная принадлежность к какому-то клану, о котором ни сам человек, ни окружающие могут вообще ничего не знать. Это не «социальная группа», потому что мафиозность – прихотливая скрытая связь. Современный русский человек усвоил это слово не понятийно, а как некий жизненный опыт [Знание – сила. 1993. № 12: 2]. Мафия некоторыми воспринимается как иноязычный синоним русской нечистой силе, но если нечистой силе противостоит крестная сила, то что противостоит мафии – чему-то внешне бесконтрольному и чуждому, иррациональному и опасному?
Ментальность и грамматический строй
Как показала Анна Вежбицкая в работе «Русский язык», сравнивая английский и русский языки, этническая ментальность ярко отражается и в словарном составе языка, и в его грамматическом строе. Англо-саксонской культуре свойственно неодобрительное отношение к ничем не сдерживаемому словесному потоку чувств, англичане с подозрением относятся к эмоциям, в то время как русская ментальность считает вербальное выражение эмоций одной из основных функций человеческой речи.
Эмоциональность русских обусловила большое количество глаголов, называющих эмоции, – радоваться, тосковать> скучать, грустить, волноваться, беспокоиться, огорчаться, хандрить, унывать, гордиться, ужасаться, стыдиться, любоваться, восхищаться, ликовать, злиться, гневаться, тревожиться, возмущаться, негодовать, томиться, нервничать, – которые, как считает А. Вежбицкая, почти не переводимы на другие языки, в том числе на английский, в котором эмоции называются прилагательными и псевдопричастиями типа sad, pleased, angry. Русские глаголы выражают эмоции более энергично, чем английские прилагательные. Частый в русских глаголах эмоций постфикс – ся создает впечатление, что эмоции возникают не под действием внешних причин, а сами по себе. Человек как бы попадает во власть эмоций: – Часто предается унынию; Не отдаваться чувству досады.
«Эмоциональная температура текста» у русских весьма высока, гораздо выше, чем у английского текста, и выше, чем в других славянских языках [Вежбицкая 1997: 55). «Температура» создается обилием уменьшительно-ласкательных форм» диминутивов, реальное экспрессивное значение которых описать крайне сложно. «…Нам не остается ничего иного, как ввести в толкование прилагательного представление о неопределенном свободно плавающем 'хорошем чувстве’, не обязательно направленном на человека или вещь» [Вежбицкая 1997: 54].
Давно уже отмечено, что русский язык с его богатейшей системой суффиксов идеально приспособлен для выражения огромного спектра разнообразных эмоциональных отношений: вор, во-ришка, ворюга, ветрище, шоферюга, доходяга> малявка и т. п.
Анна Вежбицкая высказывает интересные суждения о семантике и функционировании суффикса – ушк-, который используется в названиях взрослых (дедушка, бабушка, тетушка), и суффикса —еньк, не применимого в отношении к старым людям. В суффиксе – ушк– исследовательница ощущает чувство жалости, сочувствия: Николенька Ростов – благополучный мальчик, а Николушка – сирота. Наличие в русском фольклоре слов, называющих абстрактные экзистенциальные понятия, – горюшко, волюшка, работушка, смертушка, думушка, заботушка, силушка, долюшка — обусловлено этим чувством. В этом случае суффиксы – еньк- или – очк- не употребляются.
В русской ментальности исключительно важную роль играет степень интимности личных отношений, что обусловливает экспрессивную деривацию русских имен: Катя, Катенька, Катюша, Катька, Катюха, Катюшенька. Если в английской культурной традиции диминутивы у личных имен единичны и оканчиваются на согласный (Тот, Tim, Rod), то русские мужские имена приобретают «женское» окончание (Володя, Митя). Исключение – сравнительно молодое, возникшее не без влияния западной традиции, – Влад (от Владислав).
А. Вежбицкая обратила внимание на то, что «русская грамматика изобилует конструкциями, в которых действительный мир предстает как противопоставленный человеческим желаниям и волевым устремлениям или как, по крайней мере, независимый от них. В английском языке таких единиц крайне мало, если вообще есть. Зато в английской грамматике имеется большое число конструкций, где каузация положительно связана с человеческой волей» [Вежбицкая 1997: 70–71]. Не succeded ‘Он преуспел <в этом>’, Не failed ‘Он не преуспел <в этом>’ – часть ответственности на субъекте. Ему это удалось, Ему это не удалось – субъект свободен от ответственности за конечный результат. Я должен – необходимость, признаваемая самим субъектом и внутренне им осознаваемая. Мне нужно, Мне надо, Мне необходимо – необходимость, навязанная субъекту извне. Красноречив заголовок одной из статей А. Солженицына «Как нам обустроить Россию».
В русском языке частотны конструкции, в которых субъект выражен дательным падежом существительного, – дативы: – Он завидовал \ Ему было завидно, – Он мучился \ Ему было мучительно… Дативная конструкция говорит о том, что данное чувство не находится под контролем человека. По мнению А. Вежбицкой, фразы – Ему было хорошо \ прекрасно \ холодно – не перевести на английский язык, как и строки из Есенина: Пастушонку Пете Трудно жить на свете.
Инфинитивные конструкции без модальных слов – характерная особенность русского языка: – Не бывать Игорю на Руси святой; – Все уже говорят, что вместе нам не жить! – Ни пройти, ни проехать (Чехов); Не догнать тебе бешеной тройки (Некрасов).
Как полагает А. Вежбицкая, русские очень часто рассказывают о событиях своей ментальной жизни, подразумевая при этом, что эти события просто «случаются» в их умах и что они не несут за них ответственности: Мне сегодня не читается; – Писалось тебе? – Чудесно писалось (Вересаев). По этой причине чрезвычайно частотен русский глагол хочется (в «Частотном словаре русского языка» его индекс 247 против английского desire — индекс 41). В английском языке нет точного соответствия выражению Мне ужасно хочется. Feels like не адекватно. Глагол хочется передает неопределенное желание чего-то как бы управляемого извне некоей силой (Вежбицкая 1997: 70); Сердцу хочется любви.
Обилие безличных предложений в русском языке – рефлекс некоей иррациональности как элемента русской ментальности: Его переехало трамваем; Его убило молнией. Весьма конкретные трамвай и молния предстают как орудие какой-то неведомой силы, направленной против человека. Люди в этом случае не контролируют события и представляют их не полностью постижимыми. «…Неуклонный рост и распространение в русском языке безличных конструкций отвечали особой ориентации русского семантического универсума и в конечном счете русской культуры» [Вежбицкая 1997: 75].
Моральные суждения – тоже заметная черта русской ментальности. При этом и положительные, и отрицательные оценки, как правило, весьма категоричны и зачастую гиперболизированы. Русское прекрасный — выражение «морального восторга» [Вежбицкая 1997: 84].
Замечено, что в славянских языках вспомогательный глагол «есть» играет значительно меньшую роль, чем, например, в романских и германских. Это объясняется тем, что проблема существования, и в первую очередь проблема реальности, в славянских языках не выражена так остро, как в романских и германских языках [ФЭС 1998: 556).
Полагают, что особая роль в трансляции культурно-национального самосознания, в стереотипизации его мировоззрения принадлежит синтаксическому ярусу языка. Используя методику валентного сопоставления, можно выявить этнокультурный компонент семантики глаголов-предикатов с отличным от других близкородственных языков управлением, которое, по мнению некоторых исследователей, отражает специфику восприятия и организации картины мира в сознании носителей языка. Так, сравнивая конструкции с управлением в русском и белорусском языках – издеваться, насмехаться, смеяться + над + твор. пад. и смеяцца з кого; жениться на ком и жанiцца з кiм — автор одной из публикаций делает вывод о том, что в русском языке якобы выражается явное превосходство над объектом-лицом, явно проступает оттенок преобладания, подчеркивающий роль мужчины в обществе, что не соответствует толерантному мышлению белорусов [Чумак 2001].
Петрозаводский профессор З.К. Тарланов вступил в полемику с «оригинально задуманными исследованиями А. Вежбицкой», поскольку, по его мнению, предложенные в них «интересные и остроумные» решения не соотнесены ни с историей самих интерпретируемых фактов, ни с историей языка, что не могло не сказаться на характере общих выводов [Тарланов 1998].
Во-первых, З.К. Тарланов подвергает сомнению правомерность вывода А. Вежбицкой о том, что особенности русского национального характера раскрываются и отражаются в трех уникальных понятиях русской культуры – душе, судьбе и тоске. Исходный тезис профессора сформулирован так: «Считая приведенные суждения А. Вежбицкой вполне занимательными, а в чем-то, пусть и априорно, не лишенными действительной почвы, нельзя не обратить внимания на их очевидную детерминированность факторами идеологического порядка в широком смысле слова» [Тарланов 1998: 66]. По подсчетам российского ученого, в крупнейшей коллекции русских пословиц и поговорок, собранных и тематически распределенных В.И. Далем, среди 180 сем на тему «судьба – терпение – надежда» приходится 157 пословично-поговорных формул из более чем 30 тысяч, а темы «душа» и «тоска» отдельно вообще не выделены [Тарланов 1998: 73].
Во-вторых, З.К. Тарланов ставит под сомнение исходное положение А. Вежбицкой о том, что русский синтаксис свидетельствует о природной склонности русских к пассивности и фатализму, антирационализму, склонности к моральным суждениям, неконтролируемости о том, что богатство и разнообразие безличных конструкций в русском языке – свидетельство преобладающей русской культурной традиции рассматривать мир как совокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю, ни человеческому уразумению. Сомнительно, на его взгляд, само сопоставление синтаксиса двух – русского и английского – языков без учета того обстоятельства, что синтаксис изначально обусловлен морфологией и лексикой. Как, – спрашивает З.К. Тарланов, – в английском языке могут быть дативные конструкции, если в нем вообще не представлен датив в морфологии?
Для А. Вежбицкой наличие и даже преобладание пациентистских конструкций с дательным падежом субъекта – результат феноменологизма (субъективности, импрессионизма) русского языка. Для начала З. К. Тарланов приводит статистическую справку: «…В таком показательном для оценки ментальных представлений народа жанре словесной культуры, как пословица, на долю безличных («пациентивных») предложений приходится 15 % всех русских пословичных формул в записях XVII–XX вв. В то же время пословичные формулы, составленные по модели агентивных предложений, в два с лишним раза превышают количество первых» [Тарланов 1998: 68].
Далее З.К. Тарланов сравнивает исторический путь развития русского и английского безличного предложения и начинает с констатации того факта, что английский синтаксис, как и синтаксис других западноевропейских языков, беднее русского. В нем нет полных эквивалентов русским безличным предложениям, инфинитивным, номинативным, двусоставным несогласованным и др, З.К. Тарланов напоминает, что степень совершенства языка определяется мерой его способности точно соответствовать бесконечно сложному миру изображаемых и выражаемых им предметов, событий, признаков, понятий, представлений, а также субъективно оцениваемых модусов их проявлений, что языковые структуры не могут не быть скоординированными с изменчивым мировосприятием человека, с поступательным характером его познавательного опыта. Отсюда делается вывод, что более совершенен тот язык, который разные события выражает по-разному (Тарланов 1998: 70].
По мнению Тарланова, язык развивается в направлении все возрастающего объективирования заключенного в нем содержания. Специфическим и структурно существенным результатом действия тенденции к объективированию являются безличные предложения, получившие в русском языке широкое распространение. Английская конструкция безличного предложения тина («Холодно) It is cold или Меня тошнит (Iʼm sick) исторически отстает от русской, оставаясь ориентированной на архаическое языковое состояние, т. е. на субъективность. Она, продолжает Тарланов, лишена того объективирования, абсолютизации, обобщения, которые составляют синтаксическую суть и придают маневренность соответствующей русской [Тарланов 1998: 72].
О синтаксисе одного языка нельзя судить с точки зрения синтаксиса другого языка, не учитывая ни исторических процессов в языках, ни важнейших тенденций, обусловливающих языковые процессы. Чтобы характеризовать ментальные представления народов и их культурные традиции по языковым свидетельствам, следует синхронизировать соответствующие процессы в сопоставляемых языках. Преобладающее начало в русской культурной традиции – безграничная широта, делающая эти традиции открытой, лояльной, адаптируемой, протеистической по отношению к иноэтническим традициям. Об этом и свидетельствует типология русского предложения.
Аргументы З.К. Тарланова, основанные на статистических и лингвогенетических данных, на первый взгляд, кажутся убедительными, однако у А. Вежбицкой и ее сторонников возможен вполне правомочный вопрос, почему синтаксис русского и английского языков развивается так несимметрично. Может быть, особенности ментальности каким-то непостижимым образом через сферу бессознательного, которое, кстати, по мнению Ж. Лакана, структурировано как язык, предопределяют и линии развития, и темпы, и предпочтительность тех или иных синтаксических структур.
Анализ так называемых скрытых семантических категорий показывает, что они являются специфическими регулятивами поведения и восприятия, формирующими языковую подоснову этнической картины мира, а потому требуют учета в антропологических, этносоциальных, политологических исследованиях и в соответствующих им практиках. Т.И. Стексова в работе “Невольность осуществления" как скрытая семантическая категория и ее проявление» (Новосибирск, 1998) показала, что эта категория связана со значимой для русского менталитета категорией неконтролируемости, которая А. Вежбицкой была проинтерпретирована как реализация иррациональности и отсутствия ответственности за событие, свойственное русскому национальному характеру Имеется в виду синтаксическая модель с семантикой ʽсобытие, осуществляемое независимо от воли субъекта’ типа Мне только что довелось быть в Нидерландах. В состав конструктивных типов, выражающих невольность осуществления, помимо указанной конструкции, автор включает глаголы с семантикой невольности типа проболтаться, оступиться, структуры с лексическими показателями невольности – невольно, непроизвольно, нечаянно, случайно, ненароком. Относятся сюда и случаи использования партитивов – частей тела человека в качестве субъекта действия (ноги не держат, кровь бросилась в голову), имени события (бешенство помутило рассудок), появления мнимых субъектов – условных (бес попутал, черт дернул) или неопределенных (что-то заставило его сдержаться) сил. Исследовательница показывает, что для русской языковой картины мира характерно наличие таких субъектов, которые способны действовать самостоятельно, не подчиняясь человеческому разуму и воле (бес, черт, кровь, бешенство и т. п.), безличных моделей, демонстрирующих таинственность силы, ответственной за событие (подмывает, тянет). Языкова я имитация невольности позволяет снизить уровень ответственности за действие не только в лингвистическом (отсутствие контроля), но и в житейском и даже в юридическом смысле. Из этого следует, что языковая картина мира является скрытым регулятивом поведения и через развитие соответствующего концепта формирует культурно-национальный стереотип [Ким 1999: 14–15]
Связь языка и этнической ментальности остро ощущают мастера слова. «Разница языка говорит о различии психологического склада. Известно, что русский язык более расположен к передаче психологического состояния, он непереводим и незаменим в пейзаже-настроении, в то время как английский более подходит к чувственным описаниям, экономен в передаче действия, так же, как и юмора. Музыка Достоевского может быть переведена на другой язык, но родиться она могла только на русском» (А. Вознесенский).
В статье «Испанский язык и национальный характер испанцев (пример видения мира)» рассматривается фразеология, связанная с корридой и демонстрирующая, насколько велико влияние этого типично испанского феномена на формирование испанского национального характера, менталитета испанцев. В современном испанском языке сотни фразеологизмов построены именно на метафоре корриды и не могут быть истолкованы вне данного метафорического пространства. Современная литература, масс-культура, публицистика постоянно порождают новые речения, которые построены на аллюзиях, связанных с миром тавромахии. Иными словами, коррида представляется как своего рода матрица для структурирования опыта и отображения его языковыми средствами [Вопросы языкознания. 2000. № 5. С. 135].
Тонкая связь языка и ментальности обнаруживается при выборе и пользовании языком. По наблюдениям востоковеда В.М. Алпатова, в Японии принято считать, что английский язык и англоязычность общества обеспечивают преимущества там, где важна индивидуальность, особенно в науке и технике, зато там, где дело касается взаимоотношений людей (от экономики до воспитания детей), обладание уникальным японским языком дает его носителям преимущества, даже превосходство [Алпатов 1994: 180].
Рекомендуемая литература
1. Булыгина Т.В., Шмелёв А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.
Раздел III Аккумулирующее свойство слова
«Москва… как много в этом звуке
для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!»
Пушкин. Евгений Онегин, XXXVIСлово, по убеждению многих, – не только устройство для передачи информации, но и инструмент мысли и аккумулятор культуры. Способность аккумулировать в себе культурные смыслы – свойство живого языка. Ф.И. Буслаев процесс аккумуляции представлял себе следующим образом: один и тот же герой в продолжение столетий действует в различных народных событиях и тем определяет свой национальный характер. Так и язык, многие века применяясь к самым разнообразным потребностям, становится сокровищницей всей нашей прошедшей жизни [Буслаев 1992: 271]. «Жизнь языка открыта всем, каждый говорит, участвует в движении языка, и каждое сказанное слово оставляет на нём свежую борозду» [Мандельштам 1987: 179].
С какой-то странной силой Владеют нами слова, И звук немилый, иль милый, Как будто романа глава. «Маркиза» – пара в боскете И праздник ночной кругом. «Левкои» – в вечернем свете На Ниле приютный дом. Когда назовут вам волка — Сугробы, сумерки, зверь. Но слово одно: «треуголка» Владеет мною теперь. Конечно, тридцатые годы, И дальше: Пушкин, лицей… (М. Кузмин. С какой-то странной силой)Возникает вопрос о механизме накопления и сохранения культурной информации в слове. Специалисты по проблеме «Язык и культура» говорят о двух уровнях проявления культурного фона в лексике.
Первый уровень – отражение в лексическом и фразеологическом составе языка и в отдельном слове специфики материальной культуры. Этот уровень изучен и описан основательно. Например, у индоевропейцев, которые не употребляли молока, и корова, и бык лексически не различались и назывались говядо. Отсюда название их мяса – говядина. Глаголы откупорить, закупорить и производные от них сохранили память о том времени, когда всё жидкое и сыпучее хранилось в многочисленных бочках, нуждавшихся в особом специалисте – купаре ‘тот, кто затыкает, заделывает щели в бочках, бондарь. Ср.: англ. cooper’ [СлРЯ XI–XVII вв.: 8: 125]. Необходимость в бочках резко уменьшилась, исчезла потребность в купаре, но глаголы с корнем – купор– (и соответствующим нормативным ударением!) сохранились как вечный памятник ушедшей в истории профессии. В глаголе насолить ‘повредить, причинить неприятность’ закрепилась память о колдовском приеме разбрасывания соли с целью наслать болезнь, порчу.
Фразеологизм перемывать косточки сохранил память о древнем обряде перезахоронения с омовением костей покойника, знавшегося с нечистой силой. Фразеологизмы как сочетания минимум двух знаменательных слов справедливо считаются самыми «представительными» единицами культурологии, поскольку, по общему признанию, фразеологические единицы одновременно выполняют роль языковых и культурных знаков. В них наличествуют следы предшествующих культур – обычаи и традиции, исторические события и элементы быта. Эти следы выявляются в ходе анализа внутренней формы идиомы [Зимин 2000: 144].
Второй уровень проявления культурного фона в лексике – воздействие на язык и лексику, в частности, собственно мировое зренческого фактора. Оказывается, что выяснение путей и форм включения культурного фактора в ход исторического развития языка далеко от завершения [Черепанова 1995:137]. В последнее время обсуждается вопрос о наличии особой «культурной памяти» слова. Этому посвящена статья Е.С. Яковлевой «О понятии “культурная память" в применении к семантике слова» [Яковлева 1998], в которой говорится о методе «культурно-исторической диагностики», позволяющем увидеть результаты сопряжения языкового и культурного в слове. Автор полагает, что сем антическая эволюция является результатом действия культурной памяти и показывает это на большом фактическом материале.
«Узелками» культурной памяти могут быть синонимы. Так, в русском языке работа и труд – синонимы, различие которых обусловлено «памятью» слов о том, что вкладывали люди в их содержание когда-то давным-давно. Сейчас существительное труд связано с понятием «усилие», а работа — с понятием «производство самого дела», а раньше труд обозначал бедствие, болезнь, страдания, поэтому труд связан с одушевленными субъектами, а работа – с субъектами одушевленными и неодушевленными. Корень существительного работа напоминает, что оно связано и с понятием «рабство». Кстати, из сравнения синонимов и родилось представление о коннотации, когда Э.Дж, Уотли написала «Selection of Synonyms» (1851), где, в частности, сравнивала righteous ‘праведный’ и just ‘справедливый': в первом синониме отразилась этика поведения на принципах религии, а во втором – высоко моральное поведение.
Культурной памятью объясняется семантическая эволюция, при которой слово чаще всего движется от конкретного к абстрактному. Детище первоначально обозначало «дитя», а сейчас ‘плод творческой, интеллектуальной, ментальной деятельности’. Свергнути начиналось со значения ‘скинуть’ (свергнути порты ‘снять штаны’), которое утратило и приобрело значение ‘силой лишить власти, могущества, низложить’ [MAC: 4: 40]. Обрести ‘найти’ сейчас означает ‘судьбозначимость «предмета речи»’. Однако слово в своей эволюции может проделать и путь от широкого, абстрактного к конкретному, частному. Глагол идти в древнерусском языке, как и в английском языке, прилагался и к ползущим, и к летящим, и к плывущим объектам. Существительное жир обозначало ‘богатство, обилие, избыток’, сейчас это ‘нерастворимое в воде маслянистое вещество, содержащееся в животных и растительных тканях’ [MAC: 1: 486].
Русский язык отразил отличие христианского взгляда от языческого. Так, не-христианское реализовано в «языческих» лексемах: вьлшьба ‘колдовство, чародейство’, гульный ‘волшебный’ кобь ‘гадание по птичьему помету’, кобление ‘то же’, любьжа ‘приворот‘, обаяньник ‘чародей, волхв’ [Черепанова 1995:139].
Противопоставление «христианское/языческое» выразилось в наличии двух, этимологически восходящих к одному индоевропейскому источнику, корней: куд– (кудесьник) как элемент языческого представления и чуд– (чудо, чудодеяние, чудьный) – христианского мироощущения [Черепанова 1995:140]. «Языческим» является суффикс – ище-: церквище ‘нехристианский храм’, требище ‘жертвенник у нехристиан’ (у христиан – требник), капище ‘языческий идол, место языческого служения’ (христианское капь ‘образ’). Отсюда отрицательная коннотация у слов необрядового характера с суффиксом – ищ– (игрище, гульбище, идолище) [Черепанова 1995:140].
Эволюция некоторых русских слов происходила под воздействием Священного Писания. Существительное риза обозначало одежду вообще, но позже выработало значение ‘верхнее облачение священника при богослужении' [MAC: 3:717]. Роман В. Дудинцева логичнее было бы назвать «Белые ризы», а не «Белые одежды». Под влиянием Библии глагол вожделеть приобретает отрицательный оттенок. Глагол искусить первоначально означал ‘испытать, получить опыт’ (искусный мастер), но Библия осудила факт искушения. Глагол преобразить ‘изменить’ приобрел сему ‘улучшить’, поэтому сейчас можно сказать изменить к лучшему, но нельзя говорить преобразить к лучшему. Глагол ведать ‘знать вообще’ сейчас не сочетается с именами «негативного» субъекта. В истории русского языка (ив русской ментальности) изменилось соотношение синонимических глаголов ведать и знать. Ведать можно было только с помощью органов чувств, а знать – это чистое знание, возможно, сверхъестественное. Ведун, ведьма – это отрицательная оценка, а знахарь – положительная. Интересно, что в новгородских берестяных грамотах, отразивших бытовую жизнь горожан, наличествует только глагол ведать. Сравнивая глаголы верить и веровать, обнаруживаем у последнего сакральный смысл. Существительное неприязнь в древнерусском и церковнославянском языках – одно из названий дьявола.
Обмирщение русского языка, связанное с секуляризацией общественной жизни, привело к тому, что «отрицательные», с точки зрения Библии, слова приобретали положительный смысл. Это очаровать, обаять, прельстить, обворожительный, чары, обожать. Восхищение первоначально означало ‘похищение’, пленительный — ‘берущий в плен’; исчезает отрицательная оценка из слов гордиться, гордость, страсть ‘страх, страдание’.
Сочетаемостные возможности слова – тоже своеобразное свойство «культурной памяти». Почему можно сказать Взоры Европы обращены к России, но нельзя * Взгляды Европы…? Известно, что слова очи, уста, взор исконно означали ‘мысленное восприятие’. Отсюда мысленный взор, но нельзя * мысленный взгляд. Друг в русском языке может быть близкий, лучший, закадычный, задушевный, настоящий, а вот знакомый, приятель не могут определяться прилагательными настоящий, надежный, задушевный, истинный. Русская ментальность этого не допустит.
Связь языка и культуры рождает коннотацию слова. Коннотация – это несущественные, но устойчивые признаки выражаемого лексемой понятия, воплощающие принятую в обществе оценку соответствующего предмета или факта, отражающие связанные со словом культурные представления и традиции. Не входя непосредственно в лексическое значение и не являясь следствиями из него, эти признаки объективно обнаруживают себя в языке, получая закрепление в переносных значениях, привычных метафорах и сравнениях, фраземах, полусвободных сочетаниях, производных словах (формулировка Ю.Д. Апресяна цит. по: [Кобозева 1995:102–103]). Понятие о коннотации впервые возникло в английской лексикографии в середине XIX в.
К числу объективных проявлений коннотаций относят те, которые обычно не фиксируются словарями, но регулярно воспроизводятся в процессе порождения и интерпретации высказывания сданной лексемой или ее производной [Кобозева 1995:103]. Различают шесть типов коннотации, или со-значений: 1) изобразительное (представление); 2) эмоционально-чувственное;
3) культурно-цивилизационное; 4) тематическое (семантическое поле); 5) информативное (уровень знания); 6) мировоззренческое [Комлев 1992].
Полагают, что «своя побочная чувственная окраска» присутствует у большинства слов и у большинства элементов сознания. По крайней мере, к основным разрядам коннотированной лексики относят термины родства, эоонимы, соматизмы, названия природных объектов и явлений, физических действий, цветообозначения – все, что можно воспринять пятью органами чувств. Окраска эта кажется слабой, но она реальна. Спорят только о том, присуща ли эта чувственная окраска самому слову, т. е. входит ли она в семантическую структуру слова, или это только психологический нарост на теле слова, его концептуальном ядре. Г.Г. Шпет полагал, что объективная структура слова, как атмосферою земля, окутывается субъективно-персональным, биографическим, авторским дыханием (Шпет 1989:464]. «Уже само слово “даль” имеет в западной лирике всех языков грустный осенний оттенок», – заметил известный философ и культуролог [Шпенглер 1993:326].
С одной стороны, коннотациями называют добавочные (модальные, оценочные и эмоционально-экспрессивные) элементы лексических значений, включаемые непосредственно в толкование слова; с другой стороны, о коннотациях говорят тогда, когда имеют в виду узаконенную в данной среде оценку вещи или иного объекта действительности, обозначаемого данным словом, не входящую непосредственно в лексическое значение слова [Апресян 1992: 46–47]. Языковым проявлением коннотации считают переносные значения (свинья, ворона, пасынок), метафоры и сравнения (напиться как свинья), производные слова (свинушник, холостяцкий), фразеологические единицы, поговорки, пословицы (подложить свинью), синтаксические конструкции типа «X есть X» (женщина есть женщина).
У одного и того же концепта в разных культурах и языках могут быть разные коннотации: «крыса» – англ. Rat 'предатель; доносчик, шпион’; фр. rat ‘скупой человек, скряга’; нем. Ratte ‘с увлечением работающий человек’; рус крыса ‘ничтожный, приниженный службой человек’ [Комлев 1992:52]. Отмечены специфические коннотации цветообозначений в разных этнических культурах. Например, белый в США – «чистота», во Франции – «нейтральность», в Египте – «радость», в Индии – «смерть», в Китае – «смерть; чистота». Л.В. Щерба отмечал национальную специфику в русском слове вода и во французском слове eau. Для русских слово вода ‘лишена содержания’ и ‘бесполезна в пищевом отношении’, а у французов – содержит семы ‘отвар’ и ‘пищевая полезность’.
Коннотация может быть положительной и отрицательной. Слово варяг в переносном значении ‘работник со стороны’ сохранило отрицательную коннотацию. У слов идол и кумир равные исходные позиции, но разные культурно обусловленные коннотации их существенно разводят: идол ‘о ком-нибудь бестолковом и бесчувственном’, кумир ‘нейтральная и положительная окраска’ [Черепанова 1995:145]. «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе» (С.Я. Маршак) – поэтически точное определение отрицательной коннотации слова, выступающего в функции общественно-политического термина.
Проявляется положительный или отрицательный знак коннотации прежде всего в связях слов. В выражении с немецкой аккуратностью слово немецкий окрашено положительно. Есть определения, которые стали универсальными характеристиками высокого качества предмета или явления: швейцарский банк, немецкая машина, русский писатель. «Русская фамилия в литературе – мировой знак качества». Это мнение писателя и переводчика О. Цыбенко [Книжное обозрение. 2002. № 27–28. С. 18].
Достаточно соединить слова крайне и хороший, как почувствуем, что в слове крайне наличествует отрицательная оценка. То же можно почувствовать и в шутливом обращении: «Я вас категорически приветствую!» У слова нарочно чувствуют обвинительную, а у слова нечаянно оправдательную коннотацию [Левинтон 1996: 56]. У слова рок отрицательная коннотация, поэтому можно сказать злой рок» но нельзя – * добрый рок. Коннотация может менять свой знак на противоположный без каких-либо явных причин. Так, по наблюдениям акад. О.Н. Трубачева, слова дубина и орясина раньше характеризовали человека с положительной стороны. Менялась коннотация слова благодушие. В начале XX в. это слово не носило того уничижительного оттенка попустительства и самоуспокоенности, который появился в конце 30-х годов в связи с противопоставлением (в «Кратком курсе ВКП (б)») «благодушия» и «большевистской революционной бдительности». В словаре Даля: «милосердие, расположение к общему делу, добру; доблесть, мужество, самоотвержение» [Николюкин 2001: 50–51]. Современные СМИ предлагают лишить слово мент негативного значения и использовать его как общеупотребительное, «народное» обозначение сотрудников структур МВД [Книжное обозрение. 2002. № 51. С. 5].
Коннотация капризна и непредсказуема. У содержательно равноценных слов оценка может быть различной. Ср.: осел – ишак, шесть – теща, отчим – мачеха, свинья – боров, коза – козел, собачьи глаза – собака на сене и т. д. В конце XX в. в русский речевой обиход вошло слово ваучер ‘контрольный талон, дающий право его обладателю на получение чего-то’, например, образовательный ваучер. Слово «ваучер» произошло от фамилии Джона Ваучера, британского мошенника, жившего в XVIII в. и повешенного за свои деяния. Слово ваучер в России 1992 г. стало употребительным, но в связи с несправедливостью массовой приватизации государственной собственности приобрело отрицательную коннотацию.
Коннотация зависит от звукового облика слова. Фонетически мотивированные слова («слова, звучание которых соответствует их значению») обладают ярко выраженным конкотативным значением по сравнению со словами, звучание которых не соответствует их значению [Левицкий 1994:30].
Помимо коннотации языковой, которую в той или иной степени чувствуют носители того или иного языка, есть и коннотация индивидуальная, личная. Её чувствовал один из персонажей романа Ф.М. Достоевского «Бесы»: «Он, например, чрезвычайно любил своё положение «гонимого» и, так сказать, «ссыльного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, возвышая его потом постепенно в собственном мнении…» [Достоевский 1982:5–6]. Вот свидетельство писателя Ю.М. Нагибина: «Недаром же слово ‘кривичи’ с детства пробуждало во мне ощущение опрятности, образ белых одежд, кленовых свежих лаптей, много мёда и лебедей в синем небе» [Нагибин 1996:168].
Истоки коннотации видят в истории и культуре этноса. Это убедительно показано на примере двух прилагательных – нагой и голый в русском и английском языках. Нагота – прекрасна и благородна, оголенность – неприлична и постыдна. Обнаженными бывают богини и нимфы, юноша и девушка, натурщица и спортсменка, голыми – бабы и девки, проститутка и грешница. Даже король голый. Нагота, по мнению одного английского искусствоведа, обладает эстетической броней, защищающей её от насмешки и делающей её неуязвимой. Голые такой брони не имеют и потому заслуживают осмеяния или жалости. В основе противопоставления прилагательных – две традиции западноевропейской цивилизации: традиция античного мира и традиция иудео-христианская. Первая из них дала нам красоту тела, вторая – красоту духа. Христианство противопоставляет дух плоти и подчеркивает греховность и бренность всего телесного [Голлербах 1995: 188]. Вспомним, как философ описывает картину Тициана «Вакханалия»: «На вершине холма загорает голый старик, а на переднем плане обнажённая белотелая Ариадна потягивается, одолеваемая дрёмой» [Отрега-и-Гассет 1991: 86}. См. также: [Ширшов 1998]. Критерием стилевой глухоты считается неразличение слов нагая и голая [Григорьев 1995: 226).
Во многих случаях можно говорить об этимологической памяти слова. В предложениях: Иван – его правая рука или встать с левой ноги, писать левой рукой, левые заработки – сохранилось древнее оценочное противопоставление «правый» ‘основной, хороший, честный, надежный' – «левому» с полярной, резко отрицательной, оценкой.
О коннотации недавно весьма употребительного русского слова совок рассуждает русский поэт Б. Чичибабин: «Есть слова, звучание которых неприятно, омерзительно, страшно, – липкие, мохнатые, склизкие. Раньше их не было хотя бы в книгах, сейчас они полезли и в книги, и в стихи. Недавно появилось слово «совок». Безграмотное, идиотское слово – «совок», вероятно, означающее «советский», в смысле «глупый, нелепый, абсурдный». Я не знаю, кто его придумал, – наверное, невежда, дурак, завистливый и злобный раб, который никак не может перестать быть дураком и рабом и которому хочется, чтобы и все кругом были такие же дураки и рабы, как он сам. Вот он и пустил в обиход это слово «совок», называя им всех нас, живших в те годы, при Сталине, при Брежневе, в 60-е» [Чичибабин 1995: 447].
Словарь, корневые слова языка, само наличие или отсутствие тех или иных слов, свидетельствует о том, какие предметы были самыми важными для народа в период формирования языка, о чем думает народ, синтаксис – как: думает, а коннотация слов – о том, как он оценивает предмет мысли. Язык – самый честный и памятливый свидетель истории и культуры народа. «То, что говорит язык, казалось интереснее того, что говорит на языке человек» [Арутюнова 1995: 33]. Культурная память в слове предопределяет удивительную силу слова. «У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стран. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории» [Мандельштам 1987: 63].
Проблема аккумулятивности слова связана со многими фундаментальными вопросами когнитологии, лингвистики, культуроведения, искусствознания и философии. «…Для решения наиболее фундаментальных проблем человеческой культуры знание языковых механизмов и понимание процесса исторического развития языка, несомненно, становятся тем более важными, чем более изощренными становятся наши исследования в области социального поведения человека. Именно поэтому мы можем считать язык символическим руководством к пониманию культуры» [Сепир 1993: 262]. Язык из monument становится document. «Язык как средство трансляции культуры» (М., 2000) – совместная работа учёных России и Чешской Республики о роли языка в качестве средства распространения духовных ценностей.
Для переводчиков аккумулятивность – тяжелое испытание их мастерства, ибо необходимо не столько найти эквивалент слова в другом языке, но, главное, передать накопленные словом культурные смыслы в другой язык. Когда говорят об экологии языка, то подсознательно думают о возможной утрате небрежно используемым словом своего культурного содержания, обеспечивающего ценность этого слова. Настоящее обучение родному языку – это приобщение к национальной культуре. «…Язык – носитель культуры. В слове же всё явлено. Почему у нас многое не понимают? Потому что языка не знают. Читают переводы, которые сами по себе являются носителями добавочных, побочных смыслов. И поэтому слово по-настоящему не открывается, а за словом стоит целая культура. Вот для этого-то и надо развивать именно классическую филологию, чтобы знать языки, а через них – культуру, на основаниях которой покоятся все западноевропейские цивилизации» [Тахо-Годи 1998: 96].
У аккумулирующего свойства слова имеются важные последствия в форме фундаментальных вопросов, среди которых – слово и этническая принадлежность, слово и художественная литература, а также другие.
1. Слово и этническая принадлежность
Язык в структуре национального самосознания
«Язык есть исповедь народа; в нём слышится его природа, его душа и быт родной» (П. Вяземский). Будучи важнейшим средством общения людей, язык служит необходимым условием этнической общности – исторически возникшего вида социальной группировки людей, представленной племенем, народностью, нацией (от греч. йthnos — племя, народ). «…Этнической общностью в самом широком смысле слова можно считать всякую осознанную культурно-языковую общность, сложившуюся на определенной территории, среди людей, находящихся между собой в реальных социально-экономических отношениях» [Арутюнов, Чебоксаров 1972: 10]. Этнос – это то, что объединяет людей изнутри, культурно и духовно. «Этнические различия, – писал Л. Гумилёв в предисловии к книге Н.С. Трубецкого «История. Культура. Язык» (М., 1995), – не мыслятся, а ощущаются по принципу: «Это мы, а все прочие – иные». Так было и так есть, пока человек остаётся человеком» [Трубецкой 1995: 33]. Идентификационными признаками этноса являются расовая принадлежность, цвет кожи, географическое происхождение, язык, обычаи и религия. Границы этнической идентичности подвижны, динамичны и культурно обусловлены [Орлова 1994: 149].
Известно, что народность формируется как языковая группа. «…Народ и язык один без другого представлен быть не может» (Срезневский 1959:16]. Именно поэтому названия народа и языка совпадают. Полагают, что среди четырёх составляющих национального самосознания – 1) этническое, 2) культурное, 3) языковое и 4) религиозное – доминантным является язык. При этом приводится мнение известного культуролога П.М. Бицилли о том, что народы меняют свои учреждения, свои нравы и обычаи, даже свою религию, своё местожительство, всё – кроме языка [Нерознак 1994:17–18]. «Язык наиболее точно характеризует народ, ибо является объективным духом» [ФЭС 1998:554].
Чрезвычайно важна роль языка в этнических процессах, например, при ассимиляции. Близость языков способствует этническим контактам. Так, ассимиляция англичан и шотландцев в США происходит во втором поколении, в то время как немцы и итальянцы не достигают полной ассимиляции и в третьем поколении.
Существует мнение, что определяющим в этническом самосознании является «стереотип поведения», национальный характер, объединяющий всех представителей данной нации, но не будем забывать, что этот «стереотип поведения» складывается в определенных условиях природы, климата и рельефа местности, на которой зарождается этнос. Он формируется и реализуется в истории и культуре, и существенным элементом «стереотипа поведения» является стереотип речевого поведения. Невозможно представить себе, чтобы стереотип складывался до и вне природы, истории, культуры и языка.
Чувство родного языка и национальное самосознание
Яркий пример проявления этнического характера языка – так называемое чувство родного языка. У всех народов язык тесно связан с национальным чувством и сознанием. В.В. Виноградов писал: «Вопрос о силе и могуществе, выразительности и красоте родного языка в общественном сознании XVI–XVIII вв. стал неотделим от идеи независимости, социально-политического процветания и широкого влияния русского народа. Любовь к родному языку сливалась с любовью к родине. Передовые люди нашей страны горячо боролись за чистоту и величие российского слова, признав его важнейшим фактором национального самосознания, духовного развития нации (например, протопоп Аввакум, Пётр Первый и др.)» [Виноградов 1961: 15].
Обратимся к примерам заботы разных народов о своих родных языках. В 80-х гг. в Перу решили переменить орфографию языка народа кечуа по строго фонемному принципу, в том числе из алфавита изъяли буквы е и о, поскольку соответствующие звуки – лишь аллофоны I и и. Сразу обозначился конфликт между осуществившей реформу столичной испаноязычной элитой Лимы и национальной элитой кечуа, сосредоточенной в г. Куско, центре культуры этого народа. Элита кечуа выступила за традиционную, уже привычную орфографию, и началась «орфографическая война», не закончившаяся до сих пор [Вопросы языкознания. 1997. № 1. С. 136).
Ещё пример. Одна из комиссий Общего рынка» занимающаяся стандартизацией изделий электронной промышленности, рекомендовала впредь выпускать клавиатуру компьютеров и принтеров с латинским шрифтом для всех стран ЕЭС без учёта особенностей испанского алфавита. А в нём, в отличие от других, есть буква «энье» – графическое изображение мягкого носового звука п (п), очень часто встречающегося в испанском языке и придающего ему особую напевность. Всё испанское общество встало в защиту буквы, существующей более 1100 лет. Оказывается, и одна буква, как штрих национальной культуры, способна разбудить вулкан национальных чувств, – удивляются журналисты [Известия. 1991.3 июня: 4].
Привязанность человека к родному языку объясняется и тем, что у каждого народа существуют неповторимые ассоциации образного мышления, обусловленные особым семантическим наполнением каждого слова – культурными смыслами. Они закрепляются в языковой системе и составляют её национальную специфику. Этническое самосознание основывается прежде всего на родном языке. В этом отношении интересен пример с Владимиром Далем. Сын датчанина и немки, он всю сознательную жизнь считал себя русским. «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или иной народности… Кто на каком языке думает, тот к тому народу а\ принадлежит. Я думаю по-русски», – писал создатель знаменитого «Толкового словаря».
Русская писательница серебряного века отечественной литературы Н. Берберова в воспоминаниях о русском писателе и поэте той же поры Вл. Ходасевиче пишет: «…Для меня он, не имеющий в себе ни капли русской крови, есть олицетворение России,, я не знаю никого более связанного с русским ренессансом первой четверти века, чем он…» [Берберова 1990: 504].
«Есть много на Руси русских нерусского происхождения, в душе, однако же, русские» (Гоголь. Мёртвые души. И, 3). Это относится и к лицейскому другу А.С. Пушкина Антону Антоновичу Дельвигу, который, несмотря на немецкое происхождение отца, воспитывался в условиях поклонения православию, русскому языку и традициям. В итоге Дельвиг сформировался как русский поэт и русская языковая личность. Только в лицейские годы благодаря знакомству с В. К. Кюхельбекером Дельвиг приобщился к немецкому языку, литературе и культуре [Жаткин 2000]. Сам В.К. Кюхельбекер – этнический немец, родители чистокровные немцы из Саксонии, на службе в России с 1776 г., – человек русский по языку и культуре.
Утрата народом своего языка приводит к исчезновению этого народа как целого, как этноса. Примером может служить меря, большая угро-финская народность, жившая в центре современной европейской части России. Славяне, продвигавшиеся на северо-восток, селились рядом с мерей, жили с нею в мире, активно сотрудничали. Постепенно меряне освоили русский язык и окончательно перешли на него. Физические признаки мери сохранились в этническом типе русских, но как народ она исчезла, ибо исчез её язык. «Самое ценное и удивительное, что сохранили чуваши до наших дней, самое великое – это язык, песни и вышивка. У чувашей сто тысяч слов, сто тысяч песен и сто тысяч вышивок», – с гордостью говорил великий просветитель И.Я. Яковлев, объясняя жизнестойкость своего этноса и место языка в его самостоянии. Стойкий национально-языковой консерватизм болгар и чехов позволил им сохраниться как народам. «Народ – зодчий речи. Речь – зодчий народа» (А. Вознесенский).
Высказана идея о том, что у этноса может быть двойное самосознание. Академик О.Н. Трубачев разделяет идею историка древнеболгарской культуры А. Ангелова о том, что славяне эпохи Кирилла и Мефодия, например, болгары IX–X вв., ощущали себя в одно и то же время и славянами, и болгарами [Трубачев 1992:132]. То же можно утверждать и в отношении других народов. Двойному самосознанию в значительной степени способствует полилингвизм (активное пользование индивидом двумя и более языками). Так, у чувашей по ли лингв считает себя представителем двух этносов – чувашского и русского. Культура и обычаи обоих народов для него являются своими. Во всем этом чувашское имеет свои неповторимые уголки, что требует выражения именно на чувашском языке [Тихонов 1995: 148]. Видимо, в этом разгадка феномена поэтов, которые творили на нескольких языках и стали великими представителями нескольких народов. Например, Саят-Нова слагал свои стихи на грузинском, армянском и азербайджанском языках и стал поэтом трёх народов. Объясняют этот феномен тем, что большая часть жизни поэта прошла в Тифлисе (ныне Тбилиси), который был духовным центром Закавказья и в котором складывалась по-своему единая культура, о чём писал армянский поэт О. Туманян: «То был особый, самобытный мир, где кавказские народы, – каждый с присущим ему бытием и колоритом, – объединились и создали чрезвычайно привлекательную и интересную жизнь, смешение наций. И так как в этой жизни задавал тон веселый грузинский дух, то старый Тифлис не был простым этнографическим сборищем чуждых друг другу элементов. То был весёлый свадебный пир, на который были званы все национальности и племена Кавказа» [Литературная газета. 1987. № 50: 7]. Близость культур среднеазиатских народов, равно как и двойное самосознание, способствовали появлению многоязычных классиков поэзии этого региона (например, персидский и таджикский поэт Фирдоуси).
Если язык – сердцевинная часть культуры, то заинтересованное постижение родного языка – самый эффективный путь к овладению фундаментальной частью национальной культуры. Русский философ И.А. Ильин в программной статье «Путь духовного обновления» утверждал, что пробуждение самосознания и личностной памяти ребенка необходимо совершать на его родном языке, причем важен не тот язык, на котором говорят при нем другие, а тот, на котором обращаются к нему, заставляя его выражать на нем его собственные внутренние состояния. Язык, – полагает философ, – вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. Завершается статья своеобразной педагогической рекомендацией: «…В семье должен царить культ родного языка: все основные семейные события, праздники, большие обмены мнений – должны протекать по-русски» [Ильин 1994: 227].
2. Слово и художественная литература
Язык и национальная принадлежность художественного произведения
Язык как первоэлемент литературы определяет национальную принадлежность произведения, созданного на нём. В.К. Кюхельбекер в своей парижской лекции заметил: «Творения нашей литературы не могут быть правильно оценены без предварительного ознакомления с духом русского языка» [Кюхельбекер 1954:374].
Скульптура, изваянная из итальянского мрамора руками русского мастера, вне всякого сомнения, принадлежит русской культуре, а по отношению к стихам, написанным итальянцем на русском языке, утверждение, что они являются фактом итальянской культуры, весьма проблематично. Утверждают, что русские повести Т.Г. Шевченко, обогатившие и духовную культуру украинского народа, – достояние прежде всего русской культуры [Русановский 1982: 316].
Замечательный российский культуролог Ю.М. Лотман в своих «Лекциях по структурной поэтике» (параграф «Язык как материал искусства») утверждал, что структура языка – результат интеллектуальной деятельности человека, а потому сам по себе материал словесного искусства уже включает итоги деятельности человеческого сознания, что и придает ему совершенно особый характер в ряду других материалов искусства (Лотман Ю.М. 1994: 68]. Справедливо полагают, что язык – естественный субстрат культуры, пронизывающий все ее стороны. Он служит инструментом упорядочения мира, средством закрепления этнического мировоззрения.
Язык – основной критерий отнесения произведения к той или иной национальной культуре. Писатель Октавио Пас, говоря о романе «Человек без свойств», заметил, что тот «написан по-немецки, и уже по этой причине не может принадлежать англосаксонской литературной традиции» [Известия. 1990. 8 дек.: 7]. Инициаторы создания «Русской энциклопедии» на вопрос, кого отнести к русской культуре, отвечают, что её достойными представителями являются евреи О. Мандельштам, И. Левитан, киргиз Ч. Айтматов, а также русские по крови, но работавшие за рубежом В. Набоков, А.И. Солженицын и др. «Куда бы я ни поехал, все останется во мне, так же, как и я – частица истории русской культуры и истории еврейства», – свидетельствует современный российский философ Померанц [1998: 192]. Другой наш соотечественник, писатель А. Генис в одном из своих интервью заметил: «…Каждый человек, который выучил русский язык или владеет им, является частью русской культуры» (Книжное обозрение. 1997. № 11. С. 8]. «Я по специальности русский, раз пишу на русском языке, – в одном из интервью ответил писатель С. Довлатов. – Русские – это только коллектив специалистов по русскому языку» [Новое литературное обозрение. 1998. № 29. С. 435].
Отмечен и такой уникальный случай. Михаил Генделев с 1977 г. живёт в Иерусалиме, пишет на русском языке и считается «национальным поэтом Израиля». В России вышло его «Неполное собрание сочинений» (М., 2003) [Книжное обозрение. 2003. № 13. С. 19]. Впрочем, известно, что русский язык в Израиле звучит повсеместно, претендуя на роль второго государственного языка.
Полное овладение родным языком – это не только приобретение средства общения, это ещё и почти одновременное приобщение к художественному творчеству. Л.Н. Толстой в письме Н.Н. Страхову (25.03.1872) высказал глубокую мысль о том, что язык «есть лучший поэтический регулятор». «Язык – сам по себе поэт» – не только красивая метафора, но и неоспоримая истина. М. Пришвин заметил как-то» что в России, вслушиваясь в народную речь и с томиком стихов Пушкина, легко стать поэтом. «В слове есть скрытая энергия, как в воде скрытая теплота, как в спящей почке дерева содержится возможность при благоприятных условиях сделаться самой деревом» [Пришвин 1990:413].
Мысль о слове как зерне художественного произведения, впервые отчётливо сформулированная А. А. Потебней, многократно подтверждалась теми, кто хорошо чувствовал Слово. Пастернак писал: «Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить. Язык – родина и вместилише красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека» (Пастернак Б. Доктор Живаго). Лауреат Нобелевской премии мексиканский поэт Октавио Пас подтверждает: «…Поэт – невольник языка» [Известия. 1990. 8 дек.]. Налицо великий круговорот: язык → художественное творчество язык. Писатель И. Померанцев убеждён, что драматическая доминанта английской поэзии – это борьба двух начал – англосаксонского и латинского. Побеждает то один пласт, то другой: у Шекспира – равновесие, у озерной школы – возвращение к латинским благозвучиям [Книжное обозрение. 2002. № 41. С. 5]. И. Бродский, переводивший свои стихи на английский, заметил, что английскую словесность корректирует сам язык, тяготеющий к точности и определённости [Иосиф Бродский… 1999: 26]. Ему принадлежит интересная мысль о том, что Достоевский был первым русским писателем, доверявшим интуиции языка больше, чем своей собственной, больше, чем установкам своей системы убеждений или же своей личной философии. «И язык отплатил ему сторицей. Придаточные предложения часто заносили его гораздо дальше, чем то позволили бы ему исходные намерения или интуиция. <…> он обращался с языком не столько как романист, сколько как поэт или как библейский пророк, требующий от аудитории не подражания, а обращения. <…> Достоевский понимал: для того, чтобы исследовать бесконечность, будь то бесконечность религиозная или бесконечность человеческой души, нет орудия более дальнобойного, нежели его в высшей степени флективный, со спиральными витками синтаксиса, родной язык» [Бродский 1999: 195–196).
Строго говоря, учёные тоже отчасти невольники своего национального характера, в том числе и языка. Это заметил К. Маркс: «Французы наделили английский материализм остроумием, плотью и кровью, красноречием. Они придали ему не достававшие ещё темперамент и грацию. Они цивилизовали его» [Маркс: 2:144]. русский философ В. Соловьёв, ссылаясь на другого русского мыслителя Н.Я. Данилевского, говорил о том, что у таких знаменитых английских учёных, как Адам Смит и Чарльз Дарвин, национальный характер заметно отразился на их научной деятельности. Изменись этот характер (и язык!), «Адам Смит увидел бы в экономической жизни другой интерес, кроме произведения богатства, а Дарвин открыл бы в жизни другой смысл, кроме борьбы за существование» [Соловьёв 1989: 298].
Проблемы художественного билингвизма, автоперевода и перевода
Теоретически интересна проблема билингвизма в художественной литературе, явления нередкого. Известны французские произведения Пушкина, Лермонтова, Гейне, Суинберна, Уайлда, русские стихи болгарина И. Вазова, Рильке, Б. Лесьмяна, Ю. Балтрушайтиса, немецкие А.К Толстою, М. Цветаевой. В XVIII в. в России писали так называемые русско-французские поэты – А.П. Шувалов, А.М. Белосельский-Белозерский, С.П. Румянцев. Индус Р. Тагор писал и по-бенгальски, и по-английски.
Духовное взаимотяготение культур способствует появлению художественного билингвизма. На территории бывшего СССР немало писателей, писавших на двух – родном и русском – языках (Ч. Айтматов, И. Друце, В. Быков, 10. Шесталов) или на одном русском (Ф. Искандер, О. Сулейменов, Рустам и Максуд Ибрагимбековы, Ю. Рытхэу). К какой культуре в этом случае их можно отнести? Мнение Ч. Айтматова однозначно: национальный писатель, пишущий по-русски, остаётся писателем про** де всего национальным. «Думаю, когда опубликовал по-русски свою повесть «Прознай, Гюльсары», ни у кого не оставалось сомнения, что это произведение киргизской прозы. Ведь существует не только стихия национального языка, но и национального мышления» [Литературная газета. 1989. № 45: 3]. Тот же вывод Айтматовым делается и по отношению молдаванина И. Друце, который пишет по-русски: «Но кто усомнится в том, что он не просто молдаванин, а средоточие национального духа молдаван?» И в то же время, рассуждая о творчестве Анатолия Кима, корейца по национальности, Ч. Айтматов приходит к противоположному выводу: «…Настолько совершенно владеет стихией русского языка… что о нём невозможно судить иначе, как о писателе русском».
Можно думать, что отнесение писателя и поэта к той или иной культуре зависит только от степени совершенства владения языком, понимая под последним освоение той стороны языка, которая лежит за пределами собственно понятийного ядра слов, – прежде всего национально-культурной коннотации используемых слов. Впрочем, это требуется и от литератора, творящего на родном языке.
Неповторимость каждого языка особенно остро чувствуют писатели, пишущие на двух языках. Азербайджанец Чингиз Гусейнов написал по-русски исторический роман о выдающемся просветителе М.Ф. Ахундове «Фатальный Фатали». Затем роман был воссоздан автором на азербайджанском языке. Читателей удивила разница в объёме в принципе одного и того же произведения: азербайджанский вариант оказался в полтора раза объемнее. Автор объясняет это диктатом языка. Различие языков означает и внутреннюю нетождественность вариантов романа. «Язык, на котором ты пишешь, подспудно вовлекает в сферу осмысления и изображения реалии жизни, быта, истории, культуры и т. д., связанные именно с данным языком или объёмом представлений данной языковой стихии» (Гусейнов 1987: 5].
Русский язык создавал благоприятные условия для органического постижения духовного мира, жизни и деятельности Ахундова, который формировался на стыке двух культур – русской и азербайджанской. Русский язык, на котором изначально рождался текст, «стихийно» включал в структуру и содержание романа русско-европейские реалии, материал, фигуры и судьбы. И даже восточный материал в оболочке русского языка окрашивался в русско-европейские тона. Азербайджанский язык, признаётся автор, невольно вовлекает в сферу внимания больше восточного материала – исторического, бытового, психологического.
Диктат языка можно показать на примере топонима Араке. «Сказать по-русски “Араке” или то же слово произнести по-азербайджански – и уже возникают разные чувственно-информационные объёмы, ибо речь в данном случае идёт не только о реке, а о многомерном понятии разделенного края… Ситуация породила немало открыто выраженных или рассчитанных на посвященных фраз, понятий, народно-поэтических фигур, и порой достаточно одного-двух слов, чтобы ввести азербайджанского читателя в данную реальность» [Гусейнов 1987; 5]. Ч. Гусейнову пришлось много потрудиться, чтобы в азербайджанском варианте передать критический пафос по отношению к царю и царскому самодержавию, ибо азербайджанский язык не имел традиции негативного изображения царя-самодержца, это для него непривычно, неестественно, не имел тех традиций, «какие в многообразии стилей и блеске оттенков имеет и выстрадал, пройдя сложный тернистый путь через пытки и унижения, ссылки и казни, великий русский язык».
Билингв Ч. Гусейнов свои выводы подтверждает ссылкой на опыт другого билингва – В. Набокова, «двуязыкой бабочки мировой культуры» (А. Вознесенский), размышлявшего о «взаимной переводимости двух изумительных языков» и написавшего: «Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, всё нежночеловеческое, а также всё мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски, но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлечённейшими понятиями» роение односложных эпитетов, всё это, а также всё относящееся к технике, модам, спорту» естественным наукам и противоестественным страстям – становится по-русски многословным» (Цит.: [Литературная газета. 1987. 23 сент.]).
Примеров автоперевода в мировой практике немало, и все они свидетельствуют о чрезвычайных трудностях, встающих перед автором. Когда выходец из Франции, американский писатель Дж. Грин попытался самостоятельно перевести одну из своих книг с французского языка на английский, у него вместо перевода получилась новая книга: «У меня было такое ощущение, что когда я писал по-английски, я как будто становился другим человеком» (Цит.: [Вопросы языкознания. 1990. № 6: 121]).
А вот свидетельство Ф. Искандера, абхазца, пишущего на русском: «Особенности абхазского языка состоят в том, что это действие, выраженное по-русски четырьмя словами, по-абхазски передаётся одним словом и потому выразительность его в переводе несколько тускнеет» [Искандер 1991: 262].
По мнению пишущих на двух языках, путь автоперевода художественно не очень перспективен. Выход – в создании варианта на другом языке, и этот новый оригинал на другом языке может существенно отличаться от первого варианта. В. Набоков свидетельствует, что книга «Conclusive Evidence» «писалась долго (1946–1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад – музыкально недоговоренный русский, – а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно – покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно таращилась– иная фраза…, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву» [Набоков 1990: 134]. Следует заметить, что американцы считают В. Набокова своим писателем: мало найдется людей, которые бы так воплотили чужую культуру, но как бы хорошо ни писал он на английском, всё равно остался русским.
Художественный билингвизм любого писателя благотворно сказывается на его творчестве. Как заметил Д.С. Лихачёв, французский язык Пушкина способствовал превосходному чувству русского языка, точности и правильности речи. Двуязычие помогает видеть словесный мир «в цвете». Ч. Айтматов убежден: для него работать на двух языках – значит расширить возможности и киргизской литературы, и общее русло всей современной литературы [Литературная газета. 1989. № 45:3]. Создание иноязычного варианта – интересная внутренняя работа писателя, ведущая к совершенствованию стиля и к обогащению образности языка [Новый мир. 1968. № 11:146].
Многим кажется, что на чужом языке легче писать научные работы (терминология вообще предпочтительнее иноязычная: в ней нет коннотации), поэтому долгое время языком философии, теологии и вообще науки в Европе была латынь, а на Востоке – арабский язык. Художественное же творчество требует языка родного. Вот почему создатели национальных литератур – одновременно и создатели национальных литературных языков. Однако и учёные заметили существенные различия в научных стилях разных языков. Известный этнолог К. Леви-Строс, пишущий на французском и английском языках, признаётся, что он был поражён тем, насколько различны стиль и порядок изложения в статьях на том или другом языке. Это затруднение учёный, по его словам, попытался преодолеть с помощью очень свободного перевода, резюмируя одни абзацы и развивая другие.
Интересны соображения известного философа Хосе Ортеги-и-Гассета, высказанные им в статье «Нищета и блеск перевода». Проблема перевода, по мысли философа, ведёт к сокровеннейшим тайнам чудесного феномена речи. Дело в том, что семантические объёмы слов, обозначающих одни и те же явления в разных языках, различны. «Лес» в испанском языке нечто иное, чем Wald в немецком. Здесь не только сами реалии совершенно не соответствуют друг другу, но и почти все вызванные им эмоциональные и духовные отзвуки. Имея в виду себя, испанского философа, Ортега-и-Гассет признаётся, что, говоря по-французски, он вынужден умалчивать 4/5 испанских мыслей, которые невозможно донести по-французски, хотя оба языка близки. Трудность перевода предопределена одним из парадоксов языка: «…Мы никогда не поймём такого поразительного явления, как язык, если сначала не согласимся с тем, что речь в основном состоит из умолчаний. <…> И каждый язык – это особое уравнение между тем, что сообщается. Каждый народ умалчивает одно, чтобы суметь сказать другое. Ибо все сказать невозможно. Вот почему переводить так сложно: речь идёт о том, чтобы на определенном языке сказать то, что этот язык склонен умалчивать» [Ортега-и-Гассет 1991: 345).
«Умалчивание» в языке на уровне лексики принято называть лакунами. Примером лакуны может служить отмеченное известным философом О. Шпенглером отсутствие в древнегреческом языке слова для обозначения пространства. Феномен лакуны притягивает внимание исследователей. В Благовещенске сложился центр изучения лакунарности в языке, в активе которого монография Г. В. Быковой «Лакунарность как категория лексической системологии» (Благовещенск, 2002), а также сборник научных трудов «Лакуны в языке и речи». Обсуждаются такие вопросы, как феномен лакунарности в различных подсистемах национального языка, проблема типологии лакун, методика выявления лакун, лакуны как несовпадающие (разъединяющие) элементы в языках и культурах и межкультурная коммуникация, модель лакун в теории и практике перевода, феномен лакунарности в аспекте культурологии, лакунарность и лингвострановедение, лакуны как предмет лексикографии, лакуны в тексте и т. д.
Существует большая литература, посвященная проблемам перевода. В ней постоянно обсуждается несколько фундаментальных вопросов: возможен ли адекватный перевод; как свести до минимума потери при переводе; как относиться к переводам не вполне адекватным и т. д.
Значительная, если не большая, часть теоретиков и практиков художественного перевода считает, что адекватный перевод в принципе невозможен. Это мнение впервые сформулировал великий Данте: «Пусть каждый знает, что ни одно произведение… не может быть переложено со своего языка на другой без нарушения всей его сладости и гармонии» (Данте. Пир). Марина Цветаева в статье «Два “Лесных царя”» (1933) сравнивает «Лесного царя» Гёте и его русский перевод, сделанный Жуковским, и показывает, что стихотворения получились разными.
В любом переводимом художественном тексте есть то, что хуже всего поддаётся переводу, – это наименее банальное, а потому более всего заслуживающее внимания (Из послесловия переводчика С.Н. Зенкина к книге Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Что такое философия?» (М.: СПб., 1998)]. И. Гете как раз и советовал добираться до того, что непереводимо, и уважать это, ибо в этом скрыта ценность и своеобразие языка оригинала.
Существуют различные мнения по поводу того, как свести до минимума неизбежные потери при переводе. Русский поэт и переводчик А.К. Толстой считал, что следует переводить не слова или даже не смысл, а впечатление оригинала. Философ П. Флоренский полагал, что и в переводах перспективен принцип дополнительности: «…Несколько переводов поэтического произведения на другой язык или на другие языки не только не мешают друг другу, но и восполняют друг друга, хотя ни один не заменяет всецело подлинника…» [Флоренский 1922:7]. Для И. Бродского, который переводил с русского на английский свои стихи, перевод – это поиски эквивалента, а не суррогата, и это требует стилистической, если не психологической конгениальности (Бродский 1999: 103].
Английский драматург С. Моэм считал, что у слова три параметра, которые предопределяют его оригинальность и, как следствие, трудности при переводе: «Слово имеет вес, звук и вил; только помня обо всех этих трех свойствах, можно написать фразу, приятную и для глаза, и для уха» [Моэм 1989: 351]. Даже в автопереводе очень трудно найти достойные эквиваленты всем ипостасям переводимого слова – его весу, звуку и виду Эти же трудности встают перед любым переводчиком. «Попытки переводить английские стихи для меня обычно упирались в то, что краткие английские слова и долгие русские, соответствовавшие им, увеличивали, при условии сохранения смысла, стихи чуть ли не вдвое», – сетовала русская поэтесса Римма Казакова [Книжное обозрение. 1994. № 45. С. 17]. Только что процитированные авторы не учитывают аккумулированные словом культурные смыслы, в том числе и коннотацию. Самый тщательный перевод может от силы учесть один-два из всех параметров слова. Отсюда множественность переводов. Даже «Слово о полку Игореве» переводилось многажды.
По мнению чешских лингвистов Б. Матезиуса и В. Прохазки, перевод – это не только замена языка, но и функциональная замена элементов культуры. Такая замена не может быть полной. Отсюда вывод о «бикультурности» текста перевода, поскольку требование «перевод должен читаться как оригинал» в полном объеме едва ли выполнимо (по крайней мере, применительно к художественному переводу), так как оно подразумевает полную адаптацию текста к нормам другой культуры [Швейцер 1994:183]. Из-за «социально-культурного барьера», обусловленного различиями между культурой отправителя текста и культурой воспринимающей среды, решение переводчика, как правило, носит компромиссный характер. Из опыта писателя и переводчика О. Дыбенко: «…Книги, написанные мною по-русски, я на греческий не перевожу, а пересказываю. При пересказе они становятся более отточенными, часто после этого нравится и русский вариант» [Книжное обозрение. 2002. № 27–28. С. 18]. Ещё один совет опытного переводчика: думай не над смыслом слова, думай, что заставило человека сказать именно это слово. Собственно от этого зависит, удачен перевод или нет [Книжное ободрение. 2000. № 9. С. 3].
К концу XX в. в переводческой практике сложилась традиция сопровождать перевод комментариями переводчика с объяснениями о правомерности его решений. Так, во вступительной статье философа и переводчицы Н. Автономовой к книге французского ученого Ж. Деррида «О грамматологии» есть фрагмент «О переводе вообще», в которой обсуждаются приёмы передачи понятийного аппарата той или иной концепции с одного языка на другой. Эти замечания спровоцировали на страницах журнала «Вопросы философии» философско-филологический спор «Как переводить Деррида» [Вопросы философии. 2001. № 7.
С. 158–169]. Известный современный итальянский писатель Умберто Эко к своему роману приложил «Открытое письмо переводчикам “Острова накануне”» с советами, как преодолеть лакуны принимающего языка: «…Когда в описании, скажем, коралла или же птицы вы замечаете, что в вашем языке не существует больше слов, пригодных к описанию оттенков алого цвета, лучше, чтоб не повторять слово “алый", меняйте расцветку птицы или цветка. Лучше пускай он станет синим, но нельзя повторять слово “пурпурный" два раза». Или: «…Если в вашем языке есть красивое название выпада (о фехтовании. – АХ), пусть даже оно не совпадает с тем, что пишу я, это не имеет значения. Пусть герой дерется по-другому, лишь бы выпад был красивым и назывался соответственно эпохе» (Эко 1999: 487, 489]. Переводчица романа «Остров накануне» Елена Костюкович в заметке «От переводчика» отметила одну из трудностей перевода, обусловленную грамматиками итальянского и русского языков: «…Единственной изначально непреодолимой лингвистической преградой явилось то обстоятельство, что по-итальянски остров isola, так же как и корабль, nave, женского рода. Роберт по-мужски обладает своей плавучей крепостью – nave – и вожделеет встречи и обняться со своей обетованной землей, идентифицируя её с недостижимой любовницей <…> На сюжетном уровне это передано, но на словесном – непередаваемо» [Эко 1999:7].
«Бикультурность» перевода таит в себе опасность того, что из столкновения двух культурных традиций победителем выйдет культура воспринимающей срелы. Специалисты припоминают опыт М.Л. Михайлова, который в 1856 г. перевел шесть стихотворений Р. Бернса и привнёс в них элементы русификации. Подобный лингвокультуриый перенос дал основание К. Чуковскому иронизировать насчёт некоторых своих незадачливых коллег но переводу: «Получается впечатление, как будто мистер Сквирг, и сэр Мсльбери Гок и лорд Всрикрофт – все живут в Пятисобачьем переулке, в Коломне. И только притворяются британцами, а на самом деле такие же Иваны Трофимычи, как персонажи Щедрина или Островского» [Чуковский 1936: 78).
Однако несмотря на все мыслимые и немыслимые теоретические и практические трудности перевода, последний остаётся чрезвычайно важным элементом сотрудничества культур и развития каждой из них. В. Г. Белинский был прав, когда утверждал, что через Жуковского россияне научились понимать и любить Шиллера как бы своего национального поэта, говорящего русскими звуками, русской речью. Французская писательница и теоретик литературы Ж. де Сталь (1766–1817) в статье «О духе переводов» (1816) утверждала, что даже тот, кто понимает чужой язык, получает от превосходного перевода на язык своего народа удовольствие более глубокое и искреннее. Чужестранные красоты, – считала мастер слова, – сообщают отечественному слогу новые обороты и оригинальные выражения. Переводы иностранных поэтов надёжнее любого другого средства предохраняют литературу любой страны от банальных речений – недвусмысленного свидетельства упадка [Сталь 1989].
Перевод – это часто новая литература. «…Переводной любовный рома] г, становясь русским текстом тоже, превращается в жанр современной русской литературы и тем самым оказывает влияние на русскую ментальность и менталитет» [Белянкин 1995: 20]. «Цивилизация есть суммарный итог различных культур, оживляемых общим духовным числителем, и основным её проводником <…> является перевод. Перенос греческого портика на широту тундры – это перевод» [Бродский 1999: 103]. Языковед В.М. Алпатов обратил внимание на ту роль, которую сыграл перевод рассказа И.С. Тургенева «Свидание» (из «Записок охотника») в развитии японского литературного языка. «Особенно важен оказался перевод не сюжетной части рассказа, а занимающего его значительную часть описания природы. Японская классическая литература не знала столь развернутого пейзажа и попытка передать его по-японски требовала и формирования новых языковых средств для этого» [Алпатов 19952: 100].
Перевод художественной литературы – дело трудное и деликатное, по праву получившее статус искусства, однако перевод фольклорных текстов, в которых аккумуляция культурно-этнических смыслов достигает максимума, а сами слова крепко соединены в различные эпические и иные формулы, еще сложнее, и двух мнений на этот счет нет. Достаточно обратиться к опыту перевода народных сказок с украинского на английский и с грузинского на русский. На первый взгляд, простые и точные слова сказки – прозаического жанра, лишенного тех усложняющих элементов, которые рождаются ритмом, рифмой, теснотой стихотворного ряда и которые обнаруживаются в былине, притче и песне, – легко найдут соответствия в ином языке – лоне аналогичной народной сказочной традиции. Однако пренебрежение лингвокультурной стороной слова приводит к неудачным переводам на английский язык.
Г. И. Цибахашвили, размышляя над книгой переводов на русский язык грузинских сказок, замечает, что перевод фольклорного материала сопряжен с такими трудностями, которые почти не встречаются в произведениях индивидуальных авторов. Имеется в виду перевод не столько имен, топонимов, непереводимой лексики, зачинов и концовок сказок, фразеологических единиц, игры слов, сколько сохранение в переводе духа и тона повествования, без чего фольклорное произведение перестаёт быть художественным и нисходит до серого перевода какой-то нехитрой истории, которая может встретиться у любого народа [Цибахашвили 1983].
Замечено, что чем меньше объем фольклорного поэтического текста, тем труднее переводить его. Переводчик латышских дайн Ю. Абызов замечает: «Что делает дайны непереводимыми (на данной ступени)? Несоответствие содержащейся в них информации и малой их площади. Я бы даже сказал, что объём этой информации обратно пропорционален площади. Причем информации не фоновой, которой можно в какой-то мере или пропорции пренебречь, а составляющей самую суть» [Абызов 1982: 106].
Каждая опорная лексема песенного текста – это конденсатор огромной семантической энергии, в большей или меньшей степени обнаруживающейся в тексте фольклорного произведения, И пусть совпадают первичные значения внешне эквивалентных слов фольклора двух пародов, никогда не совпадут их приращенные объёмы, что и ставит под сомнение саму возможность их перевода.
Ю. Абызов, сравнивая русскую и латышскую народную лирику, приводит убедительные примеры тому, как различны денотативно эквивалентные лексемы в фольклоре двух народов. Скажем, balelini – это не только «братья» или «братцы». Это и члены одного рода, и воины-дружинники, и домочадцы, и родные братья, и соотечественники. В латышских дайнах активно используется фитоним smitga. Обозначает он растение с тонким длинным стеблем, с пушистой метелочкой, шелковистой на ощупь, играющей на солнце, если она усеяна росинками (по-русски полевица, метлица). Для латышей это ёмкий символ – олицетворение девической стройности, легкости, грациозности. Красоту растения-символа легко передать в переводе прозы, но в поэтическом переводе это, как считает Ю. Абызов, невозможно: «smildzina в дайне просто называется, однако это название апеллирует к воображению читателя-слушателя, вековая конвенция выработала чуть ли не генетически передаваемую эстетическую реакцию» (Абызов 1984:285]. Часто это латышское слово переводят (по словарю) как «былинка», однако ассоциативный ореол у слов smildzina и былинка разный. Для латышей это нечто светлое, а для русских – грустное, одинокое, беззащитное.
Сокол в дайнах – хищник, в русских песнях он имеет знак оценки прямо противоположный. Кукушка в русской лирике – олицетворение горести, в дайнах – символ звонкого песенного начала. Ковыль-трава, полынь-трава, куст ракитовый, калина – малина, лебеда, травушка-муравушка, без которых мы не представляем русскую народную лирику, в латышской не имеет никаких соответствий. Как не имеет эквивалента в русском фольклоре латышское имя существительное виллайне – наплечная женская шаль, часть национального костюма – символ молодости, надежд, забот, красоты, благосостояния, совершенства. И уж если имена природных, конкретных явлений в своём семантическом объёме не совпадают, то что говорить об именах свойств, не обладающих предметностью растительных реалий.
Практики фольклорного перевода склоняются к оптимистическому выводу о возможности такового при условии, что переводчик будет учитывать и фольклорную картину мира («инвентарный свод предметов, явлений и действий, которые имеют право быть опоэтивизированными в соответствии с кодексом дайны») [Абызов 1982:96], и ассоциативный ореол каждого опорного слова текста. Образно это называют «переводить букетом», в котором «цветы подобраны так, чтобы они дополняли друг друга, объясняли своим соседством, поддерживали, перекликались. То есть переводить, все время имея в виду систему поэтических знаков» [Абызов 1984: 293]. Иначе придется согласиться с мнением известного фольклориста В. Я. Проппа о том, что народные песни по существу непереводимы.
Трудности художественного перевода убедительно показал польский поэт и переводчик Юлиан Тувим в статье «Четверостишие на верстаке» на примере перевода на польский язык первых четырёх строк поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»: У лукоморья дуб зелёный,/Златая цепь на дубе том:/И днём и ночью кот учёный/Всё ходит по цепи кругом. По мнению Тувима, опорное слово четверостишия – лукоморье. Слово, независимо от значения (‘морской залив’), – сказочное, фантастическое, редкое, наделённое за счёт редкости особой аурой сказочности. Русское лукоморье аналога в польском языке не имеет. Возможное новое слово лукомор переводчика не удовлетворяет из-за ассоциаций со словом мухомор, и потому он смиряется со словом затока (‘залив’), которое поначалу его смущало своим разговорным характером и несоответствием пушкинскому выбору. На место исчезнувшего маркированного пушкинского слова лукоморье переводчик маркированным делает слово, обозначающее дерево, – явор и заменяющее пушкинский дуб. Явор – дерево таинственное, в звучании которого есть ярь зарослей, ров-овраг, мурава. Лесное, яркое, дохнувшее чащобой слово! В слове явор слышится пасторально-романтическая традиция и польские фольклорные образы [Тувим 1987].
К недавним опытам перевода фольклора относится перевод киргизского эпоса «Манас», завершенный в 1994 г. Перед академическим изданием были поставлены задачи: тщательно передать смысловое и художественное содержание оригинала, образно-художественную фактуру эпического текста; сочетать полноту передачи смысла каждой поэтической строки с сохранением стилистического соответствия подлиннику без добавления и изъятия слов, смысловых привнесений и других переводческих вольностей; воссоздать с предельной достижимостью художественную структуру и эстетическую цельность древнего устного эпического памятника. В итоге полученный перевод отличается от литературно-поэтического, художественного, а по существу неточного перевода, когда подыскиваются рифмы и размер, не достигающие соответствия с оригиналом, с неизбежным добавлением слов и словосочетаний, далеких от специфической образности древнего памятника. Перевод не должен вызывать неясных или ложных представлений. При переводе многозначного и метафорического слова эпического подлинника особое значение придавалось выбору такого русского слова в ряду антонимов, которое способно верно и емко передать семантику слова оригинала, определенную общим контекстом взаимосвязанных строк. Необходимо не только подыскание адекватных языковых средств, но и реализация знаний культуры, истории, быта и нрава народа, в среде которого создавалось произведение. Это способствует близкой передаче средствами русского языка образных приемов, формул, идиом, повторов, «общих мест», рефренов. Если соответствия нет, даётся «калькирование» с комментарием. Без перевода остаются реалии, топонимы, этнонимы и иные термины.
Проблема перевода остро встаёт уже на самом первом этапе сопоставления языков – в ходе создания двуязычных словарей. Современные лексикографы начинают придерживаться новой концепции двуязычного словаря как «краткой этнографически культурной энциклопедии» – не только переводить, но и понимать слова. Об этом красноречиво говорит опыт Хельги Харальдссона, автора «русско-исландского словаря», который столкнулся с многими трудностями в поисках языковых эквивалентов. Так, по его мнению, непереводимо русское добро (из добро и зло), поскольку в исландском языке нет слова, соответствующего русскому добро в основном и наиболее общем значении. Русским существительным скала и холм в исландском соответствует десяток синонимов, что характеризует скорее не особенности исландского языка, а природу Исландии и жизнь человека в природе. Больше проблем возникло в связи со словами с более сложной семантической структурой – многозначными и широкозначными [Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1999. № 4. С. 148–153]. Аналогичная ситуация и в других языках.
Переводчик с японского Дм. Коваленин отличает, как много в японском языке слов, которые означают ‘тщетные усилия’, ‘бесплодные усилия’, потому что вся Япония на тридцати процентах своих островов (остальное – скалы) веками пыталась что-то вырастить, выстроить, борясь с тайфунами, землетрясениями и цунами [Книжное обозрение. 2000. № 9. С. 3].
Язык и шедевры литературы
Особый теоретический интерес представляет опыт творчества на неродном языке. Примеры такового достаточно многочисленны. Француз Адальберт Шамиссо (1781–1838), эмигрировавший в Германию, в 15 лет начал изучать немецкий язык, стал ученым-естествоиспытателем и немецким писателем, автором повести «Необычайная история Петера Шлемиля», принесшей ему все-мирную известность.
Поляк Юзеф Теодор Конрад Коженёвский (1857–1924) из-вестей как английский писатель Джозеф Конрад, автор романа «Лорд Джим» и др. Другой этнический поляк Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинарий Костровицкий (1880–1918) стал французским поэтом по имени Гийом Аполлинер.
Московский армянин Лев Тарасов (1911–1993), сын купца, был увезен из России в 1918 г. Во Франции стал писателем, известным под псевдонимом Анри Труайя. В 1938 г. получил Гонкуровскую премию, с 1959 г. член Французской академии. Перу этого писателя принадлежат 70 книг, половина из которых – о культуре России. Известна его серия биографий русских писателей.
Наш соотечественник Василий Яковлевич Ерошенко (1890–1952) вошёл в историю китайской литературы, признан как поэт в японском литературном мире. Ему уделено место в «Энциклопедии современной японской литературы».
В серии «Амурская библиотека поэзии»– вышла книга стихов уникального «русского поэта китайского гражданства» Ли Янлена. Это единственный сегодня и второй в истории Китая поэт, пишущий стихи на русском языке. В 1994 г. в Благовещенске вышел сборник его стихов «Я люблю Россию» [Книжное обозрение. 1996. № 36. С. 4].
Французский поэт Анри Абриль (1947) недавно издал сборник на русском языке без перевода под названием «Русские стихи». Поэт перевел на французский язык Пушкина, Блока, Мандельштама, Тарковского, Цветаеву, Пастернака. Абриль – поэт, для которого оба языка, русский и французский, стали родными [Известия. 1996.19 июня. С. 7].
Итальянец Марио Корти, журналист с «Радио Свободы», музыковед и историк правозащитного движения в России, написал на русском языке книгу «Дрейф» (М., 2002). Это эссе, автобиография, путешествие по эпохам и культурам [Книжноеобозрение. 2002. № 19. С. 19).
В 1995 г. впервые в истории главной литературной премии Франции – Гонкуровской, ежегодно присуждаемой с 1903 г., удостоен российский писатель Андрей Макин за роман «Французское завещание», написанный на французском языке.
Требует глубокого и непредвзятого анализа опыт русскоязычного поэта Иосифа Бродского, во вторую половину своей творческой жизни перешедшего на английский язык, завоевавшего почетное звание лучшего поэта Америки, переводившего свои русские стихи на английский язык. Он признавался» что писать по-русски для него более естественно, по-английски – элемент «кроссворда»; весь вопрос в эстетической ценности этого «кроссворда». Именно Бродский припомнил английскую пословицу о языке: «Покинешь меня – погибнешь» [Книжное обозрение. 1996. № 6. С. 2].
Логичен вопрос, может ли шедевр, великое художественное произведение быть написано не на родном языке. Двуязычный Пушкин, получивший в лицее прозвище Пушкин-француз и в дворянском быту по обыкновению того времени пользовавшийся французским языком, писал только на русском языке. И.С. Тургенев» большую часть зрелой жизни проживший за рубежом, был уверен, что творить можно единственно на родном языке: «Как это возможно писать на чужом языке – когда и на своём-то, на родном, едва можешь сладить с образами, мыслями и т. д.» [Тургенев 1966: 86]. Письма Тургенева на французском, немецком и английском языках были, по признанию носителей этих языков, стилистически совершенны. Ему принадлежат стихотворения, тексты оперетт, критические этюды, детские сказки и куплеты по-французски и по-немецки, но всё это лежало на периферии его творчества, а шедевры писались только по-русски.
Выводы учёных, исследовавших иноязычные произведения великих и известных поэтов и писателей, практически совпадают созданное на неродном языке заметно уступает тому, что сложилось на родном. Это обстоятельство пытаются объяснить тем, что человеку по-настоящему дано знать только один язык. Б. Шоу считал: «Не существует человека, который, хорошо зная свой родной язык, был бы способен овладеть другим» (Цит.; (Алексеев 1984: 9]). Мнение Б. Шоу совпадает с выводом-советом великого русского писателя И. Бунина: «…Пишите на том языке, с которым родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимаете, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок… Что, можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?» (Цит.: [Адамович 1988: 183–184]).
Столь же категоричен и современный поэт А. Вознесенский: «Стихи – это то, что нельзя написать на чужом языке. Это – неподконтрольное. Это – высшее, где уже не материя, а дух языка кричит, не прикрытый коронным “приемом” автора, что иноязычно не выразить ни Пушкину, ни Цветаевой, ни Рильке – не сумели этого, – в стихах прорывается непереводимое, голое чувство, тоска, судьба, а не литература, вопит слово “выть” – такое редкое для хрустального интеллектуализма художника <…> Каждый, кто пробует писать стихи на неродном языке, расплачивается банальностью за кощунство. Для меня, например, это – святотатство, я никогда не писал стихов по-английски, если не считать пары шуточных» [Вознесенский 1989: 97].
Муки писателя, в зрелом возрасте меняющего язык творчества, описал В. Набоков, который в эмиграции перешёл на английский: «Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я бы перешёл для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишним лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток паевое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого – или Иванова, няни, русской публицистики – словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, – и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставания с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня» (Набоков 1990:133]. Оценки англоязычного творчества самого В. Набокова противоречивы. А. Вознесенский считает английские стихи Набокова неудачными [Вознесенский 1989:97], а другой поэт Евг. Витковский назвал чуть ли не лучшим стихами XX в. поэму, которой начинается английский роман В. Набокова «Бледное пламя».
Психолог Б.Г. Ананьев объясняет этот феномен законом психической асимметрии: ведущим языком билингва является тот, в котором проявляется наибольшее соответствие между мышлением и языковыми средствами. Остальные языки функционально слабее, и им отводится подсобная роль [Ананьев 1966]. Установлено, что в освоении материнского языка участвуют оба полушария, а в освоении любого следующего – в основном, левое. «Только на родном языке можно петь, писать стихи, признаваться в любви… На чужом языке, даже при отличном его знании, можно лишь преподавать язык, разговаривать о политике и заказывать котлету. Один язык у человека – два языка не покажешь» (А. Битов. Уроки Армении).
Существует, однако, и прямо противоположное мнение. Например, русская писательница Н. Берберова рассуждает так: «Набоков – единственный из русских авторов (как в России, так и в эмиграции), принадлежащий всему западному миру (или – миру вообще), не России только. Принадлежность к одной определенной национальности или к одному определенному языку для таких, как он, в сущности, не играет большой роли: уже 70 лет тому назад началось совершенно новое положение в культурном мире – Стриндберг(в “Исповеди"), Уайльд (в “Саломее”), Конрад и Сантаяна иногда, или всегда, писали не на своём языке. Язык для Кафки, Джойса, Ионеско, Блакета, Хорхе Борхеса и Набокова перестал быть тем, чем был в узконациональном смысле 80 и 100 лет тому назад. И языковые эффекты, и национальная психология в наше время, как для автора, так и для читателя, не поддержанные ничем другим, перестали быть необходимостью. За последние 20–30 лет в западной литературе, вернее – на верхах её, нет больше "французских”, “английских” или "американских" романов. То, что выходит в свет лучшего, становится интернациональным. Оно не только тотчас же переводится на другие языки, оно часто издаётся сразу на двух языках, и – больше того – оно нередко пишется не на том языке, на котором оно как будто должно было писаться. В конце концов становится бесспорным, что в мире существует по меньшей мере пять языков, на которых можно в наше время высказать то, что хочешь, и быть услышанным. И на каком из них это будет сделано – не столь уж существенно» [Берберова 1990:546–547]. Правда, десятью страницами ниже Н. Берберова с горечью пишет о «безвоздушном пространстве» (отсутствии страны, языка, традиций).
Писать на чужом языке можно, но можно ли создать на нём великое произведение – вопрос остаётся открытым. Убедительного примера пока еще нет. Думается, что поистине великое художественное произведение – это энциклопедия духовной жизни этноса, народа, общества, колоссальный массив культурных смыслов, рассредоточенных в каждом отдельном слове и в каждой идиоме. Авторитетные комментаторы «Евгения Онегина» (Набоков, Лотман) убедительно об этом свидетельствуют.
Рекомендуемая литература
1. Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова: синергетика языка, сознания и культуры. М., 2002.
2. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. М., 2001.
3. Встречи этнических культур в зеркале языка в сопоставительном лингвокультурном аспекте. М., 2002.
4. Гаспаров М.Л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999.
5. Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. М., 1998.
6. Николаева Т.Н. «Скрытая память» языка: Попытки постановки проблемы // ВЯ. 2002. № 4. С. 25–41.
7. Оболенская Ю.Л. Диалог культур и диалектика перевода: Судьбы произведений русских писателей XIX века в Испании и Латинской Америке. М., 1998.
8. Подюкоа И.А. Народная фразеология в зеркале народной культуры: Учебное пособие. Пермь, 1990.
9. Социокультурные проблемы перевода: Сб. научных трудов / ВГУ. Воронеж, 1999. Вып. 3.
10. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000.
11. ХотинецВ.Ю. Этническое самосознание. СПб., 2000.
Раздел IV Экология языка и культуры
К концу XX в. выяснилось, что от человека надо защищать практически всё. Отсюда популярность термина экология, потерявшего свою первоначальную определенность. Экология (от греч. oikos – дом, жилище, местопребывание + логия) – наука об отношениях организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Термин предложен в 1866 г Э. Геккелем (1834–1919). <…> С середины XX в. в связи с усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела особое значение как научная основа рационального природопользования и охраны живых организмов, а сам термин – более широкий смысл [БЭС 1997:1393]. Уже говорят об «экологизации» современной науки.
У слова экология актуализировалось значение ‘защита’ и расширился круг объектов, связанных с этим термином: экология культуры (Д.С. Лихачев; Дж. Стюарт), экология языка (Г.В. Степанов), экология духа (о. А. Мень), экология религии (О. Хульткранц). Эти популярные ныне словосочетания статуса научных терминов пока не получили. Основательный «Лингвистический энциклопедический словарь» (1990) тоже пока обходится без слова экология и словосочетания экология языка.
Понятие экологии тесно связано с идеей культурной среды, о которой тоже следует заботиться. Очевидно, что многое в культуре зависит от состояния так называемых трансляторов культуры, под которыми понимают те общественные структуры, в которых культура накапливается, преобразуется и передаётся. Традиционно к числу трансляторов причисляют 1) семью, 2) школу, 3) крестьянство и 4) интеллигенцию.
Укрепление семьи, превращение её в ценность первого порядка, несомненно, приведёт к повышению общего уровня культуры, поскольку именно в семье культурные традиции передаются от поколения к поколению самым органичным способом «впитывания».
Школа, о которой мечтают, школа, которая естественным образом соединит свою здоровую консервативность с творчеством каждого учителя, может стать важнейшей опорой культуры.
Крестьянство, которое получит экономическую свободу, может и должно стать одним из важнейших источников культуры, в явной форме воспроизводя то, что сейчас в силу множества внешних и внутренних причин находится под спудом.
Интеллигенция в России всегда была самым мощным двигателем культуры. Золотой и серебряный века русской культуры обязаны своим явлением и всемирным успехом русской, прежде всего дворянской, интеллигенции. Замена нынешней «образован* тины» (термин А.И. Солженицына) интеллигенцией или интеллектуальной элитой – залог больших культурных преобразований в российском обществе XXI в.
Итак, признание семьи первейшей ценностью, педагогика творчества в школе, экономическая независимость крестьянства и уважение к интеллигенции – важнейшие элементы экологии культуры.
Идеальный вариант экологии – вовлечение всех в культурный и языковой процесс. Академик Д.С. Лихачёв перечислил несколько точек массовой поддержки культуры: 1) гуманитарное образование всем; 2) пение в хоре (замечено, что многочисленные народные хоры способствуют общему повышению культуры); 3) изучение языков; 4) изучение религии как культурного явления; 5) создание очагов культуры или восстановление их. Самый малый успех каждого в творчестве культуры даёт мощный импульс всей культуре. Справедливо говорят, что маленький писатель всегда становится большим читателем.
Вовлечение в созидание и сбережение культуры, как принято говорить, широких масс граждан не умаляет определяющей роли культурной элиты. Замечательный русский философ Г.П. Федотов в 1939 г. опубликовал статью «Создание элиты. Письма о русской культуре», в которой обосновывал тезис: «Враг культуры в России – тьма, мнящая себя просвещением». Важнейшая, по Федотову, задача – создание элиты, или духовной аристократии взамен уничтоженной дворянской интеллигенции. Только в этом случае возможен культурный прогресс, так как всё идёт от высших этажей культуры. Чтобы создать народных учителей, – пишет Федотов, – надо иметь приличную среднюю школу, чтобы создать среднюю школу, надо иметь университет. В отсталой и девственно невежественной стране нужно начинать с Академии наук, а не с народной школы. Западная Европа академию создала ещё при Карле Великом, а народную школу лишь в XIX в. Единственный смысл существования нации – в её творчестве: в открытой ею истине, в созданной красоте, в осуществленной или прозреваем ой ею правде. Реализоваться этот смысл может только в том случае, если на почве экономического почти-равенства мы сумеем создать культурное неравенство, иерархию духовной элиты. Опыт большевиков: всё для народа ценою разрушения высших этажей культуры, – к концу XX в. выявил ложность и бесперспективность тезиса, что культура растёт снизу, а не сверху.
Элита как творец духовных ценностей существует и в рамках традиционной крестьянской культуры. Знаменитый собиратель русского былинного эпоса А.Ф. Гильфердинг во вступительной статье «Олонецкая губерния и её народные рапсоды» к «Онежским былинам, записанным летом 1871 года» отмечал, что знание былин составляет как бы преимущество наиболее исправной части крестьянского населения. Лучшие певцы былин известны в то же время как хорошие и относительно зажиточные домохозяева. По-видимому, – размышляет собиратель, – былины укладываются только в таких головах, которые соединяют природный ум и память с порядочностью, необходимою и для практического успеха в жизни.
Культура не терпит отрицания. «Нужно изгнать все слова отрицания. Отрицающий беден, убеждающий богат. Отрицающий недвижим, утверждающий устремлён. Отрицающий не прав постоянно, утверждающий прав всегда. <…> Невежество – мать отрицания», – это говорил русский художник, писатель, гуманист, истинный поборник культуры Н.К. Рерих [Рерих 1989:3]. В этом отношении поучителен опыт преподобного Сергия Радонежского, который не запрещал, не боролся, а действовал своим личным безупречным примером и стал символом России и вдохновил россиян на победу над Мамаем.
Чтобы быть эффективной, забота о культуре должна распространяться и на область человеческих взаимоотношений. Писатель А. Битов замечает, что возрождение культуры в стране – это прежде всего возрождение культуры отношений человека с человеком [Битов 1989: 2]. Спасти природу, язык и культуру можно, только спасая самого человека, меняя сущность отношения к себе, к окружающим людям, к природе, к земле. Разруха в быту, – говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце» М. Булгакова, – начинается с разрухи в голове.
Нужны условия, чтобы сберегалась культурная среда обитания человека и эффективно функционировали трансляторы культуры. Одним из первых таких условий считается свобода. «Совершенная свобода слова есть единственная реальная борьба с злоупотреблением словами, с вырождением слов <…> Свобода слова ведёт к естественному подбору слов, к выживанию слов жизненных и подлинных» [Бердяев]. «Культура <…> нуждается в открытом пространстве и свободном слове» [Мамардашвили 1990:176]. Впрочем, нуждаясь в свободе, культура сама же её обеспечивает. «За равнодушие к культуре общество прежде всего гражданским свободами расплачивается. Сужение культурного горизонта – мать сужения кругозора политического. Ничто так не мостит дорогу тирании, как культурная само кастрация» [Бродский 1997:41].
Свобода обретается не только и не столько внешней – политической – борьбой, сколько состоянием духа, многогранностью культуры. Внутренняя свобода ведёт к альтернативности, без которой культуры просто не может быть, если это, конечно, не тоталитарная культура, но о ней разговор особый. Любая безальтернативности – уже бескультурье. «Для того чтобы нечто жило, нужен резерв неправильностей, вариантов, повторяемостей, отклонений, тогда включаются такие сложные, мучительные процессы, как, скажем, любовь» [Лотман 1994: 449].
Самым важным условием подъёма культуры, её сохранения и приумножения является создание гражданского общества, в котором обеспечены:
• достаточный уровень материального обеспечения;
• высокий уровень культуры: политической, правовой и т. д.;
• личная свобода и политические права;
• личное достоинство, возможность защищать свои осознанные интересы;
• собственная интеллигенция, которая организует и возглавляет культурную, идеологическую и политическую деятельность;
• собственный этос, т. е. целостная система поведения, в основе которого трудовая этика и культура труда [Стариков 1989:146].
Опыт человечества свидетельствует, что всё, возникающее в культуре, идёт ей на пользу. Отсюда делается логичный вывод: надо не защищать культуру, а не мешать ей жить естественно. Культура сохраняется в той мере, в какой она произрастает. Известный специалист по эпохе Возрождения Л. Баткин замечает: «Старые шедевры лучше всего были бы защищены неслыханно новыми шедеврами – в культурном, бунтующем и странно гармоническом соседстве» [Баткин 1989: 125]. «Ронсар в порыве самотворчества воскрешает Грецию, Расин – Рим, Гюго – Рабле, Коро – Вермеера, и нет ни одного выдающегося индивидуального творения, которое не было бы отягощено веками, не увлекало бы за собою их уснувшее величие. Традиция не наследуется, она завоевывается» [Мальро 1989:80–81]. Не античность вызвала к жизни Возрождение – Возрождение создало античное искусство – в этом видится парадокс сосуществования традиции и творчества. Возрождая традиции античности, Возрождение воздвигло величественное здание своей собственной культуры [Меликов 1999: 98].
Чтобы выжить, культура должна жить. Она не лось и не лес, её не спасти в заповедниках. Наоборот, культура умирает, как жемчуг, без общения с живым телом – так считает поэт А. Вознесенский.
Творить – значит сохранять. Одна из форм заботы о культуре – непрерывная творческая работа, обеспечивающая культуре преемственность, непрерывность внутреннего существования, порождающий потенциал. Творчество, – замечает писательница Л.Я. Гинзбург, – единственное, что никогда не надоедает. «Литература – это бессмертие языка» (Август Шлегель).
Язык является продуктом, составной частью и условием культуры. Язык и культуру объединяет человеческий дух, но дух сам по себе строится культурой и выражается в слове. Проблема экологии языка теснейшим образом связана с проблемой экологии культуры, поскольку важнейшим условием сохранения и развития культуры считается забота о языке. «Проблема восстановления культуры есть прежде всего проблема восстановления языкового пространства и его возможностей» [Мамардашвили 1990: 203–204]. За «обычным» искажением языковых норм, полагает философ, – обрыв вековых нитей национальной культуры. Сложившийся стихийно в полном согласии с природой, среди которой жили его носители, язык унаследовал от неё и стойкость, и ранимость и, как следствие, требует бережного к себе отношения. «И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бесценный – речь» (И. Бунин).
Глубокая и интересная статья философа М. К. Мамардашвили «Язык и культура» начинается с вопроса: «…Можно ли восстановить наши порванные внутренние связи с традицией мировой культуры?», на который дается краткий и определенный ответ: «Этот вопрос – проблема во многом языковая». Язык – это сама возможность существования культуры. Возвращение от «советского» языка, который целиком состоит из каких-то неподвижных, потусторонних блоков, не поддающихся развитию, из языковых опухолей, которыми нельзя оперировать, мыслить, – к тому самому великому и могучему русскому языку «золотого века» – первейшее условие экологии современной культуры (Мамардашвили 1991].
Справедливость этой мысли философа подтверждается опытом сохранения русского языка и русской культуры в изгнании. Эмигранты первой волны, несмотря на бедствия, принесенные войной, революцией, расколом общества, преследованиями и изгнанием, создали за пределами России русскую культуру которая явилась важным компонентом всей мировой культуры в ее материальном, интеллектуальном и духовном измерении. Это стало возможным прежде всего благодаря неустанной заботе о родном языке. Язык явился тем базовым элементом, который не просто воплощал в себе традицию русской культуры, отражая ее в литературе, но и представлял собой самосознание граждан Зарубежной России. Они отказались от реформы письма 1918 г., боролись с советскими и западными неологизмами, не приняли моды на аббревиацию и создали настоящий культ Пушкина [Раев 1994]. Забота о языке принесла впечатляющие результаты. «Главное наслаждение от произведений Набокова – осязать заповедный русский язык, незагазованный, не разоренный вульгаризмами, отгороженный от стихии улицы, кристальный, усадебный, о коем мы позабыли, от коего, как от вершинного воздуха, кружится голова, хочется сбросить обувь и надеть мягкие тапочки, чтобы не смять, не смутить его эпитеты и глаголы. Фраза его прозы – застекленная, как драгоценная пастель, чтобы с неё не осыпалась пыльца» [Вознесенский 1989: 96].
Задолго до споров об экологии великий немецкий поэт, мыслитель и государственный деятель И.В. Гёте писал: «Очищать и вместе обогащать родной язык – дело выдающихся умов. Очищение без обогащения – занятие для бездарных» [Гёте 1980:325]. По мнению Гёте, существует много способов очищения и обогащения языка, чтобы тот развивался, как живой организм. Поэзия и страстная речь – единственные источники живой жизни языка, и если силой своего стремления они и увлекают за собой мусор, то в конце концов он осядет и поверх него потечёт чистая волна [Гёте 1980: 325].
Перед нами фактически экологическая программа будущего, которую можно представить в формулировке самого Гете.
• Защита языка – «очищение» и «обогащение» его;
• «Очищать и вместе обогащать родной язык – дело выдающихся умов»;
• «Очищение без обогащения – занятие для бездарных»;
• «Существует много способов очищения и обогащения»;
• Создавать условия, «… чтобы язык развивался, как живой организм»;
• «Поэзия и страстная речь – единственный источник живой жизни языка…»; другими словами, источник жизни языка – художественная литература и публичная речь;
• «…Если силой своего стремления они и увлекают за собой мусор», бояться этого не следует, поскольку «мусор» в языке – явление неизбежное, ибо он живой организм и постоянно строится: «строительный мусор» – неудачная попытка обогатить язык или свидетельство недостаточного его знания. В любом случае «мусор» объективно важен;
• «…В конце концов он (мусор. – A.Х.) осядет и поверх него потечет чистая волна» – оптимистическая нота, которой так не хватает в современных экологических размышлениях.
Итак, что такое экология языка? Современные специалисты под экологией языка понимают культуру мышления и речевого поведения, воспитание лингвистического вкуса, защиту и «оздоровление» литературного языка, определение путей и способов его обогащения и совершенствования, эстетику речи. «…Всякое потерянное, искаженное или непонятое нами слово – это потерянный для нас мир, звено нашей культуры». Автор этих слов уверен, что если есть предельные уровни загазованности и радиации, то есть и предельные уровни загрязнения, языка, выше которого – необратимый процесс разрушения [Скворцов 1994:82]. Экология речи начинается с выполнения завета Н.В. Гоголя: «Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку» [Гоголь 1984].
В наши дни складывается специальная дисциплина, получившая название эколингвистики. На Всероссийской научно-методической конференции «Эколингвистика: теория, проблемы, методы» (Саратов, апрель 2003 г) обсуждались следующие вопросы: эколингв истина как наука о взаимодействии языка и окружающей среды; роль эколингвистики при изучении вопроса взаимодействия языков в период глобального распространения двуязычия и усиления контактов между различными народами и культурами; языковая эволюция, языковое развитие и языковые изменения; язык – среда и пространство человеческого бытия; внешняя и внутренняя экология языка; роль биологических, географических социально-этнических, национально-политических, экономических и других факторов в изменении и развитии языка; роль эколингвистических факторов в преподавании языка; эколингвистические проблемы речевой культуры.
Сейчас много размышляют о причинах деградации русской речи. «…Мы теряем его (русский язык. – АХ.) в России, а не в Молдавии, не в Эстонии. Его так цинично использовали для общегосударственных нужд – а эта сфера у нас бесконечно широкая, – что как бы лишили его жизни, как ни чудовищно звучат эти слова, в официальных письменных текстах происходит деградация русского языка» [Чудакова 1989]. Действительно, циничное использование языка для пропагандистских целей лишило язык жизни, и именно в официальных письменных текстах наиболее очевидна его деградация. Широкое распространение русского языка в СССР привело к «истончению» культурной наполненности. Судьба языка, теряющего закрепленные за словами культурные смыслы, напоминает несостоявшуюся судьбу эсперанто, у которого за словами не стоит культура. Причиной того, что этот многообещающий язык международного общения так и не распространился, считают отсутствие у него культуры и носителя [Воронцова 1998: 68].
Обеднило русский язык и негативное отношение к диалектам. Поскольку наличие диалектов в СССР считалось проявлением отсталости, полагали, что территориальная дифференциация языков будет преодолена. С развитием экономических связей районов страны, с повышением общей культуры населения и овладением им нормами литературного языка, с ростом мобильности масс происходит «усреднение», нивелировка диалектов и новая дифференциация. В диалекте отмечают три формы речи: а) чисто диалектную, которой пользуется старшее поколение, главным образом женщины, ограниченно грамотные и не принимающие участия в общественной жизни. Она обслуживает семейные и обиходно-бытовые отношения; б) литературную речь – речь местной интеллигенции – в сфере официально-деловой, культурно-производственной и для публичных выступлений; в) смешанную речь – соединение элементов диалекта и литературного языка, – которой пользуется основная масса производственников, активных в селе [Орлова 1960].
Вытеснение диалекта литературным языком – процесс чрезвычайно длительный и неоднозначный. Удивительно, что диалектные различия сохраняются у высоко-консолидированных народов – японцев, англичан, немцев. В Италии, где до сих пор сохраняются резкие диалектные различия между двенадцатью наиболее распространенными говорами, 65,6 % жителей в семейном общении используют диалект. Более 23 % опрошенных итальянцев на улице, на работе, в общественных местах употребляют только местный говор. Более ста лет прошло после объединения Италии в одно самостоятельное государство, а диалекты продолжают жить.
В постсоветское время отношение к территориальным диалектам стало меняться от социально-политической компрометации русских диалектов и замены их литературным языком до признания высокой культурно-этнической ценности этой формы речи. Вспомнили слова немецкого языковеда Л. Вайсгербера: «…Диалект – это языковое открытие родины <…> независимая ценность диалектов состоит в том, что они дают гармонию внешнего и внутреннего мира, что они действительны и в сравнении с литературным языком. Диалекты уходят, но пустоты заполняются но литературным языком, а жаргоном» (Цит. по: (Калнынь 1997: 120]). Множество диалектов – такое же благо для общенационально го языка, как и множество языков для человечества.
В перечне того, что угрожает литературному языку, Л. И. Скворцов в полемике с книгой К.И. Чуковского «Живой как жизнь» на первое место ставит заимствования: «иноземное засилье нам грозит» [Скворцов 1994]. На этом настаивают и авторы газетных заметок об иностранных словах в современной русской речи в быту и в средствах массовой информации. Только затем говорится о процессах стилистического снижения и вульгаризации речи, о вторжении инвектив (мата) в литературную речь и даже в словари литературного языка (третье, «бодуэновское», издание Даля, словарь Ожегова-Шведовой), об утрате художественно-эстетического речевого идеала.
Однако в рассуждениях о роли заимствований современной русской речью есть и противоположные суждения: серьезной опасности нет. Вслед за В. Г. Белинским, считавшим, что «гений языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить», и Л.В. Щербой, который отмечал свойство русского языка «не чуждаться никаких иностранных заимствований, если только они идут на пользу дела», многие специалисты говорят о том, что паника по поводу заимствований неуместна, и пытаются анализировать ситуацию. Выясняется, что заимствуется, во-первых, терминология из областей науки и техники, в которых заметно наше отставание, и, во-вторых, отдается дань моде (отсюда многочисленные презентация, рейтинг, консенсус, брифинг, шоп-тур и т. п.). Обе группы заимствованной лексики угрозы языку не представляют. Профессор Орловского университета Ф.А. Литвин проанализировал две статьи из «Российской газеты»: одну – о сотовом телевидении, другую – о финансовом рынке в России, и сделал вывод, что заимствованные слова в статьях неназойливы и давно уже «приручены» русским языком. По мнению лингвиста, «призы вы к спасению русского языка исходят из неверия в его жизнеспособность, а это ни в коей мере не следует из истории языка и оценки его потенциала. Напротив, из предыдущего опыта следует, что русский язык «вынесет все, что Господь ни пошлет»…» [Литвин 1998: 120].
Мировой опыт развития языков свидетельствует, что великий французский язык «сработан» из трех пластов: кельтского, романского и германского; что в английском отразилась культура норманнов и англосаксов плюс заимствования из многих языков и особенно из французского; что язык племен, живших в культурной изоляции, беден и постепенно деградирует; что чистота – не естественное, а искусственное состояние языка; что организм русского языка живет приступообразными периодами заимствований-отторжений; что язык сопротивляется нигилизму истории: иноязычное приручается, старое остается; что язык – такая стихия, которая насилия над собой не терпит; и т. д. и т. п.
Охранители боятся не столько заимствований, сколько исчезновения отечественного. Однако очевидно, что формы «чужое/ свое» сосуществуют параллельно: сакральный/святой, сандалии/ босоножки, имидж/образ. Такие же пары образуют заимствованные слова: помидоры/томаты, шоп/магазин, лизинг/аренда. Отчизна (из польского) не вытеснила родину, штакетник – забор, брюки – штаны, магазин – лавку. История русской лексики показывает, что поражение потерпели многие заимствования: переводчик вытеснил толмача, подписчик – субскрибента. Ушли из активной речи манифест и рескрипт, циркуляр заменился указом, приказом, постановлением. Свое очень устойчиво. Заимствование может потеснить только заимствованное слово: имбирь вытеснил зензевель, шарф – кашне, студентка – институтку, семинарист – бурсака. По мнению автора, заметки которого мы только что излагали, «даже это запрещено духом языка, защищающим привычное, обрусевшее слово: чаще всего они продолжают сосуществовать. Клоун не вытеснил паяца. Шут и скоморох тоже не пострадали. Кретин не отменяет идиота, а оба они – дурака» [Иваницкий 1998].
Русский язык по-прежнему «велик и могуч». Его лексический инвентарь и запас выразительных средств колоссальны и продолжают расти. Русский язык как коммуникативный феномен не требует никакой защиты – ни юридической, ни моральной. «Язык – зеркало того общества, в котором он функционирует. Если больной или переживающий душевный кризис человек смотрится в зеркало» то в зеркале, естественно, отражаются наблюдающиеся у него внешние признаки болезни или душевного кризиса. Но при этом само зеркало никакого кризиса не переживает. Язык как система не переживает кризиса, но можно говорить о наличии критических явлений в отношении общества к освоению и употреблению языка» к соблюдению языковых норм» [Стернин 1998:4].
Однако моральной, филологической» а иногда и юридической защиты требует наша речь. Индивид получает язык как нечто данное» уже до него существующее, а речь во всех случаях каждому человеку приходится формировать самостоятельно. «И тут открывается печальная картина. Культура речевого взаимодействия упала до самой низкой черты. Русская речь катастрофически отстаёт от высоких эталонов российской словесности» [Комлев 1998:5]. Так что защищать надо не язык, а речь и бороться надо не с заимствованиями, а с проводниками этих заимствований, всячески повышая их образовательный и культурный уровень. Бояться надо не заимствований, бояться надо культурного выхолащивания слов. Невысокая речевая культура – зеркало низкой общей культуры. «…Орфографию невозможно улучшить в отрыве от общей культуры. Орфография обычно хромает у тех, кто духовно безграмотен, у кого недоразвитая и скудная психика. Ликвидируйте эту безграмотность, и все остальное приложится», – считал замечательный знаток и ревнитель родного языка К.И. Чуковский.
Специалисты по языкознанию и культурологии говорят о трех главных источниках и регуляторах творческой деятельности и жизни языка. Это 1) школа, 2) лингвистическая наука и 3) художественная литература в ее лучших образцах. Чтобы эти источники не засорились, не обмелели, необходимо повышенное внимание к ним со стороны общества и государства. Постоянно возникает вопрос о создании закона о русском языке. Опыт стран, принявших аналогичные законы (Франция, Исландия), убедительно свидетельствует в пользу подобных законодательных акций. Утверждена федеральная программа «Русский язык», которая, как кажется, начинает реализовываться.
Зашита языка – дело коллективное, национальное, но эффективной она может быть только при условии личной активности каждого носителя языка. Примером может служить русский эмигрант В. Набоков. «Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашёл ка книжном лотке <..> Толковый Словарь Даля в четырёх томах. Я приобрёл его за полкроны и читал его, по нескольку страниц ежевечерне, отмечая прелестные слова и выражения… Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно впрочем сильными когтями из России, стал прямо болезнью». Это слова из автобиографической книги В. Набокова «Другие берега». Сама книга, равно как и другие произведения этого автора, свидетельствуют, что усилия молодого эмигранта из России не оказались напрасными: русский язык был им для себя сохранён, творчески обогащён и возвращён в Россию. Узнику ГУЛАГа А.И. Солженицыну в лагере попался один том Даля, и эта книга для будущего писателя оказалась и средством спасения духа, и базой «языкового расширения» – сохранения и приумножения родного слова.
Синергетика – современная наука о сложных, самоорганизующихся системах, у которых существует несколько альтернативных путей развития, – не считает преувеличенной роль личности в сохранении и преумножении языка. Специалисты полагают, что усилия отдельного человека не бесплодны: «В особых состояниях неустойчивости социальной среды действия каждого отдельного человека могут влиять на макросоциальные процессы. Отсюда вытекает необходимость осознания каждым человеком огромного груза ответственности за судьбу всей социальной системы, всего общества» [Князева, Курдюмов 1992: 5]. Автор идеи синергетики И. Пригожин говорит о наличии в сложных, саморегулирующихся системах так называемых точек бифуркации, под которыми понимается слабое воздействие, радикально изменяющее ход процесса.
Внимание к проблемам культуры и внедрение в систему образования особой научной дисциплины – культурологии – имеют весьма важное значение. Логичнее и легче защитить и сохранить то, что знаешь. Изменить отношение к культуре можно только в том случае, если знаешь, что это такое. Как говорил мыслитель, культура есть нечто, что не существует до тех пор, пока она не оказывается понятой. Изучение культурологии, таким образом, преследует цель не только просветительско-образовательную, но и эколого-воспитательную. Столь же необходима и такая учебная дисциплина, как лингвокультурология.
Рекомендуемая литература
1. Савельева Л.В. Языковая экология: Русское слово в культурно
историческом освещении. Петрозаводск, 1997.
2. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., 1982.
Раздел V Исследовательский инструментарий лингвокультурологии
Наука и метод
Любая область человеческого познания, претендующая на звание науки, должна обладать, наряду с 1) объектом, 2) предметом изучения и 3) метаязыком (посредством которого описываются и исследуются свойства некоторого другого языка, в частном случае это набор специальных лингвистических терминов), ещё и 4) определенными исследовательскими методами. Подлинная наука возникает только тогда, когда формируются и систематически используются особые научные методы эмпирического и теоретического исследования явлений природы.
В узком смысле метод представляет собой определенный подход к изучаемому явлению, систему положений, научных и чисто технических приемов и процедур, способствующих целенаправленному изучению объекта с определенной точки зрения. «Под методом я разумею точные и простые правила, соблюдение которых способствует увеличению знания» [Декарт 1950:89]. Известный врач и учёный Г. Селье развивает это понимание метода: «Под научным методом мы понимаем ряд таких процедур, которые используются в процессе приобретения знаний и которые основываются на следующем: 1) распознавании и чётком формулировании проблемы; 2) сборе данных посредством наблюдения
и, насколько это возможно, эксперимента; 3) формулировании понятия посредством логических рассуждений; 4) проверке этих гипотез» [Селье 1987: 47—2481. Говорят, что теория есть специфическая практика, которая воздействует на собственный объект и создает собственный продукт – знание. Одним из основных требований к научному методу является предсказуемость результатов эксперимента, в то же время сам итог научного исследования непредсказуем. Известный учёный К. Поппер предложил следующий критерий научной теории: «Теория только тогда является научной, когда можно указать принципиально осуществимый эксперимент, её опровергающий («принцип фальсифицируемости»)».
Лингвокулътурология в поисках собственных методов
Эффективность лингвокультурологического анализа зависит от уровня разработки и внедрения новых методов, методик и приёмов. Известно, что наличие и качество методологии – показатель степени самостоятельности науки, её эвристического потенциала, глубины постановки и решения вопросов, доказательности выводов и уровня профессионализма исследователя. Пока что самым уязвимым местом столь уверенно вступающей в жизнь научной дисциплины является неразработанность её методологии. Лингвистика, этнография, литературоведение, культурология, философия, соединяясь в рамках одной учебной и научно-исследовательской дисциплины, предлагают и свои методы. Однако достаточно продуктивно работающий в своих «исконных» науках, этот методологический инструментарий в новых условиях теряет эффективность. Как лингвокультурология не есть механическая совокупность сотрудничающих наук, так и её методология не может быть микстурой из их методологий.
Перед ликгвокультуроведением и всеми его конкретными дисциплинами, устанавливающими и описывающими связи между языком и культурой, остро стоит вопрос о методологии научного поиска, разработки системы методов, методик и приемов, адекватных глубине и деликатности связей между словом и культурным смыслом. Речь идет если не о смене парадигмы, то о решительной смене подхода к проблема. Лиигвокультурология нуждается в методиках системных, универсальных, не зависимых от эмпирики, оперирующих большим массивом фактов, способных обобщить фактуру и органически совмещать содержательный анализ с квантитативным. Одним словом, требуется система методик взаимозависимых и взаимодополняющих. Сами методы нуждаются в детальной эксплицитной оценке и переоценке.
Поскольку лингвокультуроведение на современном этапе строится усилиями прежде всего лингвистов, наиболее востребованными оказались методы языкознания. К тому же языкознание, по существу, занимает особое место среди гуманитарных наук, дав классические образцы научной точности. Так, по мнению учёных, сравнительно-историческое языкознание до сих пор остаётся примером точного лингвистического исследования. Не случайно установленные лингвистикой факты широко используются историками, литературоведами и представителями других смежных общественных наук. «Нет анализа более точного, чем языковой. В самые смутные вопросы лингвистика нередко вносит математическую прозрачность» [Осетров 1970: 23].
Знаменательно проведение в Институте языкознания РАН совещания «Фразеология в контексте культуры. Методологические проблемы лингвокультурологического анализа фразеологизмов* (Москва, июнь 1999). С методологической точки зрения, лингвокультурология понимается как искусство и теория истолкования языковых текстов, как связь лингвистики с герменевтикой. Участники выступили против атомарности в разведении языка и культуры, поскольку дробление разрушает объект исследования [Вопросы филологии. 1999. № 2. С. 114–116]. Особой методики требует исследование проблем культурного бессознательного.
Концептуальный анализ
В этнолингвистических и лингвокультурологических исследованиях наиболее популярной стала методика концептуального анализа, которая была разработана и убедительно представлена французским лингвистом Э. Бенвенистом в книге «Общая лингвистика». Ядро методики – семантическая реконструкция, суть её в том, что «значение» лингвистической формы определяется всей совокупностью её употреблений, её дистрибуцией и вытекающими из них типами связей. Реконструкция базируется на внимательном изучении совокупности контекстов, где может быть употреблена исследуемая форма [Бенвенист 1974: 332]. С помощью предложенной методики очевидной становится связь семантики и культуры, а сама методика оказывается надежным инструментом выявления происхождения «некоторых важных терминов современной культуры» [Бенвенист 1974: 18].
Итак, концептуальный анализ основывается на сопоставлении совокупности словоупотреблений лексем, реализующих тот или иной концепт, с последующей интерпретацией смысловых различий в словоупотреблении– Исследуется, скажем, концепт «свеча» в русской фольклорной и авторской поэзии [Климас, Шабанова 2002]. С этой целью привлекается репрезентативный корпус текстов. В нашем случае это авторитетные собрания народных лирических песен и былин, а также стихотворные произведения более сорока русских поэтов. Методом тотальной выборки извлекаются все контексты со словоупотреблениями лексемы свеча. Анализ контекстов позволяет увидеть, что в фольклорных песнях свеча ассоциируется с девическим ожиданием возлюбленного, а свеча вкупе с винцом олицетворяют разделённую, взаимную любовь и веселье. Получает развитие смысловая связь «свеча – расставанье, милый ушёл – свеча погасла. В народной лирике свеча фигурирует и как предмет религиозной обрядности, причём (это заметил В. И. Даль) домашнюю свечу можно зажечь, засветить, погасить и потушить, а церковную – затеплить и сокротить. В былинных текстах семантика свечи обогащается новыми обертонами. Она выступает в качестве сравнения при создании идеального портрета или идеального оружия, где актуализируется не ценностное, а эстетическое значение. Реализуется традиционная поэтическая параллель: свеча ~ человеческая жизнь, угасание свечи – смерть героя.
В авторской поэзии XVIII в. просматривается тенденция продолжения фольклорной традиции– У Жуковского (уже XIX в.) свеча – элемент магического действа гадания. В описании обряда венчания свеча передаёт настроение ослепляющего счастья и радости. «Бытовая» свеча у Жуковского связана с покоем, уютом, тишиной. У Пушкина, Лермонтова, Огарева свеча одинокая и печальная – в центре ситуации одинокого ночного бдения лирического героя. Язык лирики XX в. обнаруживает тенденцию к расширению круга синтагматических связей лексемы свеча, к поискам новых, нестандартных связей и характеристик (зеленые свечи у Анненского, зеленоватая страшная свеча у Ахматовой, синие к роговые свечи пейзажной лирики Есенина и Шубина, черные и вечнозолотые свечи философской поэзии Мандельштама и Ахмадулиной).
Примерно такова логика концептуального анализа в диссертационных исследованиях последних лет типа: Печенкина О.Ю. Содержание концептов «Бог» и «судьба» в текстах пословиц и поговорок, собранных В.И. Далем. Орёл, 2001; Костин А.В. Способы концептуализации обиходно-бытовых понятий в разножанровых произведениях В.И. Даля (на материале концепта «вода»). Иваново, 2002; Гергианова А.Ф. Концепты «рай» и «ад» в языковой картине мира В.В. Набокова (по роману «Дар»). Уфа, 2003; др. (см. также: [Тильман 1999]).
Многочисленные публикации о так называемых «ключевых словах культуры» в большинстве своём – упрощенные образцы концептуального анализа.
К сожалению, эффективность методики снижается из-за определенной атомарности в подходе к слову как автономной сущности. Желателен учёт совокупности концептов с повышенным вниманием к отношениям и связям между ними, на чем основывается методика кластерного анализа, речь о которой пойдёт ниже.
Дискурсный анализ
Проблема «Язык и речь» тесно связана с понятием дискурса и дискурсного анализа. Дискурс (фр. discours – речь) – в широком смысле представляет собой единство языковой практики и экстралингвистических факторов… необходимых для понимания текста, т. е. дающих представление об участниках коммуникации, их установках и целях, условиях производства и восприятия сообщения [Новейший ФС 1998: 222]. Это связный текст в совокупности с экстралингвистически ми факторами, взятый в событийном аспекте. Это речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, речь, «погруженная в жизнь» [ЛЭС 1990:136].
Дискурсный анализ – это междисциплинарная область знания, связанная с лингвистикой текста, стилистикой, психолингвистикой» семиотикой, риторикой и философией. Известна французская школа дискурсного анализа, обращающая особое внимание на идеологический, исторический и психоаналитический аспекты дискурса. В работах виднейшего представителя этой школы М. Фуко «дискурсия» понимается как сложная совокупность языковых практик, участвующих в формировании представлений о том объекте, который они подразумевают. М. Фуко стремится извлечь из дискурса те значения, которые подразумеваются, но остаются невысказанными, невыраженными, притаившимися за уже сказанным. Суть дискурсного анализа – «отыскать безгласные, шепчущие, неиссякаемые слова, которые оживляются доносящимся до наших ушей внутренним голосом. Необходимо восстановить текст, тонкий и невидимый, который проскальзывает в зазоры между строчками и порой раздвигает их. <…> Его главный вопрос неминуемо сводится к одному: что говорится в том, что сказано?» [Фуко 1996: 29]. В ходе дискурсного анализа учитывают не только лексико-синтаксическую структуру текста, но и то, когда, где, кем текст был написан, к кому обращен, по какому поводу, с какой целью, в чьих интересах, каковы оценочные, идеологические установки автора [Алисова 1996: 7]. Особый интерес для этого анализа представляет паралингвистическое сопровождение речи, внеязыковые семиотические процессы.
Можно утверждать, что дискурсный анализ – это стратегия исследования текста, предполагающая комплекс методик, которые практически не эксплицированы и фрагментарно используются исследователями на интуитивном уровне.
Рекомендуемая литература
Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / Пер. с фр. и порт. М., 1999.
Квантитативная лингвистика
Усвоение науками отвлеченных понятий и методов математики расширяет их возможности, способствует открытию новых, более глубоких закономерностей. Не случайно еще в X в. ученый и философ эпохи Возрождения Николай Кузанский в трактате «Об ученом познании» утверждал, что все познания о природе необходимо записывать в цифрах, а все опыты над нею производить с весами в руках. Философ И. Кант был убеждён, что точное естествознание простирается до тех границ, в пределах которых возможно применение математического метода.
Если науки естественного цикла сравнительно давно заговорили на языке математики, то гуманитарные науки обратились к нему только в XX в. Первой среди них была лингвистика, занимающая особое, срединное положение среди всех областей человеческого познания. Системность языка, обобщенный характер его единиц – вот та благодатная почва, на которой стали плодотворно укореняться идеи и методы современной математики. В лингвистике есть все условия, необходимые, с точки зрения известное кибернетика Н, Винера, для математического исследования. Во-первых, в лингвистике влияние наблюдателя на объект наблюдения ничтожно мало, осознания явления наблюдателем недостаточно для того чтобы его изменить. Во-вторых, язык обладает длинными статистическими рядами [Леви-Строс 1985: 54–55].
Языкознание первым из гуманитарных наук от установки на полное и исчерпывающее описание отдельных фактов перешло к установке на обобщение, на поиски единого закона, объясняющего необозримое множество отдельных фактов. Эта познавательная установка и определила интерес к математическим методам.
Пока наиболее перспективным представляется исследование сущностных характеристик языка при помощи аппарата теории вероятности и математической статистики – квантитативная лингвистика. Собственно говоря, связь математики с языкознанием началась с попыток установить статистические свойства речи, поскольку языку присущи объективные количественные характеристики. Благодаря вероятностной природе языковой структуры, а также регулярности, упорядоченности языковых явлений, она легко поддается изучению математическим аппаратом теории вероятности и математической статистики. Уже существует большая специальная литература, отразившая результаты применения статистических методик в исследовании различных ярусов языковой системы.
Шире всего количественные методики используются при описании лексического уровня языковой системы. Лингвисты убеждены, что лексемный ярус системен, но это системность особого рода. В лексике целостность и устойчивость системы сочетается с автономностью частей (подсистем). В ней заметна массовость и случайность и одновременно господствует необходимость. Всё это характерно для вероятностных систем. Известен вывод Б.Н. Го* л овина: «Язык вероятностен, речь частотна». Квантитативная лингвистика возможна потому, что для речи характерна относительная стабильность частот отдельных элементов или групп элементов и устойчивое распределение элементов, выражающее наличие внутренней упорядоченности в системе. Единицами и уровнями квантитативного анализа являются словоформы, лексема и словоупотребление (Тулдава 1987].
Практическим результатом статистического изучения лексики являются частотные словари, отличающиеся от обычных лингвистических (толковых, орфографических и других) тем, что словарные единицы располагаются не только в алфавитном порядке, но и в порядке убывающей частотности. В первом случае это будет алфавитный частотный словарь, а во втором – ранговый частотный словарь. Частотные словари характеризуются следующими параметрами; объём текста (число словоупотреблений), объём словаря словоформ, объём словаря лексем.
Первым частотным словарём был словарь Кединга (1898). В течение XX в. составлено несколько сот частотных словарей и частотных списков для нескольких десятков языков. Первым частотным словарём русского языка был словарь Г. Йоссельсона (США, Детройт, 1953). В нашей стране первый частотный словарь русского языка был составлен Э. Штейнфельд (1963). Интересны материалы к частотному словарю языка Пушкина (1963). В 1977 г. вышел в свет «Частотный словарь русского языка» под редакцией Л.Н. Засориной. Создавался он на основе выборки в один миллион словоупотреблений из четырёх жанров (художественная проза, драматургия, научная публицистика, газетно-журнальные материалы). В нём около 40 тысяч слов. Самое частотное слово – предлог в (во), далее идут служебные слова и местоимения (и, не, на, я, быть, что, он, с, а, как, это). Самое частотное существительное – год.
В 90-х годах XX в. в Швеции вышел в свет «Частотный словарь современного русского языка» (Уппсала, 1993).
Количественная методика стала более эффективной с появлением вычислительной техники. С помощью формально-количественных методов изучается авторский идиостиль, под которым В.П. Григорьев понимает взаимосвязь между языковыми средствами и особенностями творческой позиции писателя, его взгляда на мир, на окружающую действительность.
Определение авторства с помощью формально-количественных и статистических методов стимулировало поиск и выявление характерных структур авторского языка. На этом строятся многообразные методики, представленные в книге «От Нестора до Фонвизина. Новые методы определения авторства» (М., 1994). Специалисты исследовали несколько простых параметров авторского стиля и на базе большого количества произведений писателей XVIII–XX вв. статистически доказали, что доля всех служебных слов в данном прозаическом произведении является авторским инвариантом. Один из авторов, опираясь на модель цепей А.А. Маркова, предложил методику определения авторства, основанную на том, что по произведениям автора, которые достоверно им созданы, вычисляется матрица переходных частот употреблений пар букв. Затем такие матрицы строятся для каждого из авторов, «подозреваемых» в написании анонимного текста, и для каждого автора оценивается вероятность того, что именно он написал анонимный фрагмент текста. В результате автором анонимного текста полагается тот, у которого вычисленная оценка вероятности больше.
Знаменитый шедевр древнерусской словесности XII в. «Слово о полку Игореве», уникальность которого вот уже более столетия ставится скептиками под сомнение, был подвергнут жёсткой формально-количественной ревизии. Применение анализа частот парной встречаемости грамматических классов слов позволило наглядно доказать, что глубинная структура «Слова» – это структура языка XI столетия. Этот формально-количественный анализ не отвергает гипотезы историка Б.А. Рыбакова о боярине Петре Бориславиче как авторе «Слова о полку Игореве». Возможно, отчасти она и подтверждена. Однако, полагают исследователи, необходимо ещё более детальное исследование текстов, которое будет проведено в ближайшее время [От Нестора… 1994: 340].
В многолетний спор по поводу того, кто является истинным автором романа «Тихий Дон», в свое время включились скандинавские ученые, норвежско-шведский коллектив под руководством Г. Хьетсо. Они взяли тексты, бесспорно принадлежащие М. Шолохову, и тексты донского писателя Ф. Крюкова, которому приписывалось авторство великого романа, и проанализировали их, выявляя особенности писательской манеры каждого. Учёные сравнили длину предложений, распределения длины предложений по количеству слов, распределение частей речи, сочетание частей речи в начале и в конце предложения, частоту применения союзов – в начале предложений, лексические спектры, повторяемость словарного запаса по богатству. Естественно, это оказалось возможным только с помощью мощной компьютерной техники. Математическая статистика при контрольной выборке на ЭВМ 12 тыс. фраз при 164637 словах представлена в 250 таблицах, формулах и графиках [Книжное обозрение. 1999. № 18–19. С. 6]. Вывод однозначен: из двух претендентов на авторство «Тихого Дона» Крюков явно обладает наименьшим правом. «…Применение математической статистики позволяет нам исключить возможность того, что роман написан Крюковым, тогда как авторство Шолохова исключить невозможно». Недавно найденная рукопись великого романа (885 рукописных страниц, 605 из которых написаны рукой самого Шолохова, а 285 страниц – женой писателя и её сестрой) окончательно утвердила авторство М. А. Шолохова и правоту скандинавских ученых [Наука и жизнь. 2000. № 1. С. 24–25].
В Эдинбурге (Англия) разработан аналитический метод, основанный на учёте зависимости частоты употребляемого слова и длины предложения, в котором оно появляется. Этот метод получил название «диаграммы накапливающихся сумм». С его помощью установлено, что каждому человеку свойствен прочно укоренившийся, неизменный стиль, который не поддаётся имитации. Например, стиль Т. Харди в «Руке Этельберты» (1876) убедительно совпадает со стилем «Джуда Неизвестного». Анализ показал, что авторы приобретают и сохраняют постоянный стиль, как бы ни сложилась их жизнь. Например, стиль В. Скотта в «Антикварии» (1816) полностью совпадает с его стилем в «Замке опасностей», написанном после того, как знаменитый английский писатель перенёс три инсульта, один из которых лишил его дара речи и нарушил двигательные способности. Метод выявляет в тексте инородные вставки, обнаруживает попытки подделать авторский стиль. Английская писательница Джейн Остин не окончила повесть «Сандиция», которая обрывается на семьдесят третьем предложении одиннадцатой главы. Повесть была дописана другой писательницей. При чтении невозможно определить, где заканчивается текст Д. Остин, а метод позволяет точно найти инородную часть повести [За рубежом. 1990. № 44. С. 20—211.
Тот факт, что объём активного лексикона Шекспира составляет от 15 до 24 тыс. слов и что им введено в язык свыше 3200 новых слов, свидетельствует в пользу тех, кто считает, что Шекспир – это псевдоним, под которым творил не один человек. У Ф. Бэкона, которому некоторые приписывают авторство пьес и сонетов Шекспира, лексикон составлял 9—10 тыс. слов (у современного англичанина с высшим образованием словарный запас включает 4 тыс. лексем) [Знание – сила. 2000. № 2. С. 109].
Петербургский поэт и переводчик «Слова о полку Игореве» Андрей Чернов нашёл, что построение стихов загадочного древнерусского памятника подчиняется определенным математическим закономерностям, а именно – формуле «серебряного сечения». А. Чернов сделал заключение о том, что «Слово о полку Игореве» имеет девять песен и что в основу текста легла круговая композиция. Если в композиции «Слова» лежит круг, то у него должен быть «диаметр» и некая математическая закономерность. Число стихов во всех трёх частях «Слова» (их 804) А. Чернов разделил на число стихов в первой (или последней) части (256), в итоге получил 3,14, т. е. число «пи» с точностью до третьего знака. Эта же закономерность выявилась при изучении «Медного всадника» Пушкина, в котором использована круговая композиция, и храма Софии Полоцкой. А. Чернов сделал вывод: математический модуль автор «Слова» использовал интуитивно, неся внутри себя образ древнерусских архитектурных памятников. В те времена храм являл собой всеобъемлющий художественный идеал, оказывающий влияние на композицию и ритмику стихосложения. Исследователь назвал обнаруженную им закономерность в построении древнерусского литературного памятника и древнерусских храмов принципом «серебряного сечения» [Известия. 1995. 1 февр. С. 7].
Лингвостатистический анализ был использован в исследовании «Илиады» Гомера. Чтобы доказать, что Гомера не было, и все 24 песни «Илиады» по происхождению – самостоятельные произведения, соединенные в эпос позднее без особой переработки с целью унификации, была использована статистика отношений внутри синонимических пар (имен собственных, просто лексических пар, формул и т. п.). По мнению автора исследования Л. С. Клейна, наиболее полные возможности для классификации текстов представляют главные этнонимы греков (ахейцы, данаи и аргивяне): они все три синонимичны, массовы (употребляемость исчисляется сотнями), и они неравномерно и неодинаково распределяются по книгам «Илиады». Окончательный вывод исследователя состоит в том, что разная употребительность имен, а также предлогов и частиц говорит о том, что песни были не просто и не только источниками, а самостоятельными вкладами, ставшими составными частями поэмы, сохранность в окончательном тексте первоначально выбранных этнонимов, топонимов, теонимов и служебных слов (и это при наличии других синонимов) говорит о том, что переработка поэтической ткани при объединении самостоятельных песен в поэму была незначительной [Клейн 1998: 18, 96, 112, 436]. Как показано исследователем, фольклорные песни, составленные в разных местах древнегреческого мира, воспевали подвиги разных героев – участников и троянской войны, и прочих мифических кампаний. Песни приспосабливались к ранее существующим сюжетам, взаимопересекаясь, часто противоречили друг другу. «Стыки» разных песен были обнаружены тонко проведенным анализом.
Отдавая должное квантитативным методикам получения информации, не следует забывать и об ограниченности их. Известны три типа получения знаний: 1) интуитивный, 2) научный и 3) религиозный. Наука (по Хайдеггеру) есть знание, проверяющее себя, экспериментирующее со своим объектом и переделывающее его. Полагают, что наука в состоянии познать только те явления, свойства которых можно оценить числом. Например, работу гипнотизера нельзя описать математическими формулами, и тем не менее результаты её несомненны и воспроизводимы. Достижения индийских йогов – экспериментальный факт, многократно проверенный. Однако эти феномены не могут стать объектами точной науки, поскольку они не поддаются количественному описанию с помощью чисел и формул. Ограниченность науки также и в невозможности понять секрет искусства. И даже сам метод открытия глубоких научных истин лишь отчасти принадлежит науке и в значительной мере лежит в сфере искусства (Пономарёв 1989: 354–355].
Корпусная лингвистика
Лексикографический и квантитативный подходы сошлись в так называемой корпусной лингвистике, которая основывается на использовании корпуса, т. е. большого объема языкового материала, извлеченного из разнообразных источников и сведенного в компьютеризованную систему (например, Cobuild Bank of English включает более 500 млн словоупотреблений). У исследователей открывается доступ к большому объему текстов, что позволяет избежать неправомерных обобщений о состоянии языка, которые возможны при работе с ограниченным и разрозненным эмпирическим материалом. [Гвишиани, Герви 2001].
Огромный и постоянно пополняющийся массив языкового материала, фиксирующий накопление тех или иных свойств, позволяет увидеть то, что традиционным словарям не под силу. Выясняется, что многие слова и словосочетания имеют тенденцию появляться в определенном семантическом окружении (так, глагол happen, как правило, ассоциируется с неприятными событиями). Стало очевидным, что между словами существуют семантические ассоциации, своего рода «семантическое притяжение». Замечено, что каждое слово тяготеет к определенному месту или позиции в составе предложения (так, заурядное слово sixty ‘шестьдесят’ в 2/3 случаев встречается в тематической части предложения, в 71 % контекстов является первым словом в предложении, а в 10 % – первым словом в тексте). Корпусные исследования аргументируют тезис, что семантические и функциональные особенности слов находят отражение в частотности их употребления. Корпусный подход постулирует «фразовость и контекстуальность языка» [Гвишиани, Герви 2001].
Корпусная лингвистика сосредоточила своё внимание ка грамматике выбора, отражающей установившуюся практику использования слов, на грамматике речи. Корпусный подход используется и при решении традиционных вопросов, например, разграничения полисемии и омонимии.
Для лингвокультуроведов важным представляется вывод пионеров корпусной лингвистики о том, что это направление пересекается с когнитивными исследованиями, поскольку большинство речевых решений говорящего продиктовано определенной культурой и зависит от нашего знания и понимания мира. Отсюда вытекает идиоматический принцип языка, под которым понимают специфические и уникальные черты языкового употребления, выводимые из привычек, традиций, навыков, норм и стандартов, принятых говорящими в построении. В качестве примера приводится различие французского и немецкого языков: в ряде случаев в немецком представлены три или четыре специальных глагола, соответствующих одному общему наименованию во французском языке [Гвишиани, Герви 2001: 50–51].
Основные направления в разработке лингвокультурологической методологии
В конце XX столетия стало складываться направление научных поисков в русле сопоставительного метода, ориентированное на семантику сравниваемых единиц, принадлежащих различным языкам. Это направление называется по-разному: этносемантика, этногерменевтика и т. д.; это может быть сопоставительная паремиология. Так, СТ. Воркачёв сравнивает русские и испанские пословицы и поговорки с общим значением ‘безразличие’ и приходит к выводам о сходстве и различии менталитета двух народов, двух типов языковой личности. Сходство объясняется тем, что русские и испанцы находятся в рамках общей европейской культуры, а различие – особенностями национального характера. Так, русская языковая личность с большей нетерпимостью относится к «половинчатости», качественной неопределенности человека, ей более свойствен максимализм («всё или ничего») в ситуации риска, она терпимее к волеизъявлениям и желаниям другого. Испанская же языковая личность большее внимание уделяет такой моральной характеристике своего речевого партнера, как упрямство. На фойе нейтральности испанской языковой личности русская озабочена проблемами стыда и совести, бренности существования [Воркачёв 1997].
В поисках эффективного инструментария для лингвокультурологии одним из важнейших направлений становится лексикографическое. Лексикографизация методов лингвистики, столь активная к концу XX столетия, по мнению акад, Ю.Д. Апресяна, – результат прорыва лингвистики в микромир языка, когда объектом скрупулезно анализа стали отдельные слова [Апресян 1999: 53], добавим: со всеми их связями с другими словами. Глубина лексикографического описания соединилась с тотальным охватом языкового материала, обеспеченным так называемыми корпусными исследованиями.
Первым ощутил эвристическую мощь лексикографии в фундаментальных исследованиях вообще и в выявлении мировидения носителей языка и культуры в частности русский писатель и теоретик литературы Андрей Белый (1880–1934).
Перед исследователем, предполагающим использовать идею языковой картины мира, обычно встаёт проблема дискретного представления этого феномена. В этом отношении интересной и чрезвычайно перспективной представляется технология, предложенная Андреем Белым в небольшой статье «Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы»:
– «…Необходима статистика, необходим словарь слов: Баратынского, Пушкина, Тютчева»; «в руках чуткого критика словари – ключи к тайнам духа поэтов»;
– «…Нужна квинтэссенция из цитат – предполагающая нелёгкую обработку словесного материала»;
– «Каково отношение Пушкина – к воде, воздуху, небу и прочим стихиям природы? Оно – в сумме всех слов о солнце, а не в цитате, и не в их ограниченной серии» (подчёркнуто нами. – А.Х.);
– «Изучение трёх «природ» трёх поэтов по трём зрительным образам («зрительный образ» = «картина мира» – А.Х.) нас способно ввести в глубочайшие ходы и их душ и в тончайшие нервы творчества»;
– «…Необходима путеводная нить – материал слов, образов, красок, рассортированный точно и собранный тщательно.» (подчёркнуто нами. – А.Х.) [Белый 1983: 551–556].
То, что было ясно Андрею Белому в начале XX века, становится очевидным для современных лексикографов. Слова, «собранные тщательно» и «рассортированные точно», способны дать информацию, которую другим путём ни за что не получишь.
Известный отечественный лексикограф ГА. Богатова пишет: «Слово и в тексте памятника письменности несёт конкретную историко-культурную информацию, но в словаре оно попадает в особую среду, которая вполне высвечивает связи слова и лучше хронологнзирует его семантические изменения – ведь слово «живёт», как правило, в корневой группе, благодаря чему его история как бы обретает свою плоть, возникает эффект «радуги» значений. Открывается возможность не только проследить за закономерностями эволюции лексики, но и взглянуть на те «приращения семантики слова», которые связаны с социальной, культурной, исторической обстановкой, в которой оно функционировало, и зафиксировать их в дефинициях за счёт включения сведений историко-энциклопедического характера, в системе помет, в подборе иллюстраций» [Богатова 1995: 22]. Вспоминаются хрестоматийные слова Д. Дидро о том, что одно лишь сравнение словаря в разные эпохи дает возможность представить характер прогресса народа.
Акад. Ю.Д. Апресян, работающий над словарем синонимов нового типа, высказывает плодотворную мысль: «Сверхзадачей системной лексикографии является отражение воплощенной в данном языке наивной картины мира – наивной геометрии, физики, этики, психологии и т. д. Наивные представления каждой из этих областей не хаотичны, а образуют определенные системы и, тем самым, должны единообразно описываться в словаре. Для этого, вообще говоря, надо было бы сначала реконструировать по данным лексических и грамматических значений соответствующий фрагмент наивной картины мира»[Апресян 1995: 39].
Опыт разработки комплекса липгвокультурологинеских методик
Каждый из отмеченных подходов к языку как источнику объективной информации о ментальности носителей языка имеет право на существование и способствует расширению наших знаний и о языке, и о менталитете. Однако каждый из подходов достаточно ограничен в своих эвристических возможностях, что предопределяет необходимость поиска и иных подходов к решению поставленного вопроса.
Мы теперь знаем, что слово – не только практическое устройство передачи информации, но и инструмент мысли и аккумулятор культуры. В результате слово превращается в надежное хранилище истории, мысли и культуры народа. И хотя мысль об особом – аккумулирующем – свойстве слова возникла давно, до сих пор не решен вопрос о том, что представляет собой «культурная память» слова, каков механизм этнокультурной аккумуляции, что представляют собой «узелки памяти». Полагают, что гениальность писателя состоит в умении выбрать и соединить такие слова, в которых читатель острее всего на интуитивном уровне улавливает сущностные этнокультурные смыслы.
Однако есть все основания полагать, что этническое, ментальное как некая «тайна» в полной мере представлено на бессознательном, архетипическом уровне, а потому может быть выявлено только через языковой анализ посредством лингвокультуроведческих методик.
В книге Н.Б. Мечковской «Языки религия» [1998] есть тезис о том, что культурная информация хранится как в самом языке, т. е. в семантических системах словаря и грамматики (это как бы «библиотека значений»), так и при помощи языка, – в речи, в устных и письменных текстах, созданных на языке (это «библиотека текстов») [Мечковская 1998:30]. Уместен вопрос, как сотрудничают обе эти «библиотеки», как, скажем, страницы тургеневских романов, посвященных образам женских персонажей, сжимаются до единственного словосочетания тургеневские женщины, почему кровь с молоком — прекрасно, а молоко с кровью — отвратительно (пример акад. Л.В. Щербы).
П. Флоренский отметил особое свойство слова, которое изначально не может быть единичным и в силу этого оказывается универсальным: «…Слово и неподвижно, устойчиво и, наоборот, неопределенно, безгранично, зыблемо, хотя и зыблясь, оно не оттягивает места своего ядра. Невидимые нити могут протягиваться между словами там, где при грубом учете их значений не может быть никакой связи, от слова тянутся нежные, но цепкие щупальца, схватывающиеся с таковыми же других слов, и тогда реальности, недоступные школьной речи, оказываются захваченными этою крепкою сетью из почти незримых нитей» [Флоренский 1973: 369].
Можно полагать, что слово реализует свою аккумулирующую функцию благодаря наличию у него связей различного уровня. Очевиден уровень лексиконной связи. Слова, вырванные из контекстов и сведенные в словаре различного типа, превращаются в единый метатекст, способный дать информацию, которую иным способом получить не удается. Информативно наличие слова, поскольку оно, во-первых, факт концептуализации мира, результат его постижения, во-вторых, имя явления культуры, духовной, материальной или художественной. Благодаря слову, сохранившемуся в лексиконе, язык помнит о том, что в настоящее время перестало быть актуальным. Информативно отсутствие слова в лексиконе – языковая лакуна. Она обнаруживается в случае затруднения определить концепт средствами родного языка и – чаще – в случаях сопоставления с другими языками (например, при переводе с языка на язык). Заслуживает внимания изучение уровней: 1) тематической связи; 2) семемной связи; 3) морфемной связи; 4) коннотации как особой формы связи слова.
Методики лингвокультурологии обычно ориентированы на текст в самом широком смысле этого слова, из которого и вычитывается требуемая информация. «.„Произведение искусства, как и любое другое сообщение, скрывает в себе собственные коды: сегодняшний читатель поэм Гомера извлекает из стихов такую массу сведений об образе мыслей, манере одеваться, есть, любить и воевать, что он вполне способен воссоздать идеологический и риторический мир, в котором жили эти люди. Так, в самом произведении мы отыскиваем к нему ключи, приближаясь к исходному коду, восстанавливаемому в процессе интерпретации контекста» (Эко 1998: 113].
Предлагаемые нами методики ориентированы не на текст, а на гипертекст, создаваемый в рамках лексикографического подхода. Мы подходим к исследованию слова через формирование и изучение «библиотеки связей слов». Возникновение подобной «библиотеки* стало возможным в ходе реализации проекта, который не имеет аналога в отечественной и мировой лексикографии. Лексикографический подход, который мы избираем, органически соединяет интерес к каждому отдельному слову с вниманием ко всей совокупности слов, составляющей весь словарь или отдельный его кластер. В результате лексикографическое описание даёт своеобразный гипертекст – многомерную сеть, в которой каждая точка или узел (в нашем случае это слово или словосочетание) самостоятельно увязывается с любой другой точкой или узлом. «Сеть» гипертекста в лексикографическом описании обеспечивает возможность гарантированно «уловить» культурные смыслы, аккумулированные в языке.
Нами разработана структура словарной статьи, в которой фиксируются все актуальные связи каждого фольклорного слова, при этом степень актуальности и устойчивости связи аргументируется количественными характеристиками – своеобразными знаками валентности слова. Связи слова, по нашему убеждению, и составляют те «узелки памяти», которые удерживают информацию об особенностях этнического миро видения, миропонимания и мироупорядочения. Связи слова по степени устойчивости распадаются на постоянные и эпизодические. Постоянные характеризуют «каркас» мировидения, эпизодические – точки развития (точки бифуркации) миропонимания.
Если сопоставить валентность русского слова с валентностью иноязычного эквивалента этого слова, то очевидным становится национальное своеобразие семантического содержания каждого из двух сопоставляемых слов.
В основу методологии лингвокультурологии может лечь разработанная на базе фольклорных текстов и апробированная на нефольклорном материале система методик, включающая в себя: 1) доминантный анализ; 2) кластерный анализ; 3) методику сжатия конкорданса; 4) аппликацию полученных в результате сжатия конкордансов словарных статей.
Доминантный анализ
Методика доминантного анализа предполагает наличие частотных словарей, представляющих текст или корпус текстов, и основывается на предположении» что среди наиболее частотных лексем присутствуют слова, обозначающие доминанты языковой картины этноса» социальной группы и индивида. Выявление, изучение и описание наиболее частотных знаменательных слов в аспекте языковой картины мира – это и есть доминантный анализ.
Одни доминанты в двух сравниваемых списках (в нашем случае это частотные списки русских и английских народных песен) могут иметь соответствия (например, концепт экзистенции «быть» и глаголы быть и to be, концепт движения – идти и to go, концепт говорения – сказать и to say и т. д.). Другие доминанты списка в другом соответствий не имеют, и тогда мы вправе полагать, что это неслучайно и перед нами этнически маркированная доминанта.
Так, в частотном словаре русской народной лирики среди наименований доминант мы найдем существительное друг. В частотном словаре английских народных песен соответствующее существительное friend к числу доминант не относится. Это обстоятельство служит дополнительным и весьма доказательным аргументом в пользу уже отмеченного лингвистами факта, что в русской ментальности «друг» занимает особое место. 285 словоупотреблений слова друг в русских народных песнях и 27 словоупотреблений friend – такой диспаритет случайным быть не может и заставляет искать причины несоответствия. Наши наблюдения совпадают с наблюдениями А. Вежбицкой, специально исследовавшей модели «дружбы» в русской, английской, польской и австралийской культурах [Вежбиикая 2001].
Если в русских песнях шелковый отмечено 72 раза, а соответствующее английское прилагательное silk — только 5 раз, то уже можно размышлять об этнических предпочтениях. Равно как и о резком различии в частотности русской вдовы (77 словоупотреблений) и соответственно английской widow (4 словоупотребления). Если списки первых ста самых частотных слов в русском и английском фольклоре дифференцировать по частеречному признаку (существительные, прилагательные, числительные, глаголы и наречия) и последовательно сопоставить, то сразу же отмечается несовпадение частотных списков по удельному весу пяти частей речи. Самые большие различия в удельном весе обнаруживаются у существительных (50 и 29), глаголов (24 и 37) и наречий (6 и 17). Очевидно, в русской народной лирике доминирует предметный мир, а в английской – деятельностный.
Сравним названия людей. Совпадают три концепта – «отец», «мать», «дочь» – основные персонажи народной лирики. В значительной степени близки концепты, реализуемые лексемами молодец и boy, девица, девушка, девка и girl, maid. Множеству русской картины мира (люди) противостоит единичность английской (man). Остальные частотно упоминаемые персонажи лирических песен этнически дифференцированы. У русских доминантны термины родства, именующие представителей противопоставленных семей, – «своя» (жена, муж) и «чужая» (свекор, свекровь). В английской лирике часто упоминается концепт «сын» (son). Частотны английские термины социальной иерархии – Sir, Lady> Lord, а также лексема sailor ‘моряк’, наличие и частое использование которой в английском фольклоре вполне объяснимо.
Предметный (и в силу этого статичный) характер русской картины мира предопределяет более широкий круг поэтических топосов – мест лирических событий (17 против 6). При этом заметим, что совпал только один топос – «море».
В английской картине мира упоминание времени существенно, и в состав доминант вошло несколько лексем с видовым значением {dayу morning, night), а также родовой термин time. В русской картине мира доминируют ночь и заря.
Обе этнические картины мира в списке частотных абстрактных понятий совпадают только в концепте «радость». Для русской ментальности существенны концепты, называемые словами воля и душа, которые давно уже попали в поле зрения авторов, пишущих о своеобразии мировидения русских. Доминирование концепта «горе» – антитезы «радости» – можно интерпретировать как проявление тенденции к крайности, свойственной русскому характеру.
Доминанта слово отражает фундаментальную черту русской культуры – ее словоцентрический характер. Культуролога, объясняя национальный феномен этноса, отмечают: для русских слово выше дела, неслучайно создание великой литературы с ее золотым и серебряным веками, очевидны литературные истоки шедевров русской музыки, а также любовно-почтительное отношение к книге. Сопоставительный анализ слово/word – интереснейшая задача последующего лингвокультуроведческого исследования.
Сопоставление словников русских и французских народных лирических песен [Гулянков 2000] демонстрирует этническое своеобразие лексики в народно-песенной традиции русских и французов. Это проявляется в первую очередь в различии частеречных структур анализируемой части словников. Так, в русской лирической песне в количественном отношении преобладают существительные (семь в списке ста высокочастотных лексем против 34 во французских песнях), т. е. в большей степени описывается предметный мир. Во французской песне отчетливо преобладание глагола (43 против 25 в русской песне). При этом в числе первых десяти высокочастотных слов у русских всего два глагола и четыре существительных, у французов глаголами являются первые восемь лексем частотного словаря и нет ни одного существительного. Подобное соотношение свидетельствует о динамизме французских народных песен. Во многом это обусловлено практически обязательным наличием во французской пес* не четкой сюжетной линии, что характерно для повествовательных жанров, и особенностями грамматического строя языка. Русская песня в большинстве своем лишена сюжета, поэтому несколько статична с точки зрения развития внешнего действия. Некоторая созерцательность, непротивление судьбе, пассивность, отмечаемые исследователями как характерные для русского национального характера, проявляются и на уровне рассматриваемых лексем. Отсюда высокая частотность русских глаголов стать, лечь, сидеть, спать (во французской песне они имеют небольшое количество употреблений).
Динамизм французской песни, считает автор, проявляется также в наличии в составе анализируемой части словника глаголов, называющих целенаправленное, активное действие, перемещение с определенной, материально выраженной задачей. Не просто идти, ходить, гулять, ехать (высокочастотные русские глаголы), a porter ‘носить’, cherchci ‘искать’, mener ‘вести’, rencontrer ‘встречать’. garder ‘охранять’ и т. п. Динамизм русской лирики несколько иной, «внутренний». Он связан с высоким эмоциональным накалом песни, с описанием чувств в их развитии.
Предположение исследователей о наличии в числе ста первые высокочастотных лексем слов, обозначающих доминанты языковой картины этноса, находят яркое подтверждение на примере целого ряда глагольных лексем. Например, весьма показательными с точки зрения проявления этнического своеобразия являются такие французские глаголы, как revenir (se) «возвращаться, cherches «искать», rencontrer «встречать», trouver «найти», maker «женить, выдавать замуж», perdre «терять», garder «охранять», mourir «умереть», aimer «любить», pfeurer «плакать» и некоторые другие. Названные глаголы обнаруживают четкие взаимные притяжения («терять – искать – найти», «возвращаться – встречать», «любить – умереть») и являются основой для создания устойчивых, повторяющихся мотивов в песнях французов; это мотивы «любви и смерти», «несчастья в замужестве» или мотив «потери/поиска» (не случайно именно французам принадлежит поговорка «ищите женщину» – «chercher la femmes»). В русской песенной лирике можно наблюдать отдельные элементы этих распространенных для французов мотивов. Например, потеря кольца и у русских, и у французов символизирует разлуку с любимым или его смерть, потеря элемента одежды, цветка (юбки в русской песне, колпака, розы во французской) символизирует потерю невинности или неверность.
Весьма заметно различие в составе ряда тематических групп. Например, в группе «Интеллектуально-творческое действие, состояние» в русских песнях имеется всего четыре глагола: сказать, говорить, хотеть, знать, – во французских их девять. Помимо названных, это, например, глагол falloir «надлежать, долженствовать», не зафиксированный в русских песнях вообще. Этнически ярок и состав группы «Физиологическое действие, состояние». В русской песне это лексемы спать и жить, во французской – mourir «умереть», boire «пить> и manger «есть».
Примечательно явление частичного совпадения символического наполнения и коннотативного значения ряда лексем-аналогов. В этих случаях несовпадающие элементы значений особенно четко и ярко демонстрируют этническую специфику лексем (выявляются «специфические коннотации неспецифических концептов»), Например, русские лексемы пить, есть и французские boire «пить» и manger «есть» сходны в том, что совместная трапеза, питье в обеих песенных традициях символизируют соединение любящих. Отличаются лексемы пить и boire избирательностью сочетаемости: русский глагол чаще всего взаимодействует с лексемой конь и лексемами, называющими мужчину, если «пьют» воду, и с лексемами, называющими женщину, если «пьют» водку, чай; французский глагол в основном сочетается с лексемами, называющими мужчину, и «пьют» французы чаще всего вино. Русский глагол есть не употребляется с лексемами, называющими то, что едят герои, и встречается только в положительных контекстах. Аналогичная французская лексема предполагает подробное описание разнообразных кушаний и часто употребляется в мрачных контекстах, где объектом еды становится человек, труп человека. Чаще «съедают» девушку, и в этом видится буквальное понимание символического значения глагола «есть»: утоление любовного голода.
Проведенное Е.В. Гулянковым исследование французских глаголов и характера французских песен показывает, что французы предпочитают изображать героев в критических жизненных ситуациях. Именно описанием неординарных трагических событий (смерть детей, разрубание на части и съедание героев и т. п.) они придают песне больший эмоциональный накал. Русская песня использует совершенно иные средства для создания эмоционального настроя. Экспрессивность достигается и использование ем богатейших словообразовательных возможностей русского языка, тавтологических повторов и тд. Таким образом, если во французской песне в большей степени описывается мир событий, то в русской – мир чувств.
Можно констатировать, что в описании мира чувств одну из важных ролей играют эмотивные глаголы. В списке ста высокочастотных слов это русский глагол любить и французские глаголы aimer ‘любить’ и pfeurer ‘плакать’. Лексемы pfeurer и плакать демонстрируют разницу в отношении русских и французов к превратностям жизни. Французы избегают изображения неловких ситуаций, болезненных тем, оголенных чувств, тогда как русские гораздо более откровенны, могут даже впадать в другую крайность, «выворачивая душу наизнанку».
Весьма примечательно, что своеобразие характера самих песен русских и французов отображается в глагольных лексемах петь, chanter. Их функционирование показывает, что chanter всегда встречается в эмоционально-приподнятых контекстах, пение воспринимается как развлечение, связывается с удовольствием, во французской песне часто подчеркивается, о чем поется («песня в песне» – своеобразное подтверждение обязательности сюжета). В русской же песне глагол петь сочетается с лексемами, подчеркивающими как поют, – жалобно, жалобнешенько, тонко, с горя. Таким образом народ сам оценивает свои песни через употребление различных модификаторов, принадлежность их к определенному персонажу и т. д. Так, давно уже было замечено, что самые лучшие русские песни протяжны, напевны и носят грустный характер, тогда как французы поют веселые песни даже «назло судьбе», скрывая за внешней веселостью свои истинные чувства, пряча их за сатирой и шуткой. Французы умеют смеяться даже над собственными символами-, превращать в пародию то, что в других песнях имело философский смысл или вызывало умиление и слезы. Это проявляется при анализе сочетаемости многих лексем, например, perdre «терять» терять кошку вместо символического кольца, мужа в постели, жену в кабаке (perefre в значении «проиграть»).
Анализ высокочастотных существительных показывает, что русские гораздо подробнее описывают местоположение, ландшафт: в русской группе «Артефакты» из десяти слов восемь так или иначе называют местоположение героя; ландшафт описывают шесть русских лексем и три французских, называющих три основные реалии – «лес, море, земля». Неожиданно представлен в высокочастотной лексике французов растительный мир – существительным «капуста» у явно не символизирующим женщину (в русской песне три высокочастотных существительных, и все они символизируют женщину).
Очевидна избирательность русских в употреблении существительных день и ночь. Русская лексема ночь имеет отрицательную коннотацию, действия, совершаемые ночью, противопоставлены дневным, иногда даже осуждаются. Во французской песне лексемы «день» и «ночь» часто употребляются вместе, замещают друг друга, называя цельный временной отрезок. Совпадают характеры персонажей животного мира – это соловей (rossignol) – посредник, певец любви – и сокол, конь и ‘волк’ (loup), символизирующие мужчину.
Особенностью слов-наименований по сословному признаку является отсутствие указания на сословную принадлежность в русских лексемах и обязательное указание на нее во французских.
Интересна лексика, называющая ментифакты. У русских это высокочастотные существительные душа, слеза, горе> во французских – amour «любовь» и dieu «Бог». Песни, содержащие описание горя и слез, в русской лирике наиболее яркие, образные, эмоционально сильные, что свидетельствует о том, что русские любят и умеют описывать страдание. Эти лексемы в полной мере отражают соответствующий концепт. Во французской песне аналогичные лексемы далеко не высокочастотны (менее 7 с/у).
Исследование показывает, что русское слово любовь не отражает то истинное глубокое чувство, описание которого мы находим в русском песенном фольклоре. Во французской песне существительное amour отражает лишь чувственную сторону любви, употребляясь как синоним физиологической потребности. Виной тому является и сатира, столь характерная для французского песенного фольклора.
Как показало проведенное исследование, этническое своеобразие лексики проявляется и в приоритетности использования атрибутивов. Чаще всего русские используют при описании предметов такие пары прилагательных; чужой – родной, молодой – старый, широкий – высокий. В песнях французов не зафиксированы прилагательные, аналогичные русским чужой – родной. Зато пара grand – petit «большой – маленький» употребляется чрезвычайно активно. Это объясняется отчасти тем, что русские для выражения подобных значений активнее используют уменьшительно-ласкательные суффиксы, а французы применяют названные прилагательные.
Если у русских в качественных характеристиках большее внимание уделяется внутренним качествам человека (три из четырех лексем подгруппы – хороший, добрый, веселый), то во французской подгруппе из пяти лексем на первом месте по частотности beau «красивый», joli «милый, красивый» и лишь затем bon ‘хороший, добрый’ и doux «нежный> и gai ‘веселый’ Заслуживает внимания функционирование таких лексем, как золото и золотой, демонстрирующих близость в менталитете русских и французов, которые, в отличие от англичан, воспринимают золотой и золото не как ценностный элемент мира вещей, а как символический знак красоты и особенности.
Исследование русских и французских колоративных прилагательных выявляет безусловное лидерство по частотности и наличию в структуре значения дополнительных сем белого цвета. Многие русские колоративные прилагательные утрачивают прямое, цветовое значение (белый, алый, красный и др.). В песнях французов значение цвета никогда полностью не уходит из семантической структуры прилагательного. Большинство цветов и в русской, и во французской песенной лирике имеют добавочные семы, при этом лишь в некоторых случаях они совпадают (зеленый и vert, отчасти черный и noir и некоторые другие), чаще же наблюдаются разные семы (белый и Ыапс, черный и noir; красный и rouge и др.). Во французской песенной лирике наблюдается четкая тенденция к сопряжению цветов: одно колоративное прилагательное почти всегда в контексте «притягивает» к себе другое колоративное прилагательное, в русской лирической песне эта тенденция выражена гораздо слабее. Французские колоративы в основном определяют существительные подгруппы «Одежда и ее детали», что свидетельствует о важности цвета одежды в народно-песенной традиции французов: цвет одежды героев соотносится или даже предопределяет настроение или содержание песни. Подобное явление, за некоторыми исключениями (зеленый, черный)> не характерно для русского песенного фольклора [Гулянков 2000: 206–213].
Доминантный анализ эффективен в рамках сопоставительного метода. Цель его – наметить план дальнейших поисков й привлечения других исследовательских методов, методик и приемов. Например, кластерного анализа, в основе которого лежит представление о структуре картины мира.
Кластерный анализ
Каждый фрагмент эпической или лирической картины мира репрезентируется определенной совокупностью лексем различной частеречной принадлежности. Этот набор обозначается термином кластер, т. е. сегмент некоего информационного поля. Кластерный анализ в нашем представлении – это лексикографическое описание всех входящих в кластер лексем с параллельным установлением всех связей каждого слова с остальными словами, представляющими один и тот же фрагмент фольклорной картины мира.
Термин кластер постепенно входит в обиход многих наук и практики. В Большой Советской Энциклопедии понятие «кластер» отсутствует. В Новой Иллюстрированной Энциклопедии (М., 2000) кластер (англ. cluster – гроздь, скопление) толкуется как ‘скопление однотипных объектов (например, звёздное скопление, атомный кластер)’ [НИЭ: 8:248]. В химии кластер – ‘многоядерные комплексные соединения, в основе молекулярной структуры которых лежит объёмный скелет (ячейка)…’ (ХЭС 1983: 259]. В физике и химии под кластером понимают группу молекул, выделяющихся из других подобных молекул и объединяющихся в устойчивых образованиях [Ком л ев 1995: 57]. В вычислительной технике кластер – ‘сегмент дискового пространства' [Леонтьев 2001: 775], а также: кластер – это набор относительно слабо связанных независимых компьютерных систем или узлов, которые ведут себя как одна система [Известия. 2000. 12 июня. С. 9].
В психологии кластерный анализ — это «математическая операция, позволяющая на основе множества показателей (в частности, данных об испытуемых) объединить их в один класс’ [Комлев 1995: 57]. В еженедельнике «Поиск» (2002. № 20. С. 13) в интервью с губернатором Санкт-Петербурга В. Яковлевым приведена таблица «Кластеры Санкт-Петербурга». Внизу примечание: «Полный перечень кластеров Санкт-Петербурга формируется и уточняется в ходе специальных исследований». Определения термина кластер здесь нет. Можно думать, что кластер – это и ячейка таблицы, и строка её, и столбец. Уместно заметить, что термин кластер в новом «Кратком словаре современных понятий и терминов» (М., 2000) пока тоже отсутствует.
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (М., 1990) специальной словарной статьи нет, однако сам термин дважды использован. Как следует из контекста, кластером называют группу согласных в начале слова, а также сочетания неслогообразующих фонем. Различают простые фонемы и кластеры фонем типа ph, pw, tsh, тп, kl и др. Как можно понять, кластеры – это части звуковой оболочки слов {ЛЭС 1990: 53» 209].
Толкование лингвистического термина кластер мы обнаруживаем в словаре Н.Г. Комлева: ‘линг. последовательность, цепочка языковых элементов, которыми могут быть звуки (вокальный кластер) или части речи (глагольный кластер), группы диалектов или языков, имеющих ряд общих черт как результат взаимного географического сближения’ [Комлев 1995: 57].
Логичен вопрос, чем понятие «кластер» отличается от понятия «поле» (поля семантического, морфологического, ассоциативного, грамматического или синтагматического), а также от понятий «группа» и «парадигма». Поле в любой версии – это ‘совокупность языковых (гл. обр. лексических) единиц, объединённых общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений' [ЛЭС 1990: 380]. Принципиальное отличие видится в том, что поле (группа, парадигма) – проявление системного характера языка, а кластер – сегмент некоего информационного пространства (например, текста), вычленяемый на том или ином основании.
Термин кластер достаточно удобен в лингвофольклористических исследованиях и в лексикографическом описании фольклорной лексики. Под этим термином в данном случае понимается совокупность слов различной частеречной принадлежности, семантически и/или функционально связанных между собой, которые служат для репрезентации того или иного фрагмента картины мира. Например, в кластер «Орнитонимы» войдут не только обобщенные и конкретные наименования пернатых (птица, орел, кукушка и др.), но и прилагательные, образованные от орнитонимов (птичий, орлиный) или характеризующие птиц (клевучий), наречия (по-соловьему), глаголы, называющие характерные для птиц действия (ворковать, попурхивать, склевать), и т. д.
Кластерный принцип описания – это лексикографическое описание всех входящих в кластер слов с одновременным установлением актуальных связей каждой лексемы с другими словами, представляющими один фрагмент картины мира. За словами, объединёнными в кластер, стоят культурные концепты. Если в кластере больше одного концепта, в нём можно выделить субкластеры. Исследовательская ценность кластеров заключается в том, что их можно сравнивать.
Кластер «цвет», например, дает возможность увидеть специфику отношения русского этноса к цвету. Русский фольклорный менталитет за цветом видит смыслы, а потому цветообозначение приобретает статус сущностной характеристики. Лошади именуются воронками, буланками, саврасками и бурками. Лазоревый цветок становится лазарёчком. Некоторые цвета в русском эпическом фольклорном мире предстают как зримое предшествование чуда (дива): А там-то есть три чудушка три чудныих,/Там-то есть три дивушка три дивныих:/Как первое там чудо былым-бело>/ А другое-то чудо красным-красно./А третьеё-то чудо черным-черно (1, № 49, 27). Для феномена чуда цвет предстает чем-то самодостаточным. Цвет – само по себе чудо, тем более речь идет о цвете предельной интенсивности.
Указание на масть лошади у русских – сущностная характеристика животного, отсюда частотность видовых обозначений его с помощью специальных существительных: бурый → бурко (бурка), вороной → воронко (воронок), гнедой → гнедко, сивый сивко. Эти существительные, сохраняя сему цветовой определенности, приобретают потенциальную сему ‘сверхъестественное’, актуализируемую в сочетании существительного с эпитетом (например, частое вещий каурка). При этом цветовые семы «микшируются», в результате чего «цветовое» слово перестает обозначать конкретную масть. Актуализация в каждом имени масти семы ‘сверхъестественное’ делает синонимичными слова, которые за пределами фольклора таковыми не являются.
Концентрация нескольких обозначений масти для одной лошади – форма представления существа с необычайными свойствами. В. Даль подмечает: «Сивка бурка, вещий каурка, в сказках, конь и сивый, и бурый, и каурый» [Даль: 1:144]. Смешение цветов – знак сказочности животного. В «Онежских былинах» каурка используется только с существительным бурка в постпозиции как своеобразный эпитет к предшествующему слову, которое может употребляться и без этого эпитета: Берет узду себе в руки тесмяную, / Одивал на мала бурушка-ковурушка; / По колен было у бурушка_в землю зарощено. / Он поил бурка питьем медвяныим. / И кормил его пшеною белояровой, / И седлал бурка на седёлышко черкальское (2, № 152,53).
Эвристические возможности кластерного анализа заметили на уровне перевода дискурса на другой язык. Возьмём для примера «The Song of Hiawatha» / «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло и его бунинский перевод, единодушно признаваемый вершиной переводческого искусства. Ограничимся кластером «Небо», объединяющим концепты объектов и явлений, известных всем людям Земли без исключения (небо, солнце, луна, звезды, восход, закат и т. д.).
Сразу же отметим количественное несовпадение кластеров подлинника и перевода. У Лонгфелло «небо» представлено 20-ю лексемами, у Бунина их 34. Отличие обусловлено как словарным составом языка (луна и месяц в русском и только moon в английском), так и своеобразием русской языковой картины мира. По-разному в текстах представлено само небо. У Лонгфелло присутствует название этого феномена – sky (30)[1] heavens (40) и единично устаревшее ether (I). У Бунина к именам небеса (15) и небо (53) прибавляются номинации в форме словосочетаний типа бездна неба (1), глубь небес (1), простор небес (1), свод неба (2), свод небес (1), свод небесный (1). Эти «параметрические» номинаты заставляют думать, что в русской картине мира небо – это не просто некое пространство над землей, а космос глубокий, бездонный, просторный, устройством своим – свод – похожий на храм.
По-разному определяется прилагательными небо в подлиннике и переводе. У Лонгфелло небо – широкое, безоблачное, расколотое, восточное, западное, у Бунина – красное, синее, темное, оно сияет голубой бездной. Цветовая оценка явлений сверхъестественных, мистических, загадочных – давно уже отмеченное свойство русского мировидения[2], «умозрение в красках» (Е.Н. Трубецкой),
Концепт «солнце» в переводе упоминается чаще, чем в оригинале (51 против 28). Лексемы sun / солнце только дважды определены одинаково – великое и ночное. Солнце у Лонгфелло теплое, горячее, красное; для Бунина оно яркое, светлое, гаснущее, вешнее. В переводе солнце согревает, пригревает, светит жарко, а в подлиннике мы встретим только to warm.
Практически во всех случаях, когда Лонгфелло употребляет слово morning ‘утро’, в переводе находим лексему рассвет. Даже выражение all night Бунин переводит как до рассвета. Пять раз встретилось в переводе слово зарево, хотя в оригинале соответствующего ему слова glow нет вовсе.
Правомерно заключение, что языковые картины мира в подлиннике и переводе различаются по причине различий в этническом художественном мировидении, национальных языковых картинах мира и в поэтическом взгляде на мир двух мастеров слова.
Методика сжатия конкорданса
Методика сжатия конкорданса предполагает учет абсолютно всех употреблений анализируемого слова в пределах определенного корпуса текстов. Сжать конкорданс можно, оставив самые важные, актуальные для данного фольклорного текста связи описываемого слова с другим словами этого текста (текстов).
Условные обозначения зон словарной статьи
#: база статьи (корпус лексикографически представленных текстов); заглавное слово (количество словоупотреблений); ‘толкование’ (где это требуется); иллюстрация; ≈: варианты акцентные, морфемные и иные, включая диминутивы; S: связи с существительными; А: связи с прилагательными; V: связи с глаголами; Num: связи с числительными; Adv: связи с наречиями; В: ассоциативные ряды; F: поэтическая функция; <=>: производящее слово; +: дополнительная информация, комментарии.
«Выжимка» из конкорданса составляет ядро словарной статьи.
# Гильф. Кавурушка (19) ‘Лошадь каурой масти; каурка* [Словарь русских народных говоров, вып. 12, с. 295] Тут стал бурушко-кавурушко поскакивать (2, № 159, 96) А: малый 4 S: бурушка 19 VS: стать подскакивать 1, стать поскакивать 3 VO: взять 2, одевать на к. 1, отпустить 1, отпущать 2, уздать седлать 8 VOC: 1 +: в онежских былинах кавурушка выступает только в функции атрибута существительного бурушка..
Словарная статья как результат сжатия конкорданса – это некоторый метатекст, содержание которого проливает дополнительный свет на семантику анализируемого слова, причем с позиций исполнителей, употребивших данное слово.
Методика аппликации словарных статей
Четкая и единообразная структура каждой словарной статьи обеспечивает корректное сопоставление лексем (и концептов, стоящих за ними) методом наложения, своеобразной аппликации словарных статей. Эта методика дает надежный материал для теоретических размышлений об инвариантном и специфическом в слове. Сопоставление возможно на уровне отдельных лексем, а также на уровне совокупностей слов, будь то лексико-семантическая группа (кластер), лексико-грамматическая группа (часть речи) или целые лексиконы, реализованные в описываемых текстах. Сопоставление становится операционной процедурой с высокой степенью надежности и доказательности. Методика аппликации словарных статей, составленных на материале различных фольклорных текстов, – уникальный способ выявления и представления этнической ментальности.
Так, сравнивая словарные статьи «Река» и < River», видим различие мировидения двух народов. Река в английской лирике характеризуется визуально по качеству ее воды – чистота, прозрачность, кристальность – clear, crystal
Русский язык с его богатой системой оценочных средств, включая суффиксы диминутивности, дает возможность носителям фольклора непосредственно выразить свое личное отношение к реалии, именуемой река: речка, реченька, речушка. В подавляющем большинстве случаев река определяется постоянным эпитетом быстрая. Русская река в отличие от английской, очень часто является субъектом действия: бежит, течет, протекает, плывет, шумит-гремит, разливается и т. д. Русская лирическая песня акцентирует внимание на движении воды в реке, причем движение быстрое, даже в условиях почти повсеместной равнинности. Скорость (быстрый) в этом случае воспринимается не только как свойство, присущее конкретной реке, но и как итог размышлений над временем. Река в русских фольклорных текстах – символ времени, и потому в эпических текстах достаточно часто используется развернутая формула времени, в которой непременно есть строка: Год-тот за годом да как река бежит (Гильф. 1, № 5, 807). Река в фольклорных произведениях – источник исторической памяти народа, поэтому в отличие от безымянных английских лирических рек русские фольклорные реки и в лирике, не говоря уже об эпике, имеют имена – Дунай, Волга, Нева, Ердан, Казанка; есть и наименования, ставшие сугубо фольклорными, – Небрага, Перебрага, Невага (от Неваг).
Два этнических взгляда на лицо человека различаются точкой фокусировки внимания и характером периферийного зрения. Лицо человека видят оба этноса и представляют его среднечастотными лексемами face и лицо. Различие видится в том, что английское face используется функционально: лицо как способ передачи информации, русское лицо (обычно белое — предельно положительная коннотация) – экран эмоциональной жизни, сигнал красоты, т. е. оно портретно в полном смысле этого слова. У каждого этноса своя «точка красоты». У англичан это щеки и губы, а потому лексемы lips и cheek весьма частотны и обладают широкой дистрибуцией, определяются эпитетами и сравнительными оборотами. Для русских эта «точка» – брови и глаза. Универсальная формула русской мужской и женской красоты – «брови черна соболя, глаза ясна сокола».
Таким образом, этнический аспект народно-песенной лексики видится в наличии национально специфичного угла зрения на целый фрагмент фольклорной картины мира; в специфике концептуализации, т. е. в наличии/отсутствии тех или иных концептов в аналогичных фрагментах фольклорной картины мира (отсутствие в русской народной песне дрозда и жаворонка или подбородка, в английской песне воробья, галки, иволги, павы, сокола, щегла, ястреба, а также бровей на лице); в степени частотности упоминания о тех или иных концептах; в своеобразии концептуализации одного и того же объекта. Даже лицо человека может концептуализироваться по-разному: возможен единый концепт «борода – усы» («волосы на лице») или «лицо – щека» (отсюда правое и левое лицо); в наличии специфичных национальных концептов типа лазоревый (лазоревые цветы), в речевом использовании окказиональных имён, обозначающих специфические концепты фольклора (например, белозоревый, белорозовый); в особенностях семантической структуры фольклорного слова; в символизации концептов и, как следствие, актуализации в семантической структуре слова соответствующего элемента (утка в русском фольклоре, символизирующая мистические силы, фатальную предопределенность); в конкретной коннотации фольклорных лексем (так, green «зелёный» обнаруживает со-значение «праздничный, торжественный, нарядный, ожидающий радости, выделенный из обыденного состояния»); в различии (возможно контрастном) коннотации имён, реализующих один и тот же концепт (так, cuckoo – яркий мажорный образ в мужской и женской ипостаси и кукушка – знак тревоги и жалости); в характере синтагматических связей фольклорных лексем. Отсюда этнически своеобразные совокупности так называемых постоянных эпитетов.
Большой и убедительный материал для размышлений о своеобразии этнической ментальности даст создаваемый курскими учеными «Сравнительный словарь лексики песенного фольклора (на материале русской, английской, немецкой и французской народной лирики)». Это эффективный путь выявления культурных смыслов и этнической ментальности.
Рекомендуемая литература
1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
2. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1977.
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.
4. Мечковская Н.В. Язык и религия. М., 1998.
5. Попова 3.Д., Стерним И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999.
Использованная литература
Абызов Ю. Почва и судьба //а. Рига, 1982. № 2.
Абызов Ю. Мир дайн и проблемы их перевода // Латышские дайны. Рига, 1984.
Адамович ГВ. Воспоминания // Знамя. 1988. № 4.
Акопов Г. В., Иванова Т.В. Феномен ментальности как проблема сознания // Психологический журнал. 2003. Т. 24, № 1. С. 47–55.
Алексеев М. П. Многоязычие и литературный процесс // Многоязычие и литературное творчество. Л., 1984.
Алисова Т.6. Опыт анализа концептуального мира Данте с позиций современной лингвистики // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1996. № 6. С. 7—19.
Алпатов В.М. Родной, свой, чужой //Человек. 1994. № 1.С. 174–185.
Алпатов В.М. Предварительные итоги лингвистики XX в. // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. М., 1995. Т. 1.
Алпатов В.М. Литературный язык в России и Японии (Опыт сопоставительного анализа) // ВЯ. 19952. № 1. С. 93—116.
Ананьев 6.Г. Психология чувственного познания. М., 1966.
Апресян Ю.Д. Коннотации как часть прагматики слова (лексикографический аспект) // Русский язык: Проблемы грамматической семантики и оценочные факторы в языке. М., 1992. С. 45–64.
Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. 1995. № 1.
Апресян Ю.Д. Отечественная теоретическая семантика в конце XX столетия // Известия АН. Серия лит. и языка. 1999. Т. 58. № 4. С. 39–53.
Арутюнов О.А., Чебоксаров И.И. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества // Расы и народы. М., 1972. Вып.2.
Арутюнова Н.Д. Национальное сознание, язык, смысл // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. М., 1995. Т. 1.
Бао Хун. Национально-культуная специфика фразеологизмов в русском и китайском языках // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 305–310.
Баткин Л.М. Культура всегда накануне себя // Красная книга культуры? М., 1969.
БеликА.А. Культурология. Антропологические теории культур. М.: РГГУ, 1998.
Белый А. Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы //Семиотика. М., 1983.
Белянкин В.П. Лингво-когнитивные структуры англоязычного любовного романа и русская ментальность // Этническое и языковое самосознание. М., 1995.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
БерберовЬ Н. Курсив мой // Серебряный век. М., 1990.
Бирюкова С. К. Словарь культуроведческой лексики русской классики: По литературным произведениям школьной программы. М.; 1999.
Битов А. Пушкинский Дом // Новый мир. 1987. № 10.
Битов А. Нам не дано предугадать // Наше наследие. 1989. № 2.
Богатова Г.А. Историко-культурный аспект лексико-грамматического описания русского языка и проблемы менталитета // Этническое и языковое самосознание. М., 1995.
Богатова Г.А. Размышления после международного съезда русистов в Красноярске // ВЯ. 1998. № 3. С. 115–121.
Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. – М.: Независимая газета, 1997.
Бродский И. Сочинения. Т. 5. СПб.: Пушкинский фонд, 1999.
Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языкова я концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. М.: Просвещение, 1992.
БЭС 1991 – Большой энциклопедический словарь. М., 1991.
Вайнштейн О.Б. Деррида и Платон; деконструкция логоса // Мировое древо. 1992.№ 1. С. 50–72.
Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста. Киев; 1988.
ВежбицкаяА. Язык. Культура. Познание. М., 1997,
Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов/ Пер. с анг М., 2001.
Верещагин Е.М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании языка как иностранного. М., 1990.
Виноградов В.В. Русская речь, её изучение и вопросы речевой культуры // Вопросы языкознания. 1961. № 4.
Винокур Г.О. О задачах истории языка // Винокур ГО. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
Вознесенский А. Три бабочки культуры // Красная книга культуры? М.: Искусство, 1989.
Воркачев С.Г. Безразличие как этносемантическая характеристика личности: опыт сопоставительной паремиологии // 8Я. 1997. № 4. С. 115—124
Воронцова Ю.В. Немцы… они другие… (Размышления о современном страноведении) // Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультуная коммуникация. 1998. № 4. С. 67–75.
Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкции и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. 1–3. М., 1998.
Гвишиани И.Б., Герви О.Ю. Корпусная лингвистика и грамматика речи // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2001. № 2. С. 46–62.
Геллер Л. Старая болезнь культуры: русофилия (Заметки по поводу словаря русского менталитета) // Новое литературное обозрение. 1996. № 21. С. 387.
Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995.
Гердер И.Г. Идеи и философия истории человечества. М., 1977.
Гердер И.Г. Избранные сочинения. М.: ГИХЛ, 1959.
Гете И.В. Немецкий язык // Гете И.В. Собрание соч.: В Ют. Т. 10. М., 1980.
Гильф. Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года: В 3 т. Изд. 2-е. СПб., 1894–1900.
Гоголь Н.В. О том, что такое слово//Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. 7. С. 196.
Гэллербах С. Гэлые и нагие на рубеже столетий: Этюд // Филологические записки. Вып. 5. Воронеж, 1995. С. 188–191.
Григорьев В.П. Феномен Хлебникова // Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. М., 1995. С. 224–232!’
Гуляев – Гуляев С.И. Былины и песни южной Сибири. Новосибирск, 1952.
Гулянков Е.В. Этническое своеобразие русской народно-песенной лексики (в сопоставлении с лексикой французских народных песен); Дис…. канд. филол. наук. Курск, 2000.
Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
Гуревич А.Я. Этнология и история в современной французской медиевистике // Советская этнография. 1984. № 5.
Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М.: СПб., 1999.
Гуревич П.С. Культурология. Учебное пособие. М.: Знание. 1996.
Гуревич П.С. философия культуры. М., 1994.
Гурина М. Философия/Пер. с фр. М.: Республика, 1998.
Гусейнов Ч. Два языка, оба – родные //Литературная газета. 1987. 23 сект.
Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка; В 4 т. М.: Русский язык, 1978–1980.
Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950.
Достоевский Ф.М. Бесы //Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1982. Т. 8.
Дранникова Н.В. Материалы к Пииежскому этнодиалектному словарю // Живая старина. 2000 № 1. С. 45–47.
Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1996.
ЖаткинД.Н. А.А. Дельвиг как русская языковая личность // Язык образования и образование языка. В. Новгород, 2000. С. 104.
Зайцев Б.К. Голубая звезда // Зайцев Б.К. Белый свет: Проза. М., 1990. С. 62.
ЗализнякА.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. «Энциклопедия русской души» // Этническое и языковое самосознание. М., 1995. С. 53–54.
Зимин В.И. Национально-культурная специфика фразеологических единиц русского языка // Язык образования и образование языка. В. Новгород, 2000. С. 114.
Иваницкий В. Порча языка и невроз пуризма // Знание – сила. 1998. № 9—10. С. 82–90.
Ильин И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. Религиозная философия. М., 1994.
Иосиф Бродский: труды и дни. М., 1999.
Искандер Ф. Сандро из Чегема. М., 1991. Т. 2.
История ментальностей, историческая антропология, зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996.
Ким И. Рецензия на книгу Т.И. Стексовой //ЯЛИК. 1999 С. 14–15.
Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». СПб., 1998.
Клемперер В, LTI. Язык Третьего рейха: Записная книжка филоло* га / Пер. с нем. М., 1998.
Климас И.С., Шабанова Т.В. Концепт «свеча» в русской фольклорной и авторской поэзии // Концепт как феномен языка и культуры. Славянск-на*Кубани, 2002. С. 64–73.
Климов ЕА. Образ мира в разнотипных профессиях. М., 1995.
Князева Е.Н., Курдюмое С. П. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 3–20.
Кобозева И. М. Немец, англичанин, француз и русский: выявление стереотипов национального характера через анализ коннотации этнонимов // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1995. № 3. С. 102–116.
Комлев Н. Доведет ли язык до Киева? Судьбы языкового и общественного союза // Книжное обозрение. 1998. № 34.
Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов. М.: Изд-во МГУ, 1995.
Комлев Н.Г. Слово в речи: денотативные аспекты. М.: Изд-во МГУ, 1992.
Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1994.
Кюхельбекер В.К. Парижская лекция // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59.
Левинтон И.Б. Целесообразность без цели // Вопросы языкознания. 1996. № 1. С. 42–57.
Леви-Строе К. Структурная антропология. М., 1985.
Левицкий В. В. Фонетическая мотивированность слова // Вопросы языкознания. 1994. № 1. С. 26–37.
ЛевяшИ.Я. Культурология: Курс лекций. Минск: Тетра Систем, 1998.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
Ли Р. Как Вам стать богатым в России. Ростов н/Д, 1999.
Листроеа-Правда Ю. Т. Спецкурс «русский язык и культура» для студентов-филологов // Русский язык конца XX века. Воронеж, 1998. С. 170–172.
Литвин Ф.А. Почему шум? // Язык и коммуникация: изучение и обучение. Вып. 2. Орел, 1998. С. 114–120.
Лихачёв Д.С. Замелей о русском // Новый мир. 1980. № 3.
Лорка Ф.Г. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 391–401.
ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996.
Маковский С. Портреты современников // Серебряный век. М.,1990.
Мальро А. Зеркало лимба/Пер. с фр. М.: Прогресс, 1989.
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990.
Мамардашвили М.К. Язык и культура // Вестник высшей школы. 1991. № 3. С. 46–52.
Мандельштам О. Слово и культура. М.: СП, 1987.
Маркс К., Энгельс Ф. Любое изд.
MAC – Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд. М.: Русский язык, 1981.
Меликов И.М. Время в культуре // Вестник МГУ Серия 7. Философия. 1999. № 2. С. 94—104.
Моль А Социодинамика культуры / Пер. с фр. М., 1973.
Моэм С. Искусство слова. М.: Художественная литература, 1989. Набоков В. Другие берега // Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4.
Нагибин Ю. М. Дневник, М., 1996.
Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993.
НерознакВ.П. Современная этноязыковая ситуация в России //Известия РАН. Серия литературы и языка. 1994. Т 53, № 2.
Никитина С.Е. Культурно-языковая картина мира в тезаурусном описании (на материале фольклорных и научных текстов): Дисс. в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1999.
НиколюкинА. Розанов. М., 2001.
НИЭ 2001 – Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 11. Ма – Мо. М., 2001.
Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994.
Ортега-и-ГассетX. Нищета и блеск перевода // Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991,
Ортега-и-ГассетX. Эстетика. Философия культуры. М., 19912.
От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства. М., 1994.
Плотникова А. А., Усачева В. В. Дом в языке и культуре // Живая старина. М., 1996. NM.
Поливанов Е.Д. Труды по восточному и общему языкознанию. М., 1991.
ПономарёвЛ.И. Под знаком кванта. М., 1989.
Померанц Г. Записки гадкого утенка. М., 1998.
Попова 3.Д., Стернин И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999.
Постовалова В. И. Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (к проблеме оснований и границ современной фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 25.
Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989.
Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990.
Пришвин М. М. Дневники. М., 1990.
Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции 1919–1939. М.: Прогресс – Академия, 1994.
Рерих Н. и Е. Община // Книжное обозрение. 1989. № 27.
Рерих И. Книга большого пути // Студенческий меридиан. 1987. – №9.
Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971.
Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. М., 1996.
Русановский В.М. Культура и язык // Современные славянские культуры. Киев, 1982.
СельеГ. От мечты к открытию. М., 1987.
Сенкевич А.Н. Общество. Культура. Поэзия (Поэзия хинди периода независимости). М., 1989.
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
Сибинович М. Некоторые актуальные вопросы современной лингвистики // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1995. № 3.
СипинёвЮ.А., Сипинёва И.А. Русская культура и словесность. Кн. 1: Учебно-методическое, литературоведческое и культурологическое пособие (V класс). СПб., 1993.
Скворцов Л. И. Язык, общение и культура (Экология и язык) // Русский язык в школе. 1994. № 1.
Скворцов Л.И. Что угрожает литературному языку? (Размышления о состоянии современной речи) // РЯШ, 1994. № 5. С. 99—105.
Славянские древности: Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. Т 1. А – Г. М., 1995.
СлРЯ XI–XVII ев. – Словарь русского языка XI–XVII веков. М, Наука, 1975.
Соловьев B.C. Национальный вопросе России // Соловьев B.C. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989.
Срезневский И.И. Мысли об истории русского языка. М., 1959.
Сталь Ж. де. О духе переводов // Сталь Ж. де. О литературе. М., 1989. С. 384–390.
Стариков Е. Маргиналы, или размышления на старую тему: «Что с нами происходит?» // Знамя. 1989. № 10.
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры: Опыт ис~ следования. М.: Языки русской культуры, 1997.
Стернин И.И. // Язык и коммуникация: изучение и обучение. Выл. 2. Орел, 1998.
Тарланов З.К. Русское безличное предложение в контексте эпического мировосприятия // Филологические науки. 1998. № 5–6. С. 65–75.
Тахс-Годи А.А. (Интервью) // Знание – сила. 1998. № 1.
Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 13–24.
Тильман Ю.Д. «Душа» как базовый культурный концепт в поэзии Ф.И. Тютчева // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 203–212.
Тихонов А.Н. Языковая личность (на примере полилингва) // Этническое и языковое самосознание. М., 1995.
Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995.
Трубачев О.Н. В поисках единства. М.: Наука, 1992.
Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: лингвистические исследования. 2«е изд., доп. М., 2002.
Трубецкой Е.Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке // Трубецкой Е.Н. Избранные произведения. Ростов н/Д, 1998. С. 439–492.
Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995.
Тувим Ю. Четверостишие на верстаке // Перевод – средство взаимного сближения народов. М., 1987.
Тургенев И. С. – С.А. Венгерову. 25 мая (6 июня) 1875 // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. М., 1966. Т 11.
Флоренский П.А. Мнимости в геометрии. М.: Поморье, 1922.
Флоренский П.А. Строение слова // Контекст 1972: Литературно-теоретические исследования. М., 1973.
Фразеология в контексте культуры: Сб. статей. М.: Языки русской культуры, 1999.
Фрумкина P.M. Культурологическая семантика в ракурсе эпистемологии // Известия АН. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58, № 1. С. 3—10.
Фуко М. Археология знания / Пер. с фр. Киев, 1996.
ФЭС 1998 – Философский энциклопедический словарь. М., 1998.
Хал – Хал ан с кий М. Г Народные говоры Курской губернии: Заметки и материалы по диалектологии и народной поэзии Курской губернии. СПб., 1904.
Хопияйнен О.А. Отражение «культа поля» в языковой картине англосаксов // Язык образования и образование языка. Великий Новгород, 2000.
Хроленко А.Т. Лингвокультуроведение. Курск, 2000.
ХЭС – Химический энциклопедический словарь. М., 1983.
Цибахашвили Г.И. К вопросу о переводе грузинского фольклорного текста на русский язык: (размышления о книге «Грузинские сказки. Сто сказок») // Литературное содружество народов СССР. 2. Тбилиси, 1983.
Черепанова О.А. Культурный аспект в историческом изучении лексики русского языка//Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1995. № 5. С. 136–146.
Чинь Тхи Ким Нгок. Отражение в слове «национальной картины мира» // Русский язык конца XX века. Воронеж, 1998. С. 135–136.
Чичибабин – Борис Чичибабин в стихах и прозе. Харьков. 1995.
Чудакова М. В поисках утраченного отечества //Лит. газета. 1989. 20 сент.
Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999.
Чуковский К.И. Высокое искусство: О художественном переводе. М., 1988.
Чумак Л. Н. Язык как отражение национального менталитета // Русский язык: исторические судьбы и современность. Международная конференция исследователей русского языка. М., 2001. С. 79–80.
Шведова Н.Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским синтаксическим словарем» // Вопросы языкознания. 1999. № 1. С. 3—16.
Швейцер А. Д. Перевод в контексте культурной традиции //Литературный язык и культурная традиция. М., 1994.
Ширшов И.А. Голый и нагой // Русская речь. 1998. № 2. С. 56–62.
Шмелёв А.Д. «Русская ментальность» в зеркале лексических данных//Этническое и языковое самосознание. М., 1995. С. 168–169.
Шмелёв А.Д. «Широкая» русская душа // Русская речь. 1998. № 1.
Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993.
Шпет ГГ Сочинения. М., 1989.
Щукин В. Константин Леонтьев, Аполлон Григорьев и русская ментальность// НЛО. 1996. № 21. С.377–380.
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.
Этногерменевтика: Грамматические и семантические проблемы. Кемерово; Landau, 1998.
Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
Яковлева Е.С. Час в русской языковой картине времени // Вопросы языкознания. 1995. № 6.
Яковлеве Е.С. О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // Вопросы языкознания. 1998. № 3. С. 43–73.
Sh – Sharp’s Collection of English Folk Songs. Vol. 1. London, 1974.
Предметный указатель
автоперевод
антропологическая лингвистика
диалект
дискурсный анализ
доминантный анализ
заимствования
картина мира
квантитативная лингвистика
кластерный анализ
когнитивная лингвистика
коннотация
концепт
концептосфера
концептуальная картина мира
концептуальный анализ
корпусная лингвистика
культура
культурная память лакуна
лингвокультуроведение
лингвокультурология
лингвофольклористика
менталитет
ментальность
метод
методика аппликации словарных статей
методика кластерного анализа
методика сжатия конкорданса
перевод
самосознание
словарь
художественный билингвизм
частотный словарь
чувство родного языка
эколингвистика
экология
экология языка
этническая ментальность
этнодиалектология
этнолингвистика
этнос
языковая картина мира
Примечания
1
Здесь и далее цифры в скобках обозначают количество словоупотреблений во всем тексте.
(обратно)2
На примере русского фольклора это описано нами в: [Хроленко 2000:133–135].
(обратно)

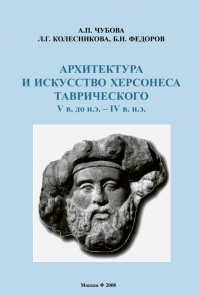


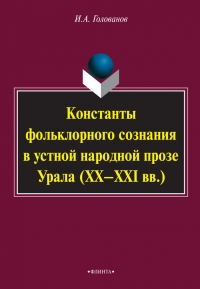

Комментарии к книге «Основы лингвокультурологии», Александр Тимофеевич Хроленко
Всего 0 комментариев