Г. П. ЩЕДРОВИЦКИЙ ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
Предисловие
В 1994 году ушел из жизни Георгий Петрович Щедровицкий — выдающийся мыслитель, крупный культурный и общественный деятель.
Оставленное им научное наследие включает отдельные статьи и монографические исследования, курсы лекций, прочитанные им в разные годы, материалы многолетних дискуссий и докладов, проходивших в течение трех десятков лет в Московском методологическом кружке, рукописи начатых и незавершенных работ, автобиографические материалы и т. д. Из всего этого чрезвычайно обширного наследия увидела свет лишь часть написанных статей, малых монографий и тезисов выступлений. И хотя их список достаточно объемен и включает более 150 работ, все же они составляют незначительную долю творческого наследия. При этом большая часть опубликованных работ труднодоступна, рассеяна по многочисленным, тематически разнообразным, малотиражным изданиям. Поэтому для человека «со стороны» понять и оценить подлинные масштабы творческой личности Г. Щедровицкого, особенности его взглядов, вклад в развитие отечественной и мировой культуры в настоящее время вряд ли возможно.
Для того чтобы представить творчество Г. П. Щедровицкого в достаточно полном объеме и ввести его творческое наследие в широкий социокультурный контекст, начаты подготовка «Собрания сочинений» и компьютеризация «Архива». Но эта работа неизбежно растянется на многие годы. Именно поэтому, предваряя «Собрание сочинений», публикуется настоящий сборник избранных произведений.
Первоначальный замысел «Избранных трудов» предполагал включение в их состав как уже опубликованных, так и не публиковавшихся ранее работ. Однако от него по многим причинам пришлось отказаться, и в настоящем виде сборник содержит только избранное из опубликованного.
Пришлось также отказаться от мысли сопроводить книгу развернутым научным аппаратом, так как такого рода работа надолго затянула бы сроки настоящего издания.
Предлагаемые вниманию читателя «Избранные труды» являются первым изданием, в котором собраны вместе работы Г. П. Щедровицкого, написанные в разные годы. Составители видели свою задачу в том, чтобы, во-первых, представить его творчество как можно объемнее и полнее, во всех его измерениях, во-вторых, соблюсти разумные пропорции, баланс между работами, принадлежащими разным направлениям и предметно-тематическим уровням, в — третьих, так или иначе воспроизвести историю, генезис основных идей, направлений и тематизмов его работы.
Вполне очевидно, что воплощение этих принципов в жизнь потребовало определенных компромиссов и конкретных решений. Насколько они были удачными — судить читателю.
* * *
При подготовке настоящего издания были произведены незначительные изменения в публикуемых текстах, связанные с необходимостью унификации их оформления. Из них заслуживают упоминания следующие.
1. Все рисунки поименованы «схемами» и пронумерованы.
2. Все схемы «перерисованы» средствами компьютерной графики.
3. Работы Г. П. Щедровицкого, публиковавшиеся в разных номерах журнала в виде серии последовательных «сообщений», представлены как работы с соответствующими «разделами».
4. Чтобы избежать многочисленных повторений вся «Литература» собрана в один раздел, а библиографические описания разделены на два блока: I. Работы Г. П. Щедровицкого и II. Работы других авторов.
Библиографические описания первого блока выстроены исключительно по хронологическому принципу: они объединены в группы по признаку года публикации (или года начала публикации — для серии сообщений), а внутри каждой такой группы проиндексированы строчными латинскими буквами (при этом порядок их следования произвольный). Работы, вошедшие в настоящее издание, помечены звездочкой.
Описания же второго блока выстроены по алфавитному принципу, а для каждого автора — по хронологическому принципу. Работы одного автора, относящиеся к одному году, проиндексированы (как и в первом блоке) строчными латинскими буквами, проставленными после года.
5. В соответствии с этим библиографические ссылки в общем случае содержат указания на авторов работы или ее название и на год (с соответствующим индексом) публикации. Исключение составляют ссылки на работы Г. П. Щедровицкого: в них проставлен только подпубликации, но в отличие от общего случая он выделен курсивом.
Ссылки на страницы работ, включенных в настоящее издание, указаны в фигурных скобках.
* * *
Мы выражаем глубокую благодарность всем тем, кто помог нам собрать и выпустить в свет настоящее издание, и в первую очередь Г. А. Давыдовой, Н. Н. Крюковой, В. Р. Рокитянскому, М. С. Хромченко, Д. А. Чамоковой, А. Л., Н. Л. и П. Г. Щедровицким, и, конечно, автору фотографии, к сожалению, нам неизвестному.
Редакторы-составители
К творческой биографии Г. П. Щедровицкого (1929–1994)
Георгий Петрович Щедровицкий принадлежал к тому редкому отряду подвижников и возмутителей спокойствия, для которых все еще длится «первый день творения».
В нем редким образом сочетались любовь к чистому мышлению и всепоглощающая страсть к активной деятельности. Недаром он ввел в оборот слово мыследеятельность, к которому прибегал, размышляя об окружающем ли мире или о самом себе.
Прожитое им было настолько полно трудами и борениями, что трудно понять, как их смогла вместить одна, сравнительно короткая жизнь. После себя он оставил обширное и разнообразное идейное наследие, школу и движение, учеников и последователей (и, неизбежно, противников и оппонентов). Огромно число людей, на которых он прямо или косвенно оказал мощное влияние, захватывая в орбиту своей неутомимой мыследеятельности.
Какой же должна быть творческая биография Георгия Петровича, если творческая биография есть, по сути дела, не что иное, как подведение итогов? Обозначились ли итоги его подвижнической жизни? Можем ли мы уже сейчас подвести черту под ней, свести концы и начала, оценить истинный смысл всего содеянного и его значение, если не в отдаленной, то хотя бы в ближайшей перспективе?
На эти вопросы приходится однозначно ответить: нет, не можем. Слишком мала дистанция, разделяющая нас, чтобы можно было охватить эту жизнь целиком, во всех или, по крайней мере, основных измерениях. Слишком разнообразна и динамична была его творческая активность, породившая множество программ и подходов, разработанных и намеченных интеллектуальных систем, идейных и организационных замыслов и их воплощений, личностных поступков и культурно-значимых акций.
Поэтому все, о чем мы могли здесь написать, это еще не творческая биография, а только ее самый общий абрис.
К тому же наряду с содержательными существуют и чисто технические трудности, преодолеть которые при подготовке настоящего издания не было реальной возможности. Основная из них связана с тем, что работа по упорядочению и изучению обширного личного архива Георгия Петровича (более 3000 папок) только началась. А это означает, что на многие вопросы, неизбежно возникающие при написании объективной творческой биографии — основанной на подлинных документах, установленных фактах и компетентных свидетельствах, а не на мнениях, слухах и смутных воспоминаниях, — пока невозможно получить окончательные ответы. Это одновременно означает, что разные этапы его творческой биографии известны нам сейчас с разной степенью подробности и достоверности.
Поэтому, отдавая себе отчет в ограниченности нашего замысла, мы склонны рассматривать его лишь как определенный и неизбежный этап в работе по созданию творческой биографии Георгия Петровича, которая, мы уверены, будет продолжена.[1]
* * *
Георгий Петрович Щедровицкий родился в Москве 23 февраля 1929 года.[2] В 1937 г. он поступает во второй класс 2-й средней школы и учится в ней до эвакуации семьи в г. Куйбышев. Время жизни в Куйбышеве — это не только продолжение учебы в школе, но и работа санитаром в госпитале и шлифовальщиком на военном заводе. В 1943 г. семья возвращается в Москву, и Георгий продолжает учебу в 150-й школе, которую и оканчивает с серебряной медалью в 1946 г.
Школьные занятия давались ему легко, оставляя немало свободного времени, которым он мог распорядиться по своему усмотрению. Он делит его между тремя увлечениями — спортом, общественной работой и самообразованием.
Его первой страстью стала история, любовь и интерес к которой сохранились на всю жизнь. А началась она с восьмитомной «Истории XIX века» Лависса и Рамбо, подаренной восьмикласснику на день рождения дядей. История Человечества, как он позже признавался, стала для него той первой, а в некоторых отношениях и единственной реальностью, в которой и ради которой он жил. Многим хорошо знакомо это настроение — юношеский романтический максимализм с его желанием посвятить себя, «пока сердца для чести живы», непременно «великому делу». Но для большинства все ограничивается неопределенными мечтаниями и ожиданием этого дела, ради которого и стоит жить. Что же касается Г. П. (это не аббревиатура — так его называли за глаза и в глаза многие, с кем он работал в разные годы), то для него не было ничего более чуждого, чем пассивное ожидание. Он стал готовить себя, и готовить всерьез,[3] к историческим свершениям.
Правда, какими они должны были стать, он тогда еще толком не знал. Многое было ему интересно, и за что бы он ни брался, все получалось — если не само собой, то покоряясь воле и усилиям, которых всегда было не занимать. В то же самое время не было ярко выраженных «природных» склонностей и способностей, естественно образующих особую направленность личности и для самого человека, и для окружающих. Ясно было лишь одно: интеллектуальное, мыслительное начало будет в нем преобладающим.
Начиная с седьмого класса, у Г. П. появляется собственная образовательная программа, и, возвращаясь из школы домой, он усаживался за письменный стол, чтобы предаться самостоятельным штудиям. Благо в его распоряжении была обширная домашняя библиотека, любовно собранная отцом. Здесь, за письменным столом, закладывались основы той работоспособности и самодисциплины, которые не переставали удивлять всех знавших Г. П. и работавших с ним в последующие годы.
И, быть может, предчувствуя род будущих занятий, он всерьез усаживается за «Капитал» Маркса, штудирует «Историю философии» Виндельбандта и «Историю естественного права» Новгородцева. Что, впрочем, не помешало ему учиться на подготовительном отделении МАИ и затем, уже было собравшись стать студентом МАТИ, поступить на физический факультет МГУ.
Почему именно ha физический, он, возможно, и сам толком не знал. Но это, наверное, и не имело большого значения: для Г. П. всегда была характерна деятельная убежденность, что важно не столько то, чем человек занят, сколько то, что он сам сделает из своего занятия.
Может быть, немальчишеское усердие, с которым он работал над собой, стало бы прологом к биографии книгочея и эрудита, если бы не ярко выраженный общественный темперамент и организаторская жилка. Как и большинство сверстников, он вступает в комсомол (1941) и не только ради «чистоты биографии» (необходимой предпосылки любой карьеры в советском обществе), но и по идейной убежденности. И с той же серьезностью, с какой садился после школы за свои заветные занятия, отдается «общественной работе» комсорга класса и члена комитета комсомола школы (да еще участвует в драмкружке). В общем, на первый взгляд, ведет себя как «кондовый» советский общественник. Однако слишком всерьез он относится к этой своей общественной деятельности, и ее результатом, как правило, оказывается не социальная адаптация, а социальная отчужденность и от начальства, и от сверстников. Этой серьезности в отношении к делам, которые давно уже никем не принимались всерьез, Г. П. был обязан многими неприятностями.
Он и в годы учения в университете сохраняет верность себе, совмещая образование с активной «общественной работой».[4]
Казалось бы перед нами биография многообещающего функционера, если бы не одно смущающее обстоятельство. Отличительной чертой функционерства является непременное умение извлекать из всего личную выгоду. Бурная же общественная деятельность Г. П. приносила ему одну неприятность за другой, и он победно шествовал от поражения к поражению. За три года учебы на физическом факультете два раза ставился вопрос о его исключении из комсомола (а значит, по неписанным законам того времени, и об отчислении из университета). И оба раза источником конфликта была сверхнормативная активность и отсебятина, столь противопоказанные лояльному советскому человеку. Вспоминая те годы, Г. П. говорил, что он был загадкой и для начальства, и для товарищей, которые все никак не могли решить: то ли он «карьерист» с неуемной активностью, то ли «дурачок», принимающий всерьез идеологические декорации советской жизни.[5]
Сама учеба на физическом факультете не вполне удовлетворяла Георгия Петровича: не давая необходимого научного кругозора, она в то же время не отвечала и духовным запросам его деятельной натуры. К тому же на третьем курсе его принудительно распределили на спецотделение строения вещества, что означало реальную перспективу работы в закрытых учреждениях МВД над атомным проектом. Г. П. наотрез отказался и после конфликта с администрацией перевелся на второй курс философского факультета МГУ.
Так в 1949 г. началась учеба на философском факультете, где сферой интересов Г. П. становятся сначала философские вопросы естествознания, а затем логика и методология науки.
Время учебы на философском факультете определило не только основную сферу его научных интересов, но в значительной мере и круг будущих друзей и единомышленников, и образ будущей деятельности, и всю дальнейшую жизнь.
Студенческие годы на философском факультете — это и начало его официальной трудовой биографии. В 1951–1958 гг. Г. П. работает школьным учителем: преподает в разные годы логику, психологию и физику.
Характерно, что одним из его детищ был кружок по изучению древнегреческой философии, который он организовал, исполняя поручение по развертыванию агитационно-пропагандистской работы на факультете.
Здесь, в школе, вероятно, и зародился тот неослабевающий интерес, с которым Г. П. на протяжении всей своей дальнейшей научной деятельности относился к педагогической науке и образовательной сфере общественной жизни.[6] Здесь развился и укрепился его учительский дар, то педагогическое мастерство, с которым он в дальнейшем овладевал вниманием любой аудитории. Отсюда и то умение работы с коллективом, которое станет неотъемлемой и, может быть, самой существенной чертой всей его будущей творческой деятельности.
Но школьное учительство при всей его значимости для будущего — это лишь малая толика того, чем он занят в эти годы. Уровень преподавания на философском факультете был чрезвычайно низок, но само пребывание там открывало неограниченные горизонты для самостоятельной работы — самые благоприятные условия для человека такого склада, как Г. П. И он с головой уходит в изучение философской классики, истории науки и истории логических учений.
Занятия философией не сводились к чтению книг. Важнейшим, а в некоторых отношениях и определяющим для стиля жизни многих студентов послевоенного философского факультета было свободомыслие, «идеально-содержательное» (по выражению М. К. Мамардашвили) дружеское общение. Многие из тех, кто учился там в эти годы, вспоминают прежде всего особую идейную и дружескую атмосферу — атмосферу содержательной заинтересованности, которой было проникнуто их общение (при всей идеологизированности и казенщине официальной жизни факультета).
В ходе такого общения в 1952–1954 гг. складывался первый круг единомышленников[7] и зарождались те формы интеллектуального взаимодействия, которые сначала стали характерными для Московского Логического Кружка (МЛК), а затем составили регулярную основу его непосредственного продолжения — Московского Методологического Кружка (ММК).
Поначалу совместная интеллектуальная работа носила характер спонтанных обсуждений, но вскоре их участники выступают единым «фронтом» на дискуссии по проблемам логики, проходившей на философском факультете и вырабатывают совместную программу логических исследований и разработок.
К этому времени учеба на философском факультете была уже позади. В 1953 г. Г. П. получает диплом с отличием по специальности «философия».[8] Тема дипломной работы — логико-методологическое исследование генезиса научных понятий на материале истории физики.[9]
Формально (как окончивший с отличием) Г. П. получает распределение в аспирантуру, но его студенческая биография к тому времени была настолько «подмочена» (своей неуемной активностью и бескомпромиссностью он настроил против себя почти всю факультетскую профессуру), что поступить в аспирантуру он смог бы только после ухода с кафедры логики всех (или почти всех) преподавателей. Его тщетно уговаривали поступать в аспирантуру плехановского института, но он стоял на своем и в результате остался «ни с чем» — школьным учителем.
Поначалу ведущая роль в МЛК принадлежала А. А. Зиновьеву, старшему и по возрасту, и по «научному стажу»,[10] а сама программа совместной работы была унаследована от гегелево-марксовой традиции и ориентировалась на результаты дискуссий 40-х годов в философских кругах о соотношении формальной и диалектической логик. Зиновьев тогда занимался анализом логики «Капитала», и результаты его работы первоначально служили своего рода образцом, по которому каждый из участников объединения выверял свою собственную работу.
Согласно принятой программе работа должна была строиться рекуррентно: сначала теоретический дискурс относительно исходных средств анализа, затем логико-эмпирический анализ оригинальных философских и научных текстов, запечатлевших «работу мысли», с использованием конструктивно оформленных средств, потом рефлексия полученных результатов и вновь методологическое разворачивание средств анализа в ходе нового теоретического дискурса, и т. д.
Основная предпосылка первых работ Г. П. состояла в том, что мышление является как бы «двухплоскостным» движением, т. е. движением одновременно в «плоскостях» обозначающего и обозначаемого, и что генетическое исследование мышления требует анализа и знаковой формы языковых выражений, и объективного их содержания, без понимания которого невозможно действительное выявление структуры языковых выражений. Предлагались методы анализа объективного содержания элементарных знаний, данного в предметно-практических сравнениях изучаемого «объекта» с «объектами-эталонами» и закрепленного затем в знаковой форме знания.
Тем самым мышление и знание в содержательно-генетической их трактовке с самого начала рассматривались в двух аспектах: во-первых, как образ определенных объектов, как фиксированное «знание», во-вторых, как процесс (или «деятельность»), посредством которого этот образ формируется, а потом и используется. Именно процессуальная, или деятельностная, сторона мышления выдвигалась здесь на первый план — сначала в форме предметно-практических операций с реальными объектами, а затем в форме операций со знаками самого языка как с особыми абстрактными объектами, замещающими реальные объекты практического оперирования. В результате формировался подход к мышлению как деятельности особого рода, восходящей по ступеням (плоскостям) знакового замещения.
Позже этот этап своей деятельности и работы МЛК-ММК Г. П. называл этапом содержательно-генетическойлогики, или эпистемологии.
В качестве эмпирического историко-научного материала использовались классические работы Аристотеля и Аристарха Самосского, Евклида и Галилея, Ньютона и Декарта. Анализ подобных образцов научного мышления находился в центре интересов МЛК. Работы шли широким фронтом, захватывая понятия и модельные представления молекулярно-кинетической теории газов, структурные модели органической химии и химфизики и т. д.
Однако первоначальное идеально-содержательное объединение существовало недолго, и к 1957 г. дороги его участников разошлись.[11] Причиной тому были как идейные, так и организационные разногласия. К тому времени у каждого из основных участников первоначального объединения, с одной стороны, оформилась собственная программа деятельности,[12] а с другой — выработалось свое отношение к самой организационной форме работы.
Для Г. П. наметившийся образ совместной деятельности, предполагавший не только интеллектуальную, но и социальную активность, оказался самоценным и продуктивным. Именно в нем он тогда увидел — скорее интуитивно угадал, чём рефлексивно опознал — новую, перспективную форму организации мышления и деятельности как таковых.
Необходимо отметить и еще одно существенное обстоятельство, которое сейчас, в исторической перспективе, выглядит многозначительным. В отличие от своих друзей-единомышленников, Г. П. уже тогда мало считался с традиционными предметно-дисциплинарными рамками и тесно сотрудничал с психологами (представителями педагогической психологии).
Опыт изучения, с одной стороны, процедур и процессов мышления на материале истории науки и, с другой — формирования мыслительных навыков в процессе обучения был отрефлектирован в идее и программе разработки новой логики. Отправным пунктом стала констатация того, что как для традиционной, так и для современной формальной логики исходным является «принцип параллелизма формы и содержания мышления»; отказ же от этого принципа требует разработки содержательной, или содержательно-генетической, логики.[13]
Вместе с тем такое осознание опыта работы сопровождалось все более отчетливым пониманием, что реальная исследовательская практика МЛК не вмещается в пределы собственно логики ни в традиционном, ни в новом ее понимании. Речь шла, по сути дела, о новой «технологии» мышления, связанной с выработкой, рефлексией и трансляцией средств преодоления самых разнообразных противоречий (разрывов) научно-познавательной и учебной деятельности, т. е. о методологии как таковой. Поэтому распад первого круга единомышленников — это одновременно и превращение кружка логического (МЛК) в методологический (ММК). А вместе с тем и зарождение новой школы — школы Г. П. Щедровицкого.
Между тем в 1958 г. Г. П. оставляет преподавание в школе и переходит в Издательство АПН РСФСР, где сначала работает в редакции педагогического словаря, а затем в редакции педагогики. Он редактирует труды Крупской, Блонского, позже Пиаже, ряд книг по теории и истории педагогики. Работу в издательстве он совмещает с работой в отделе теории журнала «Вопросы психологии».
Новая работа способствовала укреплению и расширению контактов с психологами, которые приобрели регулярный характер начиная с 1954–1955 гг.[14] Сотрудничеству с ними Г. П. стремится придать организационные формы, так или иначе уже отработанные в логическом кружке, и предпринимает ряд попыток создать семинар по системному изучению явлений психики. Эти попытки завершились в 1958 г. организацией (совместно с В. В. Давыдовым и под патронажем П. А. Шеварева) так называемой Комиссии по психологии мышления и логике Общества психологов СССР, первого междисциплинарного объединения — пока еще в основном философов и психологов, но объединения не на логической, а на собственно методологической основе. С образованием этой Комиссии ММК получил официальное право на социальную жизнь, т. е. стал не подозрительным сборищем, а легальным объединением, что в условиях роста числа участников стало необходимым.
Своего рода программой работы Комиссии можно считать работу «О возможных путях исследования мышления как деятельности» [1957 b] (написанную Г. П. совместно с Н. Г. Алексеевым), в которой получили дальнейшее развитие и конкретное приложение идеи, выработанные в ходе анализа научного мышления и связанные с противопоставлением двух планов, или аспектов, изучения мышления — плана «образов» (или знаний) и плана «процессов» (или деятельности). В ней утверждалось, что подлинное и полнообъемное изучение мышления невозможно без установления взаимопереходов и объединения этих двух аспектов в единое, внутренне расчлененное представление, и ставилась задача операционально-деятельностного анализа понятий и знаний, позволяющего, исходя из формы какого-либо сложившегося понятия или знания, сводить его к системе операций и действий, порождающих содержание этого понятия или знания. А в качестве одного из основных принципов, регулирующих подобный анализ, вводилась методологическая оппозиция «объект — предмет».
Сама эта оппозиция фиксировала опыт изучения связи языка и мышления, попытки создать новый предмет — «теорию мышления». Для решения этой задачи Г. П. пытается соединить средства и методы логики и лингвистики, психологии и социологии. Исходным моментом теоретического дискурса в этом случае становилась связь языка и мышления, которая объективировалась в качестве особого синтетического объекта — «языкового мышления», а собственно «язык» и «мышление» трактовались как особые частные и частичные предметы исследования «языкового мышления».[15] Подобная постановка вопроса и способ введения исходных абстракций превращали логическое исследование в методологическое, отправной точкой для которого становилась оппозиция «объект — предмет» и связанный с ней подход к анализу сложных синтетических (органических) целостностей, изучавшихся разными науками и входивших в разные системы знания. Первые результаты подобного подхода содержались в статье [1957 г.] «Языковое мышление и его анализ» {с. 449–465 наст. изд. }. С этой работы начинается линия языковедческих, лингво-семиотических методологических исследований Г. П., проблематика строения знака и знаковых систем, смысла и значения знаков, соотношения парадигматики и синтагматики, и т. д.
В 1960 г. Г. П. становится научным сотрудником лаборатории психологии и психофизиологии НИИ дошкольного воспитания АПН РСФСР. Переход на работу в исследовательский институт создавал предпосылки для организации новых форм сотрудничества с психологами и педагогами, основанных на программе операционально-деятельностного подхода к изучению и развитию мышления. Идеи подобного подхода начали широко использоваться в психолого-педагогических исследованиях ситуаций обучения и воспитания, процессов развития в условиях обучения, взаимоотношений детей в условиях совместной деятельности и т. д.[16]
Одной из предпосылок этого цикла экспериментально-педагогических работ был принцип несовпадения предметного и операционально-деятельностного содержания обучения; с опорой на этот принцип была предпринята попытка определить основные фазы и этапы развития ребенка в соответствии с освоением им операционально-деятельностных, а не предметных содержаний обучения.
Другой предпосылкой являлось представление, что концептуальной базой для анализа «живой» мыслительной деятельности и тем более для построения приемов и способов обучения правильно организованному мышлению должна быть «объективная структура мыслительной деятельности», реконструируемая методологическими средствами.
Метод такой реконструкции получил название «метода нормативного анализа деятельности». Экспликации этого метода, с одной стороны, его уточнению в реальных психолого-педагогических исследованиях — с другой, был посвящен круг работ, выполненных на материале решения детьми (дошкольниками и школьниками) арифметических задач.
Эта линия теоретико-экспериментальных логико-педагогических и логико-психологических исследований объективной структуры мыслительной деятельности со стороны ее эмпирического содержания (мыслительная деятельность детей вплетена во все другие формы их поведения и деятельности и является их органом) выводила к более широким горизонтам соотношения логического (методологического) и психологического в педагогике, проблемам соотношения обучения и развития ребенка, к другим видам и формам (не учебным, или не только учебным) детской активности.
В свою очередь в концептуальном плане на одно из первых мест по значимости — на место системообразующей категории — стала выдвигаться категория «нормы», или «культурной нормы», превращая операционально-деятельностный подход в нормативно-деятельностный.[17]
Возникала насущная потребность в разработке теоретических представлений, концептуальных схем, приложимых и к игровой деятельности как основной форме детского поведения, и к широкому разнообразию видов социально значимой деятельности вообще.
С самых первых своих самостоятельных исследований Г. П. так или иначе имел дело с анализом и теоретическим конструированием сложных предметных целостностей, отраженных в системах знания, принадлежащих разным научным дисциплинам, и использовал категории, концептуальные схемы, принципы анализа-синтеза структурного и структурно-функционального характера. В его творческой лаборатории наметился и все более проявлялся тематизм системно-структурных исследований и разработок. С осознанием и специальной разработкой соответствующих концептуальных средств связано становление еще одной идеи и направления — методологии системно-структурных исследований и разработок.
Мы уже отмечали, что с некоторого времени для творческой деятельности Г. П. стало характерным, что любую из возникающих тем, каждое из направлений работы он стремится превратить в коллективные мышление и деятельность по образу и подобию тех форм, которые складывались в ММК.[18] Поэтому в 1962 г. он организует (совместно с В. Н. Садовским и Э. Г. Юдиным) междисциплинарный семинар по структурно-системным методам анализа в науке и технике при совете по кибернетике АН СССР. С 1964 г. этот семинар становится официальной «крышей» и для всего ММК.
На семинаре обсуждаются зарубежные варианты системно-структурного подхода, прежде всего общая теория систем (ОТС), восходящая к работам Л. фон Берталанфи, и закладываются основы для собственных, оригинальных исследований и разработок.
Результаты, полученные Г. П. в предыдущие годы и апробированные в ходе работы семинара, были обобщены и представлен в монографии «Проблемы методологии системных исследований» [1964 г. ] {с. 155–196 наст. изд. }.[19] Для самого Г. П. эта работа во многом символизировала окончание одного этапа развития ММК — этапа «содержательно-генетической логики (эпистемологии) и теории мышления» — и начало другого — этапа «деятельностного подхода и общей теории деятельности».
Место этой работы в контексте развития идей ММК как одного из направлений методологического движения вообще существенно определено тем обстоятельством, что в ней, с одной стороны, подведены первые итоги развития методологии как самостоятельного направления и в определенной степени самостоятельной «дисциплины», а с другой — намечены перспективы дальнейшего ее развития, своего рода программа такого развития. Эти перспективы непосредственно связывались с разработкой методологии системно-структурных исследований и созданием понятийного аппарата системного анализа в качестве одного из основных инструментальных средств методологического мышления и деятельности.
Предложенное в работе понятие «система» основано на различении и противопоставлении «связи» и «отношения». Согласно Г. П., «отношение» может быть установлено практически между любыми качественно однородными объектами за счет отнесения к объемлющей их системе (среде). «Связь» же — всегда результат анализа-синтеза (реального или мыслимого). Она — результат операции, «обратной» разложению некоторого целого на элементы, и вводится для восстановления утраченной исходной целостности.
Совокупность модально однородных связей целого образует «структуру» объекта (или предмета), а то в них, что объединяется структурой как особой формой, или то, что остается, если абстрагироваться от структуры, есть «организация» объекта.
В свою очередь, «система», или, вернее, представление объекта как системы, предполагает, что объект является композицией организованных структур — процессуальной, функциональной, морфологической. Такого типа представления и получили название системно-структурных.
Намеченные в монографии категориальные средства и модельные представления методологии системно-структурных исследований были развиты затем в ряде других работ этого периода.[20]
Монография подводила итоги и определенного этапа понимания смысла и значения методологии как таковой и методологической деятельности. Если до этого методологическое движение мыслилось в основном как направление в контексте научно-познавательной деятельности (методология науки), то здесь впервые методология трактовалась как «теория человеческой деятельности», предмет которой «принципиально отличен от предмета всех других конкретных наук; это — деятельность познания, мышление, или, если говорить более точно, вся деятельность человечества, включая сюда не только собственно познание, но и производство» {с. 158 наст. изд. }.
С одной стороны, для методологии как теории деятельности важнейшим вопросом становилась разработка самого представления о деятельности, ее модельных схем, а с другой — развитые в рамках методологии системно-структурные представления и методы анализа становились затем непременным условием и средствами решения всех других проблем, гарантируя определенный теоретико-методологический уровень их постановки и решения.
Линия методологических исследований, связанная с разработкой теории деятельности как междисциплинарной концепции, была намечена уже в упоминавшейся выше работе «О возможных путях исследования мышления как деятельности» [1957 г], а в наиболее развернутом виде категория деятельности и теоретические представления о деятельности, сложившиеся в ММК на этом этапе, обсуждались в работе «Об исходных принципах анализа обучения и развития в рамках теории деятельности» [1966 г. } {с. 197–227 наст. изд. }.
Отдельные положения и понятия этой «теории», модельные представления и структурные схемы обсуждались в целом ряде работ Г. П.[21] и других членов ММК. В них вводились в оборот важнейшие для всего дальнейшего развития ММК категории: «воспроизводство» (категория, выражающая содержание основного процесса, конституирующего деятельность как таковую), «естественное» и «искусственное» и т. д. Рассматривались, в частности, представления о частной и массовой деятельности, а также концептуальные схемы разной степени общности и категориальной определенности, позволяющие анализировать разные формы и виды социально значимой деятельности.
Создаваемая в рамках ММК теория деятельности — методологическая концепция деятельности, охватывающая всю область «методологической действительности» (полнообъемные структуры деятельности со всем набором их элементов и структур), — должна была, по мысли ее создателей, обеспечить возможность прогнозирования и управления развитием разных форм социально значимой деятельности. В этом своем качестве «наука о деятельности» рассматривалась как метаметодологическая дисциплина, последнее основание всякой методологической работы.
В 1965 г. Г. П. уходит из НИИ дошкольного воспитания и переходит на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ). Обладая самостоятельным вектором развития, он, как уже отмечалось, всегда, рано или поздно, начинал «шагать не в ногу», задевать чьи-то интересы. При этом, не отказываясь от компромиссов, он шел на них только до тех пор, пока они не касались основного дела его жизни — развития методологии и поддержания деятельности ММК. Когда это происходило, приходилось уходить и начинать строить отношения на новом месте работы.
Вместе с Г. П. во ВНИИТЭ, в организованную там лабораторию «общетеоретических проблем», приходит целая группа «младометодологов» — членов ММК.[22]
Лаборатория (прежде всего методологическая группа) поставила перед собой цель охватить и осмыслить всю область явлений дизайна и построить целостную его систему. На протяжении почти четырех лет (1965–1968) она, по сути дела, являлась творческой студией по выработке новых теоретико-деятельностных средств в сфере проектирования.
В программно-теоретических работах этого периода (выполненных в основном совместно с О. И. Генисаретским) дизайн рассматривался в. качестве «сферы» социальной деятельности и социального института. Предполагалось, что развитие дизайна должно управляться теорией дизайна, что теория должна быть построена (спроектирована) по типу теорий научного знания и, наконец, что средством построения теории дизайна должна и может быть методология.
В соответствии с этой программой была развернута система взглядов на дизайнерскую деятельность как на тотальное и обособляющееся проектирование, нацеленное в идеале на создание эстетически завершенной и функционально полной предметной среды жизни общества; при этом концепция тотального проектирования перерастала в концепцию социального проектирования.[23]
Появление нового направления и новой предметной и проблемно-тематической области никогда не означало прекращения исследований в других направлениях, а всегда имело своим следствием расширение горизонтов активности Г. П. и ММК. Дело в том, что результаты, полученные в рамках одного направления работы, становились объектом рефлексии и нормирования в категориях и теоретических схемах «теории деятельности» и в качестве средств методологического регулирования использовались для развития других направлений работы. Поэтому в эти же годы продолжается разработка проблем методологии науки и научной деятельности, обсуждаются и развиваются структурные модели и представления науки как системно-организованной научно-познавательной деятельности, предлагаются различные варианты схем строения и функционирования науки.[24]
Интенсивно продолжается цикл лингво-семиотических исследований, в которых семиотические проблемы ставятся и обсуждаются с междисциплинарной точки зрения — сопоставляются представления о знаках, развиваемые в психологии и логике, социологии и лингвистике.[25]
Тогда эти монографии не увидели свет и остались в архиве. Опубликованы они были только в 1990 г.
Но, хотя непосредственные результаты работы лаборатории общетеоретических проблем тогда и не были изданы, выдвинутые тогда идеи (нормативной структуры деятельности, специфики социально-производственных систем и т. д.) определили многие направления исследований в области методологии социального, инженерно-психологического, архитектурного и других видов проектирования и в дальнейшем стали одной из основ организации и проведения организационно-деятельностных игр.
В целом ряде работ, написанных в эти годы, Г. П. развивает, во-первых, представление о методологии языкознания как особого рода практике и, во-вторых, представление о самом языкознании как деятельности, связанной с созданием «программ» и «норм» речевой деятельности (языковедение как инженерия), отстаивает необходимость учитывать и отражать в семиотических исследованиях связь между системами объектных сопоставлений и знаками языка.[26]
Такой подход к языковедческим проблемам позволял сделать радикальные выводы о речи-языке, и в частности тот вывод, что грамматика по своей основной функции — не совокупность знаний о языке и речи, как это часто полагают языковеды, а форма существования самого языка и одно из средств, необходимых для осуществления рече-мыслительной деятельности. А это, в свою очередь, означало для Г. П., что перед языкознанием во весь рост встала проблема построения «онтологической картины» речи-языка в качестве объекта изучения, без которой оно, по сути дела, не может существовать как отрасль собственно науки.
В рамках этой линии исследований был осуществлен особый цикл работ, связанных с обсуждением проблем статуса и оснований семиотики как особой науки о знаках и знаковых системах.[27] В этих работах был подвергнут анализу и критике расхожий подход к семиотике как к простому расширению применения понятий и методов лингвистики на новые области эмпирического материала и отстаивалось представление о ней как о синтетической дисциплине, конфигурирующей представления о знаковой реальности, выработанные в психологии, логике, языкознании и т. д. В частности, предлагались абстрактные структурные модели социально-производственной единицы социума с семиотическими элементами и регулярные правила их развертывания для построения семиотических систем разного рода.
Центральный пункт всех исследований в этом направлении — разработка понятия знака и знаковой системы, вернее, системы таких понятий, как «знак», «значение», «содержание», «смысл» и т. п., и структурной модели «знака» как такового.
Все новые идеи членов ММК получали в нем право на жизнь только пройдя горнило интенсивных обсуждений на его семинарах.
В 60-е годы ММК стал сложным организмом, центральным стержнем которого был методологический семинар — непрерывный теоретический дискурс философов и социологов, психологов и педагогов, архитекторов и искусствоведов, инженеров и физиков и т. д. Вокруг «большого» семинара сложилась система «малых», имевших более определенную предметную направленность. Организация и поддержание деятельности такого организма, выработка языковых и концептуальных средств группового взаимодействия, нормирование и регулирование самого процесса интеллектуальной междисциплинарной коммуникации в основном лежали на плечах Г. П., что было возможно только благодаря его феноменальной работоспособности и выносливости.
Но его творческая активность в эти годы проявлялась и в других, более традиционных формах. Он — неизменный участник (как правило, вместе с «командой») множества научных конференций — по логике и методологии, психологии и педагогике, языковедению и лингвистике, кибернетике и управлению, и т. д. Именно он являлся фактическим инициатором, организатором и ведущим участником многих всесоюзных конференций по логике и методологии науки (начиная с первой в 1960 г. в г. Томске). Наряду с этим он читает факультативные циклы лекций в целом ряде научных и учебных заведений (на психологическом и философском факультетах МГУ, в МИФИ, в НИИ общего и политехнического образования, в МГПИ и т. п.), используя и пропагандируя результаты деятельности ММК.[28]
Участие в конференциях и чтение циклов лекций были неизменными составляющими творческой деятельности Г. П. и во все последующие годы.
В 1968 г. вместе с другими деятелями науки и культуры Г. П. подписал одно из коллективных писем руководителям КПСС и правительства в защиту диссидентов А. Гинзбурга и Ю. Галанскова и был исключен из КПСС «за действия, использованные во вред партии и страны».[29] А вслед за тем в 1969 г., устами В. Афанасьева, главного редактора «Правды», взгляды Г. П. были в очередной раз признаны антимарксистскими. Поводом для этого послужила публикация в «Литературной газете» статьи «Данные науки или самообман?», где Г. П. отстаивал мысль, что у советской социологии еще нет своего предмета и что без него эмпирические исследования мало осмысленны.
Результат «вольнодумства» не замедлил сказаться. Г. П. тут же увольняют из ВНИИТЭ «по сокращению штатов».[30] С этого времени у Г. П. как человека с клеймом политически неблагонадежного в число проблем, требующих внимания, попадает отнюдь не методологическая проблема поиска работы.[31]
В 1969 г. при содействии друзей и знакомых ему удается устроиться на работу в Центральную учебно-экспериментальную студию союза художников СССР, и он работает в ней до 1974 года.
При всех изгибах личной судьбы главным и определяющим смысл его жизни является пo-прежнему ММК и работа методологического семинара, который, несмотря на препятствия разного рода, продолжает жить своей напряженной жизнью. К концу 60-х годов сложились основные направления (научные предметы) междисциплинарных исследований и разработок ММК. Для Г. П. это были: «теория деятельности», «теория мышления», «семиотика», «теория науки», «теория проектирования» и «онтология системно-структурного анализа».
В 70-е годы он развивает свои семиотические идеи, связанные с проблемой знака и коммуникации, строит теоретико-методологические схемы для выражения таких традиционных тематизмов, как значение и смысл, мышление и понимание и т. п., на языке системно-структурной методологии и теории деятельности.[32] В работах этого направления обсуждалось соотношение «натуралистического» и «деятельностного» подходов к решению семиотических проблем, сравнивался их категориальный аппарат, предлагалась трактовка знака как семиотической «организованности» деятельности, снимающей и оестествляющей в себе структуру кооперации разных видов и форм деятельности и закрепляющей ее в особого рода нормативных (конструктивных) схемах.
Линия метаметодологическая, направленная на разработку проблем самой методологии, ее концептуальной базы, средств и методов, всегда была определяющей для самого существования и развития ММК. При этом особое внимание уделялось категориальным средствам системно-структурной методологии и системодеятельностного подхода. В определенном смысле именно две базальных категории — «система» и «деятельность» — являлись полюсами того категориального поля, которое направляло все развитие методологического движения.
Приведению в систему разросшегося категориального аппарата и арсенала теоретико-деятельностных схем посвящена обобщающая работа — Приложения к статье «Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности» [1975 г. (с. 233–280 наст, изд. }, d, e, f]. В ней он развивает свой взгляд на деятельность как на неоднородную полиструктуру, которая объединяет много разных и разнонаправленных процессов, протекающих в разном темпе и в разное время. Категории системы и полиструктуры определяют здесь методы изучения деятельности на разных уровнях ее обобщения. Совокупность таких методов и соответствующих им понятийных средств задает специфику системодеятельностного подхода.
С точки зрения Г. П., в основании нового, методологического представления о системе лежат не «структура», не «материальные элементы», а «процесс», определяющий лицо объекта и конституирующий его целостность. Категория процесса задает здесь первый слой представления любого объекта как системы. Этой категории противопоставляется категория «материала», в котором те или иные процессы реализуются. Противопоставление «процесс — материал» и абстрагирование процессов от материала дополняются обратной процедурой «наложения» процессов на материал.
Вводятся и оформляются и другие категории системного подхода: с одной стороны, категории «структуры» и «организованности», с другой — «формы», с третьей — «механизма» и «конструкции». Здесь «структура» — это статическое изображение процесса, а «организованность» — своего рода отпечаток структуры на материале. Так образуются слои любого системного объекта, заданные категориями процесса, структуры, организованности, материала.
В эти же годы особое внимание уделяется проблематике истории и перспективам развития самого системного движения как действительности особого рода. Г. П. выделяет целый ряд направлений в русле системного движения, описывает соотношения между ними, проводит критический анализ программ и проектов построения «теории систем». Он отстаивает тот взгляд на системное движение и системный подход, в соответствии с которым они имеют смысл только как подразделения и особые организованности методологии и методологического подхода.[33]
Венчает этот круг разработок общая схема организации системно-структурной методологии, включающая четыре слоя деятельности, каждый из которых как бы надстраивается над предыдущим и ассимилирует его. Это слои (1) «практик», (2) научных, инженерных, оргуправленческих, проектных и других «предметов», (3) «частных» методологических разработок и, наконец, (4) «общей методологии».
Развивая новые направления исследований и разработок, Г. П. не оставляет работу и над традиционной, классической для ММК проблемой — проблемой изучения мышления, мыслительной деятельности. Новый виток идейного развития представлен на этом этапе циклом обобщающих теоретико-методологических исследований мышления и понятия мышления в эволюционной и исторической перспективе. Помещение этой проблематики в широкий социокультурный контекст позволило выявить ее связи с проблемой создания «системных теорий популятивных объектов», с историческими условиями, обстоятельствами и содержанием идеологемы «прогресса разума», с возможностями представления мышления не только в культурно-нормативной ипостаси, но и как естественного или естественно-искусственного объекта и т. д.
Особенностью этого цикла исследований является специальная организация средств системно-структурной методологии и деятельностного подхода для новой постановки — на новом уровне — традиционной проблематики мышления, использование всех результатов полученных в процессе развития ММК для методологической рефлексии и создания исследовательских программ в этой области. Поэтому, работы, представляющие этот цикл, по сути дела, демонстрируют особенности методологического мышления как такового и являются одновременно своего рода обзорами результатов развития самого ММК.[34]
В 1974 г. Г. П. оставляет студию и переходит на работу в филиал Смоленского института физической культуры (с 1977 года Московский областной государственный институт физической культуры). На новом месте службы он читает студентам (и не только студентам) лекции по педагогике и истории педагогики и создает теоретико-методологический семинар, привлекая сотрудников к работе над проблемами методологии научно-педагогических исследований в спорте.[35] Но, как и всегда, он не ограничивается чисто интеллектуальной активностью, а сочетает ее с социально-организационной — входит в Научный совет спорткомитета СССР и руководит Комиссией структурно-системных исследований и разработок в сфере физкультуры и спорта (1974), организует и проводит ряд всесоюзных совещаний по проблемам системодеятельностного анализа в спорте.
По уже сложившейся традиции исследования в новом направлении начались с использования традиционной «семинарской» формы работы и уже существующих средств системно-структурной методологии и системодеятельностного подхода для решения вопросов комплексной организации подготовки в спорте высших достижений, групповых взаимоотношений в спортивных командах, взаимоотношений «тренер-спортсмен» и т. д.[36]
Далее, однако, особенности подготовки в спорте высших достижений стимулировали попытку использовать средства, методы и организационные формы, созданные в ходе междисциплинарного интеллектуального дискурса (методологического семинара), в учебно-деловых играх с коллективами тренеров, работающих в центрах олимпийской подготовки. В результате этого появились своеобразные гибридные игры (организованные вместе с Д. А. Аросьевым и В. И. Астаховым), соединяющие в себе свойства учебно-деловых игр и интеллектуального методологического дискурса.
Эта метаморфоза совпала и, по всей вероятности, была связана с двумя обстоятельствами внутренней жизни самого ММК. Во-первых, ей косвенно способствовал очередной кризис Кружка, когда его покинуло (обретая самостоятельность и собственный жизненный вектор развития) целое поколение ведущих методологов.[37] Во-вторых, к этому времени для Г. П. стало почти аксиомой, что методология — это не просто учение о средствах и методах мышления и деятельности, а форма организации и в этом смысле «рамка» всей мыследеятельности и жизнедеятельности людей. А это одновременно означало, что ее «нельзя транслировать как знание и набор инструментов от одного человека к другому, а можно лишь выращивать, включая людей в новую для них сферу методологической мыследеятельности и обеспечивая им там полную и целостную жизнедеятельность» {с. 118 наст. изд. }. Тем самым фактически было осознано, что основным результатом и достижением ММК являются не только и не столько выработанные в его русле концептуальные и операциональные средства и методы и даже не столько постановка и решение тех или иных методологических проблем и задач, сколько сам методологический семинар с его особыми «организованностями» мышления и деятельности — как самовоспроизводящаяся форма междисциплинарной коллективной интеллектуальной коммуникации.
Все эти обстоятельства вместе взятые и предопределили происшедший к концу 70-х годов «переворот», ставший границей между двумя периодами развития ММК. До этого освоение новых областей социально значимой деятельности и включение их в орбиту ММК происходило в основном в «классической» форме: в те или иные области научной, инженерно-технической, организационно-управленческой или иной деятельности непосредственно транслировались продукты методологического мышления и деятельности (мыследеятельности) — знания, модели, программы и т. п. С конца же 70-х годов в них стали транслироваться сами практические формы коллективной организации мыследеятельности.
Формальным рубежом между «семинарским» и «игровым» периодами существования ММК, или, вернее, методологического движения в лице ММК, стали подготовка и проведение в 1979 г. игры особого типа.[38] Такие игры — а они отныне приобретают регулярный характер — получили имя "организационно-деятельностных" (ОДИ). В отличие от традиционных деловых и учебно-деловых игр содержанием ОДИ стало — по образу и подобию методологического семинара — не усвоение знаний и готовых форм деятельности, а решение проблем. И в то же время в отличие от самого семинара это были уже не методологические, а предметно-ориентированные проблемы и решали их не непосредственно методологи, а специалисты-профессионалы, соорганизуемые методологами.
В 1980 году Г. П. переходит на работу в НИИ общей и педагогической психологии АПН, в лабораторию психологии принятия решений и занимается «психологией оргуправленческой деятельности». При этом, как и всегда, чисто учрежденческую тематику он вписывает в широкий контекст развития методологического движения, что на этом этапе означает организацию и проведение ОДИ и разработку средств их интеллектуально-организационного обеспечения.[39]
Хотя создание и практика ОДИ были основательно фундированы и всем арсеналом концептуальных средств методологии, и опытом многолетнего руководства методологическим семинаром, новая, игровая действительность оказалась настолько сложной (как в содержательном, социокультурном, так и в пространственно-временном отношении), что отрефлектировать и описать ее общезначимым образом с помощью существовавших средств было невозможно. Потребовались иные теоретические средства, понятия и язык (вплоть до нового самоназвания — «системомыследеятельностная методология»), интеллектуальные и оргпрактические технологии, игротехники и психотехники.
Интеллектуальные продукты осмысления опыта ОДИ представлены Г. П. в работах «Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятельности» [1983 с*] (с. 115–142 наст, изд. } и «Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл, содержание» [1987 а*] {с. 281–298 наст. изд.). В них он (1) разрабатывает представление об ОДИ как о многофокусной организационно-технической системе, имитирующей реальную социокультурную ситуацию и включающей по меньшей мере три фокуса управления ею — методологический, исследовательский и игротехнический, находящиеся в конкурентных отношениях между собой, (2) вводит представления о различных «пространствах» в схеме мыследеятельности — мыслительном, мыслительно-коммуникационном и мыследействования, (3) осуществляет организационно-практический и организационно-технический синтез разных видов мыследеятельности — программирования и проблематизации, организации и коммуникации, и т. д. — как составляющих комплексной и системной формы организации коллективной мыследеятельности.
Каждая ОДИ — драматическое, естественно-искусственное социо-техническое действо с «открытым» окончанием, своего рода приглашение в будущее. Каким «являлось» это будущее определялось в самой игре. Недаром одна из газетных статей, описывающая впечатления участника «большой» игры, была названа «Игра как жизнь».
Среди общего игрового потока обозначилось несколько проблемно-тематических направлений, связанных с целыми игровыми циклами, оказавшимися в итоге наиболее плодотворными и эффективными. Здесь в первую очередь надо отметить многолетнюю работу над созданием оргпроекта и образовательных программ вуза нового типа (университета будущего). Этой тематике посвящен целый ряд ОДИ разного масштаба и состава (игры в Москве, Пущино, Харькове, Сургуте, Тольятти и др.). Именно в этом направлении в настоящее время сосредоточены основные оргпрактические усилия участников ММК-движения.
Практика ОДИ оказалась эффективным способом социализации методологического движения. Круг людей, вовлекаемых через ОДИ в его орбиту, стремительно рос. Этому в немалой степени способствовали общественно-политические изменения в стране, начинавшаяся «перестройка».
В 1983 году Г. П. вынужден был уйти из НИИОПП и устроиться на работу в отдел методологии и теории инженерных изысканий одного из НИИ системы Госстроя. В этой системе он работает до 1988 г.
Хотя вся энергия Г. П. в это время была так или иначе направлена на развитие оргдеятельностных и оргтехнических форм бытования методологического движения, он осваивает и ассимилирует и новую предметную проблематику. Работа над ней отражена в таких публикациях, как «Научные и практические вопросы создания проектов, эффективно реализуемых с точки зрения инженерных изысканий» (совместно с М. Т. Ойзерманом и М. В. Рацем) [1985а], «Категории сложности изыскательских работ как объект исследований с системодеятельностной точки зрения» (совместно с Е. Я. Наградовой) [1985 b].
В то же время Г. П. не отказывается и от традиционных форм семинарской работы, в частности организует и ведет межвузовский семинар по системному подходу в геологии. Для осмысления опыта организации и проведения ОДИ организует и проводит не один десяток тематических совещаний.
В 1988 г. Г. П., полгода проработав в НИИ управления и экономики народного образования АПН СССР, переходит во Всесоюзный НИИ теории архитектуры и градостроительства. Здесь он до 1992 г. возглавляет лабораторию организации проектно-строительного дела.
С конца 80-х годов происходит интенсивное социально-организационное оформление движения, его социализация.
В 1988 г. Г. П. организует при Союзе научных и инженерных обществ СССР Комитет по СМД-методологии и ОДИ (первый случай организационного оформления под собственным именем).
При комитете создается печатный орган — журнал «Вопросы методологии».[40]
С 1989 г. начинают проводиться ежегодные съезды методологов.
Возникают самостоятельные методологические центры, возглавляемые учениками Г. П.[41]
С середины 80-х годов ОДИ наряду с Г. П. начинают самостоятельно проводить методологи разных поколений.[42] Проводятся также ОД-подобные игры, «индуцированные» ОДИ и организуемые теми, кто в них участвовал.
Та жизнь, которую в течение нескольких десятков лет вел Георгий Петрович, — а главным в ней всегда была работа — требовала от него непрерывного расхода жизненных сил. 80-е годы, годы отданные организационно-деятельностным играм, вычерпали эти силы без остатка. За период 1979–1991 гг. он организовал и провел свыше 90 игр (с количеством участников от десятка до нескольких сот человек) в самых разных регионах страны. Предметно-тематическое содержание их было невероятно разнообразно: педагогика и психология, наука и производство, право и экология, экономика и управление, и т. д. и т. п.
Это была жизнь на полный износ. Каждая игра требовала длительной (иногда многомесячной) подготовки. В середине 80-х годов здоровье Г. П. стремительно ухудшается, но каждый раз, едва оправившись, он возвращается к интенсивной работе.
3 февраля 1994 года Георгий Петрович Щедровицкий скончался на даче в Болшево.
* * *
Трудно, да, пожалуй, и невозможно вместить в страницы биографического очерка жизнь, даже если иметь в виду только «научную жизнь», человека такого масштаба, каким был Георгий Петрович Щедровицкий. Он всегда шел своим путем невзирая на внешние обстоятельства и условия, в которых приходилось жить, и был одним из тех людей, о которых говорят, что они сделали себя сами. Живя своими идеями, весь гигантский запас жизненной энергии он вложил в их развитие и воплощение. И вот теперь, после ухода, начинается его жизнь в них и через них…
А. Пископпель
ПРОГРАММЫ. ПОДХОДЫ. КОНЦЕПЦИИ
Принцип «параллелизма формы и содержания мышления» и его значение для традиционных логических и психологических исследований[43]
I. Два плана исследования языковых рассуждений
1. Языковое мышление, как и всякий другой объект, можно рассматривать с разных точек зрения, и каждый раз, естественно, мы будем выделять разные предметы исследования и получать разные изображения рассматриваемого объекта. Одни из этих предметов и, соответственно, изображений будут более сложными, другие — более простыми. Но при всем возможном разнообразии точек зрения и обусловливаемых ими подходов к исследованию мышления, при всем разнообразии возможных упрощений не должен нарушаться один принцип: ни один из этих подходов, если мы хотим исследовать языковое мышление как таковое, не должен допускать переупрощения, разрушающего специфику исследуемого предмета (ср. [1957 а*, {с. 450–452}]). Иначе этот же принцип можно выразить так: все допускаемые подходы в исследовании и воспроизведении какого-либо предмета должны стоять друг к другу в отношении «абстрактного» и «конкретного» [Зиновьев, 1954; Zinovev, 1958].
Между тем, по нашему глубокому убеждению, начиная с Аристотеля и до последнего времени, подавляющее большинство традиционных исследований языкового мышления как в логике, так и в психологии строится на недопустимом упрощении, что приводит к потере специфики языкового мышления.
Задача настоящей серии сообщений — выяснить, как сложилось это переупрощение, что положительного оно дает и к каким приводит отрицательным последствиям.
2. Процесс реального мышления всякий человек начинает с фиксации определенного «положения дел» в действительности (в определенных ситуациях такой действительностью могут быть сам язык, поступки, мысли и чувства других людей и т. п.), а «передачу своих мыслей» — с описания этой действительности в языке. При этом, строя и высказывая определенные предложения, он основывается на «усмотрении» определенных элементов и связей в этой действительности, т. е. на «выявлении» области обозначаемого. Таким путем образуются не только отдельные исходные предложения, но и сложные цепи предложений, составляющие рассуждения.
Точно так же понимание языковых выражений, высказываемых другим человеком, невозможно без «мысленного обращения» к области обозначаемого и своеобразной «реконструкции» тех элементов и связей из этой области, которые обозначены в соответствующих языковых выражениях. Таким образом, в общем случае в реальный процесс мышления входит в виде важнейшей (и, по-видимому, самой важной) составной части определенное «движение» в области обозначаемого, выделение его элементов, отношений, объективных связей.
Но это означает, что при графическом изображении процессов языкового мышления или их продуктов — мысленных знаний — мы должны прибегнуть к особым, как бы двухплоскостным фигурам вида (см. также [1958 b*, V, {с. 618–620}]):
(1)
Изображение мышления в виде такой двухплоскостной фигуры в сочетании с дополнительными соображениями о том, что каждая плоскость складывается из множества единиц и между единицами из этих двух плоскостей существует отношение обозначения или «замещения» [1957 а *; 1958 b*, I; 1957 b], позволяет применить для описания мышления категорию «форма — содержание» в том ее понимании, которое было выработано К. Марксом в «Капитале» при анализе структуры производственных отношений буржуазного общества [Маркс, 1955 а, с. 41–77]. Согласно этому пониманию замещаемый элемент подобной структуры (на нашем чертеже — находящийся слева) может быть определен как содержание, а замещающий элемент (правый на чертеже) — как форма. Применяя эти определения к фигуре (1), изображающей языковое мышление, мы приведем ее к виду:
(2)
Вопрос о том, что представляет собой обозначающее в языковых выражениях, или, иначе, их знаковая форма, фактически, не вызывает споров; почти все соглашаются с тем, что это — звуки, движения, графические значки, а в самом общем случае — любые предметы и явления. Но значительные разногласия возникают в вопросе, что такое знак. Чаще всего знак отождествляют с обозначающим, или со знаковой формой. Такое понимание исключает функциональный подход к исследованию знака и порождает целый ряд трудностей в объяснении природы языкового мышления (в частности, омонимы в русле такого понимания должны рассматриваться как тождественные знаки). Иногда знаком называют всю структуру (1) или (2), включая в него и обозначаемое или содержание. Это противоречит обычному пониманию отношения между знаком и обозначаемым и, кроме того, как было показано [1957а *], при учете других характеристик мышления с необходимостью приводит к ненаучным идеалистическим выводам такого рода, пример которых дали В. Шуппе и Н. Лосский. Остается третье возможное понимание, которое мы и принимаем: знак есть образование вида:
(3)
Здесь трудным для понимания кажется отождествление значения знака со связью между обозначающим (знаковой формой) и обозначаемым (содержанием). Но эта трудность исчезает, как только мы примем во внимание, что всякий знак, если брать его по материалу, есть просто природное явление — звук, движение, графический значок, и в нем как таковом нет ничего от «субстанции» знака, ничего такого, что делало бы его знаком. Эти природные явления становятся знаками, включаясь в известных ситуациях в определенную деятельность человека, и остаются знаками, поскольку они вновь могут быть включены в такую же, строго фиксированную, общественно-закрепленную деятельность, т. е. поскольку они потенциально «остаются» внутри нее. Но тогда значение знака (собственно, и создающее его специфику как знака, создающее его «знаковое лицо») есть не что иное, как то, что возникает в результате определенной деятельности, определенного способа использования природных явлений, образующих материал знака, в определенных общественных ситуациях. Изображение значений знаков в виде черточек связи является тогда лишь особым, весьма условным способом обозначения той деятельности, которая эти значения создает,[44] и чтобы раскрыть суть и природу значений необходимо, следовательно, проанализировать природу и суть этой деятельности [1957 b; 1958 b*, I–V; Швырев, 1960].
Самым трудным для решения и самым важным при исследовании структуры языкового мышления является вопрос о том, что представляет собой его содержание или обозначаемое. Чтобы выделить и исследовать основные типы структур знания, мы должны прежде всего выделить и исследовать основные типы содержания мысленных знаний, а затем уже рассмотреть, как и в каких знаковых формах они выражаются, т. е., другими словами, мы должны вывести основные типы знаковых форм и структур знания из основных типов содержания [1958 b*, I]. Но это не так-то просто сделать, и трудность заключается прежде всего в том, что содержание или обозначаемое языковых выражений никогда не бывает дано исследователю языкового мышления само по себе, как таковое. Оно всегда дано, или, как говорят, проявляется, в определенной знаковой форме. (Кстати, это и есть та основная характеристика языкового мышления, которая позволяет применить к нему категорию «форма — содержание».) Хотя мыслящий человек, как мы уже говорили, исходит из «усмотрения» определенного положения дел в действительности, но то, что он «усмотрел» и выделил в качестве содержания своего знания, выражается всегда в определенной знаковой форме, и само это «усмотрение» и выделение невозможны без соответствующего одновременно происходящего выражения. Но это значит, что логик и психолог, если они хотят вывести типы знаковых форм и структур знания из типов содержания, должны предварительно, исходя из знаковых форм, фиксированных на поверхности, выявить, реконструировать само это содержание и его типы. Таким образом, исследование строения языкового мышления предполагает сложное двуединое движение — сначала от формы к содержанию и затем обратно, от содержания к форме. В результате этого анализа содержание языкового мышления должно выступить как отличное по своему характеру и структуре от знаковой формы и в то же время определяющее ее, а форма — как отличная от содержания, но в то же время выражающая его.
Приемы такого (специфически диалектического) исследования впервые были разработаны Гегелем и Марксом (см. по этому поводу [Зиновьев, 1954, гл. 1]). Традиционные теории логики (называемые часто «формальными») и традиционные теории психологии (рассматривавшие мышление как чисто внутреннюю деятельность сознания) не смогли выработать этих приемов и использовали для реконструкции области содержания мышления особый принцип, который мы условно называем «принципом параллелизма формы и содержания». Суть его состоит в предположении, что 1) каждому элементу знаковой формы или обозначающего языковых выражений соответствует строго определенный, обязательно субстанциальный [1957 а*, {с. 452}] элемент содержания или обозначаемого и 2) способ связи элементов содержания в более сложные комплексы в точности соответствует способу связи элементов знаковой формы. Эти два признака и объединяются в термине "параллелизм". Именно использование этого принципа, как мы постараемся показать, привело к тому, что была утеряна специфика языкового мышления.
3. Чтобы понять условия, сначала породившие принцип параллелизма как принцип практики исследовательской работы, а затем приведшие и к его сознательному формулированию, необходимо принять во внимание следующее.
А. С одной стороны, для любого исследователя языковое рассуждение с самого начала выступает как ряд связанных между собой предложений, которые в свою очередь предстают составленными из слов. Как слова в предложении, так и предложения в рассуждении определенным образом связаны между собой, и если изменить эти связи, например поменять слова в предложении или предложения внутри рассуждения местами, то «смысл» предложений и рассуждений изменится или совсем исчезнет. Отсюда следует, что «смысл» предложений и рассуждений в какой-то мере выражается связями между элементами языковых выражений — предложений и рассуждений, и если мы хотим исследовать природу этого «смысла», т. е. природу значения и содержания языковых выражений, то мы должны исследовать эти связи, их природу.
Б. С другой стороны, не менее очевидно, что любое отдельное слово этих предложений и отдельные предложения внутри рассуждений имеют свой определенный «смысл», не зависящий от их места внутри предложения или, соответственно, рассуждения, а вместе с тем — и от связей между словами и предложениями. Отсюда следует, что «смысл» предложений и рассуждений должен каким-то образом «складываться» из «смысла» отдельных составляющих их элементов, и если мы хотим исследовать природу этого «смысла», т. е. природу значения и содержания языковых выражений, то мы должны исследовать природу этих «элементарных», несвязанных «смыслов».
Таким образом, намечаются два плана исследования «смысла» языковых выражений — назовем их условно планами А и Б, — и если исследователь хочет проанализировать природу целокупного «смысла» языковых выражений, то он, естественно, должен принять во внимание оба эти плана и рассмотреть их определенным образом в связи друг с Другом. Метод рассмотрения обоих этих планов совместно, как одного, образует одну из форм метода восхождения от абстрактного к конкретному [Зиновьев, 1954; Zinovev, 1958] и почти не применялся для анализа «смысла» языковых выражений (пример такого применения [1958 b*, I–V]). Вместо этого логики и психологи с самого начала разделяли эти два плана исследования и пытались рассмотреть их отдельно друг от друга.
При этом оказалось, что попытки исследования смысла языковых рассуждений в плане Б с самого начала натолкнулись на такие вопросы, решить которые с помощью традиционных методов было невозможно. Это прежде всего — вопросы о природе «общего» в значении и содержании языковых выражений. Таким образом, этот путь исследования оказался фактически закрытым для ранних исследователей языкового мышления.
С другой стороны, обнаружилось, что в плане А, т. е. в плане смысловой структуры, сложные языковые выражения, наоборот, могут быть довольно легко проанализированы и описаны и что в определенных, довольно широких границах это описание не зависит от исследования их в плане Б, т. е. не зависит от исследования природы значения и содержания их элементов.
В какой-то мере этот факт является парадоксальным. Дело в том, что взятые сами по себе, т. е. со стороны своего «материала», языковые выражения являются либо временными последовательностями звуков и движений, либо пространственными комбинациями письменных значков. Расчленить эти последовательности звуков и движений и комбинации значков на отдельные значащие единицы и таким путем представить их в виде определенных знаковых структур можно только исходя из их значений, или, точнее, из обозначаемого ими, из их содержания. Собственно, только наличие обозначаемого ими содержания делает эти звуки, движения и графические значки знаками, а определенный порядок и последовательность процесса обозначения создает структуру языковых выражений. Но это, в частности, означает, что только понимание этого содержания (соответственно значений знаков) дает возможность человеку выявить структуру языковых выражений. Иначе говоря, анализируя языковые выражения в плане А, т. е. в плане их структуры, исследователь не может сделать ни одного шага без ссылки на «смысл», т. е. значение и содержание элементов сложных языковых выражений. Но так как этот «смысл» ясен уже обыденному сознанию, твердо фиксирован и определен в обычном употреблении языка, то поэтому расчленение сложных языковых рассуждений на элементы и исследование их взаимоотношений и связей не нуждаются в исследовании того, что представляет собой природа «смыслов» (значений, содержаний) этих элементов; вполне достаточно знать, что такой смысл есть, и «понимать» его. Итак, исследование смыслового строения сложных языковых рассуждений, т. е. исследование их в плане А, возможно на основе: 1) установления «смысла» (значения, содержания) каждого элемента языкового выражения и 2) отвлечения от исследования природы этого «смысла» (значения, содержания). Такой подход характерен для традиционной логики, начиная с Аристотеля и кончая самыми последними «математическими» направлениями. Он образует «практическую основу» принципа параллелизма.
4. На основе такого подхода в традиционной логике и осуществлялось исследование строения сложных языковых выражений.
Но не всех. Из всего множества разнообразных языковых рассуждений создатель логики, Аристотель, выделил одну узкую группу так называемых «необходимых» умозаключений и изобразил ее в виде «силлогизмов» разного вида.[45] За границами выделенной таким образом области языковых рассуждений остались, во-первых, все рассуждения, содержащие описание различных действий с предметами и явлениями, взаимодействий и изменений самих предметов и т. п.,[46] т. е. все, если можно так сказать, «не-необходимые» рассуждения; во-вторых, целый ряд «необходимых» умозаключений, которые строились на основе предложений об отношениях, связях, на арифметических соотношениях и т. п.
Вопрос о том, каким образом и почему Аристотель выделил группу «силлогистических умозаключений» из всех других, не ставился в традиционной логике, ибо сама эта группа долгое время рассматривалась как единственно возможная. Отказ от такого взгляда заставляет поставить и решить новый ряд вопросов: во-первых, какой именно вид языковых рассуждений и соответственно мыслительных процессов фиксируется в формулах силлогизма и, во-вторых, почему и каким образом была выделена именно эта группа рассуждений?
Нам представляется — и это было подробно рассмотрено в [1958 b *; I–V], — что схемы силлогизма являются описанием части одного наиболее распространенного и в наименьшей степени зависящего от содержания процесса мышления, так называемого «соотнесения общего формального знания с единичными объектами». Атрибутивная схема представления предложений («А приписывается Б» или «А содержится в Б») и правила преобразования двух таких предложений с общими терминами по всем фигурам силлогизма (например, «если А приписывается всем Б, а Б — всем В, то А необходимо приписывается всем В»), введенные Аристотелем, полностью соответствуют формальной части этого мыслительного процесса.
Чтобы выделить структуру этих предложений и описать механизм формального преобразования, осуществляющегося в процессе соотнесения, не нужно обращаться к анализу строения области содержания; достаточно на основе понимания смысла различных языковых выражений выделить отношение «присущности» или «включения» из всех других отношений, встречающихся в предложениях языка, и затем, ориентируясь на это всюду сохраняющееся отношение, сопоставить исходные и полученные предложения в плане выявления сменяющихся элементов («метод коммутации»). Точно так же не нужно особой проницательности, чтобы понять природу того формального преобразования, которое мы осуществляем, превращая пару предложений в одно: оно есть попросту «выбрасывание», «вычеркивание» опосредствующего термина. И это становится особенно наглядным, если записать предложения в ряд: А — Б, Б — В, — а именно так их записывал Аристотель, и не случайно поэтому «выбрасываемый» термин называется у него «средним».[47]
Отчетливое понимание метода выделения структуры силлогизма требует дальнейших тщательных исследований, проведенных с операциональной точки зрения, т. е. в терминах действий «сопоставления» и «отнесения» (ср. [1957 b, с. 44–45]). Это — задача специальной работы. Здесь же нам важно подчеркнуть только три момента: 1) выделяя предмет логики, Аристотель охватил не все виды языковых рассуждений, а только незначительную часть их; 2) выделение этой группы рассуждений было во многом случайным, т. е. эти рассуждения не являются какими-то особенными и не занимают привилегированного положения среди всех других, хотя они и были, по-видимому, наиболее распространенными во времена Аристотеля; 3) выделение этой группы рассуждений было основано, с одной стороны, на смысловом выделении одного определенного отношения из всего множества отношений и связей, выражаемых различными предложениями, именно отношения «присущности» или «включения», с другой стороны — на формальном выделении меняющихся элементов предложений путем соответствующих сопоставлений этих предложений как особых структурных объектов.
5. Все дальнейшее развитие логики в плане анализа и выявления строения сложных языковых рассуждений сводится в основном к следующему.
а) Анализируя структуру аристотелевых силлогизмов, стоики нашли, что соответствующие им языковые рассуждения содержат не только связи между терминами, но также и связи между предложениями и, соответственно этому, могут быть представлены не только в символической форме силлогизма, но и в иной форме схем вывода (со связями импликации, конъюнкции, дизъюнкции и т. п.). Этот анализ положил начало так называемой «логике предложений» и в дальнейшем — так называемому «исчислению высказываний».
б) Гален, а в дальнейшем Де Морган, Ч. Пирс и др. выделили и исследовали особую структуру предложений, так называемые предложения об отношениях, подчиняющиеся иным, нежели в силлогизмах, правилам преобразования.
в) Ф. Бэкон и Д. С. Милль обнаружили особые рассуждения о причинных связях, которые они ошибочно причисляли к так называемым «индуктивным приемам», а А. А. Зиновьев в самое последнее время исследовал особенности строения знаний о связях и построил простейшее исчисление из соответствующих предложений.
г) Начиная с работ Дж. Буля по алгебре логики, усилиями Г. Фреге, Д. Пеано, Б. Рассела и др. была выработана новая символика для изображения строения языковых рассуждений, что позволило представить их в виде различных логико-математических исчислений.
Выделенные по всем этим линиям формулы строения языковых выражений и правила преобразования их образуют предмет «собственно логики». По сравнению с тем, что было выделено в период Аристотеля, логика, бесспорно, значительно расширила границы своего предмета, однако и в настоящее время за их пределами остается подавляющее большинство языковых форм современных обиходного и научного языков, к примеру целиком языки геометрических чертежей и химических формул, языки арифметики, алгебры, дифференциального исчисления и многие другие. Причину этого надо искать, очевидно, прежде всего в ограниченности методологических принципов традиционной логики. Разбору некоторых из них посвящены следующие разделы.
II. Принцип параллелизма как теоретическое основание формальной логики
1. В предыдущем разделе было показано, что исследование сложных языковых рассуждений как выражений определенных процессов мышления исторически распалось (хотя это и не соответствовало действительной «природе» самих языковых рассуждений) на два сравнительно обособленных друг от друга плана. Это было обусловлено прежде всего тем эмпирически выявляемым обстоятельством, что «смысл» всякого сложного языкового рассуждения зависит, во-первых, от связей между его частями и элементами, во-вторых, от «смысла» самих отдельных элементов. Попытки изучить природу смысла отдельных элементов языковых рассуждений — мы назвали этот план исследования планом Б — наталкивались на трудности, которые не могли быть преодолены, в частности на проблему «общего». Но зато вполне доступным и не вызывающим особых затруднений оказался анализ строения языковых рассуждений — мы назвали этот план исследования планом А, — причем в довольно широких границах он оказался независимым от анализа их в плане Б. Для выявления определенных структур языковых рассуждений (виды этих структур мы перечислили в предыдущем сообщении) было вполне достаточно: 1) понимать «смысл» языкового рассуждения в целом и отдельных его элементов и 2) отвлечься от исследования «природы» этого «смысла».
Именно по такому пути, т. е. по пути исследования языковых рассуждений в плане А, пошла традиционная логика, начиная с Аристотеля и кончая самыми последними, «математическими» или так называемыми «символическими» направлениями.
2. В то же время в ходе логических исследований выявился целый ряд пунктов, в которых одного понимания «смысла» языковых рассуждений и их элементов было уже недостаточно и требовался определенный анализ «природы» и строения этого «смысла», т. е. анализ «природы» и строения значения и содержания отдельных языковых выражений. Иначе говоря, в ряде пунктов анализ строения языковых рассуждений в плане А оказался органически связанным с анализом их в плане Б.
Одной из причин такого обращения к плану Б была необходимость дать оправдание выделенным структурам сложных языковых рассуждений, правилам преобразования одних предложений в другие, обосновать их, доказать, что именно эти, а не какие-либо другие структуры рассуждения дают в своем результате знание, соответствующее действительности, или, другими словами, что именно эти структуры являются «необходимыми».
Ссылка на определенное строение объективной действительности, выражаемой в этих рассуждениях, стала наиболее распространенным способом такого оправдания. По сравнению с другими способами оправдания, такими, как априоризм и конвенционализм, он, естественно, казался наиболее научным.
Другой причиной обращения к плану Б была необходимость обосновать различение истинных и ложных предложений. Одно лишь соблюдение «необходимой» структуры рассуждения не обеспечивало еще получения в итоге знания, соответствующего реальному положению вещей. Для этого нужно было, чтобы соответствовали действительности также и те исходные предложения, «посылки», из которых мы с помощью «необходимых» преобразований выводим новое предложение. Нужно было иметь определенный критерий, чтобы отобрать из всех возможных высказываемых предложений те, которые действительно соответствовали реальному положению дел. И здесь ссылка на определенное строение действительности, фактически — на определенное строение содержания языкового выражения, вновь стала наиболее распространенным основанием для различения и отбора истинного от ложного.[48]
Обсуждение этого круга вопросов привело к появлению наряду с предметом «собственно логики» также еще особого предмета «теорий логики», или, если так можно сказать, особого предмета «обоснования логики». В зависимости от способа постановки самих вопросов, а также от направления, в котором шло их решение, складывались психологические, теоретико-познавательные или логико-семантические направления в обосновании логики. Именно в связи с обсуждением этого «мета-логического» круга вопросов был осознан и сформулирован «принцип параллелизма».
Между задачей обоснования «необходимого» характера определенных структур языковых рассуждений и задачей отделения «истинных» предложений от «ложных» существует известное различие, которое и привело с самого начала возникновения логики к их разделению. Решение первой задачи связано с анализом схем преобразования языковых структур, которые как схемы деятельности непосредственно ничего не замещают из области действительности. Они не зависят от специфики индивидуального содержания преобразуемых предложений и входящих в них терминов, а вместе с тем и от специфических признаков сопоставляемых объектов. Решение второй задачи связано с анализом определенных связей терминов, которые непосредственно зависят от конкретного объективного содержания терминов, а следовательно, и от специфических признаков сопоставляемых объектов. Это различие обусловило и известное различие в способах, какими в традиционной логике обосновывалось соответствие одних и других структур действительности. Если в первом случае ссылались на общий характер строения объективного мира, общий характер строения человеческого сознания (априоризм) или общность конвенции, то во втором случае ссылка была направлена на конкретные ситуации, конкретные положения дел и содержала утверждения о непосредственном соответствии терминов и их связей объектам, показаниям чувств или мыслям.
Но чтобы оправдывать структуру языкового рассуждения ссылкой на определенное строение действительности, отражаемой в этом рассуждении, т. е. фактически определенным строением объективного содержания рассуждения, необходимо предварительно это содержание, и в частности его строение, ввести и определить. А так как вне и помимо самой формы содержание нигде не существует и не проявляется, то это значит, что его надо каким-то путем выявить в форме, реконструировать, и только потом. мы сможем выводить строение знаковой формы языковых выражений из строения их содержания. По методу своему такая реконструкция, как мы уже говорили, исключительно сложна; она предполагает, в частности, применение специфически диалектических приемов исследования сложных органических объектов. Не выработав этих приемов и, следовательно, не имея возможности осуществить такое исследование и в то же время имея задачу обосновать строение формы языковых выражений строением их содержания, подавляющее большинство философов, логиков, психологов и лингвистов просто постулировали наличие параллелизма между содержанием языкового мышления и его формой (часто этот путь решения указанной выше задачи характеризуют как осуществление принципа тождества бытия и мышления).
3. Уже у Аристотеля мы находим не только последовательное проведение принципа параллелизма на практике, но и достаточно отчетливое теоретическое осознание его.
Каждому термину, т. е. мельчайшей далее неразложимой единице знаковой формы, соответствует, согласно его взглядам, мельчайшая единица содержания — «общее» той или иной степени [Аристотель, 1937 а].[49] Как выделяются эти единицы содержания из целостной действительности, такой вопрос у Аристотеля не возникает. Они есть, существуют в действительности и, следовательно, выступают для него как данные. Точно так же Аристотель не ставит вопроса о том (во всяком случае, в пределах логики), как возникают знаки, как их материал получает значение, т. е. как устанавливается связь между обозначаемым (содержанием) и обозначающим (знаковой формой). Таким образом, фактическими элементами языкового рассуждения у Аристотеля являются образования вида (А) — А (где (А) выражает термин или обозначающее, а А — обозначаемое), и он рассматривает их как сложившиеся, готовые.
Для дальнейшего важно отметить, что такой способ рассмотрения языкового мышления полностью предопределяет возможное понимание сути самого языкового рассуждения, возможное понимание всей мыслительной деятельности. Если элементы областей содержания и знаковой формы заданы, то процессы образования и преобразования сложных языковых выражений могут быть только комбинаторикой простейших элементов (соединением простых элементов в сложные комплексы, разъединением сложных комплексов на более простые и совсем простые части, подстановкой одних элементов на место других в сложных комплексах или «выбрасыванием» каких-то элементов).
Основание этой комбинаторики лежит в области содержания, т. е. Аристотель предполагает, что там все комбинации уже заданы и не зависят от практической и познавательной деятельности человека. Комбинаторная деятельность осуществляется только в области знаковой формы и должна согласоваться с комбинациями, существующими уже в области содержания, т. е. должна воспроизводить последние. Какой механизм осуществляет эту зависимость и обеспечивает соответствие знаковых комбинаций комбинациям обозначаемого, этот вопрос Аристотель не решает и даже не ставит.[50] Он просто описал, как мы уже говорили, структуру одной группы тех комбинаций знаков и их преобразований, которая встречается на «поверхности» мышления, структуру так называемых «процессов соотнесения» [1958 b*, V, {с. 614–617}].
Подчеркивая, что истинность конечного продукта этого процесса зависит от истинности исходных предложений, Аристотель в то же время не ставит вопроса о том, как образуются эти исходные предложения, и не решает вопроса о том, как выясняется их истинность. Он просто постулирует, что определенные связи терминов соответствуют определенным связям элементов в области содержания и что эти связи терминов как истинные могут быть отделены от других, ложных. Но такая постановка вопроса опять-таки предполагает теоретический учет хотя бы наличия области содержания языковых выражений.
Таким образом, как показывают все приведенные выше замечания, ошибочным является нередко встречающееся утверждение, особенно у современных формалистов, что Аристотель в своем логическом анализе не учитывал области содержания, отвлекался от нее. Наоборот, Аристотель учитывал эту сторону языковых рассуждений и для этого выработал определенную «метафизическую» (или, как мы сейчас говорим, онтологическую) картину мира и поставил ее в непосредственную связь со строением области знаковой формы и сформулированными им правилами преобразований в ней. Эта онтологическая картина была необходимой составной частью его логической теории: в ней находили свое оправдание и обоснование схемы и правила умозаключений.
Но другая сторона дела — и именно она является для нас сейчас самой важной: ни в случае обоснования «необходимости» определенных структур языковых рассуждений, ни в случае обоснования «истинности» определенных исходных предложений Аристотель не производил никакого действительного анализа области содержания. Условием и предпосылкой такого анализа должно быть задание области содержания в ее отличии от области знаковой формы. У Аристотеля нет такого задания области содержания. Основываясь на понимании «смысла» различных языковых рассуждений и на формальном (коммутационном) сопоставлении различных понимаемых языковых форм, он просто отделяет «истинные» структуры предложений от «ложных», «необходимые» преобразования этих структур от «случайных» и переносит все «истинные» и «необходимые» структуры в область содержания. Это, в частности, означает, что структуры, задаваемые Аристотелем в области содержания, являются столь же эмпирически случайными, как и выделенные им структуры знаковой формы. Он не выводит необходимым образом структуры знаковой формы рассуждения из «необходимого» содержания — что является действительным обоснованием логических схем, — а просто отождествляет содержание — его структуры и элементы — со случайно обнаруженными структурами и элементами языковой формы, он попросту «опрокидывает» форму в содержание, и поэтому последнее является у него не чем иным, как зеркальным отражением «истинной» и «необходимой» части области знаковой формы.
Таков действительный метод исследования Аристотеля. А осознание его выступает в извращенной форме: как тезис об объективном, естественно существующем совпадении «истинных» и «необходимых» структур области формы со структурой области содержания. Извращенное, опредмеченное понимание собственного способа задания области содержания принимает вид знания об объективном отношении между действительностью и языковой формой, отражающей эту действительность, и становится теоретическим принципом, определяющим исследование и понимание природы языкового мышления.
4. В дальнейшем мы можем обнаружить принцип параллелизма у всех без исключения логиков.[51] Природу элементов области содержания при этом разные исследователи понимали по-разному: Платон и Гегель, например, считали их специфически мыслительными обобщенными идеальными образованиями, Гоббс, Локк, Юм рассматривали как обобщенные или единичные чувственные образы, Витгенштейн и Рассел периода 1900–1920 гг., подобно Аристотелю, — как «объективные положения дел».[52] Но все эти различия в понимании природы содержания (мы о них будем говорить позднее) не оказывали никакого влияния на проведение принципа параллелизма: суть его, как мы уже говорили выше, во всех случаях оставалась одной и той же и состояла в утверждении, что 1) каждому элементу знаковой формы соответствует строго определенный субстанциальный, гипостазированный элемент содержания и 2) способ связи элементов содержания в более сложные комплексы точно соответствует способу связи элементов знаковой формы.
При этом важно подчеркнуть: что бы ни говорили те или иные исследователи-логики о своем способе установления отношения между содержанием и формой, сколько бы они ни утверждали, что идут не от анализа знаковой формы к содержанию, а, наоборот — от анализа содержания к определению характера знаковой формы, реальное движение их исследования всегда фактически шло от анализа строения знаковой формы языковых рассуждений к утверждениям относительно строения их содержания.
5. Таким образом, структура области содержания, реконструируемая на основе принципа параллелизма, оказывается в точности такой же, как и структура области знаковой формы. Но если это так — и здесь мы подходим к основному пункту всего нашего рассуждения, — если между областью содержания и областью знаковой формы существует полное тождество как в отношении числа элементов, так и в отношении возможных соединений их, то совсем незачем при описании строения сложных языковых рассуждений рассматривать две области — содержания и формы; достаточно описать одну — область знаковой формы, чтобы тем самым описать и другую. И более того: незачем какими-то сложными путями реконструировать область содержания, чтобы затем специально исследовать ее, если непосредственно доступная исследованию область знаковой формы является в точности такой же, как и область содержания.
В обосновании этого тезиса и состоит основное значение и смысл принципа параллелизма. Он дает теоретическое, казалось бы, оправдание сложившейся практике логического исследования, при которой исследователь подходит к анализу и описанию строения сложных языковых выражений особым путем — только со стороны структур знаковой формы и проводит это описание независимо от восстановления и исследования области содержания. Правда, здесь, как мы уже не раз отмечали, при выделении элементарных и более сложных образований в языковых рассуждениях, при выделении отношений и связей, лежащих в их основе, исследователь не может сделать ни одного шага без ссылки на их «смысл». Но этот «смысл» ясен исследователю как всякому мыслящему человеку, и понимание его не связано с исследованием природы и строения самого «смысла». Таким образом, принцип параллелизма оправдывает традиционно сложившееся исследование строения сложных языковых рассуждений, основанное: 1) на понимании «смысла» языковых рассуждений в целом и их элементов и 2) на отвлечении от исследования природы и строения этого смысла, а вместе с тем — природы и строения области содержания языкового мышления.
6. Поскольку принцип параллелизма формы и содержания мышления обосновывает отделение исследования строения сложных языковых выражений от исследования природы содержания этих выражений и их элементов, постольку он является исходным теоретическим принципом всей традиционной, или, как говорят, формальной логики. Более того, именно этот принцип есть то, что делает вообще возможным существование формальной логики как особой науки, он определяет ее предмет и метод.[53] В свете принципа параллелизма становится понятным часто выдвигаемое положение, что начиная с Аристотеля логика исследовала только типы и способы связей знаков или мыслей между собой и что, собственно, это и есть традиционный предмет логики.[54] Этот же принцип объясняет и то на первый взгляд удивительное обстоятельство, что как концептуалисты и реалисты, так и номиналисты, столь враждовавшие между собой в вопросе о природе общего, т. е. в вопросе об отношении знаков языка к действительности, полностью сходились между собой в понимании задач и предмета так называемой формальной логики, т. е. во взглядах на строение знаковой формы языковых выражений. Ведь если все множество элементов области содержания представляет собой зеркальное отображение области знаковой формы, то абсолютно безразлично кем быть в логике — номиналистом, концептуалистом или реалистом — и что исследовать — связи имен, «элементарных мыслей» (идей, общих представлений, концептов, понятий) или единиц «объективного положения дел». Вернее, нужно сказать так: в обоих случаях анализируется одно и то же — структура знаковой формы сложных языковых выражений (предложений и групп предложений), но в одном случае результаты этого анализа рассматриваются как знания непосредственно об области знаковой формы, о функциональных взаимоотношениях и связях составляющих ее элементов, а в другом — они выносятся на что-то другое, на область содержания, гипотетически предполагаемую за областью формы и тождественную ей. Но суть анализа во всех случаях остается одной и той же [Ахманов, 1955, с. 33; Серрюс, 1948, с. 58–60]. Именно в этом обстоятельстве надо видеть причину столь удивительного единства взглядов на формальную логику у представителей самых различных направлений в теории познания.
7. Мы рассмотрели продуктивную сторону принципа параллелизма, именно, его значение в выделении предмета формальной логики. Но вместе с тем этот принцип влечет за собой целый ряд отрицательных следствий, в том числе и в отношении возможностей самой формальной логики. Разбору их будет посвящен следующий раздел.
III. Основное противоречие метода формальной логики
1. В предыдущих разделах мы рассматривали «продуктивную» сторону принципа параллелизма; мы выяснили, что именно он выражает суть той абстракции, на основе которой складываются понятия формальной логики, именно он дает ей теоретическое, казалось бы, оправдание и тем самым делает вообще возможным существование формальной логики как особой, относительно самостоятельной науки. Но одновременно, принцип параллелизма приносит с собой ряд отрицательных следствий.
И первое из них — методологическое — заключается в принципиальном расхождении между действительным строением объекта исследования, мышления, и строением модели его, созданной в формальной логике на основе принципа параллелизма. Мышление, по нашей гипотезе, как уже говорилось (с. 2), имеет двухплоскостную структуру. Ни одна из частей этой структуры — ни плоскость содержания, ни плоскость знаковой формы, взятые отдельно, не сохраняют свойств мышления как такового, как целого. В соответствии с этим «передать» или, иначе, воспроизвести специфические свойства мышления можно также только в двухплоскостных изображениях. А модель мышления» созданная в формальной логике, напротив, есть принципиально одноплоскостное образование, выражаемое «линейными» схемами и формулами. И это обстоятельство создает для формальной логики крайне парадоксальное положение.
Важно специально отметить, что причина его лежит отнюдь не в самом факте раздвоенности объекта и модели. Такая раздвоенность, а вместе с тем и обусловленное ею расхождение, притом всегда значительное, между объектом и моделью существует в любом и всяком процессе познания. Это — одно из движущих противоречий процесса познания. И поэтому, говоря о парадоксальном положении, сложившемся в формальной логике, мы имеем в виду отнюдь не это, не сам факт раздвоенности, а другой момент. Дело в том, что расхождение между объектом и моделью характеризуется не в понятиях «большое» и «маленькое»; оно имеет какие-то качественные пределы. Если, к примеру, объект — крайне сложная структура, состоящая из множества элементов и связей, то ее модель в ряде случаев может быть очень простой структурой, содержащей, предположим, лишь два элемента и одну связь (так называемая абстрактная модель [Зиновьев, 1954]), но это должна быть структура того же типа, что и структура объекта. В этом случае расхождение между структурой объекта и структурой модели, несмотря на свою значительность, будет вполне допустимым (и для ряда «практических» случаев — правильным). Но этот же самый объект можно изображать в модели, с внешней стороны значительно более сложной, чем первая, т. е. содержащей большее число элементов и связей, и тем не менее это будет недопустимым, если структура второй модели качественно, по типу отличается от структуры объекта. Таким образом, как легко увидеть, речь здесь все время идет не о том, что недопустимы упрощения вообще или какие-то значительные упрощения, а о существовании определенных закономерностей, определяющих сами процессы упрощения, о существовании определенных качественных границ, за которыми упрощение становится уже недопустимым переупрощением (ср. [Эшби, 1959, с. 113]). Именно под этим углом зрения мы рассматриваем расхождение между объектом, из изучения которого возникла формальная логика, — мышлением — и моделью этого объекта, созданной в самой формальной логике; мы хотим показать, что это расхождение вышло за границы допустимого, стало пере упрощением (см. с. 1) и что именно это обстоятельство обусловливает парадоксальность положения формальной логики.
Действительно, пусть объектом изучения является языковое мышление, структура которого имеет вид:
Эта структура может рассматриваться в нескольких различных направлениях:
1) как целое — и в то же время как элемент еще более сложного целого — с точки зрения его «внешних» связей и обусловленных ими свойств-функций;
2) как целое, изолированное от всяких внешних связей, со стороны атрибутивных свойств, обусловленных его внутренним строением и составом элементов;
3) как внутренне расчлененное целое, но взятое со стороны одного элемента, именно — знаковой формы;
4) как внутренне расчлененное целое, но взятое только со стороны объективного содержания как элемента этого целого.
Каждое из этих направлений исследования будет давать нам особое знание о структуре языкового мышления, каждое из них необходимо для общего знания об этой структуре в целом и каждое особым специфическим образом соответствующим его действительному месту в этой структуре должно соединяться с другими в этом общем знании. Но дело в том — и именно здесь заложено основание рассматриваемого парадокса, — что способ объединения и группировки этих свойств, выделенных различными путями, определяется нашим пониманием структуры мышления, т. е. той моделью мышления, которая существует и которая выражается в принятых способах изображения. Но модель, принятая в формальной логике, является одноплоскостным образованием, больше всего отвечающим структуре знаковой формы, и все свойства, выделяемые в языковом мышлении различными путями и, по существу, в разных «предметах» исследования (вся структура в целом, различные ее элементы и т. д.), должны объединяться и группироваться в соответствии со структурными возможностями этой одноплоскостной, по сути дела частичной, модели.
Это порождает следующие возможные ошибки (и все они имеют свои примеры в истории формальной логики):
1) Исследуется языковое мышление, выделяются свойства, характерные для его структуры в целом, но приписываются они, в соответствии с характером модели, знаковой форме.
2) Исследуется знаковая форма и фактически берется как элемент структуры языкового мышления со стороны функциональных свойств, но свойства эти приписываются языковому мышлению в целом.
3) Знаковая форма, как и в предыдущем случае, исследуется в структуре языкового мышления и берется со стороны своих функциональных свойств; но эти свойства приписываются знаковой форме не как элементу структуры, а как особому изолированному явлению, т. е. фактически — как атрибутивные свойства материалу знаковой формы.
4) Анализируется содержание; свойства, характеризующие его, приписываются либо мышлению в целом, либо знаковой форме (с точки зрения модели, принятой в формальной логике, это одно и то же).
5) Знаковая форма рассматривается сама по себе, выделяются свойства, характеризующие ее как изолированное явление, — атрибутивные или строение материала, — но рассматриваются они как свойства языкового мышления в целом.
Каждая из этих ошибок, порожденная качественным расхождением между структурой объекта — мышления — и его формально-логической моделью, и все они вместе приводят к тому, что все без исключения эмпирические определения языкового мышления — как те, которые характеризуют его в целом, так и те, которые характеризуют либо одно содержание, либо одну форму, — приходится относить к одному и тому же одноплоскостному изображению и поэтому непосредственно соединять друг с другом. Но эти определения, как мы уже видели, крайне разнородны, они относятся к различным «предметам» и часто не согласуются одно с другим. Поэтому, чтобы объединить их, приходится создавать искусственные, непохожие на действительные связи и не намеренно до крайности усложнять строение актов отражения вообще и мысли в частности.
2. Итак, первое противоречие, в русле которого постоянно движется логика, заключается в качественном, принципиальном расхождении между структурой объекта, а вместе с тем и фактического предмета логического исследования — мышления, и структурой его модели, созданной в формальной логике на основе принципа параллелизма. Устранить это расхождение можно двояким путем: либо приведя модель в соответствие с предметом исследования (и соответственно объектом), либо, наоборот, изменив предмет исследования, ограничив его соответственно характеру и возможностям принятой модели. И история науки дала обе эти линии: по первой пошли постоянные антагонисты формальной логики — психология, теория познания, методология и онтология, по второй — сама формальная логика. О первой линии подробней мы будем говорить в других сообщениях; здесь же нас будет интересовать одна лишь вторая линия.
Привести фактический предмет исследования в соответствие с моделью, принятой в формальной логике, — это значит ограничить этот предмет одной лишь знаковой формой языкового мышления. И такая тенденция возникает с момента появления самой логики, с Аристотеля. Номиналистические концепции в логике и их непрекращающаяся борьба с реализмом и концептуализмом — основные ее проявления.
Номинализм, с нашей точки зрения, занимал в этих спорах более правильную позицию; он лучше осознавал действительный предмет формально-логического анализа. Но сколько-нибудь удовлетворительное решение вопроса и преодоление основных затруднений, встававших перед ним, было невозможно без проникновения в действительную структуру языкового мышления и осознания той абстракции, которая была произведена в соответствии с принципом параллелизма. Ведь только исходя из намеченной выше структуры языкового мышления, мы можем разработать основные приемы исследования знаковой формы и различить все возможные планы анализа — как правильные, так и ложные — и абстракции, лежащие в основе каждого из них.
Важнейшим проявлением этой же тенденции в осознании действительного предмета формально-логического анализа был тезис логического эмпиризма: логика — не наука о мышлении, а синтаксис (затем и семантика) языка. И если оставить в стороне детали и некоторые неточности в понятиях, то надо будет сказать, что этот тезис правильно отражает действительную практику логического исследования.
Правда, он появился совсем не в результате проникновения в действительную природу языкового мышления и не в результате понимания действительного значения и смысла принципа параллелизма, а как продукт на первый взгляд довольно странной эволюции самой формальной логики. Основные этапы этой эволюции — алгебра логики Дж. Буля и Э. Шредера, математическая логика Г. Фреге, Ч. Пирса и Д. Пеано, и, наконец, принципы математики Б. Рассела и А. Уайтхеда (ср. [1961 а; Ладенко, 1961]). Противники математической логики могут сколько угодно говорить о том, что развитие логики в этом направлении было «неправильным», «ошибочным», «плохим». Это, по-видимому, действительно так, но подобные оценки не относятся к делу. Важно, что развитие логики именно в этом направлении было неизбежным при тех исходных понятиях и методах, которые были развиты в логике Аристотеля. И хотя эта линия развития была найдена не прямо и непосредственно, а каким-то очень сложным и окружным путем, тем не менее именно она является закономерным и необходимым продолжением логической традиции начиная с Аристотеля. Для другого движения нужны иные исходные понятия и принципы, иные методы.
Одним из важнейших результатов всего этого движения было сознательное изгнание мышления из сферы логики.
«Для того чтобы исследовать, действительно ли заключение следует из определенных посылок, действительно ли доказуемы данные предложения, логики не устанавливают никаких гипотез о мышлении людей, которые затем экспериментально проверяются, но они анализируют исключительно данные предложения и их отношения, — пишет Р. Карнап. — …Как в ботанике формулируются истинные предложения о растениях, так и логика интересуется истинными предложениями о логических отношениях. Характеристика логики с помощью оборотов, содержащих такие выражения, как «правильное мышление», «обоснованное убеждение» и т. д. в такой же мере правильна и не плодотворна, как определение понятий, что ботаника — учение о правильном мышлении о растениях, что теоретическая политэкономия — учение о правильном мышлении о закономерностях хозяйства. Во всех случаях излишнее указание на правильное мышление надо опустить. Чтобы заниматься наукой, нужно постоянно думать, но это не означает, что мышление есть объект всех научных исследований; оно является объектом исключительно эмпирически-психологического исследования, но не логических, ботанических и политэкономических» [Сагпяр, 1958, с. 31, 32]. Не менее решительно высказывается по этому вопросу и Я. Лукасевич [Лукасевич, 1959, с. 50].
Даже эти крайние формулировки являются, с нашей точки зрения, более правильными, нежели противоположное утверждение, что формальная логика изучала и изучает мышление. Повторим: формальная логика в силу возможностей своего метода, а затем и в силу особенностей своей модели всегда, по существу, исследовала и описывала не языковое мышление в целом, а лишь его знаковую форму, и поэтому движение, выраженное тезисом: «Логика есть синтаксис и семантика языка», если оставить в стороне детали, в общем правильно отражает действительное положение дел, настоящий предмет и настоящие возможности традиционной формальной логики.
Повторяя этот тезис, мы хотим тотчас же, во избежание превратных толкований, специально отметить, что, с нашей точки зрения, это положение правильно как констатация сложившегося положения дел; но оно неправильно и даже вредно, поскольку выдает существующую неблагополучную практику за норму, ограниченность существующего метода исследования возводит в ранг достоинства и, вместо того чтобы искать и разрабатывать новый метод, стремится увековечить существующее положение дел. Но не на этом мы делаем сейчас ударение; нам важно подчеркнуть, что сложившаяся практика логического исследования, действительный предмет формальной логики и ее действительные возможности были в конце концов отчетливо осознаны.
3. Таким образом, фактический предмет исследования формальной логики — знаковая форма. Но зададим себе вопрос: в каком направлении и как ее можно исследовать? С точки зрения уже выработанного нами понимания, исследовать знаковую форму можно по существу только в системе языкового мышления (или, если быть более точными, только в системе еще более сложного структурного целого, включающего, кроме связей отражения, также связи коммуникации, связи знаков с практическими, предметными действиями и т. п.). Если же мы возьмем знаковую форму отдельно от этой структуры и вне ее функций замещения, сообщения и сигнализации, то она перестанет быть тем, что она есть, — формой и вообще языковым выражением. Вне этих функций, независимо от них в ней по существу ничего и нет. И это вполне понятно, так как служить этим функциям — ее единственное назначение. Знаковая форма не имеет своей жизни вне и помимо этих структур, она живет и существует лишь как их элемент, и поэтому только как такой элемент может быть предметом исследования. Другими словами: чтобы обоснованно пользоваться выработанной в формальной логике моделью языкового мышления, нужно ограничить предмет исследования одной лишь знаковой формой. Но знаковая форма сама по себе, взятая вне структуры языкового мышления в целом, не может быть самостоятельным предметом исследования. В этом заключается основное противоречие формальной логики.
4. Итак, исследовать знаковую форму можно только как элемент структуры языкового мышления в целом (или еще более сложной структуры поведения). Но это значит, что в ходе этого исследования нужно выделять и анализировать связи, в которых существует знаковая форма, функции, порожденные этими связями, или «значения», а также содержание, выражаемое в форме. В общем и целом в практике интуитивного, нестрогого исследования знаковую форму всегда так и брали: ее «понимали» и вместе с тем осознавали, что она что-то замещает, выражает и к чему-то, следовательно, должна быть отнесена. Именно понимание знаковой формы давало возможность расчленять ее на отдельные значащие элементы, находить связи между ними, реконструировать ее структуры и т. п. И это был учет содержания и значений формы. Но учет не объективный, не в виде сознательной исследовательской процедуры, направленной на содержание и значения как на отчужденные предметы рассмотрения, а субъективный, осуществляющийся посредством обычного тривиального «понимания» заданных текстов. Дело происходило таким образом, что исследователь мышления — логик, психолог или лингвист — сначала осуществлял процесс мышления просто как мыслящий человек, понимая заданный текст, а затем, используя результаты этого понимания, он начинал анализировать строение понятой знаковой формы собственно научными, «сугубо объективными» методами; но «понимание» было уже включено во все это. Такой исследователь не ставил вопрос, какой понимает текст и как на основе этого понимания производит смысловое расчленение формы; он брал эту расчлененность как данное, в качестве исходного пункта своей собственной специфической работы. Но именно непроанализированная, производимая в процессе понимания часть исследовательской работы была связана с выходом за пределы знаковой формы. Наоборот, та часть исследовательского процесса, которая сознательно анализировалась и фиксировалась, была связана непосредственно с одной лишь знаковой формой. Вследствие этого основное противоречие формальной логики, с одной стороны, отодвигалось, как бы переносилось в план самого метода анализа и описания знаковой формы, а с другой — маскировалось, лишенное своего объективного выражения. Это второе обстоятельство привело к тому, что основное противоречие метода формальной логики долгое время оставалось скрытым.
5. Осознание его пришло только в начале XX столетия в контексте иных проблем, связанных прежде всего с работой по обоснованию математики. Многие логики и лингвисты, следуя за математиками, стали доказывать, что структура знаковых выражений может быть выявлена без обращения к их содержанию и значениям — «чисто формальным методом». Таким путем они надеялись привести метод в соответствие с предметом исследования. В логике эта точка зрения дала начало теориям «синтаксиса языка», в лингвистике — так называемому «структурализму».
«Мы должны указать, — писал Р. Карнап, — что все логические вопросы выразимы формально и поэтому могут формулироваться как синтаксические вопросы. Согласно принятому мнению в логическом исследовании, кроме формального рассмотрения, относящегося только к последовательности и (синтаксическому) виду символов языковых выражений, существует еще содержательное рассмотрение, которое задает не только вопрос о виде формы, но также и о значении и смысле. Согласно этому мнению формальные проблемы образуют в лучшем случае небольшую часть всей области логических проблем. В противоположность этому мнению наши соображения о всеобщем синтаксисе показывают, что формальный метод, если он проводится достаточно широко, охватывает все логические проблемы, в том числе и так называемые содержательные, или проблемы смысла (поскольку они являются точно логическими, а не психологическими проблемами)» [Carnap, 1934, с. 207] (см. также [Carnap, 1946, с. 4–5, 10]).
Но на деле подобный взгляд — не что иное, как иллюзия.
Звуковой язык или язык жестов, взятые сами по себе, практически вообще не допускают анализа чисто формальными методами. А графический язык всегда предстает перед исследователем, желающим применить «формальный» метод, фактически уже расчлененным. Но если даже мы предположим, что так называемый чисто формальный метод анализа может быть приложен к любому языку без всяких затруднений, то и тогда должны будем сказать, что с его помощью нельзя выявить отдельные значащие единицы сложных языковых выражений, т. е. знаки в собственном смысле этого слова; в лучшем случае он позволяет выявлять мельчайшие единицы «материала» формы, которые совсем не обязательно должны иметь «объективное» содержательное значение (как, например, буквы словесного графического языка, фонемы и т. п.).
Кроме того, такой подход к анализу языковых выражений с самого начала исключает всякую возможность выявления и объяснения явлений синонимии и омонимии — факт, который уже в достаточной мере обнаружил себя. И это вполне естественно, так как в материале знаков, знаковой форме, если рассматривать ее саму по себе, нет ничего специфического для знака и знаковой формы. Там нет ни связей между значками, ни объединений значков. Там вообще нет ни единиц, ни мельчайших элементов. Все это «существует» и может быть выделено только потому, что на деле материал языка есть форма отражения определенного содержания. Но это значит, что все характеристики материала языка могут учитываться и вводиться только тогда, когда мы рассматриваем этот материал как знаковую форму, т. е. во взаимосвязи с содержанием. Но именно этого не понимают теоретики формального метода.
Здесь необходимо также сказать, что авторы формального метода анализа как в логике, так и в лингвистике не смогли последовательно осуществить свою программу и полностью абстрагироваться от анализа значений языковых выражений. Этим объясняется, в частности, переход Р. Карнапа и других логиков на позиции «семантики», имевший место в конце 30-х и начале 40-х годов. Но это было весьма робкое и половинчатое движение. Формальный анализ не отвергался и не заменялся, а лишь дополнялся анализом «означающей функции языка» [Саrnар, 1946, V]. Поэтому такое движение может рассматриваться только как симптом неблагополучного положения дел, а не как решение проблемы. Несколько позднее подобное же движение началось и в структуральной лингвистике. В докладе на VIII Международном конгрессе лингвистов (1951) Л. Ельмслев выдвинул задачу исследования значения структурными методами [Hielmslev, 1957].
Нужно еще отметить, что идея «чисто формального метода» получила поддержку и распространение благодаря тому, что в весьма влиятельных течениях формальной логики XX в. была перевернута сама задача научной работы: не описание реального языка или языков, а построение искусственного символического языка — вот что стало для них предметом логики. В этой связи стали говорить о «формализованном» языке и исследовании «методом формализации языка». Таким (очень искусственным) путем «предмет» был приведен в соответствие с пониманием метода, но при этом выпало само исследование как языкового мышления, так и собственно языка. И можно считать, что в последнее десятилетие этот факт был уже отчетливо понят [Wittgenstein, 1953; Chomsky, 1955].
Таким образом, понимание метода анализа знаковой формы, выработанное в последних теориях формальной логики, явно не соответствует как природе и строению самой знаковой формы, так и возможному реальному методу ее анализа. Основное противоречие метода формальной логики остается неразрешенным; и оно вообще, по-видимому, не может быть разрешено, если пытаться сохранить в качестве предмета логики одну лишь знаковую форму: знаковая форма языкового мышления по природе своей вообще не может быть самостоятельным предметом научного исследования.
IV. «Принцип всеобщности» логических формул и зависимость строения знаковых форм мышления от его содержания
1. В предыдущих разделах было показано, что исходным принципом, лежащим в основании всей формальной логики и определяющим ее предмет и метод исследования, является «принцип параллелизма формы и содержания» (I и II). Было выяснено, в частности, что вследствие следования этому принципу фактическим предметом исследования в формальной логике оказывается одна лишь знаковая форма языкового мышления (III).
Другим важным следствием принципа параллелизма, следствием, хотя и опосредствованным, является то, что знаковая форма мышления рассматривается в формальной логике всегда как независимая от содержания. Наиболее четко и последовательно эта позиция выражается в положении о всеобщей применимости формул логики. Его можно найти в подавляющем большинстве логических работ. В античной и средневековой логике, в период Возрождения и в XVII в. это положение фиксировало одну из сторон логического понимания мышления; у Канта и после него оно стало не просто одним из принципов теории, но принципом, характеризующим специфику всего «формально-логического». Можно сказать даже резче: после Канта это положение стало боевым лозунгом всей формальной логики (включая сюда, по существу дела, и современную математическую логику), определяющим ее область и возможные направления развития.
Подавляющее большинство логиков выдвигает и защищает этот тезис совершенно открыто. Мы не будем приводить здесь положений самого И. Канта [Кант, 1907, с. 61–63; 1915, Введение, § 1], но приведем весьма характерные высказывания более поздних исследователей — неокантианца XIX в. В. Виндельбанда и позитивиста XX в. Р. Карнапа: «…Нам предстоит прежде всего изолировать в абстракции и представить в их непосредственной очевидности те формы[55] мышления, от которых зависит осуществление целей истины в познавательном процессе и знании. Эту часть исследования мы называем формальной или чистой логикой, поскольку при этом необходимо отвлечься от всякой связи с каким-либо определенным содержанием познания (но, понятно, — не от связи с содержанием вообще, что невозможно). Найденные таким образом формы действительны для всякого вида направленного к достижению истины мышления — для донаучного так же, как и для научного, — и так как при этом нет еще речи об особых предметах, то, следовательно, дело идет о той истине, которую мы именно поэтому и назвали формальной» [Виндельбанд, 1913, с. 70–71].
«Начиная с Аристотеля, задача дедуктивной логики состоит в том, чтобы исследовать определенные отношения между предложениями или высказываниями, которые выражаются в предложениях. Эти отношения названы логическими отношениями. С современной точки зрения для этих отношений решающими являются два признака: 1) Они независимы от всех реальных фактов (т. е. формальны в традиционном словоупотреблении). Для того чтобы принять решение относительно этих отношений, необходимо знать лишь истинности (Wahrheitswert) предложений, а не их значения (Bedeutung)…» [Саrnaр, 1958, с. 30].
Аналогичным образом высказываются и «собственно математики»: Л. Кутюра [Кутюра, 1913, с. 7], А. Тарский [Тарский, 1948, с. 47]). Д. Гильберт и В. Аккерман [Гильберт, Аккерман, 1947, с. 21] и др. Мы приводим лишь одну, совершенно определенную формулировку, принадлежащую П. К. Рашевскому: «…Формальная логика потому и носит эпитет «формальная», что она учит нас формам умозаключений, правильных независимо от того, о чем именно мы рассуждаем» [Рашевский, 1960, с. 82].
Другие логики формулируют этот принцип не так откровенно, со всевозможными оговорками, однако фактически и они целиком и полностью стоят на его почве. Приведем исключительно характерное в этом отношении место из книги В. Ф. Асмуса:
«…Одни и те же логические формы и одни и те же логические действия, или операции, встречаются в самых различных науках, охватывающих самое различное содержание.
Логики-идеалисты делают неправильный вывод из этого факта. Заметив — и совершенно справедливо, — что одними и теми же логическими формами, например формами умозаключения или доказательства, может охватываться самый различный материал, принадлежащий различным областям действительности и различным областям знания, логики эти делают отсюда вывод, будто формы мышления, изучаемые логикой, совершенно не зависят от содержания того, что при помощи этих форм мыслится.
Так возникло направление в развитии логики, которое в отличие от формальной логики можно назвать формалистическим.
…Занимаясь изучением формальной логики, мы в то же время знаем, что формы мышления, какими бы общими для всех наук они ни были, как бы широко ни применялись они для охвата самого различного содержания, все же связаны с содержанием, зависят от содержания. То, что отражается в логических формах мысли, есть содержание самой действительности: ее предметы, свойства и отношения.
Возможность применения одинаковых логических форм, например одинаковых форм суждения или умозаключения, классификации или доказательства к различному материалу различных наук доказывает вовсе не то, что утверждают формалисты логической науки: не то, что формы логики не зависят от мыслимого в них содержания. Возможность прилагать одни и те же логические формы к различному содержанию доказывает только то, что наряду с содержанием частным, свойственным только данной области знания или данной науке, существует также содержание, общее целому ряду наук или даже всем наукам. С этой точки зрения общие логические формы следует рассматривать не как формы, не зависящие ни от какого содержания, а как формы чрезвычайно широкого содержания» [Асмус, 1947, с. 10–11].
На первый взгляд может показаться, что приведенные высказывания В. Ф. Асмуса не только не подтверждают доказываемого нами положения о том, что он стоит на точке зрения независимости строения знаковых форм мыслей от их содержания, но даже наоборот — являются свидетельством его противоположного мнения. Однако такой вывод был бы поверхностным. Действительно, мы не случайно сказали выше, что выражением разбираемой точки зрения является положение о всеобщности формул логики. Теперь мы можем добавить, что это положение является единственно истинным выражением этой точки зрения: только ориентируясь на этот признак, мы сможем отделить интересующий нас здесь вопрос от вопроса о смысле и значении формально-логических понятий «формы» и «содержания»; только таким путем мы сможем выделить за чисто словесным оформлением действительное понимание и действительный подход к вопросу. Номинально признавая, что «формы мышления» (т. е. структуры знаковых форм знаний) зависят от содержания, В. Ф. Асмус в то же время считает — и всячески подчеркивает эту мысль, — что «логические формы» следует рассматривать как формы чрезвычайно широкого содержания, как формы общие чуть ли не для всех наук. Но это положение не может означать ничего иного, кроме того, что учитывать особенности предметного содержания при анализе строения знаковой формы мышления не нужно. И нас совсем не должно смущать то обстоятельство, что В. Ф. Асмус специально оговаривает, что возможность применения одинаковых «логических форм» к различному содержанию доказывает не то, что эти формы вообще не зависят от мыслимого в них содержания, а только то, что они не зависят от частных конкретных особенностей содержания. Не нужно особой проницательности, чтобы понять, что смысл второго, принимаемого им положения абсолютно ничем не отличается от смысла первого, отвергаемого. Если мы имеем две характеристики какого-либо явления (или два разных явления, это все равно) и с изменением одной меняется и другая, то мы говорим, что вторая характеристика зависит от первой. Если же изменения одной характеристики не вызывают соответствующих изменений другой, то мы говорим, что вторая характеристика от первой не зависит. Только в этом и состоит смысл понятия зависимости. И человек, который стал бы говорить, что возможность изменения одной характеристики без соответствующих изменений второй доказывает вовсе не то, что вторая характеристика вообще не зависит от первой, а только то, что она не зависит от ее особенных, частных значений, просто разошелся бы с общепринятым пониманием зависимости. Но точно так же обстоит дело и при исследовании мышления. Либо существует несколько типов содержания и с переходом от одного типа к другому происходит соответствующее изменение типа знаковой формы мысли. Тогда мы должны сказать, что строение знаковой формы зависит от содержания мысли (не обращая внимания на то, что одновременно существуют и такие изменения содержания, которые не вызывают соответствующих изменений формы), и это будет означать, что исследовать знаковую форму нужно в связи с исследованием особенностей этих типов содержания. Либо «формы мысли» носят «чрезвычайно широкий», всеобщий характер и в этих чрезвычайно широких границах никакие изменения содержания не вызывают соответствующих изменений знаковой формы. Тогда мы должны сказать, что формы мысли вообще не зависят от содержания и что их, следовательно, можно исследовать отдельно, сами по себе, без учета каких-либо особенностей содержания (как это и делает в своей «Логике» В. Ф. Асмус). Либо то, либо другое. А положение о том, что структуры знаковых форм мысли могут исследоваться не независимо от содержания вообще, а только независимо от особенностей конкретного частного содержания, является чисто словесной оговоркой и нисколько не меняет сути дела — действительного подхода к исследованию мышления.[56]
Если мы признаем, что «логические формы» носят чрезвычайно широкий всеобщий характер, то тем самым мы с необходимостью признаем независимость строения знаковых форм мышления от его содержания.
Примерно так же, как и В. Ф. Асмус, высказываются и другие советские логики (см.: [Строгович, 1949, с. 15–16; Войшвилло, 1955, с. 5–9; Ахманов, 1955, с. 46] и др.). Признавая на словах существование «обобщенного содержания», от которого якобы должна зависеть структура знаковой формы, они вместе с тем, с одной стороны, не делают никаких шагов для определения типов этого содержания, а с другой — по-прежнему характеризуют логические формулы как имеющие по сути всеобщее приложение.
Таким образом, принцип независимости строения языковых форм мыслей и правил оперирования с ними от содержания этих мыслей выраженный в виде положения о всеобщности логических формул числит за собой много авторитетных имен как зарубежных, так и наших советских логиков. И тем не менее этот принцип не выдерживает критики, он очевидно ложен, даже с точки зрения положения, существующего сейчас в самой формальной логике. И это нетрудно показать.
2. Начнем с рассмотрения традиционной аристотелевой логики. Отвлечемся от различных теоретических «разъяснений» ее формул, связанных с обоснованием логики, и возьмем зафиксированную в них «технику» мышления. Она отнюдь не является всеобщей.
Уже в древнегреческой логике были обнаружены такие умозаключения, которые никак не укладывались в схемы аристотелевой силлогистики. Например: «В равно С, А равно В, след. А равно С» или «Петр жил позже Алексея, Алексей жил позже Михаила, след. Петр жил позже Михаила». Сюда же относили умозаключения типа «А причина В, В причина С, след. А причина С». Характерно, что уже стоики называли их «не дающими вывод по методу» [Лукасевич, 1959, с. 51]. Попыток представить эти умозаключения в такой форме, которая соответствовала бы схемам аристотелевой логики, было исключительно много, однако ни одна из них не удалась.[57]
В конце концов постоянно повторяющиеся неудачи сделали свое дело. Во второй половине XIX в. в связи с рядом обстоятельств (особенно в связи с задачами обоснования математики) появилась «логика отношений» с формулами предложений и правилами умозаключения, существенно отличающимися от формул и правил аристотелевой логики.
Представители логики отношений понимали, что их теория охватывает новые области мышления,[58] но им в то же время казалось, что это расширение и эта спецификация предмета последние и что теперь в новой логической теории охвачены все возможные виды предложений и умозаключений.[59] Однако на деле это оказалось совсем не так, и процесс выделения новых разделов логики, соответствующих мышлению с особыми видами «техники», на выделении логики отношений не закончился. В частности, в самое последнее время (1953–1960) А. А. Зиновьев исследовал особенности строения знаний о связях и построил простейшее логическое исчисление соответствующих предложений [Зиновьев, 1959 а, 1960 b, с]
Таким образом, оказывается, что в самой логике существуют по меньшей мере три различные теории (если не считать логики высказываний) — логика Аристотеля, логика отношений и логика связей. Каждая из них фиксирует особую технику мышления, которая оказывается справедливой и полноценной только в определенных узких областях: логика Аристотеля — в области атрибутивных знаний [1958 b*], логика отношений — в области знаний об отношениях, логическая теория А. А. Зиновьева — в области знаний о связях. Уже одно это служит достаточным доказательством того, что логика Аристотеля отнюдь не является всеобщей логической теорией.
Но кроме того, необходимо еще принять во внимание те процессы мышления, которые осуществляются в числах, в буквенных выражениях и уравнениях, в геометрических чертежах и химических формулах необходимо принять во внимание такие процессы, как дифференцирование и интегрирование, — т. е. массу самых разнообразных процессе! мышления, которые до сих пор все еще остаются за пределами собственно логики. Решение сложного численного выражения или системы алгебраических уравнений, преобразование системы координат или запись уравнения химической реакции, интегрирование дифференциального уравнения и т. п. представляют собой такие же «умозаключения», как и те, которые зафиксированы в традиционных схемах, но только со своей особой техникой, безусловно не сводимой к технике силлогизма. Каждый из указанных видов умозаключений значим в своей определенной области и там не может быть заменен никакими другими. Иначе можно сказать, что каждый из них соответствует своей особой области мыслимого содержания, и эти области давным давно были выделены по содержанию и названы: это — число, количество, пространство и время, изменяемость количеств, состав и его изменения и т. п.
Формальная логика (включая сюда и математическую) никогда не ставила вопрос о какой-либо дополнительной формализации указанных умозаключений, никогда не пыталась таким путем включить их в рамки логики. Да это и не имело бы никакого смысла, так как схемы и правила подобных «умозаключений» и так твердо определены и установлены другими науками — математикой, химией и др. — и не нуждаются ни в какой дополнительной логической формализации. Однако это обстоятельство совершенно не снимает того факта, что в подобных умозаключениях осуществляются определенные процессы мышления и что эти процессы имеют свою особую технику, которую надо отразить в специальных логических понятиях[60].
К этому надо добавить, что как логика Аристотеля, так и все позднейшие направления выделяли из всей массы разнообразных рассуждений только те, которые совершаются по строгим формальным правилам, и отбрасывали как не подлежащие изучению все так называемые «описания» — описания предметов, их взаимодействия, изменений, описания действий человека, в частности познавательных действий исследователя и т. п., т. е. все, если можно так сказать, «не-необходимые» рассуждения. Между тем подобные языковые рассуждения не бывают резко отделены от «необходимых», и в частности силлогистических, умозаключений. Наоборот, они, как правило, органически связаны с последними, являются необходимой составной частью всякого рассуждения и исследования, а часто — например, в элементарной геометрии — даже и доказательства; это описания преобразований различных фигур, новых построений и т. п.
Таким образом, действительность языкового мышления оказывается неизмеримо большей, чем это фиксируется в настоящее время в теориях логики, и эта действительность должна быть отражена не в одной и не в трех, а в целом ряде различающихся между собой логических теорий, каждая из которых имеет строго определенную область применения. В сравнении со всей этой действительностью языкового мышления область применения логики Аристотеля оказывается исключительно узкой и незначительной; это всего-навсего область атрибутивных знаний [1960 с*. I; 1958 b*]
Но если существует целый ряд различных «логик», каждая из которых выражает особую «технику» мышления (т. е. особое строение языковых форм мыслей и правил оперирования с ними) и в силу этого применима только в строго определенной узкой области языкового мышления, то это значит, что существует объективная, вытекающая из природы самого мышления зависимость между его знаковыми формами и отражаемым в них содержанием.
3. Но эта зависимость не фиксируется и никогда сознательно не фиксировалась в понятиях формальной логики. Наоборот, как мы видели выше, в логике формулируется и защищается противоположный тезис о независимости логических формул, описывающих строение знаковой формы мышления, от содержания мышления. И такая позиция имеет свои основания: она довольно точно характеризует объективную структуру и функции существующих логических формул. Показать, как сложилось это расхождение между реальным положением дел и логическими понятиями, — задача следующей статьи.
О различии исходных понятий «формальной» и «содержательной» логик[61]
1. В последнее время в самых различных сферах общественного производства и науки выдвигается на передний план задача исследовать процессы мышления. Это необходимо для развития методологии научного исследования, разработки эффективных методов обучения (общего и профессионального), создания машин, моделирующих человеческий функции и т. п. [Швырев, 1960, с. 69]. Не будет преувеличением сказать, что уже в ближайшие десятилетия мышление станет одним из важнейших предметов научного исследования и технического моделирования [1961 b] Томсон, 1958, с. 161].
2. Мышление рассматривают с разных сторон логика, психология языкознание. Однако успехи этих наук в выявлении структуры и механизмов мышления нельзя считать удовлетворительными: они находятся в явной диспропорции с теми требованиями, которые в настоящее время предъявляет к этим наукам практика. В частности, автоматизация некоторых специальных процессов умственного труда, осуществляемая кибернетикой (например, машинный перевод, механизация поисков информмации и т. п.), а также построение модели «мыслящей» машины наталкиваются не столько на технические проблемы, сколько на трудности понимания природы и механизмов самого мышления [Кибернетический сб., 1960]. Формальная логика, как известно, достигла значительных успехов в построении формальных языков; они находят широкое применение в технике, но не имеют, как это признают многие видные логики, непосредственного отношения к анализу мышления [Лукасевич, 1959; Саrnaр, 1958, с. 30–32]. Отсюда возникает актуальная задача рассмотреть методологические основы этих наук и выяснить причины, тормозящие их продвижение в исследовании мышления [1961 а; Садовский, 1961].
3. Этот анализ мы начнем с того, что выдвинем гипотезу о строении мышления, которая, на наш взгляд, позволяет разрешить те антиномии, которые обнаружились в ходе развития предшествующих теорий мышления; она, таким образом, является в каком-то смысле результатом истории науки о мышлении и итогом исследования этой истории; но при изложении нашей точки зрения на методологические ограниченности предшествующих теорий с нее надо начинать, ибо без этого особенности подхода этих теорий к предмету будут непонятны.
Суть гипотезы состоит в предположении, что мышление является как бы «двухплоскостным» движением, т. е. одновременным движением в «плоскостях» обозначаемого или содержания и обозначающего или знаковой формы. Это предположение подтверждается уже некоторыми общими интуитивными представлениями: когда какой-либо человек строит свое рассуждение, то он основывается на «усмотрении» определенных элементов и связей в объективной действительности и одновременно выражает их в определенных последовательностях знаков. Точно так же понимание языковых рассуждений другого человека невозможно без «мысленного обращения» к области действительности и своеобразной «реконструкции» тех элементов и связей из этой области, которые обозначены в соответствующих языковых выражениях. Специальный анализ показывает, что аналогичное положение существует и в тех случаях, когда мы имеем дело, казалось бы, с чисто словесными, чисто знаковыми рассуждениями [1958 b*, V]. Поэтому, исследуя мышление, логик, психолог, лингвист должны представлять его в двухплоскостных схемах вида:
и обязательно каким-то путем вводить и определять строение плоскости содержания [1957 а *; 1957 b; 1961 b].
4. В традиционной логике, начиная с Аристотеля и кончая самыми последними «математическими» направлениями, эта реконструкция осуществляется на основе «принципа параллелизма содержания и формы», т. е. на основе предположения, что 1) каждому элементу знаковой формы языковых выражений соответствует строго определенный субстанциальный элемент содержания и 2) способ связи элементов содержания в точности соответствует способу связи элементов знаковой формы [1960 с *, HI; 1961 а].
5. Этот принцип полностью предопределил метод и предмет традиционной логики, превратив ее в логику формальную.
А. Если между плоскостями содержания и формы мышления существует параллелизм, то не нужно исследовать обе эти плоскости и связь между ними, а достаточно рассмотреть одну плоскость. Поэтому традиционная логика исследовала всегда не мышление в его целостности, а только одну его плоскость — плоскость знаковой формы [1960 с*].
Б. Поскольку вторая плоскость языкового мышления — плоскость содержания — специально и сознательно не учитывалась и не фиксировалась в логических схемах, постольку и знаковая форма рассматривалась фактически как бессодержательная.
В глазах подавляющего большинства логиков игнорирование особенностей содержания мышления при анализе его языковой формы является не ошибкой и недостатком логики, а ее достоинством. Фактическим выражением этой точки зрения является отнюдь не тезис о содержательности или бессодержательности логических характеристик, а положение об их всеобщей применимости, сознательно выдвигаемое со времен И. Канта в качестве основного принципа и критерия формально-логического [Кант, 1907, с. 63; Виндельбанд, 1913; Гильберт, Аккерман, 1947, с. 21; Тарский, 1948, с. 47; Саrnaр, 1958, с. 30–32]. Нередко, принимая этот принцип, исследователи специально оговаривают, что он никак не отменяет и не ограничивает факта связи, общей зависимости форм мышления от содержания, что тезисы о всеобщности и содержательности форм мысли нисколько не противоречат друг другу [Асмус, 1947, с. 10–11]. Но это по меньшей мере недоразумение.
Если мы имеем две характеристики какого-либо явления и c изменением одной меняется и другая, то говорят, что вторая характеристика зависит от первой. Если же изменения одной характеристики не вызывают соответствующих изменений другой, то говорят, что вторая характеристика от первой не зависит. Только в этом и состоит смысл понятия зависимости. И человек, который стал бы говорить — как это делают некоторые логики, — что возможность изменения одной характеристики без соответствующих изменений второй доказывает вовсе не то, что вторая характеристика вообще не зависит от первой, а только то что она не зависит от ее особенных, частных значений, допустил бы противоречие с установившимся понятием зависимости.
Но точно так же обстоит дело и при исследовании мышления. Либо существует несколько типов содержания и с переходом от одного типа к другому происходит соответствующее изменение типов форм мысли. Тогда мы должны сказать, что формы мысли зависят от содержания (т. е. строение знаковой формы мыслей зависит от каких-то конкретных особенностей содержания), и это будет означать, что исследовать их можно только в связи с исследованием этих особенностей содержания. Либо формы мысли носят «чрезвычайно широкий», всеобщий характер и в этих чрезвычайно широких границах никакое изменение содержания не вызывает соответствующих изменений формы. Тогда мы должны сказать, что формы мысли вообще не зависят от содержания, что они бессодержательны и что их, следовательно, можно исследовать отдельно, сами по себе, без учета каких-либо особенностей содержания (как это и делает подавляющее большинство логиков) [1960 с*, IV].
Другим проявлением этого же подхода было то, что за пределами логики остались фактически основные области современного мышления, осуществляемого не с помощью слов обыденного языка, а с помощью знаков другого рода — чисел, буквенных изображений количеств, уравнений, формул состава и структуры, геометрических фигур, чертежей разного рода и т. п. [1960 с*, I–II].
В. Ограничение предмета логики одной только знаковой формой предопределяло и возможное понимание природы и механизмов мысликомбинированием — В соответствии с этим операции в логике чаще всего рассматривались как изоморфные связям [1957 а*; Швырев, 1960, с. 69]. Вместе с тем из сферы исследования логики выпадало самое главное в мышлении — выделение единиц содержания из общего «фона» действительности и «движение» по этому содержанию. Во всех логических исследованиях предполагалось, что эти содержания уже заданы [1957а*; Швырев, 1961; 1962].
Естественным и вполне закономерным итогом разработки логики в этом направлении явилась формула: логика исследует не мышление, а правила формального выведения, логика — не наука о мышлении, а синтаксис (и семантика) языка [1961 а; Швырев, 1961].
Г. Поскольку мыслительная деятельность рассматривалась как комбинирование готовых элементов — терминов или предложений, — постольку логика никогда не могла решить вопрос, как образуются сложные знания. Попытки ответить на этот вопрос, оставаясь на почве исходных понятий формальной логики, приводили к априоризму. Отсюда формула, которая сначала (Ф. Бэкон, Р. Декарт) выдвигалась против традиционной логики как указание на ее неполноценность, а потом (Введенский, современные логические эмпиристы) стала рассматриваться чуть ли не как единственное основание научности: логика исследует не процессы обнаружения чего-либо «нового», не процессы образования знаний, а процессы систематизации и изложения уже известного [1957а *; Ogden, Richards, 1953; Reichenbach, 1949; Hempel, 1945].
Д. То обстоятельство, что логика не выделяла и не рассматривала действительные процессы мышления, исключало какую-либо возможность для нее исследовать развитие мышления. Ни фиксирование структур знаковой формы самих по себе, ни выделение различных видов содержания как таковых не дает основания для выделения связей развития.
Возьмем, к примеру, несколько форм знания, относящихся к близким разделам математики. Первая — это формула для определения площади треугольника: S=ah/2, вторая — формула для определения площади круга: S = πR2, а третья — формула для определения площади плоской поверхности, ограниченной кривой f(x), осью абсцисс и ординатами х1=а и х2=b:
Чтобы исследовать генетические взаимоотношения между этими формами знания, мы должны выяснить, какие из них сложнее, а какие проще. Но для этого в свою очередь необходимо привести все указанные формы к «однородному» виду, т. е. к виду, в котором бы они предстали как составленные из одних и тех же элементов. Однако из приведенных примеров легко увидеть, что сделать это, ограничивая исследование исключительно формами знания, принципиально невозможно, так как эти формы составлены из простых знаков, имеющих различную «смысловую ценность», т. е. принципиально разнокачественных и поэтому непосредственно друг к другу несводимых. Очевидно, что это различие в «качестве» знаков формы будет еще разительнее, если мы возьмем формы знания из разных областей науки.
Чтобы попытаться выяснить генетические взаимоотношения между этими формами знания, мы должны прежде всего взять их в связи с содержанием и рассмотреть природу и строение этого содержания. Для формальной логики этот путь в принципе неприемлем, а поэтому полностью закрыт путь для каких-либо попыток генетического анализа.
Но даже если мы возьмем знаковые формы в связи с содержанием и обратимся к анализу содержаний, то и тогда, как оказалось, не можем еще выяснить генетических взаимоотношений между знаниями. На этот путь встал Гегель и потерпел неудачу [Гропп, 1959]. Подобно тому, как приведенные выше знаковые формы различаются между собой качественно и это их различие не может быть представлено как различие по простоте и сложности, так и содержания этих знаковых форм различаются в таких характеристиках, которые принципиально не допускают сведения к отношению простого и сложного, а вместе с тем — непосредственного установления генетических отношений.
Единственное средство генетически сопоставить между собой существующие в настоящее время разнообразные знания и выяснить, какие из них сложнее, а какие проще, заключается в том, чтобы перейти от знаний как таковых к порождающим их процессам мысли и постараться эти процессы свести к общим составляющим, с тем чтобы выяснить, какие из них в свою очередь сложнее и какие проще. Только таким путем, установив сначала генетические отношения между процессами мысли, порождающими определенные знания, мы сможем установить генетические отношения между самими знаниями.
Но понятия формальной логики непригодны для того, чтобы исследовать мыслительную деятельность, они не могут объяснить процессов образования знаний — формальная логика в принципе не допускает подобных тенденций в исследовании, а поэтому для нее полностью закрыт путь генетического исследования мышления.
Невозможность исторического подхода к исследованию мышления на базе традиционных понятий логики еще более подкрепляла неправильный тезис о «всеобщности» выделенных структур знаковой формы.
6. Непригодность аппарата понятий традиционной формальной логики для исследования и описания реальных процессов мышления делает необходимой разработку новой логики, которая должна исходить из следующих положений: 1) мышление есть прежде всего деятельность, именно, деятельность по выработке новых знаний; 2) ядро, сердцевину этой деятельности образует выделение определенного содержания в общем «фоне» действительности и «движение» по этому содержанию; 3) знаковые структуры, составляющие «материал» мышления, и техника оперирования ими зависят от типа того содержания, которое отражается в этих структурах; 4) мышление представляет собой исторически развивающееся, или, как говорил Маркс, «органическое» целое. Новая логика должна быть, следовательно, содержательной и генетической.
Нередко говорят, что историческая теория мышления невозможна, так как нам неизвестна эмпирическая его история. Но такое заявление — плод недоразумения. Требование историзма в изучении мышления отнюдь не равно требованию обязательно исследовать его эмпирическую историю или воспроизвести условия, обстоятельства и детали реального генезиса одних логических средств из других. Историзм в полной мере может и должен проявиться при исследовании «наряду данного» материала и воспроизведении системы «ставшего» мышления. Требование историзма есть лишь особое выражение факта зависимости между логическими средствами науки и типом выявляемого посредством их объективного содержания и зависимости одних логических средств от других. Методологически это требование означает, в частности, что нельзя исследовать «мышление вообще». Оно означает, что, приступая к исследованию непосредственно данного эмпирического материала мышления (как исторически следующего друг за другом, так и сосуществующего наряду), мы должны разбить его на ряд сфер; в каждую из них войдут логические средства, различающиеся между собой по структуре, типу выявляемого содержания и находящиеся между собой в определенных функциональных и генетических связях. Сравнивать между собой явления, относящиеся к различным сферам, с тем чтобы найти в них общее, бессмысленно. Задача, наоборот, состоит в том, чтобы выделить те существенные различия, которые образуют специфику каждой сферы, и связи между ними, характеризующие законы развития и функционирования мышления. Это в свою очередь означает, что нужно будет исследовать мыслительную деятельность и в особенности деятельность по выделению нового содержания. Требование историзма, таким образом, объединяет в себе все те требования, которые были сформулированы выше, и означает преодоление всех перечисленных выше недостатков традиционной логики. Результатом такого «исторического» исследования должна быть прежде всего теория функционирования современного, «ставшего», т. е. теория -
7. Одной из важнейших особенностей содержательной логики является то, что она выступает как эмпирическая наука, направленная на исследование мышления как составной части человеческой деятельности.
Как всякая эмпирическая наука, логика имеет определенный, непосредственно данный материал, с анализа которого она начинает. Это — языковые тексты. Но сами по себе они еще не образуют предмета логического исследования — мышления (см. п. 3). Это — только знаковая форма мышления. Чтобы выделить предмет логического исследования в целом, нужно еще дополнительно реконструировать содержание (или, как часто говорят, «значение» знаков) и определенным образом связать его со знаковой формой.
В предшествующих теориях мышления были намечены два основных типа схем связи знаковой формы мышления с его содержанием: «линейная» и «треугольная».
Отличительной особенностью схем первого типа, при всем их разнообразии, является то, что связь знаковой формы с объективным содержанием устанавливается через посредство особых психических образований — чувственных образов или особых мыслительных образов (концептов, понятий и т. п.), которые собственно и выступают, по теории, как первые непосредственные значения знаков. Наглядно-символически эти схемы выглядят так:
Отличительной особенностью схем второго типа является то, что там связи знаковой формы с объективным содержанием и со специфически психическими образованиями — значением — как бы существуют рядом («треугольник Огдена» [Ogden, Richards, 1953]). Наглядно-символически это выглядит так:
В противоположность всем этим теориям мы принимаем для изображения мышления схему «квадрата»:
Но при этом рассматриваем различные ее элементы (стороны) не как равноценные. Горизонтальные связи в этой схеме изображают связи, устанавливаемые по законам обычного чувственного отражения; это связи, во-первых, между объектами и их чувственными образами, во-вторых, между знаковыми формами (которые тоже суть объекты) и их чувственны ми образами. Правая вертикальная связь — между чувственными образами знаковой формы и объектов — носит вторичный, зависимый характер: это отражение в голове связей, установленных вне головы (в левой части схемы). Таким образом, главной и определяющей связью в этой структуре оказывается левая вертикальная связь. Это связь замещения между объективным содержанием (не объектами!) и знаковой формой. Она устанавливается в ходе трудовой деятельности и первоначально является ее побочным продуктом, но затем установление подобной связи замещения становится специальной целью, а деятельность, решающая эту задачу, обособляется и становится специализированным видом трудовой деятельности — познанием. Именно эта связь замещения составляет суть и сердцевину всего процесса, изображаемого «квадратом», именно она несет в себе все специфические признаки мышления.
Поскольку правая вертикальная связь есть отражение левой, а горизонтальные связи есть лишь условия и средства перехода «слева направо», постольку мы можем разделить «квадрат» на ряд относительно независимых предметов исследования и выделить левую вертикальную связь в особый предмет исследования. Мы называем его «языковым мышлением» [1957а*; 1958 b*; 1960с*, I–II]. При исследовании предмета, изображаемого всем «квадратом», связь языкового мышления должна рассматриваться первой.
Такое понимание природы «языкового мышления» полностью снимает все традиционные обвинения в «психологизме» и субъективизме, все возражения против того, чтобы рассматривать в качестве предмета логики мышление, а также многие из тех (справедливых в отношении к прежней психологии и логике) соображений, из которых исходили те, кто считал, что логика должна быть неэмпирической наукой [Гуссерль, 1909; Саrnaр, 1958, с. 30–32]. Определение языкового мышления как взаимосвязи направляет процесс выделения и реконструкции предмета логики при исследовании эмпирически заданных текстов рассуждений.
8. Следующая задача, встающая после определения и выделения «языкового мышления» как предмета логического исследования, состоит в том, чтобы на основе анализа единичных эмпирически заданных текстов проанализировать и воспроизвести в форме «исторической теории» мышление вообще, мышление как таковое, как один органический предмет. Метод решения этой задачи — восхождение от абстрактного к конкретному [Зиновьев, 1954; Zinovev, 1958], осуществляемое в два этапа. Первый этап — нисходящее функционарно-генетическое расчленение эмпирически данных единичных текстов, второй этап — восходящее функционарно-генетическое построение (генетическое выведение, или генетическая дедукция) исторической системы «мышления вообще». Соответственно делятся на две группы все общие методологические понятия о мышлении: в первую входят понятия, связанные с «нисходящим расчленением» эмпирически данного материала, во вторую — понятия, связанные с «выведением» или построением системы на основе полученных на первом этапе элементов.
9. Здесь оказывается необходимым прежде всего сменить тот аспект, в котором обычно рассматривается мышление, и подойти к заданному тексту не как к фиксированному знанию, а как к движению, процессу. При этом «процесс мышления» определяется как любая ограниченная часть выражаемой в языке познавательной деятельности, необходимая для получения определенного мыслительного знания об определенном объекте или «предмете» [1957 b] на основе других мысленных знаний. «Мысленное знание» определяется как структура вида:
в которой знаковая форма замещает объективное содержание, а связь значения обязательно содержит в качестве своих компонент значения» «абстракции» и «метки» [1958 b*, I]. Важно специально отметить, что процесс мышления не есть движение или переход от одних знаний к другим, как мы неточно определяли его в одном из наших ранних сообщений [1957 b], — таким он является лишь в особых частных случаях, — а есть движение от объекта к определенному знанию о нем с помощью или при посредстве других знаний.
10. Выделенные таким путем «процессы мышления» чаще всего бывают сложными образованиями и могут быть разложены на части, сохраняющие свойства процессов мысли. Общий метод такого разложения заключается в том, что мы ищем в выделенном тексте «промежуточные» знания, находим соответствующие им задачи познания и объекты или «предметы» знания и затем по ним реконструируем составляющие процессы мышления. Однако осуществление этой схемы разложения в большинстве случаев наталкивается на затруднения.
А. Многие сложные рассуждения оказываются неоднородными: они содержат языки разных типов. Например, рассуждение в элементарной геометрии включает: а) язык чертежей, б) обычный словесный язык, описывающий преобразования фигур в чертежах, в) логико-алгебраический язык вида «А>В, В>С, след., А>С» и др. Современное рассуждение в химии включает: а) обычный словесный язык, описывающий реально производимые преобразования веществ, б) язык формул состава, в) язык структурных формул, г) и д) словесные языки, описывающие преобразования формул состава и структуры, е) язык, описывающий квантово-физические модели взаимодействия веществ и т. п. Чтобы правильно проанализировать подобные рассуждения указанным выше способом, необходимо предварительно выделить в них части, относящиеся к различным языкам, и каждую такую часть рассмотреть отдельно [Лукасевич, 1959, с. 48–51].
Б. Лишь очень немногие процессы мышления оказываются построенными линейно, большинство же их организуется из более простых составляющих самыми разнообразными способами. В одних случаях «предметом» какой-либо части процесса мышления становится один элемент или какое-либо свойство «предмета» предшествующей части процесса, как, например, тогда, когда от рассмотрения всей геометрической фигуры в целом мы переходим к рассмотрению одной ее стороны или соотношения сторон. В других случаях знаковая форма знания, полученного в предшествующей части процесса, становится «предметом» рассмотрения в последующей части. Иногда от исходного объекта мы переходим сначала к модели самого объекта, затем к моделям модели, и так несколько раз, а потом, как бы «лифтом», спускаемся снова вниз к исходному объекту. Очевидно, чтобы правильно разложить такие причудливо организованные процессы мышления, надо в каждом случае выдвинуть специальную гипотезу о виде и способе их организации [1960 а*}.
В. Подавляющее большинство процессов мышления, после того как они включены в контекст более сложных рассуждений, не сохраняются в своем первозданном виде, а преобразуются за счет замены движений в плоскости содержания моделирующими их движениями в плоскости формы. При этом они сокращаются, свертываются, и это сильно затрудняет, а подчас делает просто невозможным выделение их истинного состава и структуры, а вместе с тем выделение «задач» познания и объектов или «предметов» знания. Чтобы преодолеть это затруднение, приходится обратиться к сопоставлению исторически следующих друг за другом способов решения одних и тех же задач. Такое сопоставление позволяет увидеть за сокращенными, свернутыми процессами мышления их исходные формы, найти законы и правила этого свертывания и на основе этого развернуть всю полную реальную структуру анализируемых процессов мысли. Чисто функционарное разложение превращается благодаря этому дополнительному сопоставлению в функционарно-генетическое.
11. Последовательное применение названного выше анализа к какому-либо выделенному процессу мышления должно в конце концов привести нас к таким процессам мышления, которые этим способом уже не могут быть разложены на составляющие. Такие, далее неразложимые, или элементарные с точки зрения этого способа анализа, процессы мышления мы называем операциями мышления. Иначе говоря, операция мышления есть наименьшая часть сложного рассуждения, в которой еще могут быть обнаружены объект и процесс получения определенного знания об этом объекте на основе какого-то другого мысленного знания. Разлагая таким образом различные процессы мышления, мы будем получать все новые и новые операции. Однако, с другой стороны, мы будем встречаться с уже выделенными ранее операциями. Хотя отдельные части существующего в настоящее время совокупного знания весьма отличаются друг от друга, а следовательно, отличаются друг от друга и процессы мышления, посредством которых это знание получено, тем не менее можно будет, по-видимому, найти конечное и сравнительно небольшое число операций мышления, таких, что все существующие эмпирические процессы мышления можно будет представить как их комбинации. Перечень всех этих операций мышления мы называем алфавитом операций [1957 b].
12. На этом заканчивается первый этап исследования мышления методом восхождения — нисходящее функционарно-генетическое расчленение эмпирически данных текстов. Итоги этого этапа исследования: а) алфавит операций мышления, б) ряд относительно замкнутых однородных систем знаковой формы, объединяемых в формальные исчисления [1958 b*, V], в) знание о составе и принципах организации множества различных научных рассуждений. Все эти разнородные элементы должны быть теперь объединены и сведены в одну «историческую теорию» мышления как такового. В этом задача второго этапа исследования — генетического выведения, или генетической дедукции.
13. Первая задача, которую должно решить выведение, — генетически связать между собой различные операции, представить одни как развитие других. Но до тех пор, пока операции рассматриваются как простые и далее неразложимые, как просто разнокачественные, это невозможно сделать по тем же основаниям, по каким это было невозможно сделать в случае знаковых форм и содержаний знаний. Поэтому оказывается необходимым разложить мыслительные операции дальше на составляющие.
Анализ выделенных к настоящему времени операций показывает, что все они складываются из двух функционально различных частей (называемых действиями} — сопоставления и отнесения. Сопоставления — это действия с объектами (или знаками, заместителями объектов), посредством которых выделяются определенные единицы объективного содержания; отнесения — это действия по установлению связи между объективным содержанием и знаковой формой.
Действие сопоставления образует ядро всякой операции мышления. С изменением типа сопоставления меняется тип выделяемого в действительности содержания. От характера сопоставления зависит также характер действия отнесения, а от них обоих — структура знаковой формы, фиксирующей выделенное содержание, и правила оперирования с ней. В то же время между действиями сопоставления и отнесения существует своеобразное отношение: сопоставление всегда является необходимым условием и предпосылкой отнесения двух знаковых форм друг к другу или знаковой формы к объективному содержанию, и всегда в самом отнесении все отношения сопоставления «снимаются», элиминируются, и обнаружить их непосредственно в готовой структуре знания невозможно.
К примеру, чтобы выделить в определенной вещи (назовем ее исходной) какое-либо атрибутивное свойство и зафиксировать его в знаковой форме, мы должны привести эту вещь во взаимодействие с другой вещью (индикатором) и затем отождествить происходящее при этом в исходной вещи или в индикаторе изменение с соответствующими изменениями, возникающими при взаимодействии с индикатором вещи-эталона. Произведенное таким образом отождествление служит основанием для «переноса» на исходную вещь названия (А), которым раньше обозначалась вещь-эталон. Схема подобного сопоставления:
а в возникающей на его основе структуре знания Ои — (А) эти отношения сопоставления элиминированы и непосредственно не обнаруживаются [1958 b*. I].
Чтобы получить знание о законе движения какого-либо тела, надо особым образом сопоставить между собой числовые значения длин «расстояний», пройденных за одно и то же время рассматриваемым телом и телом, движение которого принимается за эталонное. После выталкивания «всеобщего», или «стандартного», эталона (часов) схема сопоставления движений двух тел сокращается, выражение v=s/t (или просто полученное на основе этой формулы числовое значение v) начинают относить непосредственно к движению исходного тела, и отношения сопоставления, таким образом, элиминируются [1958 а*, {с. 578–582}].
Точно так же, чтобы получить знание о функциональной зависимости между двумя характеристиками какого-либо сложного объекта, необходимо сопоставить между собой несколько рядов соответствующих друг другу значений этих характеристик (выраженных в знаках чисел) а1; b1; а2, b2; а3, b3 и т. д., а затем, сокращенно выразив эти ряды сопоставлений в каком-либо знаке функции b=f(a), в соответствии с характером изменения b вслед за а, отнести этот знак функции к объекту, тем самым элиминировав отношения сопоставления [1957 b; Зиновьев, 1959, с. 113–124]. Подобное строение имеют, по-видимому, все без исключения операции мышления. Входящие в них действия сопоставтления будут меняться, усложняться от одной операции к другой, вместе с тем будут меняться и действия отнесения, но их функциональное отношение всегда будет оставаться неизменным. Поэтому даже в тех случаях, когда мы имеем дело, казалось бы, с чисто словесными, чисто знаковыми рассуждениями, мы должны, если хотим выделить и исследовать действительные операции мышления, применить к этим рассуждениям указанную выше схему анализа и выделить среди входящих в них знаков а) «заместители объектов», т. е. знаки, функционально играющие роль объектов, и б) знаки, образующие форму знания, т. е. знаки, фиксирующие результаты применения действий сопоставления к знакам — заместителям объектов. Собственно, только такой подход, как бы разносящий в две разные плоскости «материал» словесного или всякого другого языкового рассуждения, и создает специфику действительно логического рассмотрения [1958 b*, V–VI]. Чтобы наглядно символически вы разить этот тезис, мы можем воспользоваться схемой вида
, где X — исследуемый объект, знак А («дельта») обозначает действие сопоставления, (А) — знаковая форма, фиксирующая выделенное посредством А объективное содержание, а вертикальные стрелки обозначают отнесение: стрелка, идущая вверх, — фиксацию отношений сопоставления в знаке, или его абстрактное значение, а стрелка, идущая вниз, — элиминирование отношений сопоставления и значение метки [1958 b*]. Эта схема есть вместе с тем операционально реконструированное изображение простейшего, именно номинативного, мыслительного знания. Специально подчеркнем: выявление общей структуры мыслительных операций есть важнейший результат содержательной логики.
14. Выделение во всякой операции мышления действия сопоставления, как основы и ядра самой операции, создает необходимую предпосылку для анализа генетических связей между операциями. К настоящему времени обнаружено два основных типа таких связей.
А. Если определенная познавательная задача, взятая в применении к какому-либо объекту (исходному, Ои), в силу каких-то особенностей этого объекта (ограничивающих) не может быть решена посредством традиционно связанной с этой задачей мыслительной операции а, то этот объект, как правило, замещается другим (объектом-заместителем, О3), таким, который тождествен исходному в исследуемом свойстве, но в то же время не имеет ограничивающих свойств и, следовательно, может быть познан с помощью мыслительной операции α. В ходе замещения между Ои и О3 устанавливается определенное отношение, которое позволяет «переносить» знание об объекте-заместителе, полученное посредством а, на исходный объект.
Первоначально отношение, устанавливаемое между Ои и О3, в ходе замещения никак не выделяется и не фиксируется в знании. Но затем оно выделяется в самостоятельный предмет рассмотрения, осознается как отношение и особый вид отношения и с помощью новой операции β (нового сопоставления и нового отнесения) фиксируется в специальном знании. После этого задача выделения и познания этого отношения выделяется в особую познавательную задачу; мы называем ее рефлективно выделенной.
Хотя после описанного генетического процесса новая рефлективно выделенная познавательная задача выступает как лежащая наряду с исходной, а новая операция мышления β — как лежащая наряду с исходной операцией α, однако в действительности ни эти задачи, ни решающие их операции не являются равноправными и однородными. Рефлективно выделенная задача является вспомогательной, и ее решение первоначально необходимо лишь для решения исходной. Взятая сама по себе, она не имеет никакого смысла и значения. То же самое относится и к новой операции мышления: она возникает лишь как часть деятельности, необходимой для решения исходной познавательной задачи, и при своем формировании «опирается» на знания, являющиеся результатом первого процесса. Поэтому новую рефлективно выделенную познавательную задачу и соответствующую ей операцию мышления надо рассматривать как образования другого уровня, нежели исходная задача и исходная операция, как образования в своем появлении и отношении к действительности, опосредствованные задачами, мыслительными операциями и знаниями нижележащего уровня.
Понятие уровня мышления, основанное на принципе рефлекторного выделения нового предмета и новой познавательной задачи впервые дает объективное основание для построения «рядов развития» или «рядов усложнения» содержания знания. Оно объясняет, почему существуют строго определенная зависимость и строго определенный порядок в появлении различных типов знаний и операций мысли, и показывает, что они должны располагаться не рядом друг с другом и не одни под другими, а как бы по ступенькам лестницы, причем знания и операции, лежащие на высшей ступеньке, возникают и могут быть сформированы лишь после и на основе определенных знаний и операций, лежащих на низших ступеньках [1959; 1960 а*; Ладенко, 1958 а, b].
Б. После того как в объектах путем сопоставления выделено определенное содержание и зафиксировано в знаковой форме, эта Знаковая форма сама становится объектом рассмотрения, ее элементы сами определенным образом сопоставляются как объекты и выделенное таким образом содержание фиксируется в новой знаковой форме. В зависимости от того, какое отношение существует между исходными объектами и их знаковой формой, т. е. в зависимости от того, является ли знаковая форма моделью или символом исходного содержания, вторичная знаковая форма соответственно может или не может быть отнесена к исходным объектам. В первом случае новое, вторичное знание располагается как бы непосредственно над первичным, исходным, во втором случае — рядом с исходным. Но в обоих случаях мыслительные операции, применяемые к знаковой форме, по способу своего образования и функционирования оказываются зависимым и от операций, применяемых к исходным объектам.
Указанные два типа связей, очевидно, не исчерпывают всех возможных генетических связей между операциями мышления и получаемыми на их основе знаниями. Выявление других видов связей — задача дальнейших исследований.
15. Содержания, выявленные в одном объекте или в ряде объектов посредством разных (по виду и типу) операций мышления, объединяются посредством объединения фиксирующих их знаковых форм. Способы объединения знаковых форм разного по типу содержания различны. Сложные знаковые формы обособляются в формальные знания.
Появление формальных знаний существенным образом меняет процессы выработки знаний о единичных объектах или группах их. Наряду с процессами исследования, осуществляющимися исключительно посредством содержательных операций, т. е. действий с самими объектами, появляются процессы выработки знаний, основанные на использовании уже готовых формальных структур и состоящие из чисто формальных действий по преобразованию их. Это процессы соотнесения формальных знаний с единичными объектами [1958 b *, II–VI].
Сложные структуры знаковой формы, возникшие на основе ряда однородных и разнородных по своему типу содержательных операций, перерабатываются затем в системы исчислений, обособляются от связи с теми или иными определенными объектами и становятся формальными «математиками». Характерный пример — геометрия в ее эволюции от Евклида до Гильберта [Основания… 1948]. Но по существу такую же переработку претерпели арифметика, алгебра, дифференциальное исчисление, язык формул химических реакций и многое другое.
17. Обобщая все изложенное выше, можно сказать, что «содержательная», или «содержательно-генетическая», логика исследует мышление по трем основным направлениям:
А. Выявляет все возможные операции мышления; описывает лежащие в их основе типы сопоставления; устанавливает генетическую зависимость между этими операциями.
Б. Выявляет правила образования формальных исчислений, соответствующих каждому виду операций или их группам (как, например, в геометрии); систематизирует и классифицирует все существующие и возможные исчисления.
В. Выявляет правила использования фрагментов этих исчислений при исследовании различных эмпирически данных сложных объектов; анализирует процессы «соотнесения», связанные с каждым из этих исчислений; исследует условия и механизмы комбинирования частей различных исчислений в одну форму знания.
На наш взгляд, разработанная в этом направлении «содержательная логика» сможет стать теоретическим основанием «логики науки», позволит выработать новые высокоэффективные методы обучения и сделает действительно возможным инженерное моделирование мышления.
«Естественное» и «искусственное» в семиотических системах[62]
1. На первый взгляд, здесь даже нет проблемы: различие между «естественными» и «искусственными» языками кажется очевидным, и более глубокий анализ его не обещает по-новому осветить природу языка. На самом деле в нем лежит узел буквально всех проблем, связанных с социальной жизнью семиотических образований. Когда спрашивают: по каким законам идет развитие семиотических систем и существуют ли вообще такие законы, какую роль играет человек, его сознательные усилия в развитии языка, в какой мере научные трактаты или произведения искусств являются продуктом свободного творчества их создателей и в какой мере они предопределены социальным развитием общества, — во всех этих и многих других случаях затрагивается прежде всего указанная проблема (См., например: [Соссюр, 1933, с. 87–103; Коссериу, 1963; Мартине, 1963, с. 528–566]).
Два плана анализа выделяются в ней: 1) взаимоотношения индивида и социума; 2) взаимоотношения социального объекта и его теории. Их редко разделяют как особые вопросы и тем более никогда не анализируют их связь.
Теорию рассматривают обычно с точки зрения соответствия объекту. Анализируют способы ее получения. Говорят о применении теории. Но при этом всегда подразумевают отдельных индивидов, которые что-то знают об объекте и решают на основе этого свои частные (как правило, научные) задачи. Иногда говорят, что, например, теория языка, как и ее объект, тоже является семиотической системой [Ельмслев, 1960], но при этом теория никогда не рассматривается как элемент социума, как семиотическое образование, особым образом действующее на другие семиотические образования. Когда говорят о «знании языка», то оно выступает как условие и предпосылка речевой деятельности индивидов и в этом смысле как действующий фактор, но оно является элементом лишь индивидуально-психической сферы, а не объективным элементом социального организма [Смирницкий, 1954, с. 30–31]. Иногда «знание языка» отождествляют с теорией языка или же с самим языком, но оба эти решения не выдерживают критики.
Задача состоит в том, чтобы поставить все эти вопросы в контексте семиотического исследования [1967 а, с. 30–46].
2. Рассмотрим простейший случай, когда восстановление составляющих какой-то социально-производственной структуры (обозначим ее знаком А) происходит без введения каких-либо специальных средств трансляции и образцом, или «нормой», для составляющих каждой последующей единицы являются составляющие предшествующей. Поскольку условия (обозначим их знаком В), в которых происходит восстановление каждой составляющей, меняются от одной единицы к другой, постоянно происходят небольшие изменения структуры Аj, которые передаются в очередном акте воспроизводства следующей единице. Происходит медленное, но непрерывное изменение структуры социально-производственной единицы. Все охарактеризованные здесь связи представлены на схеме 1.
Представим себе теперь другой случай, когда определенные составляющие социально-производственной структуры зафиксированы в специальных эталонах (обозначим их знаком (А)), которые как «норма» транслируются от одной единицы к другой. При восстановлении каждой конкретной социально-производственной единицы происходят те же отклонения от нормы, что и в первом случае, но они никак не отражаются на самой норме, а поэтому умирают вместе со своей единицей (схема 2).
В ряду меняющихся социально-производственных структур под давлением внешних условий могут появляться структуры более совершенные и более соответствующие как внешним условиям, так и внутренним механизмам социальной деятельности. Но эталоны, или нормы, включенные в механизм трансляции, могут не учитывать, никак не фиксировать, не «отбирать» этих улучшений и усовершенствований; они продолжают жить по своим абстрактным законам «сохранения» и определяют характер восстанавливаемых компонентов социально-производственных структур без учета условий их функционирования.
Сопоставление схем первого и второго случаев — а первый как бы входит во второй — позволяет ввести понятие о «естественном» и «искусственном».
Воздействие изменяющихся от одной единицы к другой условий В определяет «естественное» изменение рассматриваемой структуры А. Соответственно являются «естественными» и связи, воздействующие на нее с этой стороны. Воздействие нормы (А) и сама нормирующая связь в противоположность этому выступают как «искусственные». Так же будут характеризоваться стороны структуры А, остающиеся постоянными благодаря воздействию нормы, или же изменения в структуре А, вызываемые воздействием нормы (случай вполне возможный и в более сложных вариантах социальной организации).
Важно подчеркнуть, что вся приведенная выше система социального воспроизводства представляет собой одно целое и живет по законам целого. Характеристики «естественного» и «искусственного» имеют смысл лишь при таком подходе и таком расчленении этой системы. Они могут применяться к структуре А только как к продукту разобранного двоякого механизма в системе общественного воспроизводства; они определяют ее как элемент этой системы и расчленяют изменения, происходящие с ней, на две составляющие. В этом и состоит основное назначение этих характеристик.
Система, изображенная на схеме 3, может быть повторно подвергнута тому же анализу; она будет искусственной, если существует ее норма, и естественной, если такой нормы еще нет.
3. Введенное таким образом различение дает ключ к пониманию намеченных выше основных проблем. Рассматривая связь нормы и нормируемой социально-производственной структуры, мы отвлеклись от анализа механизма осуществления этой связи. Попробуем теперь рассмотреть его. Этот механизм есть деятельность индивида: образцы, или эталоны, будут выполнять свою функцию нормы только в том случае, если рядом будет человек, который сможет создать по образцам новые образования, входящие в производственную структуру. В наглядной форме это представлено на схеме 4.
Как член социума индивид должен уже уметь осуществить эту деятельность, т. е. он должен уметь восстановить структуру А по ее образцу (А) или, в более сложных случаях, по каким-либо иным средствам трансляции. Но при более широком подходе мы должны предположить, что многие составляющие социума, в том числе и умения индивидов действовать, тоже требуют восстановления, и должны существовать семиотические средства, обеспечивающие это. Рассмотрим их как бы «обратным» ходом, двигаясь от деятельности индивида, которая должна быть осуществлена.
Индивид может осуществить какую-либо деятельность только в том случае, если он обучен ей непосредственно или имеет какие-то более общие и широкие навыки, позволяющие ему построить ее. Обучение, если мы возьмем простейший случай, возможно, если сама деятельность, которой обучаются, выделена в качестве образца (например, как деятельность «образцового рабочего» или «показательная деятельность педагога») и транслируется специально как «норма» в целях обучения. Если мы возьмем самый простой случай, то его можно будет представить схемой 5.
При этом, естественно, приходится предполагать, что сама деятельность учения дана от начала или выработана раньше.
Но такой случай трансляции образцов деятельности относится к очень неразвитым социальным структурам; в более развитых обществах нормы деятельности транслируются не непосредственно, а в своих описаниях или специальных педагогических средствах, изучение которых обеспечивает умение строить соответствующие деятельности (схема 6).
Здесь впервые появляется «наука» как описание объектов и способов действий с ними, как семиотическая система, подлежащая изучению.
При этом мы должны предполагать, чтобы провести рассуждение, что уже есть деятельность «самообразования». Но ведь на самом деле способность овладеть деятельностью по описанию не дается просто так, а может сформироваться у индивидов лишь в результате усвоения каких-то «основ знаний», или «учебных предметов», которые прорабатываются перед этим и дают средства как для деятельности изучения науки, так и опосредованно для производственной деятельности восстановления структур А (схема 7).
Если теперь, учитывая все полученные составляющие, мы элиминируем, чтобы упростить дело, деятельности изучения, усвоения и производства, то получим очень простую и наглядную картину иерархического нормирования элементов социально-производственной единицы А целым рядом различных семиотических систем (схема 8).
Каждая из семиотических систем будет нормировать характер и строение социально-производственной структуры А с различных сторон, а механизмом их воздействия будет нормирование деятельности индивида предшествующим процессом обучения.
4. Мы выяснили механизм воздействия семиотических систем на структуру производственных единиц социума. Но каждая из этих, систем сама является одним из элементов социума и точно так же производится и транслируется людьми. Следовательно, над каждой из них точно так же надстраивается своя иерархическая система норм, обеспечивающих воспроизводство.
5. Теперь необходимо вернуться к другому «концу» всей структуры и рассмотреть объективные отношения между семиотическими системами. Обратимся к общей схеме, изображающей отношение «естественного» и «искусственного». Внешние условия воссоздания и «нормы», определяющие характер структуры А, живут по различным законам: условия подчиняются «естественному» развитию «среды», а «нормы» сохраняют свое постоянство, несмотря на все изменения условий. В определенные моменты это приводит к конфликту. Процесс функционирования структуры А оказывается нарушенным. И внутри изображенной нами системы трансляции он не может быть разрешен, так как нормы (А) и условия В никак не связаны между собой. Появляется необходимость в новом элементе системы трансляции, а соответственно и социума в целом — обозначим его знаком (g), — который, изменив норму (А), разрешил бы конфликт. Функции этого элемента, таким образом, состоят в управлении нормами в процессе трансляции.
Если мы будем рассматривать этот элемент по содержанию, то это будет (грубо говоря) научная теория особого типа. Включение ее в общую структуру социума является условием нормального продолжения трансляции. В определенном смысле теория такого типа пpoтивостоит нормам; более того, управляя ими, она начинает менять и развивать их, вдувает в них особую жизнь. Но эта жизнь остается типично «искусственным» процессом, продуктом той деятельности, которую мы производим, создавая теорию и изменяя в соответствии с ней сами нормы. Складывающаяся здесь система трансляции и управления в ней представлена на схеме 9.
Стрелки, идущие от фигурной скобки вверху каждого ряда системы трансляции, изображают связь познания: предметом теоретических знаний (g) служит взаимоотношение Вj->Аj, в котором возникают разрывы и конфликты. Двойная стрелка, идущая от (g) к (А), изображает связь управления: именно она обеспечивает изменение норм в соответствии с изменяющимися параллельно условиями. Можно считать, что воздействие этой связи управления как бы накладывается на процесс простой и непосредственной трансляции норм. Вместе эти три связи замещают исходный простой механизм непосредственной трансляции.
Если предположить, что изменение условий воссоздания конкретных социально-производственных структур подчиняется каким-либо закономерностям (периодического повторения или прогрессирующего усложнения), то можно попробовать найти и выразить их в знаниях (g). Если это удастся, то можно будет, с одной стороны, прогнозировать изменение условий В, а с другой стороны, проектировать нормы и сами социально-производственные структуры так, чтобы они наилучшим образом соответствовали условиям своего осуществления и функционирования.
6. Покажем действие этого механизма на примере международного языка программистов АЛГОЛ. Он был создан как средство коммуникации (обмен программами) между вычислительными центрами. Его формировал международный теоретический комитет. Сам АЛГОЛ определял структуру языка публикаций (и конкретных представлений). При использовании первых вариантов языка возникли конфликты: алгоритмы ряда задач не могли выражаться на его основе. Но конкретные записи алгоритма не могли уклоняться от нормы. Преодоление конфликта шло таким путем: он изучался комитетом, и комитет, опираясь на теорию построения абстрактных логико-математических языков, изменял структуру АЛГОЛа. Следовательно, в этом случае «естественное» воздействие элементов В было полностью устранено и связь осуществлялась исключительно через элемент (g).
7. Общепризнано, что АЛГОЛ или эсперанто являются «искусственными» языками. Но не менее искусственным является и наш разговорный язык. И хотя в социуме нет какого-то определенного комитета, который занимался бы регулированием разговорного языка таким же директивным способом, каким это делает комитет по АЛГОЛу, тем не менее при функциональном описании «движений» языка мы обязаны выделить особый социальный «институт», который играет по существу ту же роль. Его элементами будут: научно-исследовательские институты, армия преподавателей русского языка в школе и вузе, выступления в прессе писателей, ученых, педагогов (например, Л. В. Щербы, К. И. Чуковского) и целый ряд других явлений и образований. Таким образом, жизнью нашего разговорного языка управляет сложное социальное образование, включающее ряд взаимодействующих между собой разнородных элементов. И всюду там, где мы имеем дело с объектами, созданными или управляемыми деятельностью человека, мы уже не можем говорить о «естественном», не искажая сути дела. Сам человек (индивид) есть нечто искусственное, поскольку он воспитан, ибо воспитание в обществе диктуется социально осознанными целями и осуществляется посредством специальных общественных учреждений (подробнее этот вопрос был рассмотрен в более поздних работах авторов; см., в частности, [1966 а*, b*]).
Значит, весь вопрос в том, какие механизмы мы хотим принимать во внимание, рассматривая развитие того или иного семиотического образования. В зависимости от задачи мы можем принимать во внимание либо «естественный», либо чисто «искусственный» механизм его жизни, либо же рассматривать и то и другое как две стороны единого процесса. Иначе можно сказать, что различение «естественного» и «искусственного» соответствует разграничению «природных» законов и законов социальной деятельности.
Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии[63]
I. «Системное движение» как момент современной социокультурной ситуации
1. В последние 10–15 лет на различных ученых собраниях много говорят, а в литературе (популярной, научной, философской) много пишут о системах и системном подходе. При этом употребляются самые разные выражения и термины: говорят, к примеру, о «системной революции», охватившей мир науки, инженерии и практики (Р. Акофф), о «системном подходе», который характеризует новый стиль и новые методы научного и инженерного мышления (И. Блауберг и Э. Юдин), об «общей теории систем» как научной теории особого типа, выполняющей методологические функции (Л. Берталанфи, А. Раппопорт, А. Уемов и др.), об «общей теории систем» как метатеории (В. Садовский), о «системном анализе операций» (Э. Квейд), о «системных ориентациях» (Б. Юдин) и т. д. и т. п. Поэтому не так-то просто ответить на вопрос, что же реально происходит в нынешней социокультурной ситуации, что именно отражают и фиксируют все эти выражения и термины, действительно ли мы являемся свидетелями «системной революции», становления «системного подхода» и формирования «общей теории систем» или все это лишь проекты и программы работы, определенные идеологические установки, выдвигаемые различными группами исследователей. Во всяком случае, имея перед собой такое обилие различных характеристик нынешней ситуации, мы вынуждены поставить вопрос, что же происходит сейчас «на самом деле», и если вдруг окажется, что мы имеем дело со всеми названными выше образованиями, то нам придется как-то соотносить и связывать их друг с другом, чтобы получить объективную и конкретную картину происходящего.
Конечно, чтобы получить достаточно обоснованные ответы на все эти вопросы, нужно провести детальный анализ всех перечисленных выше точек зрения и выяснить, насколько точно отражают они то, что реально существует в современной социокультурной ситуации. Но изложение всего этого потребовало бы толстой книги. Поэтому я оставлю весь этот критический анализ за скобками и сразу же перейду к изложению такого представления, которое, как мне кажется, объясняет и оправдывает все это обилие точек зрения и взглядов на нынешнюю ситуацию. В этой объясняющей и оправдывающей функции будет заключено вместе с тем обоснование выдвигаемого мною представления.
2. Чтобы сразу противопоставиться другим точкам зрения и подходам (и таким образом оттенить смысл развиваемых идей), я сформулирую первый и исходный момент своего представления в резкой и специально заостренной форме: если мы хотим понять, что происходит сейчас в «системной области»,[64] то должны начать анализ не с понятий «системный подход» и «общая теория систем», а с понятия «системное движение».
По сути дела, сформулированный выше тезис означает, что все обозначенные выше образования — «анализ систем», «системный подход», «общую теорию систем» и т. п. — я буду рассматривать как элементы, функциональные компоненты и организованности одного целостного образования — системного движения; я буду считать системное движение исходным предметом, а все образования — вторичными предметами, включенными в системное движение. Это означает также, что наряду с понятием «системная область» понятие «системное движение» будет рассматриваться как самое широкое в предметном плане: оно должно будет охватить и обозначить все, что так или иначе относится к «системам», «системному исследованию», «системному проектированию», «общей теории систем» и т. д. и т. п., но должно будет представить все это иным образом, нежели представляет каждое из названных понятий, и в целокупности.
Таков этот исходный принцип, и сам по себе он достаточно прост. Но подлинное понимание его требует еще многих пояснений.
После того как была сформулирована и понята исходная установка, естественно, должны возникнуть две группы поляризованных вопросов: с одной стороны, появится требование ввести и определить исходные средства, которые позволили мне говорить о системном движении; таким средством будет прежде всего понятие «движение» (в смысле «научное движение», «научно-техническое движение», «социокультурное движение» и т. п.), причем его надо будет ввести и определить так, чтобы оно подходило ко всему тому, что мы имеем в виду, когда говорим о «системном движении»; с другой стороны, мы должны будем представить все то, что относится к системному движению, так и в таком виде, чтобы оно удовлетворяло понятию «движение».[65]
Итак, перед нами здесь встает двоякая группа проблем: с одной стороны, нужно вводить понятие «движение» (научного, научно-технического, социокультурного и т. п.), с другой — исследовать особенности «системного движения».
Конечно, если бы в современной научной или методологической литературе уже существовали понятия «движения» — «научного движения», «социокультурного движения» и т. п., то можно было бы их просто заимствовать и использовать для описания системного движения. Но таких понятий в настоящее время просто нет (хотя в исторической литературе часто используется этот термин). Общие интуитивные соображения говорят в пользу того, что это понятие должно принадлежать социологии, более узко — социологии знания или социологии науки. Но сама социология (ни в одном из своих направлений) не смогла построить этого понятия. Поэтому, чтобы анализировать «системное движение», нам придется самим вводить и определять все необходимые для этого средства, в том числе и представления о научно-технических и социокультурных движениях. Условием и предпосылкой этого является определенная организация эмпирического и понятийного материала.
На уровне эмпирических примеров можно сопоставить системное движение с кибернетическим движением, расцвет и спад которого происходили на наших глазах в течение последних 25 лет; системное движение можно сопоставить с дизайном, история которого более растянута во времени; его можно сопоставлять также с современным организационно-управленческим движением. Вместе с тем системное движение будет отличаться от такого явления (будем называть его «направлением»), как «структурализм» в языкознании.
Последнее, на мой взгляд, крайне существенно для понимания сути системного движения: и в том и в другом случае мы имеем, казалось бы, сходные научные и методологические ориентации, позволяющие сопоставлять и сравнивать друг с другом структурализм и системный подход. Но природа и характер того, что мы называем «системным движением», очевидно, в другом. И даже то обстоятельство, что структурализм (предтечей которого считают обычно Б. Малиновского) распространился на культурологию, социологию и историю, не сделало его еще «движением» в прямом смысле этого слова. Но в чем заключены все эти особенности, конституирующие «системное движение» и отличающие его от структурного направления в науке?
3. На мой взгляд, основная особенность системного движения (особенность, делающая его «движением») состоит в том, что оно объединяет представителей самых разных профессий, носителей разных систем средств, разных ценностных установок и точек зрения. В этом я вижу характерную особенность всякого научного и социокультурного движения (если сравнивать его с научным направлением).
Тогда, естественно, встает вопрос: что же дает нам право объединять представителей разных профессий, разных систем средств и точек зрения в одно целое, называемое «движением»?
Отвечая, я прежде всего хочу указать как на совершенно очевидный факт, что в некоторых социокультурных ситуациях представители профессий и разных систем мышления обнаруживают тенденцию к объединению; в XX в. это стало уже массовым социальным фактом, хотя трудности, встающие перед ними (в частности, трудности взаимопонимания и обмена продуктами своего труда), неимоверно велики.
Мотивы такого объединения могут быть разными. Например, в рамках какой-либо специальной науки — биологии, физики, психологии и т. п. это может быть задача борьбы с устаревшими традиционными представлениями: столкнувшись с мощным сопротивлением, какой-либо исследователь, развивающий новые представления и полагающий, что объект биологии является «системным», пытается искать поддержку и помощь у представителей иных наук. В таком случае сходство или единство каких-либо представлений или методов анализа играет второстепенную роль: главное состоит в том, чтобы найти социокультурную поддержку.
Бывают и более содержательные мотивы: к примеру, недостаток средств для решения проблем, стоящих в какой-либо области научных исследований, заставляет исследователей в поисках этих средств выходить за рамки своей научной дисциплины, искать или создавать эти средства, работая в других дисциплинах или другими методами, а затем возвращаться в свою науку, «накладывая» на ее материал и ее объекты «чуждые» им представления. Так нередко поступают биолог-теоретик, заимствуя средства из физики, социолог-теоретик, заимствуя средства из физики, химии или психологии, и т. д. и т. п. Но во всех случаях получаются какие-то странные гибриды, заставляющие этих исследователей жить и работать в позициях, не принадлежащих ни к одной из традиционных научных дисциплин. Естественно, что все эти ученые должны искать для себя какие-то новые социокультурные организованности. И тогда нередко их взгляды обращаются к системным представлениям: они объявляют себя их приверженцами и входят в системное движение.
Таким образом, сегодня во всем том, что называется «системными разработками» и «системными исследованиями», я вижу не столько общие содержательные основания (скажем, общее представление о системах, общие средства и методы исследования, общие категории мышления и т. п.), сколько общую установку на социокультурное (и даже в первую очередь социально организованное) объединение. А если мы все же захотим непременно увидеть нечто единое, что объединяет всех этих исследователей и разработчиков, то мы должны пытаться найти и зафиксировать его отнюдь не в логическом или эпистемологическом плане, т. е. не как единство объекта изучения или проектирования, не как тождество средств и методов мышления, а лишь в социологическом плане: может быть, как единство того, что называется «системной ориентацией» и «системной идеологией».
4. В анализе системной ориентации и системной идеологии мы сталкиваемся с теми же самыми трудностями, о которых уже говорили, обсуждая план анализа системного движения. Понятия «научная идеология», «инженерная идеология», «научно-техническая идеология», как и понятия «профессиональная ориентация», «научная ориентация» и т. п., подведомственны не логике и эпистемологии, а социологии: первые — социологии знаний, социологии науки (и социологии других сфер деятельности), вторые — социологии общностей (социологии профессий, социальных страт и малых групп). И хотя с начала XIX столетия понятие идеологии (в первую очередь как понятие политической идеологии) обсуждается очень интенсивно и благодаря работам К. Маркса приобрело необходимую для научного употребления четкость и определенность, тем не менее и сегодня мы не можем еще применить его для анализа таких явлений, как кибернетическая или системная идеология. Что же касается понятия ориентации, то про него приходится сказать, что его просто нет: несмотря на то что в последние десятилетия этой теме уделяли очень много внимания как в социологии, так и в социальной психологии, до сих пор представления об ориентациях не получили той минимальной четкости и определенности, которая характеризует научные понятия. Отчасти это объясняется сложностью тех отношений и связей, которые мы пытаемся выразить в этом понятии: они захватывают одновременно как область культурно-исторического, так и область индивидуально-психического. Но вместе с тем, как бы мы ни оправдывали отсутствие здесь эффективных понятий, это не избавит нас от необходимости пользоваться всеми этими словами и соответствующими им представлениями в попытках анализа системной ориентации и системной идеологии — другого пути в описании системного движения нет. А потому и здесь нам придется одновременно как анализировать материал системного движения, так и формировать понятия, необходимые для такового анализа.
5. Первый вопрос, который здесь встает: должны ли мы рассматривать системную ориентацию и системную идеологию как нечто целостное и единое или же, наоборот, должны предположить существование многих разных системных ориентации, а системную идеологию соответственно этому рассматривать как агломерат разных точек зрения и установок?
Конечно, ответ будет зависеть от того, что реально существует в современном системном движении. Но есть и другая сторона дела, не менее важная: наше решение определяется пониманием сути происходящего, и выбор того или иного представления происходит на категориальном уровне. В конце концов, даже если системных ориентации будет много разных, мы можем поставить задачу выделить из всех них инвариант и только его будем рассматривать как «собственно системную ориентацию». Сделать такое в принципе всегда можно (формально это совершенно оправданная абстракция), но получим ли мы таким образом подлинную картину происходящего — вот вопрос. Следовательно, выбирать нам приходится между двумя равновозможными представлениями, и только в самом конце цикла «Разработка теоретического представления — практическая реализация представления в деятельности» мы можем получить ответ на вопрос, был ли наш выбор правильным. Значит, нужны какие-то дополнительные основания, чтобы выбрать одно из этих представлений.
Для нас таким основанием служит высказанное выше соображение, что в рамках системного движения существуют и действуют сейчас представители самых разных профессий — инженеры, ученые, военные, педагоги, математики, организаторы и руководители. И они остаются представителями этих профессий, включаясь в системное движение. Это значит, что они пo-прежнему ориентируются на стандарты и нормы своей профессии, пo-прежнему стремятся к получению таких продуктов, которые были заданы нормами их профессии, по-прежнему работают привычными для них профессиональными средствами и методами. Более того, представители каждой профессии трактуют смысл и содержание системного движения соответственно своим профессиональным образцам и стремятся так преобразовать и организовать всю системную область, чтобы она соответствовала привычным для них схемам и чтобы все остальные участники системного движения работали только по этим схемам. Иными словами, каждая профессия в рамках системного движения осуществляет своеобразный империализм, стремясь освоить и ассимилировать весь материал системного движения и системной области в специфических для нее формах. И на этом этапе развития системного движения — этот момент нам особенно важно подчеркнуть — такой империализм совершенно естествен и оправдан, ибо структура и организация самого системного движения еще не сложилась, а те продукты, которые оно должно создать, ничем не заданы и никак не определены. И каждая профессия вправе выдвигать в качестве образца свой собственный профессиональный идеал организации и свое представление о конечном продукте своей работы.
В наглядной форме все сказанное выше можно представить в схеме рефлектирующей группы: на «табло» у каждого из ее членов существует своя особая картина действительности и своя особая программа действий (соответствующая этой картине); в целом же то, что мы называем «системной ориентацией» и «системной идеологией», выступает сегодня как механические суммы этих картин и программ, а системное движение в целом — как совокупность действий и деятельностей, направляемых этими картинами и программами (см. схему 1).
6. Такая трактовка системного движения в целом и его основных функциональных организованностей — системной ориентации и системной идеологии, естественно, вызывает возражение со стороны тех, кто привык мыслить аристотелевскими схемами общего и особенного (в частности в их теоретико-множественном варианте). Эти возражения строятся на том (редко высказываемом в открытую) предположении, что множество относительно независимых и автономных особей могут рассматриваться в качестве совокупного целого только в том случае, если мы можем выделить и выделяем во всех них нечто общее. Это общее выступает в качестве признака, образующего целое. Это аристотелевское, или теоретико-множественное, мышление до сих пор не может отрефлектировать и сделать своими принципами приемы описания соединений, составленных из элементов, и организмов, включающих в себя органы, оно вообще не знает «множественных» или «популятивных» целостностей, а потому в тех случаях, когда мы идем от частей к целому, схема объединения совокупности объектов в класс выступает для него в качестве единственного образца (или всеобщего прототипа) организации целостных объектов. Поэтому и такие образования, как «системная ориентация» или «системная идеология», рассматриваются, как правило, в качестве общего свойства объектов, входящих в системное движение.
Эта трактовка находит себе опору в примитивном и неадекватном категориальном представлении самой «ориентации». Когда последняя рассматривается как простое отношение субъекта к каким-либо объектам (т. е. в форме «aRb»), тогда появляется искушение и даже необходимость интерпретировать множество индивидуализированных отношении как отношения к одному и тому же; а так как сами отношения не имеют содержа тельных характеристик и свойств, то их начинают характеризовать соответственно тому объекту, в который они, образно говоря, «упираются». Таким образом, происходит отождествление самой «ориентации» с тем содержанием, на которое она направлена. И хотя по сути дела такая трактовка вполне оправданна, она входит в противоречие с существующей категориальной формой этого понятия и способами последующего оперирования с ним в теоретических рассуждениях.
7. Понятия «системная ориентация» и «системная идеология» схватывают важные стороны системного движения, но их вряд ли можно считать единственными или даже главными. Более существенными (если подходить к анализу системного движения системно) будут, с одной стороны, характеристики его структуры и образующих ее процессов, а с другой стороны, характеристики тех продуктов, которые оно производит или должно производить.
Здесь мы подошли к одному из самых важных и принципиальных моментов. Конечно, в настоящее время у нас нет общих понятийных средств для того, чтобы проанализировать и оценить различные формы культурных продуктов, производимых тем или иным социокультурным движением. Но это не мешает нам понимать, что во всяком таком движении заключен по крайней мере двоякий смысл: (1) исторический смысл самого движения как некоторого социального процесса и социальной силы и (2) культурно-исторический смысл тех продуктов, которые оно создает и откладывает в культуру, меняя и совершенствуя таким образом совокупную деятельность человечества. Отнюдь не всякое движение оставляет после себя культурные продукты, а из тех, которые остаются, отнюдь не все являются доброкачественными.
Поэтому если мы хотим понять и оценить культурно-исторический смысл системного движения, то должны поставить вопрос: чем оно должно завершиться, какой продукт должно создать, или, иначе говоря, что может и что должно быть «на выходе» системного движения?
Именно здесь, на мой взгляд, завязывается узел основных противоречий системного движения и заложен основной источник конфликтов между его участниками. Ибо каждый из участников, как уже говорилось, хочет получить привычный для него профессиональный продукт, и, таким образом, веер предложений на культурные продукты движения заранее предопределен набором участников движения.
Не занимаясь очень подробным и детальным анализом материала, а выделяя лишь самое заметное и достаточно сформировавшееся, можно назвать восемь основных предложений и соответственно восемь проектов культурного продукта системного движения:
1. Развитие и совершенствование частных наук и существующих областей проектирования за счет внедрения в них системных представлений, понятий и методов анализа.
2. Построение «общей теории систем», подобной уже существующим естественнонаучным теориям, таким, как физика, химия, биология и т. д.
3. Построение «общей теории систем», подобной традиционным математикам вроде геометрии или алгебры или новым математикам вроде шеноновской теории информации.
4. Построение «общей теории систем» по типу математики в смысле Д. Гильберта и С. Клини.
5. Построение некоторой практической методологии или методики таких дисциплин, как «исследование операций», «анализ принятия решений» и т. п.
6. Построение инженерно-теоретической методологии по типу «системотехники» по Гуду и Маколу.
7. Построение философии систем.
8. Построение системно-структурной методологии как раздела или части «общей методологии».
Повторяю, что здесь перечислены отнюдь не все теоретически возможные варианты, а только те, которые уже оформились и достаточно громко заявили о себе. И все они (за исключением последнего) имеют уже реализованный на другом материале прототип.
Но как раз в этом, на мой взгляд, заключено основное возражение против них. Когда каждый из участников системного движения предлагает свое профессиональное решение системных задач, то он выступает как агент уже существующей и функционирующей машины (науки, инженерии, математики и т. п.), внутри которой он сформировался как «системник», и в силу этого он всегда связан и ограничен той частной культурно-исторической ситуацией, в которой он понял смысл и важность системных проблем и задач. Следовательно, он всегда лишь развивает за счет системного материала свою профессиональную «машину». Но ведь мы все хорошо понимаем, что системное движение сложилось и развивается как интердисциплинарное и интерпрофессиональное образование. Это значит, что оно должно сформировать и создать продукт, выходящий за рамки каждой отдельной профессии. Следовательно, системное движение в своем становлении и развитии должно учитывать всю современную социокультурную ситуацию и исходить из предельно широкого понимания возможностей и перспектив ее изменения и развития.
И в этом, как мы уже сказали, заключено главное возражение в адрес существующего и развивающегося ныне системного движения. Чтобы дать ответ на основные запросы современной социокультурной ситуации, нужно ее специально исследовать или во всяком случае четко осознавать. А для этого, в свою очередь, надо выйти (по крайней мере в рефлексивном сознании) за рамки производства, управления, инженерии, науки, философии, охватить их мыслью в целом, в их взаимных связях и отношениях, определить тенденции их общего развития. Ибо, повторяю, системное движение призвано дать ответ на общие запросы современного мышления и современной культуры; соответственно своим исходным устремлениям оно не может быть ориентировано на какие-либо частные ситуации, сколь бы важными они сами по себе ни были. Но сейчас получается так, что в системном движении нет той службы, которая вырабатывала бы эту общую картину социокультурной ситуации, определяя тенденции ее изменения и возможного развития, строила соответственно этому программы искусственного развертывания самого системного движения и проектировала бы его культурно-исторические продукты; во всяком случае, если такая служба и есть в зародыше, она не оказывает сейчас существенного влияния на то, что происходит в системном движении. А поэтому развитие системного движения идет сейчас стихийно, хаотически, в силу естественной борьбы и конкуренции разных точек зрения и программ, не опирающихся на общую картину современной социокультурной ситуации, ее напряжений и разрывов. А поэтому все существующие программы продуктивной работы представляют собой, как правило, лишь продолжение и распространение на новые области традиционных образцов профессионального (и добавим — несистемного) мышления.
Таково реальное положение дел. И если оно нас не устраивает и мы хотим его как-то изменить и преодолеть, то должны прежде всего проанализировать и описать современную социокультурную ситуацию, соотнести тенденции ее развития с нашими целями и идеалами, а затем, исходя из всего этого, составить программу развития системного движения.
II. Основные «напряжения» современной социокультурной ситуации и системное движение
1. Характеристика социокультурной ситуации будет по необходимости очень краткой и суммарной. При этом мы будем выделять и называть только те моменты, которые, на наш взгляд, имели или имеют прямое отношение к системному движению.
Первый момент, вызывающий к жизни системные установки и стимулирующий «системное движение», — это процесс все более углубляющегося разделения, дифференциации наук и профессий. Прогрессивный в XVIII и XIX веках, он привел сейчас к оформлению массы изолированных друг от друга научных предметов, каждый из которых развивается практически независимо от других. Эти предметы сейчас не только организуют, но и ограничивают мышление исследователей. Приемы и способы мышления, новая техника и новые методы, созданные в одном предмете, не распространяются в других. В каждом из научных предметов создается своя особая онтологическая картина, никак не стыкующаяся с онтологическими картинами других предметов. Все попытки построить единую или хотя бы связную картину нашей действительности терпят неудачу.
Второй момент теснейшим образом связан с первым и состоит в том, что к настоящему времени сформировались узкоспециализированные каналы трансляции разделенной на части предметной культуры. Значительная часть современных математиков плохо знают и понимают физику, не говоря уже о биологии или истории. Филологи, как правило, совершенно не знают математику и физику, но столь же плохо разбираются в истории и ее методах. Уже в школе мы начинаем делить детей на способных к математике и способных к литературе. Идея общего образования все больше разрушается идеей специализированных школ.
Третий момент — кризис классической философии, вызванный осознанием того факта, что философия в значительной степени лишилась своих средств управления наукой и потеряла роль координатора в развитии наук, роль посредника, переносящего методы и средства из одних наук в другие.
Эта сторона дела выяснилась уже в первой четверти XIX столетия и стала предметом специального обсуждения. Много внимания уделили ей в своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс, по-новому определившие функции философии в отношении естественных и гуманитарных наук. Потеря непосредственной связи с философией заставила науку вырабатывать свои собственные формы осознания, свою собственную философию. В связи с этим получили развитие различные формы неопозитивизма, а в последнее время так называемая философия «сциентизма».
Четвертый момент — Традиционные академические науки, развивавшиеся во многом имманентно, оказались оторванными от новых направлений инженерии, и это заставило инженеров создавать системы знаний нового типа, не соответствующие традиционным образцам и стандартам. Теория информации и кибернетика — лишь наиболее яркие образцы таких систем. Одновременно появилась и стала интенсивно обсуждаться проблема соотношения конструирования и исследования.
Пятый (очень важный) момент — становление, оформление и частичное обособление проектирования как деятельности особого рода. Проектирование еще резче поставило вопрос о связи и соотношении собственно проектных и исследовательских разработок. Проектирование непосредственно и со всей остротой столкнулось с проблемой соотношения естественного и искусственного в объектах нашей деятельности. Ни одна из этих проблем не нашла решения в рамках традиционных наук.
Шестой момент — Чтобы быть эффективными, эти деятельности нуждаются в специальном научном обеспечении. Однако традиционные науки не дают знаний, соответствующих запросам этих деятельностей; объясняется это прежде всего синтетическим характером деятельностей и аналитическим характером традиционных научных дисциплин.
Седьмой момент (также особенно важный) — становление и оформление наук нового типа, которые грубо можно было бы назвать «комплексными науками». Сюда нужно будет отнести науки, обслуживающие педагогику, проектирование, военное дело, управление и т. д. и т. п. Сейчас все эти многосторонние и синтетические виды практики обслуживаются несистематизированными агломерациями самых разных знаний из различных научных дисциплин. Но сама многосторонность и синтетичность практики требует теоретического объединения и систематизации этих знаний.
2. Все перечисленные выше моменты современной социокультурной, или даже культурно-исторической, ситуации представляются мне крайне важными для понимания смысла системного движения. К ним я добавил бы еще два неспецифических момента, также имеющих существенное значение. Все указанные процессы происходят, во-первых, на фоне становления «массового» общества и «массовой» культуры, а во-вторых, на фоне разделения науки и знаний по национальным рамкам. «Республики просвещенных умов» (а в физике она просуществовала до конца Второй мировой войны) больше нет или во всяком случае ее влияние на развитие науки стало значительно меньшим. Даже физика становится национальной. И это естественно в условиях, когда назначение науки видят в обслуживании различных сфер практики — она по необходимости приобретает черты, свойственные формам организации этих практических сфер в разных странах, на ней «отпечатываются» черты этих «нижележащих» организованностей.
Перечисляя все эти особенности современной культурно-исторической ситуации, я совсем не претендую на полноту описания (этот вопрос нужно было бы обсуждать особо), но я думаю, что все указанное сыграло свою роль в формировании системного движения — его целей, установок и задач. Наверное, можно было бы сказать, что все названное — это явления, породившие общую «контрустановку». Дифференциация наук порождает установку на объединение науки и соответствующего этой цели плацдарма. Профессионализация образования порождает установку на общее политехническое или университетское образование и требует создания соответствующих обобщенных и универсальных систем знания.
Кризис философского сознания и потеря философией управляющей роли по отношению к науке порождают идею такой перестройки самой философии и всех наук, при которой философия могла бы восстановить связь с науками и вернуть себе управляющую роль. Аналогичным образом из противодействия складывающейся ситуации выдвигается требование установления органичных и эффективных связей между инженерией и наукой, а вслед за этим появляется требование объединения естественных, технических, гуманитарных и социальных наук.
Все эти моменты современной социокультурной идеологии и современных научных, инженерных и философских установок можно и нужно рассматривать подробно. Но такой анализ не входит в мои задачи. Мне достаточно сослаться на все эти явления, по моему представлению хорошо известные, и указать на связь их с системным движением: на системный подход, хотим мы этого или нет, осознаем мы это или не осознаем, с самого начала были возложены надежды, что он решит все эти задачи, т. е. интегрирует распавшиеся части нашей культуры, науки и деятельности, выработает общий язык и однородные методы мышления во всех этих областях и сферах деятельности, единый подход и, наконец, в пределе создаст единое представление нашей действительности.
Я сейчас не обсуждаю, хороша ли такая цель. Вполне возможно, что к такого рода интеграции вообще не нужно стремиться, а нужно, наоборот, чтобы каждый тип и вид деятельности обособился и жил своей автономной жизнью: может быть, уже настал тот момент, когда нужно разойтись по разным «экологическим нишам» и жить не как единое человечество, а как множество разных человечеств. Все это — возможные точки зрения и возможные подходы. Я не обсуждаю их недостатков и преимуществ. Мне важно другое. Установка на интеграцию существует, это факт, и на системный подход, независимо от того одобряем мы это или нет, сейчас возложены те же самые надежды, которые в конце 20-х и в 30-е годы возлагались на физику и физикалистский язык. Те же надежды возлагались на кибернетику в первое десятилетие после ее возникновения. Думали, что она преодолеет и сломит границы, разделяющие науки, и выработает общие представления и общий язык. Но эти надежды не оправдались ни в отношении физикализма, ни в отношении кибернетики, и тогда в конце 40-х годов, но в особенности в 50-е и 60-е годы они были перенесены на системный подход. Я, правда, думаю и даже убежден, что эти надежды не оправдаются и в отношении нынешнего варианта системного подхода (и ниже я буду это специально обсуждать). Но нам опять-таки важно другое: если мы констатируем идею интеграции и синтеза как факт и если мы принимаем ее как уже существующую ценность, то мы должны обсудить, какой могла бы и должна быть та организованность деятельности, которая дала бы возможность осуществить эту интеграцию.
Задача, по сути дела, перевертывается. Сформулировав принцип интеграции как ценность и цель работы, мы начинаем обсуждать (теперь уже как инженеры и проектировщики) строение того продукта, который должен быть получен в системном движении. К этому мы добавим затем анализ самих форм системного мышления, его категорий, основных понятий, методов анализа и конструирования, причем будем рассматривать все это в их историческом становлении и развитии, и таким образом получим данные для ответа на вопрос, а может ли системное движение создать этот продукт. Практически это означает, что мы должны выявить и описать те ситуации в разных областях инженерии и науки, которые привели к постановке специфически системных проблем и задач, позволили выработать специфически системные средства исследования и проектирования; мы должны будем конструировать ситуации работы Кондильяка и Шеллинга, которые были основоположниками системного подхода в философии, Кёлера и Эренфельса, которые были основоположниками системного подхода в психологии и т. д. и т. п.
3. На этом мы можем закончить первый круг обсуждения современной социокультурной ситуации и развертывающегося в ней системного движения. Я назвал основные напряжения, существующие в ситуации, и таким образом охарактеризовал цели и задачи возможных научных и социокультурных движений. Я обрисовал в общих чертах материал и возможные составляющие самого системного движения. Специальный эмпирический анализ истории возникновения и развития системных идей добавил в эту картину сколько угодно фактических данных — здесь все зависит только от нашего трудолюбия. Но есть еще несколько принципиальных моментов, которые остались не выясненными, и никакое трудолюбие в исследованиях их не прояснит. Речь идет о возможных продуктах системного движения, о тех идеалах и проектах, которые можно и нужно выдвинуть для того, чтобы организовать само системное движение и направить его развитие в нужную нам сторону. Именно это я буду обсуждать дальше, существенно изменив при этом саму манеру и стиль рассуждений. Здесь мне придется касаться уже не того, что реально происходит в современной культурно-исторической ситуации, а программ и проектов, выдвигаемых разными группами исследователей и идеологов в системном движении, обоснованности этих программ и их реализуемости. Конечно, в ходе этой работы мне придется то и дело обращаться к анализу реально существующего, но общий смысл и общая направленность работы будет не в этом, а в том, чтобы задать несколько возможных программ действий или подвергнуть критике уже выдвинутые программы. Я начну это обсуждение с понятия «системный подход».
III. Системный подход: объектно-натуралистические и методологические определения. Общие условия возникновения и существования «системной ситуации»
1. Когда мы ставим вопрос о «системном подходе», то само это выражение предполагает, что мы будем обсуждать все с методологической точки зрения, ибо само понятие «подход» или «метод» развертывается в рамках методологии и выявляет ее специфическую точку зрения. Конечно, может казаться, что этот вопрос может обсуждать любой и всякий заинтересованный в проблеме и причисляющий себя к системному движению, но на деле объективные средства для обсуждения этого вопроса даны только методологу и сама система социальной кооперации оправдывает здесь методологическую позицию и делает ее единственно возможной.
Я подчеркиваю, таким образом, что я тенденциозен и пристрастен, поскольку я обсуждаю эту проблему как методолог и вместе с тем даю методологическую характеристику системному подходу, но я тенденциозен как профессионал в отличие от других, которые при обсуждении этого вопроса не являются профессионалами. Одновременно я подчеркиваю, что системное движение отнюдь не исчерпывается системным подходом и что я даю методологическую характеристику лишь системного подхода, а не системного движения в целом.
2. Начиная анализ различных попыток ответить на вопрос, что такое системный подход, мы находим, при всем их разнообразии, лишь два принципиально разных варианта ответов. Один вариант я назвал бы «объектно-натуралистическим», а другой — методологическим, теоретико-мыслительным, или эпистемологическим в узком смысле этого слова.
В первом варианте системный подход пытаются определить с точки зрения специфики того объекта, на который направлена деятельность исследователя или проектировщика; системный подход — говорят в этом случае — это тот анализ, то конструирование или то проектирование, которые направлены на системы как объекты особого рода. При этом для объяснения условий и причин возникновения системного подхода приводят совершенно прозрачные и, казалось бы, очевидные доводы: системы в нашей жизни, особенно с конца XIX в., приобрели огромное значение, системы стали большими и сверхбольшими, и эти обстоятельства, в первую очередь сложность систем и всей связанной с ними работы, требуют от нас выделения специальных разделов науки и техники, направленных на системы, анализирующих их и т. п.
При этом сами критерии простоты и сложности систем определяются, как это ни странно, чисто количественно. Скажем Г. Поваров (а он наиболее рафинированный представитель этой точки зрения) начинает перечислять и называет числа, характеризующие наборы элементов в разных системах: до такого-то числа элементов — простая система, больше такого-то — сложная, а еще больше — сверхсложная. Вопрос о качестве самих связей и структуры системы при таком подходе вообще не ставится; с этой точки зрения такая система, как, скажем, малая группа из трех или четырех общающихся индивидов, будет простой системой, несмотря на то что там люди, а машина из 30 миллионов деталей, которую нужно собрать, причем собрать конструктивно (обратите на это внимание), будет системой сверхсложной, требующей специфически системных методов.
В каком-то плане позиция Г. Поварова оправданна: в отличие от других он додумывает мысль до конца и отчетливо осознает, что с того момента, как мы начинаем учитывать не чистое количество элементов, а также их качество, мы попадаем в дебри субъективизма (совершенно очевидно, ибо как мы будем говорить, что этот тип отношений — сложный, этот — простой, когда они по своему качеству просто разные?). И поэтому во всех случаях когда мы говорим, что это — простой тип отношений и связей, а это — сложный, то мы тем самым характеризуем лишь свою познавательную способность, т. е. тот очевидный факт, что до сегодняшнего дня мы могли бы изучать и описывать только один вид отношений и связей — простой — и не можем изучать и описывать другие — сложные. Но это, таким образом, есть характеристика нашей «испорченности», или развитости, а не характеристика объекта как такового.
Во втором, т. е. методологическом, варианте системный подход определяется не по тому объекту, который осваивается деятельностью и мышлением, а по специфике самих процедур деятельности и мышления, т. е. с точки зрения того «аппарата» мыслительных средств и методов, который здесь должен участвовать. В этом случае системный подход характеризуется не извне и косвенно, не типом объекта, на который он направлен, а изнутри и непосредственно.[66] Если, скажем, мы будем характеризовать «подход» в рамках теории мышления, то «системный подход» выступит как особый стиль и способ мышления, особый аппарат мыслительной работы. Если мы будем характеризовать подход в рамках теории научного исследования, то «системный подход» выступит как особая система средств и методов научного исследования и т. д.
Скажу сразу, что оправданным и симпатичным мне представляется только второй вариант анализа системного подхода, и я стою на его позициях. Я постараюсь далее аргументировать неприемлемость первого варианта и показать преимущества второго. Это не означает, что я отрицаю или сколько-нибудь умаляю значение предметного подхода к системам, важность рассмотрения систем как объектов и исследования их в этом качестве. Ничуть, и в дальнейшем я буду специально обсуждать эти аспекты проблемы. Выше я утверждал лишь то, что объектные определения систем неприемлемы, на мой взгляд, при определении «системного подхода», задании его специфических признаков и очерчивании его границ.
3. Первый вопрос, который здесь должен быть поставлен: в какой мере, характеризуя объект или систему, мы тем самым характеризуем системный подход — составляющие его средства и методы исследования и проектирования, а также «точку зрения», т. е. все то, что вкладывается в интуитивное представление о «подходе»?
С одной стороны, для характеристики системного «подхода» через указание на «систему» как объект, к которому мы «подходим», есть все основания. Тем более что сегодня мы хорошо знаем, что само представление объекта как системы есть не что иное, как проекция на объект самого метода или процедур нашей работы. Мы представляем тот или иной объект как «систему» или «не-систему» в зависимости от того, как мы этот объект анализируем, и в этом смысле чисто онтологическое, казалось бы, изображение объекта, скажем в виде элементов, связей между ними и зависимостей между связями (или в каком-то другом виде — это не важно), есть не что иное, как онтологизированное и объективированное представление самого метода, т. е. процедур нашего анализа и синтеза целостной картины объекта. Чтобы представить некоторый объект как структуру, наложенную на материал элементов, мы должны, во-первых, этот объект разложить на части (элементы, компоненты и т. п.), затем мы должны эти части, элементы или компоненты особым образом связать, причем, как правило, связать в представлении, и лишь после того, как мы все это сделаем, наш объект предстанет в виде системы. И точно так же будет обстоять дело во всех других случаях, когда мы будем считать системой не структуру, наложенную на элементы, а, скажем, связь и иерархию четырех категориальных представлений объекта — процессуального, структурно-функционального, материально-организованного и морфологического: эта связь и иерархия категориальных представлений будет не чем иным, как проекцией на объект последовательности определенных исследовательских и проектных процедур.
Именно с этой не наивно-онтологической, а методологической и эпистемологической точки зрения, казалось бы, можно оправдать определение системного метода через его объект-систему: ведь это будет хотя И опосредованное, но все равно определение через метод. Но так может показаться только на первый взгляд, потому что, хотя системное представление действительно является не чем иным, как объективированием самих процедур исследования, т. е. представлением их в форме строения объекта, но это именно объективирование процедур и метода, представление их в превращенном, объектном, по сути дела чуждом им виде. А потому характеристики системы как объекта ни в коем случае не будут совпадать с характеристиками системного подхода как метода мышления и деятельности.
В свое время этот момент демонстрировался на других, очень простых примерах, и я воспользуюсь ими для аналогии. До тех пор пока идет счет, число 10 может представляться в виде десяти палочек. Но когда надо начинать складывать и вычитать, такое представление числа 10 является крайне невыгодным и его приходится изображать другим способом: должен появиться новый знак, изображающий 10 как одно, как один объект арифметического манипулирования и оперирования. Таким образом, не процедура счета, создающая само количество, определяет знаковую форму числа 10, а последующие процедуры использования числа, т. е. процедуры сложения, вычитания, затем умножения и деления. Но то же самое происходит, по-видимому, и с представлениями объектов как систем: само системно-структурное представление является лишь проекцией наших процедур анализа объектов. Но это представление должно быть теперь проинтерпретировано как реальное строение самого объекта, должно быть объективизировано для того, чтобы мы могли работать с ними не как со следами или изображениями прошлых процедур анализа, а как с объектом, и притом единым. Поэтому системное представление объекта, будучи связано с методами соответствующего разложения объекта, с моментами анализа и синтеза его, будучи «следом» всех этих процедур, является вместе с тем превращенным представлением всего этого — таким представлением метода и прошлых процедур, в которых сам метод и прошлые процедуры снимаются и должны быть представлены в заведомо иной форме — в форме объекта.
Связь между методом и объектным представлением не является, конечно, непосредственной: объектное представление репрезентирует процедуры в трансформированном виде. Но именно эта трансформация — представление метода в виде некоей «вещи» (я не боюсь этого слова) — является условием дальнейшего мышления по поводу систем, условием мыслительного оперирования с ними. Но это означает, что непосредственные связи между системным методом и системным представлением объекта нарушаются.
В этом контексте важно обратить внимание также на то обстоятельство, что «системы» (т. е. объекты, представленные в виде систем) в принципе могут исследоваться и несистемными методами. Мы можем их расчленять и собирать на базе теоретико-множественных представлений, анализировать их функционально, т. е. в контексте каких-то объемлющих процессов, и т. д и т. п. Поэтому реально отнюдь не всякое представление системы, несмотря на то что оно является представлением именно системы, должно фиксировать момент системности в его специфике.
4. Вся эта совокупность замечаний и соображений была направлена непосредственно против попыток определять системный подход через понятие системы. Во всяком случае, я стремился показать, что мы не можем определять системный подход через понятие системы, не добавляя к этому указание на то, кто именно исследует систему и как он исследует, потому что «система» (т. е. в исходе системно препарированный объект), как я уже сказал, может исследоваться затем неадекватными для нее методами, и именно это встречается чаще всего. Напомню вам здесь известную фразу Ульдалля, что правильное мышление подобно танцам лошадей: ему с трудом учатся, выполняют его лишь немногие, и даже те, кому однажды удалось выполнить этот сложный танец, отнюдь не всегда могут его повторить еще раз. Таким образом, если мы просто говорим, что системный подход — это тот, которым исследуют системы, то здесь неявно подразумевается: правильно исследуют системы, т. е. исследуют их системным способом. Поэтому реально получается утверждение, что системный метод или подход — это тот, которым мы исследуем системы, когда исследуем их системно, т. е. чистая тавтология.
Но не для того, чтобы показать и доказать это, провожу я свои рассуждения. Мне здесь важен другой, на мой взгляд, самый существенный и кардинальный момент. Мне представляется, что сама трактовка научно-исследовательской ситуации, ориентированной на объекты, является в принципе неверной, ибо исследователь никогда не имеет дело с объектами как таковыми, а всегда имеет дело только с предметами изучения. Для тех, кто следит за современной методологической литературой, это — банальное утверждение, хорошо известное (со всеми вытекающими из него последствиями) уже по крайней мере 15 лет. Но я счел нужным его повторить, поскольку на этом строятся все мои дальнейшие рассуждения. Итак, исследователь имеет дело не с объектом, в том числе не с системой как объектом, а он имеет дело с предметом, т. е. с объектом, представленным во многих элементах научного предмета — в фактах или эмпирическом материале, в моделях, в онтологических схемах и картинах, в методе и методиках, в проблемах и задачах специфического типа. Каждая из этих эпистемологических единиц в той или иной мере и по-своему представляет объект, но в своей полноте и конкретности объект существует только в них во всех. И поэтому когда исследователь попадает в специфически системную ситуацию и хочет ее описать, то он должен обращаться не к объекту-системе, а к предмету, описывающему и фиксирующему объект системным способом, т. е. ко всей той машине, к тому «аппарату» исследования, которым мы пользуемся, описывая объекты как системы. И только там — в этой «машине знания», в ее устройстве, мы можем найти и зафиксировать специфически системный или, наоборот, несистемный подход.
Итак, на мой взгляд, мы никак не можем характеризовать системный подход, указывая на специфический характер объектов, на то, что это «системы»; наоборот, представление объекта в виде системы есть не что иное, как превращенная форма фиксации системного подхода. И поэтому если мы хотим описать системный подход в науке, то должны обращаться к научному предмету, ко всем его блокам и рассматривать специфику их наполнения. Другими словами, мы должны охарактеризовать здесь: (1) специфически системные проблемы, (2) специфически системные задачи, (3) специфически системный язык или «средства», (4) специфически системные методы описания и представления объекта, (5) специфически системные онтологии, (6) специфически системные модели, (7) специфически системные факты и, наконец, (8) специфически системные знания.
Очевидно также, что вся эта системная специфика представления объекта будет влиять на связи между блоками научного предмета, порядок и механизмы переходов от одних блоков к другим, следовательно, на структуру и организацию самого научного предмета. И только во всех этих специфически деятельностных, а не объектных моментах, повторяю, можем мы найти и выделить специфику системного подхода. А представление объекта в виде системы будет появляться на завершающем этапе как выражение и понятие предметных, (следовательно деятельностных) моментов.
5. Но всего сказанного еще мало для характеристики системного подхода. И поэтому здесь я должен перейти к гипотезе, которая выступит как мое основное утверждение, характеризующее системный подход: специфически системные проблемы возникают, на мой взгляд, только тогда, когда мы имеем несколько принципиально разных представлений одного объекта. Пользуясь различением объекта и предмета, я могу сказать более точно и перевести выражение «принципиально разные» на язык эпистемологических характеристик: системные проблемы возникают тогда, когда мы имеем объект (реально данный или подразумеваемый), зафиксированный в нескольких разных предметах, и мы должны их соединить либо в ходе нашей практической работы, либо теоретически, в предположении, что эти разные предметы описывают один «объект» изучения.
Следовательно, любая ситуация, в которой перед инженером, практиком или теоретиком встает задача соединения и соотнесения друг с другом нескольких разных научных предметов, с этой точки зрения является системной ситуацией, требующей системного подхода.
Обычно раньше, когда я хотел наглядно выразить и представить эту ситуацию, то рисовал схему 2.
На схеме обозначено несколько разных форм фиксации объекта — (А), (В), (С), сам подразумеваемый или полагаемый нами объект X и связки между формами знания, фиксирующими разные «стороны» этого объекта, и самим объектом. Таким образом, объект включен в несколько разных предметов.
К примеру, когда возникает ситуация, что «один и тот же объект» мы описываем один раз социологически, другой раз психологически, третий — логически, а на практике имеем дело с одним объектом и должны, следовательно, рассматривать один объект, и нам приходится в силу этого каким-то образом соотносить социологические, психологические и логические представления, получать единую, хотя и сложную внутри себя картину объекта, то это, на мой взгляд, и является простейшей специфически системной ситуацией и вместе с тем специфически системной задачей. Во всяком случае, именно так возникли эти проблемы и задачи, насколько я представляю, у Лейбница и Кондильяка, и как таковые развертывались они дальше.
Реально сущность системной проблемы состоит в том, что мы имеем несколько разных предметов, соответственно — несколько разных представлений объекта, и, в принципе, эти предметы и эти представления несоотносимы друг с другом, ибо каждый из них существует в своем особом «предметном пространстве». Есть, к примеру, социологические факты и объекты, есть психологические факты и объекты, и есть логические факты и объекты. И нет логико-психолого-социологического объекта. Но на уровне практической деятельности и инженерии мы, наоборот, реально имеем дело всегда с объектами этой практики или инженерии, не разделенными и не разнесенными по ведомствам логики, психологии, социологии и чего-то еще. И, следовательно, хотим мы или нет, мы должны объединять все это вместе. И именно в этой ситуации, когда мы имеем несколько разных предметных представлений и предполагаем, что им всем соответствует один целостный объект, когда мы должны использовать все эти представления вместе, тогда мы и начинаем говорить, что наш объект есть система, имея в виду тот банальный и первоначально очевидный факт, что он представлен в нескольких разных изображениях, что их нужно брать и рассматривать как одно целое, но при этом простое механическое соединение и объединение их невозможно, поскольку эти представления идут «по разным ведомствам». Тогда-то мы и начинаем решать задачу, как все эти представления собрать, соединить и трансформировать так, чтобы получить единое изображение объекта.
Способов, какими начинают соединять эти представления, есть много разных (хотя правильными среди них являются только очень немногие). Например, А. Н. Реформатский, рассматривая язык как систему, говорит: есть разные уровни языка, но все они как бы проткнуты стержнями; эти стержни образуют структуру языка. Отдельно друг от друга существуют морфологическое, синтаксическое, лексико-семантическое представления, но когда мы их протыкаем стержнями и таким образом соединяем, то получается структура и система языка. Конечно, такой способ синтеза разных представлений может показаться несколько наивным. Но так же дело обстоит фактически в любой теоретической области, ориентированной на решение комплексных практических задач и опирающейся на несколько разных предметных представлений.
Таким образом, системное представление объекта, если характеризовать условия его происхождения, возникает тогда, когда мы имеем уже несколько разнопредметных изображений одного объекта и по условиям практической деятельности должны соотносить и объединять эти предметы друг с другом. Поэтому системные проблемы и задачи — это проблемы и задачи, ориентированные не на объекты, а на предметы во всем наборе их блоков и элементов, которые мы должны соотнести и связать. Поэтому же я утверждаю, что характеристика системных проблем и системных задач не может быть сведена к характеристике систем как объектов. Другое дело, что условием соотнесения этих предметов друг с другом, как выясняется, является создание такой новой онтологии или такого нового модельного представления объекта, в котором или через которое можно эти предметы соотнести и связать. Но это уже вторичный и притом частный момент.
6. Теперь, нисколько не отказываясь от всего сказанного выше, я должен сделать ряд существенных уточнений и дополнений.
Когда выше я говорил, что ситуация системного анализа — это ситуация объединения нескольких предметов, то я фиксировал общее и необходимое, но еще отнюдь не специфическое и само по себе заведомо недостаточное условие появления системного подхода и системного метода. Таким специфическим моментом, как мы это сейчас хорошо знаем, является по меньшей мере появление особых конструктивных представлений, изображающих объект «системно». Здесь я перехожу к самому тонкому и интересному, на мой взгляд, месту. Всякая системная ситуация, как я сейчас убежден, является неуравновешенной и противоречивой. С одной стороны, для того чтобы объединить предметы, мы должны построить единое представление объекта. Для этого мы должны воспользоваться особыми конструктивными средствами: развернуть в моделях и в онтологии такое представление объекта, чтобы оно потом объясняло разные предметные представления и изображало их в виде своих проекций. Но если мы начинаем представлять объект конструктивно и достигаем своей цели, т. е. можем в рамках единого предмета развернуть такую конструктивную модель объекта, которая схватывала и снимала бы в себе все то, что раньше мы фиксировали во многих предметах, то системность объекта, как мы ее выше определили, должна просто исчезнуть. Например, системная проблематика стояла и должна была решаться, когда мы представляли свой объект изучения как социологический, с одной стороны, психологический, с другой стороны, логический, с третьей; именно для того чтобы их объединить, мы должны были создать единое представление объекта, единую модель его, которая снимала бы и логические, и психологические, и социологические «стороны». Но если мы такую модель создали и построили конструктивно единое представление объекта, то нам не нужны больше ни логика, ни социология, ни психология. У нас будет одна наука, одно, повторю, теперь уже несистемное изображение этого объекта, которое сделает ненужными логическое, социологическое и психологическое описания в их прежних состояниях и функциях.
Получается очень странный на первый взгляд вывод, что системная проблема и задача не имеют последовательного, законченного решения. Как только мы, казалось бы, решаем стоящую перед нами в системном анализе проблему и создаем соответствующую единую многоаспектную конструкцию, так системная проблема оказывается снятой, у нас больше нет системной ситуации и нет системы, а есть лишь конструкция. Если же мы хотим сохранить системную ситуацию, то не должны создавать единую конструкцию, хотя именно в этом состоят наша задача и единственный путь последовательного решения системной проблемы.
Здесь вообще надо отметить, что для современного состояния системного движения и системных исследований характерно смешение «систем» с «конструкциями». В частности, это проявляется и в том, как определяют саму систему: как наличие элементов, так и признак объединения их в целостность не являются специфическими для системы и характеризуют скорее конструктивный, нежели системный подход. Но теперь мы понимаем, что за этими смешениями стоят объективные основания. Возникая из проблематики связи нескольких научных предметов, системный подход стремится (во всяком случае на данном этапе) к снятию этой проблематики с помощью конструктивного задания объекта изучения — и именно на это направлены главные усилия Исследователей и проектировщиков, называющих себя системниками, и именно это, естественно, они осознают как основную цель и задачу системного подхода, — но если их работа оказывается удачной и они достигают своей цели, то специфически системная ситуация исчезает, остается конструктивно развертываемое целое, которое они называют «системой», и это целое описывается в однородных знаниях. Получается, что системное представление объекта является некоторым преходящим моментом в его анализе, исследовании и описании. Существует, следовательно, системная постановка проблемы и задач, существуют системные представления объекта (и предметов, в которых он зафиксирован) на каких-то промежуточных этапах работы (об этом я буду говорить дальше подробнее), но, по мере того как мы достигаем решения поставленной исходной задачи, системные объекты и системные представления вообще перестают существовать, они заменяются конструктивными (несистемными) объектами и задачами.
Где же тогда и до каких пределов существуют системные объекты? Оказывается, что они существуют только в этом движении от многопредметного представления объекта к интегрированному однопредметному представлению. Если у нас есть объект, представленный с разных своих сторон, к примеру как социологический, логический и психологический, то мы можем, исходя из этой ситуации, поставить задачу объединить их и мы можем решать эту задачу, создавая единое интегрирующее представление. И, пока мы ее решаем, мы имеем системное представление в точном смысле этого слова. Наш объект является системой до тех пор, пока он сохраняет на себе печать этой разнопредметности, т. е. пока мы можем показать: вот это — психологическое, это — логическое, это — социологическое, и мы связываем все эти «стороны» и аспекты объекта, причем связываем их как разнопредметные представления. И когда мы проецируем на объект такое «проткнутое стержнем» (по Реформатскому) многоуровневое представление, мы имеем систему в полном смысле этого слова, несмотря на всю сомнительность и даже анекдотичность этого образа в приложении к устройству самого объекта. Но как только мы уберем это искусственное образование, этот наивный «стержень», как только мы добьемся полного конструктивного и потому однородного представления объекта — у нас больше нет системного изображения, нет «системы» в точном смысле слова, а есть конструкция, пусть с большим числом элементов, но для нас не существенно, сколько там элементов — 20, 500 или 1020, потому что если это конструкция, то мы должны знать принципы ее конструктивного развертывания, и в отношении к ним совершенно безразлично, сколько там элементов. Их мы записываем так же, как мы записываем число 10125, не интересуясь, сможем ли мы реально его сосчитать и хватит ли у нас вообще чернил, чтобы записать его в развернутом виде. Мы принимаем это число конструктивно. То же самое мы делаем на конструктивном этапе системного анализа. Ведь если у нас есть метод построения модели объекта путем развертывания конструкции, а не путем объединения разнопредметных представлений, то нам безразлично, сколько в объекте элементов: мы развертываем их по определенным формальным принципам и делаем это до тех пор, пока и Поскольку нам это нужно.
7. В итоге всех этих рассуждений мы приходим к несколько неожиданному на первый взгляд, но для нас совершенно естественному и закономерному выводу, что область существования подлинно системных проблем и системных объектов — это область методологии, а не собственно теории, переводящей методологические схемы и модели в конструктивно развертываемые. Иначе говоря, системная проблематика и системное исследование (в подлинном смысле этого слова) существуют именно там и только там, где мы сохраняем несколько разных предметов и должны работать с этими разными предметами, как бы над ними и по ним, добиваясь связного описания объекта, при различии и множественности фиксирующих его предметов. Но для того чтобы двигаться над этими предметами и по ним, нужен совершенно особый аппарат. Мы уже не можем находиться внутри этих предметов и действовать по законам их имманентного развития, а мы должны выскочить за них и особым образом работать над ними, осуществляя их связь либо для целей частной практики, либо для широких теоретических целей, когда мы объединяем эти предметы в интересах многих практических задач. Но тогда возникает основной и принципиальный вопрос, а именно: что это за организованности исследовательской и проектной работы, более широко — организованности мышления, которые дают нам возможность ассимилировать научные предметы и описывать объект не сквозь призму какого-то одного предмета, а учитывая все эти предметы, особенность каждого из них и вместе с тем имея особую точку зрения, отличную от каждого предмета, лежащую как бы над предметами, т. е. превращающую сами эти предметы в объекты нашего оперирования; мы должны спросить себя, какую структуру имеют эти специфические организованности.
Это и есть тот основной вопрос, который я должен буду обсуждать в дальнейшем; фактически я уже подошел к определению методологии системно-структурных разработок и ее задач. Но прежде чем целиком погрузиться в эту тему, я хочу вывести несколько следствий из той трактовки системной ситуации, которую я выше изложил.
IV. Системные исследования и исследования систем
Необходимо, на мой взгляд, очень четко различать и противопоставлять друг другу два разных подразделения (или две части) «системных разработок», а именно: (1) собственно «системные исследования» и (2) «исследования систем».
«Системными исследованиями» мы предлагаем называть те исследования, которые начинают с нескольких предметов, фиксирующих по предположению один объект, возникают, следовательно, в многопредметной ситуации, должны из разных и разнородных представлений объекта сотворить единое связное представление и при этом должны в какой-то мере использовать при построении онтологии объекта то, что мы называем «системными изображениями» или «системными представлениями». Эти системные изображения или представления обязательно должны нести на себе печать многопредметности. Если эта печать многопредметности исчезает, то это будет уже не системное представление, а конструктивное. Отсюда, между прочим, автоматически следует, что системные исследования никогда не могут быть формализованы; и это принципиально, потому что условием формализации является конструктивное представление объекта. Формализация возможна только за пределами системных исследований, когда системные исследования (в том смысле, какое мы придаем этому выражению) «умирают», и, наоборот, системные исследования существуют и возможны только там, где формализация невозможна.
«Исследование систем» как особое направление и особый способ исследования (в отличие от «системного исследования») появляется после того, как объект изучения представлен в виде системы, а это значит, что, во-первых, зафиксированы соотносимые и соединяемые друг с другом предметы, а во-вторых, сам объект представлен в онтологической схеме или в онтологической картине, снимающей (хотя бы в одном определенном аспекте) эту многопредметность.[67] В этой новой ситуации и на новом представлении объекта возникает свой особый круг проблем; ведь ситуация у нас действительно не тривиальная, уж во всяком случае не обычная для простых однородных предметов, ведь наш объект описан системным образом, а это значит, что одна его «часть» описывается в понятиях и средствах одного научного предмета, другая часть — в понятиях и средствах другого научного предмета, третья часть — в понятиях и средствах третьего; и вообще таких предметов много. Спрашивается, как мы должны описывать объект — причем именно объект, ибо предметы это всегда только призмы, через которые мы схватываем и отражаем объект, — и как мы можем описывать объект, представленный в разных научных предметах, элиминируя вместе с тем момент разнопредметности разных частей его системного представления. Если, скажем, мы представили объект как какую-то систему из социологических, логических и психологических аспектов, сторон и элементов, то как затем мы должны описывать его как объективную систему, если заранее известно, что в нашем системном представлении объекта значительная часть зафиксированных связей и отношений суть субъективные «леса» и костыли нашего мышления, т. е. заведомо не знания, которые нас интересуют, а наше собственное «строительство»? Как мы должны отделить его от объектив ного изображения и элиминировать? Ведь если мы этого не сделаем, то будем выдавать за объективные связи отношения и связки, создаваемые нашими собственными сопоставлениями, т. е. свой исследовательский аппарат, и описывать его в качестве объекта. Это и есть, с моей точки зрения, основная проблема ситуации исследования систем.
Другими словами, если мы имеем единое представление объекта как системы и известно, что это представление получено и собрано «системным образом», т. е. путем соотнесения нескольких разнопредметных представлений объекта и движения от этих представлений к онтологическому изображению объекта как такового, если мы заранее знаем, что большая часть связей, установленных нами в ходе этого движения, являются лишь фиксациями наших собственных исследовательских процедур, осуществленных в методологическом метапредмете, то как, спрашивается, мы можем и должны исследовать систему объекта, как нужно отделять все то, что относится к самому объекту, от всего того, что привнесено специфически системной ситуацией и нашими процедурами анализа, что, собственно, нужно делать, чтобы проанализировать представленный таким образом объект, и как при этом отделить объективное от субъективных связей и отношений, через которые мы видим объект и без которых мы не можем его «видеть», схватывать и описывать. Именно здесь возникают специфические проблемы исследования систем, и именно в этом контексте они должны обсуждаться.
Для наглядности отношения между «системными исследованиями» и «исследованиями систем» можно представить в простой схеме (схема 3).
«Исследования систем» имеют всегда два разных направления и соответственно два объекта: (1) сами «системы» и (2) порождающие их «системные исследования». Когда первое направление реализуется без второго, то получается объектно-натуралистический вариант исследования систем. Но он, как мы уже теперь можем понять, обречен на неудачу: системное представление объекта создается и порождается такими процедурами нашей деятельности, которые в целом не могут рассматриваться как чистая имитация объектных процессов и соответственно этому как целое не могут объективироваться и оестествиться; системное представление объекта имеет два разных (и равноправных) направления интерпретации: одно из них — объект, а другое — категории и процедуры «системного исследования»; и если мы не учтем этого, то будем постоянно выдавать отношения и связи, установленные нашей деятельностью, за процессы жизни самого объекта.
Итак, системные разработки предполагают две группы разных проблем: с одной стороны, собственно системные проблемы, когда мы начинаем с группы предметов и должны реконструировать объект; с другой стороны, проблемы исследования систем, когда мы полагаем, что объект уже системно представлен и теперь надо это вторично описывать, анализировать и синтезировать как «систему», выделяя и отделяя объективные характеристики от субъективных, эпистемологических. Нетрудно заметить, что вторая группа проблем точно так же приводит к совершенно особому стилю и способам работы, которые должны быть охарактеризованы как методологические, ибо проблема отделения субъективного (познавательного) и объективного и есть, как известно, та специфическая проблема, которая рождает методологическое мышление и ставит вопрос о развитии и формировании разных его организованностей.
Второй момент, который мы должны обсудить, прежде чем перейдем к анализу форм организации системно-структурной методологии, — и он точно так же непосредственно следует из предложенного мной способа задания системной ситуации — касается статуса «общей теории систем».
V. Как возможна «общая теория систем»
Этот вопрос интенсивно обсуждается вот уже в течение десяти лет, а может быть, и больше, причем взгляды основных представителей и идеологов «общей теории систем» (ОТС) за это время сильно трансформировались; немаловажную роль в этом сыграла критика исходных идей ОТС. Поэтому А. Раппопорт, когда он говорил на последнем, XIII Конгрессе по истории науки об ОТС, подчеркивал ее специфический характер, он настаивал на том, что это теория совсем не в обычном смысле слова, но в конце концов склонялся к тому, что она должна быть теорией математического типа. Мне важно подчеркнуть также, что в ходе этого обсуждения он рассматривал теорию прежде всего с точки зрения ее формы и в плане тех традиционных представлений о форме научной теории, которые сложились в конце XIX в.: индуктивная или дедуктивная, на базе аксиом или без них и т. п. При этом А. Раппопорт совершенно не затрагивал вопроса об объекте этой теории. А между тем решение вопроса о характере теории связано не столько с анализом ее формы, сколько с анализом ее объекта и отношений знания к объекту.
Но если мы выделим на передний план вопрос о характере объекта теории и отношении к объекту разных видов знаний, входящих в состав теории, и с этой точки зрения будем рассматривать разные системные концепции, то мы без труда заметим, что фактически ни один исследователь, причисляющий себя к системному движению, никогда не рассматривал «системы» как чисто натуральные, естественные объекты. Но если сама «система» не трактуется как естественный, натуральный объект, т. е. как объект, обладающий некоторыми естественными процессами жизни, описываемыми в науке с помощью законов и закономерностей, то тогда мы не имеем права употреблять выражение «общая теория систем» в смысле естественнонаучной теории. Это первый вывод, который мы можем и должны здесь сделать.
Чтобы опровергнуть его, нужно заявить и показать, что как «система» вообще (или типы систем — такое изменение в принципе ничего не меняет), так и разные объекты, представленные в виде систем, обладают естественными процессами и механизмами жизни (причем для второго случая эти процессы и механизмы являются специфически «системными» и общими для систем, а не специально предметными). Именно по этому вопросу я жду разъяснений от тех, кто будет защищать трактовку ОТС как естественной дисциплины.
Но даже если мы примем и затвердим тезис, что «система» не является объектом в натуральном смысле слова, то далее мы обязательно должны спросить: а в каком же смысле существует «система» вообще? Если мы строим некоторую теорию, описываем какой-то объект теоретически, то прежде всего мы должны ответить на вопрос, в каком виде и в каком идеальном «пространстве» существует объект этой теории.
Мне представляется, что «система» (как тип) существует и может существовать сегодня только в виде некоторого конструктивно-технического объекта, такого примерно, каким является «пространство» в качестве объекта геометрии. В этом смысле «пространство» или «путь», до того как их наполнили материей, соединили с ней, не имели никаких естественных процессов и никаких фиксирующих их законов жизни. Говорить о каких-то естественных законах «пространства» не имело смысла. Это было некоторое конструктивно-техническое средство, или конструктивно-технический шаблон, с помощью которого мы описывали естественные процессы движения тел. В таком же смысле, на мой взгляд, могут существовать и существуют сейчас системы вообще. Во всяком случае, ни один из представителей ОТС не мог ответить на мой вопрос, какими естественными законами жизни обладает система вообще, каким образом мы можем мыслить подобные естественные процессы и законы. Если кто-нибудь ответит на этот вопрос, то тем самым будет решена кардинальная проблема в этом споре и сам спор будет однозначно решен. Но пока ответа нет, и я остаюсь при своем убеждении, что «система вообще» в принципе не может обладать естественными процессами и естественными законами жизни. А потому вопрос о возможности существования ОТС как естественнонаучной дисциплины должен быть снят.
Для того чтобы снять возражения в силу возможных недоразумений, я поясню еще дополнительно основания моих утверждений и лежащих за ними различений.
Первое из них — это необходимость провести более тонкие различения существующих сейчас форм организации знаний. Как мне представляется, в XIX в. произошло смешение многих понятий, достаточно точно определенных и разграничивавшихся в предшествующие столетия. Кроме того, в XX в. мы стали слишком превозносить научный подход; научная, или, как сейчас говорят, «сциентистская», идеология получила широкое распространение, не соответствующее действительному распространению и реальной роли науки и научных знаний. Наукой стало называться буквально все, что имело отношение к знанию. Но еще в начале нашего века все исследователи очень четко различали науку и математику, которую они считали не наукой, а «языком». А в середине XX в. Р. Фейнману в лекциях по физике приходится разъяснять своим слушателям, что математика не наука (и что в этом нет ничего обидного или нехорошего для математики). Но это уже детали, а суть в том, что я различаю и противопоставляю друг другу: (1) науки естественного типа, (2) науки, касающиеся деятельности, (3) нормативные дисциплины (вроде логики и языковедения), (4) ценностные дисциплины, (5) инженерно-конструктивные дисциплины, (6) математику, (7) методические дисциплины, (8) историю и (9) методологию; все это разные формы организации знаний, и, как правило, сами знания, составляющие их, различаются структурой. Их различие основано на различиях в отношении к объекту знания и на различии самих объектов. Если мы берем какие-то математические положения безотносительно к объекту, то это вообще не знания. Например, число или числовой ряд сам по себе. Оказывается, что если я считаю какие-то предметы, то в числе я выражаю некоторое знание о количестве этих предметов, и это будет знание, потому что есть объект, к которому это число относится. Если же я просто произношу: раз, два, три, четыре, пять…, то это не знание, хотя это числовой ряд и он может выступить как в роли формального средства, так и в роли объекта, относительно которого мы будем строить определенное знание.
Поэтому само мое утверждение, что ОТС не может быть теорией в естественнонаучном смысле, построено прежде всего на отказе от обычного диффузного, синкретического употребления слов «наука» и «научное», на различении разных типов наук и не-наук, а само это различение построено на анализе отношения формы знаний к объективному содержанию, и в частности к объекту: знанием считается то, что мы можем соотнести с определенным объектом. Объекты, в свою очередь, могут быть конструктивно-техническими, как в технических науках или математике, а могут быть естественными, как в физике или биологии, объектов первого типа нет естественных процессов, и соответственно их жизнь не может описываться естественными законами; там есть конструктивные отношения, отношения, созданные нашей деятельностью. Но закона как такового, подобно тому закону, который мы ищем, описывая свободное падение тел, там нет и в принципе не может быть. Поэтому мой вопрос формулируется так: говоря о системе как об объекте, можем ли мы подразумевать в его существовании некоторые естественные, натуральные процессы, можем ли мы искать естественные законы, или этот объект представляет собой нечто принципиально иное. Если мы говорим, что естественных законов у системы как объекта нет, то это дает основание утверждать, что не может существовать ОТС как естественнонаучной дисциплины.
Из того, что не может быть «общей теории систем» в естественнонаучном смысле, а «система» вообще соответственно не может быть представлена как естественно существующий объект, я извлекаю еще один аргумент в пользу того, что основной задачей системного движения должны быть разработка и оформление системно-структурной методологии, которая может обсуждать вопрос, является ли «система» естественным объектом, но для которой отнюдь не обязательно представление «системы» в виде естественного объекта; методологическое мышление может иметь дело с системой в любом виде и, можно даже сказать, во всех ее возможных видах. Я полагаю, что именно системно-структурная методология должна быть основным культурно-историческим продуктом системного движения и соответственно основной целью работы внутри системного движения.
Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок[68]
I. Современная социокультурная ситуация и системное движение
1. В последние 10–15 лет проблематика систем и системного анализа стала одной из самых модных и ее обсуждают в самых разных планах и с разных точек зрения. При этом в ходу масса различных выражений и терминов: пишут, к примеру, о «системной революции», охватившей мир науки, инженерии и практики [Акофф, 1971; Ackoff, 1972], о «системном подходе», который характеризует новый стиль и новые методы научного мышления {Блауберг и др., 1969; Блауберг, Юдин, 1973], об «общей теории систем» как научной теории особого типа, выполняющей методологические функции [Общая теория систем, 1966; Заде, Дезоер, 1970; Месарович и др., 1973; Уемов, 1978], об «общей теории систем» как метатеории [Trends… 1972; Садовский, 1974], о «системном анализе операций» [Квейд, 1969; Оптнер, 1969], о «системных ориентациях» [Юдин, 1972] и т. д. и т. п.
Однако остается неясным, что именно фиксируют все эти выражения — то, что уже создано и реально существует, или же только проекты и программы, выдвигаемые различными группами исследователей.
Во всяком случае, при таком обилии различных точек зрения мы вынуждены ставить вопрос, что же происходит сейчас на самом деле во всей этой системной области, и если окажется, что в нее включены все названные выше образования, то нам придется как-то соотносить и связывать их друг с другом, чтобы получить объективную и конкретную картину происходящего. Но для этого, естественно, нужны специальные средства и, в частности, какое-то общее представление, которое охватывало бы и объединяло в себе все перечисленное выше.
На наш взгляд, наиболее общим и вместе с тем наиболее точным понятием, охватывающим все, что происходит сейчас в «системной области», будет понятие системное движение.
В основу настоящей статьи положены тексты докладов, прочитанных на семинаре "Структуры и системы в науке и технике" философской секции Научного совета по кибернетике при Президиуме АН СССР (Москва, октябрь 1970 г.), в Комиссии по системным исследованиям Научного совета Спорткомитета СССР (Москва, декабрь 1974 г.) и на VII Всесоюзном симпозиуме по логике и методологии науки (Киев, октябрь 1976 г.).
Для нас этот тезис означает, что начинать анализ всего того, что относится к системной области, нужно отнюдь не с системного подхода и не с общей теории систем, а именно с системного движения, а все остальное — и анализ систем, и системотехнику, и системные ориентации, и все прочее — рассматривать как разнообразные элементы, функциональные компоненты и организованности системного движения [1974b*].
Основная особенность и характеристика системного движения (делающая его «движением», а не «направлением», «подходом» и т. п.) заключена прежде всего в том, что в нем объединяются представители самых разных профессий (инженеры, военные, педагоги, ученые, философы, математики, организаторы и управляющие), носители разных средств и стилей мышления, разных ценностных установок и точек зрения. Мотивы такого объединения являются не столько содержательными, сколько социокультурными (или даже социально-организационными).
Включаясь в системное движение, представители разных профессий тем не менее по-прежнему ориентируются на стандарты и нормы своей профессии, по-прежнему стремятся к получению таких продуктов, которые были заданы как образцы в их профессии, и работают привычными для них профессиональными средствами и методами. Более того, представители каждой профессии трактуют смысл и содержание системного движения соответственно своим профессиональным канонам и стремятся так преобразовать и организовать всю системную область, чтобы она соответствовала привычным для них схемам, и даже настаивают на том, чтобы все остальные участники системного движения работали только по этим схемам. Иными словами, каждая профессия в рамках системного движения стремится освоить и ассимилировать весь материал системного движения и системной области в специфических для нее формах мышления и деятельности.
На данном этапе развития системного движения такая стратегия естественна и оправданна, ибо структура и организация самого системного движения еще не сложилась, а те продукты, которые оно должно создать, ничем не заданы и никак не определены. И поэтому каждая профессия вправе выдвигать в качестве образца свой собственный профессиональный идеал организации и свое представление о конечном продукте всей работы.
Соответственно этому в системном движении появляются, с одной стороны, очень сложный и внутренне противоречивый круг идей, а с Другой стороны, множество разных системных ориентации. В них выражаются представления о тех культурно-исторических продуктах, которые может и должно произвести системное движение. И в этом заложен основной источник конфликтов между участниками системного движения.
2. Выделяя лишь самое заметное и достаточно оформившееся, можно назвать восемь основных предложений и соответственно восемь проектов культурного продукта системного движения:
1) развитие и совершенствование уже существующих частных наук и областей инженерии и практики за счет внедрения в них системных представлений, понятий и методов анализа [Евенко, 1970; Косыгин, 1970; Большие системы, 1971; Любищев, 1971; Акофф, 1972; Гвишиани, 1972];
2) «общую теорию систем», подобную уже существующим естественнонаучным теориям, таким, как физика, химия, биология и т. д. [Богданов, 1925–1929; Садовский, 1972; Месарович и др., 1973; Уемов, 1973, 1978; Общая теория систем, 1966];
3) «общую теорию систем», подобную традиционным математикам вроде геометрии или алгебры, или новым — аналогичным шеноновской теории информации [Большие системы, 1971; Заде, Дезоер, 1970; Калман и др., 1971; Общая теория систем, 1966];
4) «общую теорию систем» по типу метаматематики в смысле Д. Гильберта и С. Клини (Trends… 1972; Садовский, 1974];
5) практическую методологию или методику по типу таких дисциплин, как «исследование операций», «анализ принятия решений» и т. п. [Квейд, 1969; Оптнер, 1969; Евенко, 1970; Джонсон и др., 1971];
6) инженерно-техническую методологию типа «Системотехники» Г. Гуда и Р. Макола [Гуд, Макол, 1962; Николаев, 1970; Саймон, 1972];
7) так называемую «системную философию» [Laszlo, 1972];
8) системно-структурную методологию как раздел или часть «общей методологии» [1964 а*; 1965 а; 1967 g*; 1969 b; Спиркин, Сазонов, 1964; Дубровский, Щедровицкий Л., 1971; Гущин и др., 1969; Кузьмин, 1976; Разработка… 1975].
Первые семь предложений имеют уже реализованный на другом материале исторический прототип. В этом их сильная сторона. Но одновременно это же, на наш взгляд, вызывает основные возражения. Когда каждый из участников системного движения предлагает свое профессиональное решение системных задач, то он выступает как агент уже существующей и функционирующей сферы мышления и деятельности — науки, инженерии, математики, философии и т. п., внутри которой он сформировался как «системщик», и в силу этого он всегда связан и ограничен той частной культурно-исторической ситуацией, в которой он понял смысл и важность системных проблем и задач. Следовательно, в конечном счете он всегда лишь развивает за счет системных средств и методов профессиональную организованность своей исходной мыследеятельности. Но ведь хорошо известно (и может даже считаться общепризнанным), что системное движение сложилось и развивается как интердисциплинарное и интерпрофессиональное образование. А это означает, что оно должно сформировать и создать организованность, выходящую за рамки каждой отдельной научной дисциплины и каждой отдельной профессии. Следовательно, системное движение в своем становлении и развитии должно учитывать всю современную социокультурную ситуацию и исходить из предельно широкого понимания возможностей и перспектив ее развития. Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью обсуждать современную социокультурную ситуацию в целом.
3. На наш взгляд, в современной социокультурной ситуации можно выделить по крайней мере восемь моментов, имеющих самую непосредственную связь с системным движением.
Первый из них — это процесс все более углубляющейся дифференциации наук и профессий. Прогрессивный в XVIII и XIX вв., он привел сейчас к оформлению массы изолированных друг от друга научных предметов, каждый из которых развивается практически независимо от других. Эти предметы сейчас не только организуют, но и ограничивают мышление исследователей. Приемы и способы мышления, новая техника и новые методы, созданные в одном предмете, не распространяются на другие. В каждом из научных предметов создается своя онтологическая картина, не стыкующаяся с онтологическими картинами других предметов. Все попытки построить единую или хотя бы связную картину нашей действительности наталкиваются на большие трудности.
Второй момент — это существование узкоспециализированных каналов трансляции разделенной на части предметной культуры. Современный математик плохо знает и понимает физику, не говоря уже о биологии или истории. Филолог, как правило, не знает математики и физики, но столь же плохо разбирается в истории и ее методах. Уже в школе мы начинаем делить детей на способных к математике и способных к литературе. Идея общего образования все больше разрушается идеей специализированных школ.
Третий момент — кризис классической немарксистской философии, вызванный осознанием того факта, что эта философия лишилась своих средств управления наукой и потеряла роль координатора в развитии наук, роль посредника, переносящего методы и средства из одних наук в другие. Это обстоятельство выяснилось уже в первой четверти XIX столетия и стало предметом специального обсуждения. Много внимания уделяли ему в своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс, по-новому определившие функции философии в отношении естественных и гуманитарных наук. Потеря непосредственной связи с философией заставила различные науки вырабатывать свои собственные формы осознания, свою собственную частную философию. Это дало базу различным формам позитивизма, а в последнее время породило так называемый «сциентизм».
Четвертый момент — оформление инженерии как особой деятельности, объединяющей конструирование с различными формами квазинаучного анализа. Традиционные академические науки, развивавшиеся во многом имманентно, оказались оторванными от новых направлений инженерии, и это заставило инженеров создавать системы знаний нового типа, не соответствующие традиционным образцам и стандартам. Теория информации и кибернетика — лишь наиболее яркие образцы таких систем. Одновременно появилась и стала интенсивно обсуждаться проблема соотношения конструирования и исследования.
Пятый (очень важный) момент — это продолжающееся выделение внутри деятельности и обособление различных производственных технологий, приобретающих самодовлеющее значение и становящихся как бы новым принципом и объективным законом в организации всей нашей жизнедеятельности и в конечном счете подчиняющих себе и деятельность, и природу, и поведение людей. Обслуживание этих технологий становится первейшей необходимостью и чуть ли не основной целью всей общественной деятельности. Вместе с тем непрерывно формализуются и приобретают все большее значение технологические формы организации деятельности, распространяющиеся также и на мышление.
Шестой момент — становление, оформление и частичное обособление проектирования как деятельности особого рода. В результате еще резче встал вопрос о связи и соотношении собственно проектных и исследовательских разработок. Проектирование непосредственно и со всей остротой столкнулось с проблемой соотношения естественного и искусственного в объектах нашей деятельности [1967g *; Саймон, 1972]. Ни одна из этих проблем не нашла решения в рамках традиционных наук.
Седьмой момент — увеличение значения и роли во всей нашей общественной жизни организационно-управленческой деятельности. Эффективность ее зависит в первую очередь от научного обеспечения. Однако традиционные науки не дают знаний, необходимых для этой деятельности; объясняется это прежде всего сложным, синтетическим, или, как говорят, комплексным, характером этой деятельности и аналитическим, или «абстрактным», характером традиционных научных дисциплин.
Восьмой момент (также особенно важный) — становление и оформление наук нового типа, которые грубо можно было бы назвать «комплексными науками». Сюда нужно отнести науки, обслуживающие педагогику, проектирование, военное дело, управление и т. д. и т. п. Сейчас эти сложные виды практики обслуживаются несистематизированными агломерациями знаний из разных научных дисциплин. Но сама сложность и многосторонность этой практики, ее ориентация одновременно как на нормативные, искусственные, так и на реализационные, естественные планы деятельности требуют теоретического объединения и теоретической систематизации искусственных и естественных знаний, чего никак не удается достичь.
Все эти моменты, характерные для современной социокультурной ситуации, порождают общую «контрустановку». Дифференциация наук рождает установку на их объединение и создание соответствующего этой цели плацдарма. Профессионализация образования рождает установку на общее политехническое и университетское образование, стимулирует разработку необходимых для этого обобщенных и универсальных систем знаний. Кризис традиционного философского сознания и потеря старой классической философией управляющей роли по отношению к науке породили идею такой перестройки самой философии и всех наук, при которой философия могла бы восстановить связь с науками и вернуть себе свою прежнюю главенствующую роль в мире мышления. Аналогичным образом из противодействия складывающейся ситуации выдвигается требование установления органичных и эффективных связей между инженерией и наукой, а вслед за этим появляется требование комплексной организации естественных, технических, гуманитарных и социальных наук [Акофф, 1972; Волков, 1973; Разработка… 1975].
Все эти моменты современной социокультурной ситуации в общем хорошо известны, и мы отмечаем их здесь лишь для того, чтобы указать на связь между ними и системным движением. Дело в том, что на системный подход (независимо от того, фиксировалось это или нет) с самого начала возлагались надежды, что он решит все эти проблемы, интегрирует распавшиеся части науки и техники, выработает общий язык и однородные методы мышления для всех областей и сфер деятельности и, наконец, в пределе, создаст единую действительность для современной науки, техники и практики. По сути дела, это те же надежды, которые в 30-е годы возлагались на физикализм, а в 50-е годы — на кибернетику.
4. С нашей точки зрения, все эти надежды в отношении нынешних вариантов системного подхода столь же неоправданны, как и предшествующие надежды на физикализм и кибернетику. Но нам здесь важно не то, оправдывают или не оправдывают существующие варианты системного подхода возлагаемые на них надежды, а другой, можно сказать обратный, аспект проблемы: те требования к системному подходу, которые выдвигает сложившаяся социокультурная ситуация, и именно эти требования мы хотим положить в основу наших рассуждений. Если установка на интеграцию и синтез разных деятельностей фиксируется как факт и если она принимается как ценность (по крайней мере для мыслительной работы), то дальше следует обернуть задачу и обсуждать строение того продукта, который должен быть получен в системном движении, если его целью действительно станет достижение такого синтеза. И только после решения этого вопроса мы сможем приступить к анализу средств системного мышления, его категорий, основных понятий, методов и т. п. и таким образом получить данные для ответа на вопрос: а может ли системное движение создать подобный продукт?
Необходимо подчеркнуть, что такое оборачивание задачи создает совсем иной план и стиль анализа: он будет касаться не того, что реально создается сейчас в системном движении, а программ и проектов, выдвигаемых разными группами профессионалов, участвующих в системном движении, обоснованности этих программ и проектов и их реализуемости. Это будет, с одной стороны, критика уже существующих программ, а с другой стороны, выдвижение новых программ, с нашей точки зрения более перспективных.
5. Первая, критическая часть этой работы была уже в какой-то мере проделана нами и в некоторых своих частях опубликована [1964а *; 1974 b *; 1976; Разработка… 1975]. Поэтому здесь мы остановимся только на второй ее части: мы постараемся в самых общих чертах охарактеризовать существо нашей собственной программы, которая может обсуждаться в рамках системного движения наряду со всеми другими программами и проектами. Это — программа разработки «системно-структурной методологии».
Главная идея нашего предложения состоит в том, чтобы объединить разработку системного подхода с разработкой новых приемов и способов мышления, которые мы называем «методологическими» [1964а *; 1969 b, с. 50–84; Разработка… 1975]. При этом мы исходим из того, что системные проблемы и задачи по своему происхождению и специфике являются не объектными, а предметными: они возникают в ситуации, когда нужно соотнести и связать друг с другом разнопредметные представления одного объекта [1964 а*; 1964 h*; 1966 а*; 1971 і]. Именно эти проблемы и задачи, с нашей точки зрения, порождают специфически системную технику мышления, в частности в исследовании, проектировании, планировании и управлении, и эта техника остается действенной и эффективной только в движении от множества разрозненных односторонних представлений объекта к единому и целостному представлению. Когда эти условия исчезают и мы получаем однородное конструктивно развертываемое представление объекта, тогда системная техника мышления становится ненужной и системные проблемы и задачи снимаются [1974 b*].
Иначе говоря, системная проблематика и системное мышление, с нашей точки зрения, существуют там и только там, где сохраняется несколько разных предметов, и мы должны работать с этими разными предметами, двигаясь как бы над ними и по ним, добиваясь связного описания объекта при различии и множественности фиксирующих его предметов. В этих случаях, очевидно, мы уже не можем находиться внутри этих предметов и действовать по имманентным для них законам, а должны «выскочить» за их границы, работать каким-то особым образом, связывая между собой элементы разных предметов либо для целей частной практики, либо для широких теоретических целей.
Но тогда, естественно, мы приходим к вопросу, каковы же те организованности исследовательской и проектной работы, более широко — организованности мышления, которые дают нам возможность ассимилировать научные предметы и описывать объект не сквозь призму какого-то одного предмета, а учитывая сразу много предметов, особенности каждого из них и вместе с тем имея особую точку зрения, отличную от каждого предмета и превращающую сами эти предметы одновременно как в функциональные элементы «машины» нашего мышления, так и в объекты нашего мышления и деятельности оперирования.
С нашей точки зрения, специфические организованности, решающие эти задачи, и есть организованности методологического мышления и методологической работы, которые не должны отождествляться ни с собственно философскими, ни со специально-научными формами организации мышления и деятельности. Поэтому далее мы должны подробнее рассмотреть специфические характеристики методологической работы и возможный проект организации и построения системно-структурной методологии.
II. Общая характеристика методологической работы
1. Начнем с нескольких важных, но пока чисто вербальных характеристик методологической работы как таковой. В данном контексте она может быть выделена и противопоставлена конкретно-научной и философской работе по шести основным признакам:
(1) Методологическая работа не есть исследование в «чистом виде»; она включает в себя также критику и схематизацию, программирование и проблематизацию, конструирование и проектирование, онтологический анализ и нормирование в качестве сознательно выделенных форм и этапов работы. Суть методологической работы не столько в познании, сколько в создании методик и проектов, она не только отражает, но также и в большей мере создает, творит заново, в том числе — через Конструкцию и проект. И этим же определяется основная функция методологии: она обслуживает весь универсум человеческой деятельности прежде всего проектами и предписаниями. Но из этого следует также, что основные продукты методологической работы — конструкции, проекты, нормы, методические предписания и т. п. — не могут проверяться и никогда не проверяются на истинность. Они проверяются лишь на реализуемость. Здесь положение такое же, как в любом виде инженерии или архитектурного проектирования. Когда мы проектируем какой-либо город, то бессмысленно спрашивать, истинен ли наш проект: ведь последний соответствует не городу, который был, а городу, который будет; не проект, следовательно, отражает город, а город будет реализацией проекта.
Это очень важный и принципиальный момент в понимании характера методологии: продукты и результаты методологической работы в своей основной массе — это не знания, проверяемые на истинность, а проекты, проектные схемы и предписания. И это неизбежный вывод, как только мы отказываемся от слишком узкой, чисто познавательной установки, принимаем тезис К. Маркса о революционно-критическом, преобразующем характере человеческой деятельности и начинаем рассматривать наряду с познавательной деятельностью также инженерную, практическую и организационно-управленческую деятельности, которые ни в коем случае не могут быть сведены к получению знаний. И естественно, что методология как новая форма организации мышления и деятельности должна охватить и снять все названные типы мыследеятельности.
(2) Сделанные выше столь резкие утверждения не означают, что исследование и знание исключаются из области методологии. Наоборот, методология именно тем отличается от методики, что она до предела насыщена знаниями (в точном смысле этого слова) и включает четко отграниченное, выделенное и, можно сказать, рафинированное исследование; методологическая работа и методологическое мышление соединяют проектирование, критику и нормирование с исследованием и познанием. При этом исследование подчинено проектированию и нормированию, хотя может быть организовано как автономная система; но, в конечном счете, исследование в рамках методологии всегда обслуживает проектирование и нормирование, оно направляется их специфическими целями.
(3) Методология не только не отвергает научного подхода, но, наоборот, продолжает и расширяет его, распространяя на такие области, где раньше он был невозможен.
Прежде всего это проявляется в том, что методология создает очень сложные композиции из знаний разного типа, недоступные традиционной науке. В частности, она по-новому сочетает и соединяет естественнонаучные, конструктивно-технические, исторические и практико-методические знания. Традиционная наука избегала объединять эти четыре типа знаний, и в этом она была права, поскольку ее главная задача состояла в том, чтобы создать «чистое изображение» натурального объекта. Наука (в узком и точном смысле этого слова) ориентирована на отделение подлинно объективного, «натурального» знания от всех других знаний, в частности от тех, которые определяют, что нужно или должно делать для достижения той или иной практической цели. Наука исходит из того, что рассказ о том, как мерить поля, — это донаучный рассказ. И хотя древнеегипетские практико-методические знания, фиксирующие способы измерения полей различной формы, и попадают в раздел истории математики, но сам этот раздел и соответствующий этап истории считаются донаучными в отличие от древнегреческой математики, которую все единодушно относят уже к науке. Методология поддерживает эту линию на разделение разных типов знаний и соответствующих им типов мышления. Более того, она впервые дает научные (эпистемологические) основания для такого разделения. Но параллельно этому она создает более сложные суперструктуры, связывающие знания разных типов, и постоянно пользуется такими связками.
Кроме того, как уже было упомянуто, методология создает и использует знания о знаниях, она как бы все время осознает самое себя, свои собственные структуры, и это необходимо, ибо без такого осознания формы и структуры знаний вообще и специфики разных типов знаний в частности невозможно осуществить ту связь и координацию разных типов знания, о которой было только что сказано.
(4) Вместе с тем методология стремится соединить и соединяет знания о деятельности и мышлении со знаниями об объектах этой деятельности и мышления, или, если перевернуть это отношение, — непосредственно объектные знания с рефлексивными знаниями. Поэтому объект, с которым имеет дело методология, напоминает матрешку. Фактически, это особого рода связка из двух объектов, где внутрь исходного для методологии объекта — деятельности и мышления — вставлен другой объект — объект этой деятельности или этого мышления. Поэтому методология всегда имеет дело с двойственным объектом — не с деятельностью как таковой и не с объектом этой деятельности как таковым, а с их «матрешечной» связкой. Если бы мы просто описывали и фиксировали в наших знаниях деятельность, представляя ее как объект особого типа, то это была бы естественнонаучная точка зрения на деятельность и последняя выступила бы в качестве одного из объектов естественнонаучного типа в одном ряду с такими объектами, как физические и биологические.
Методологическое знание в противоположность этому должно состоять из двух знаний — знания о деятельности и знания об объекте этой деятельности. Если мы разобьем эту связку и будем рассматривать составляющие ее знания в качестве автономных, то должны будем сказать, что это просто разные знания о разном. Но суть методологического подхода как раз в том и состоит, что мы связываем и соединяем эти знания. И именно в том, как определяются и устанавливаются способы соединения этих разнотипных знаний, и заключена важнейшая особенность методологии. Ведь между деятельностью и ее объектом нет отношения «целое — часть»: деятельность не добавляется к объекту как вторая, дополняющая его часть и точно так же объект не является просто частью деятельности; объект деятельности включен в деятельность многократно — и как ее элемент, и как содержание других элементов, например знаний, и как материал.
Таким образом, методологическое знание объединяет и снимает в себе много разных и разнородных знаний; оно внутренне гетерогенно и гетерархированно. Но одновременно оно должно быть единым и целостным, несмотря на всю свою внутреннюю сложность и разнородность. В методологической работе мы должны иметь знания, объединяющие в себе как наши представления о деятельности, так и представления об объекте деятельности, причем соединены они должны быть так, чтобы мы могли пользоваться этой связкой в своей практической деятельности. Именно в этом способе соединения разнородных знаний с помощью знаний о деятельности и через эти знания и заложена, повторяем, специфика методологического знания. Таким образом, можно сказать, что методология задает логику рефлексии, т. е. логику и правила подобного соединения разнородных знаний.
(5) Для методологии характерен учет различия и множественности разных позиций деятеля в отношении к объекту; отсюда — работа с разными представлениями об одном и том же объекте, в том числе с разными профессиональными представлениями: при этом сами знания и факт их множественности рассматриваются как объективный момент мыследеятельной ситуации.
Это — крайне важное обстоятельство. Классическая философия, как и вся построенная на ней наука, исходила из представления об одном единственно истинном знании. Если одна и та же ситуация описывалась по-разному в различных знаниях, то обычно ставился вопрос, какое же из них истинное. Методология, в противоположность этому, исходит из того, что одному и тому же объекту может соответствовать много разных представлений и знаний и их не имеет смысла проверять на истинность относительно друг друга, ибо они просто разные. Это — важнейший принцип современного методологического мышления, который называется принципом множественности представлений и знаний, относимых к одному объекту. Но так как сам объект берется всегда предметно, т. е. всегда в связке с его представлениями, то множественность разных представлений оказывается фактом деятельной и коммуникативной ситуации, объединяющей разных профессионалов. Методология начинает свою работу с представлений профессионалов об объекте, и первоначально объект задан только этим множеством представлений. Лишь затем, исходя из всей этой совокупности представлений, методолог может ставить вопрос о реконструкции объекта в том виде, как он существует «на самом деле», и производить эту реконструкцию, предполагая, что все имеющиеся представления характеризуют объект с разных сторон, как бы в разных его проекциях [1964 а*; 1964 h*; 1971 i].
Конечно, такой подход можно обвинить в недостатке автокритицизма: ведь создаваемое таким образом онтологическое представление объекта будет таким лишь для строго определенной совокупности выбранных знаний и профессиональных деятельностей, а если мы выберем другой набор знаний и профессиональных позиций, то получится другое онтологическое представление. Но эти соображения доказывают отнюдь не субъективность онтологических представлений, а лишь их исторически преходящий характер. Поэтому всякий, кто говорит об объекте, как он есть «на самом деле», всегда должен помнить, что любое онтологическое представление объекта является подлинным лишь с исторически ограниченной точки зрения. И поскольку мы никогда не можем уйти от этого ограничения, то всегда должны рассматривать объект в связке с набором знаний о нем и всегда соотносить и связывать друг с другом знания разного типа — знания об объекте и знания о знаниях. В силу этого методологическое мышление пользуется всегда схемами многих знаний и в своих изображениях фиксирует множество разных знаний об одном объекте; называется это приемом многих знаний [1964 а *; 1971 і]. Каждому из изображений попеременно может приписываться индекс объектности, т. е. утверждается, что именно это знание соответствует объекту, и тогда все остальные знания оцениваются относительно него и преобразуются так, чтобы ему соответствовать. Потом мы можем перенести индекс объектности на другое знание или представление, и тогда все остальные знания будут оцениваться в соответствии с ним. О. И. Генисаретский назвал такой метод работы «стратегией сплавщика», имея в виду молевой сплав: мы как бы бежим по бревнам, ступаем на одно и толкаем плывущие рядом, потом прыгаем с этого бревна на другое, на третье, постоянно меняем точку опоры и за счет этого продвигаем весь сплав вперед.
(6) В методологии связывание и объединение разных знаний происходит прежде всего не по схемам объекта деятельности, а по схемам самой деятельности. Для реконструкции объекта на основе разных представлений профессионалов у нас нет иного пути, кроме выяснения того, в чем состояла «деятельная заинтересованность» этих профессионалов. И только после того, как мы опишем мыследеятельность профессионалов, заставившую их представить объект именно так, а не иначе, и таким образом определим те фокусы, с точки зрения которых они строили свои представления, только после этого мы можем начать собирать и соорганизовывать все эти представления, но опять-таки не прямо через представление об объекте, а прежде всего — через представление о деятельности, ибо реально разные представления нужно собирать в целое и соорганизовывать только тогда, когда деятельности, с которыми они связаны, входят в кооперацию друг с другом, когда они начинают с разных сторон обрабатывать объект, ставший для всех них единым. В этом состоит основной принцип методологического мышления: представление о сложной кооперированной деятельности выступает в качестве средства связывания разных представлений об объекте этой деятельности [1965 a; 1967 g*; 1969b, с. 50–84; Разработка… 1975]. И это связывание идет не столько по логике устройства и жизни рассматриваемого нами объекта, сколько по логике использования разнообразных знаний в коллективной кооперированной деятельности.
По этой причине в методологической работе бывает всегда не одно онтологическое представление, а по меньшей мере два: одно из них изображает структуру профессионально-кооперированной деятельности — это так называемая организационно-деятельностная онтология, а другое изображает объект этой кооперированной деятельности — это натурально-объектная онтология. Особое соединение и связь этих двух онтологических представлений составляет каждый раз специфическую особенность конкретной методологической работы (ср. [1979 b]).
2. Все названные выше моменты могут быть подытожены в одном тезисе: методологическая работа направлена не на природу как таковую, а на мыследеятельность и ее организованности, причем организованности мыследеятельности имеют как бы двойное существование: один раз в качестве элементов и компонентов мышления и деятельности, а другой раз в качестве независимых и автономных образований (как правило, искусственно-естественных), размноженных в разных формах и связываемых между собой процессами мыследеятельности. Сами «натуральные объекты» рассматриваются при этом как особые организованности мыследеятельности, создаваемые внутри философии и естественнонаучных предметов наряду с другими: естественнонаучная ориентация на так называемый натуральный объект оказывается лишь одним из многих подразделений в организации наших знаний и нашего мышления.
Но это обстоятельство — смена природной действительности на деятельностную при переходе к методологическим формам работы — ставит перед нами новый круг весьма сложных проблем: чтобы научиться работать с комплексными структурами знаний, объединяющими, с одной стороны, методические, конструктивно-технические, естественнонаучные, исторические и философские знания, а с другой стороны, знания об объектах и знания о знаниях и мыследеятельности, нужно разработать новую логику мышления, которую суммарно можно назвать логикой рефлексии; с этой точки зрения современная методология будет характеризоваться как основывающаяся на логике рефлексии.
К этому можно добавить, что сама логика рефлексии предполагает еще особые знания о рефлексии [Разработка… 1975, с. 131–143]. Когда мы обсуждаем весь этот круг вопросов, то движемся еще в одном, особом типе знаний, который может быть назван методологически рефлексивным. Многие из сделанных выше утверждений развертывались не в действительности методологии, а в действительности метаметодологии: вместо того чтобы осуществлять какую-либо мыслительную или деятельностную процедуру и демонстрировать ее, мы описывали либо ее саму, либо осуществляемое ею преобразование, его возможные продукты и результаты. Именно за счет этого и появлялось различие между действительностью методологии и действительностью методологической рефлексии (метаметодологии). И это обстоятельство тоже надо постоянно учитывать.
Многие из сделанных выше утверждений будут иметь разный смысл в зависимости от того, как мы их будем трактовать; как непосредственно объективируемые или как принадлежащие специфической действительности метаметодолога. В какой-то мере это различие может быть учтено и схвачено с помощью приема двойного (или вообще множественного) знания. В частности, можно задавать определенные изображения объекта и говорить, что это объект как он есть «на самом деле»; таким образом будет произведена объективация и мы сможем затем ставить вопрос о том, как такого рода объект может быть описан и реально описывается в зависимости от тех или иных исследовательских задач, и будем строить эти описания, получая второе знание об объекте. Но точно так же мы можем, задав определенное изображение объекта, сказать, что это только наше субъективное представление его, полученное в определенной профессиональной позиции, и тогда нам нужно будет затем ставить вопрос о том, каков же объект «на самом деле», и искать изображение для него. И хотя во втором случае, введя определенное изображение объекта, мы вводим таким образом представление о самом объекте, но его свойства и характеристики, его строение как объекта будут при этом проблематизироваться, в то время как строение и характер знания и его действительность будут догматизироваться; в первом же случае, наоборот, строение объекта будет догматизироваться, а строение знания — проблематизироваться. Но такая методологическая рефлексия — столь же необходимая и органическая часть методологического мышления, как и исследование, конструирование, проектирование, критика и т. п.
После этой суммарной характеристики методологии мы можем перейти к нашему основному вопросу: охарактеризовать с методологической точки зрения системный подход и наметить эскизный проект организации системно-структурной методологии.
III. Основная схема организации системно-структурной методологии
1. До сих пор мы всячески избегали вопросов о специфике системного подхода. И это было не случайно, ибо у нас не было рамок, в которых можно было бы на них отвечать. Теперь эти рамки есть, и мы можем перейти к обсуждению самого «системного подхода».
Наше первое утверждение в этом плане (в соответствии со всем тем, что было сказано выше) состоит в том, что специфика системного подхода может быть определена только при описании структуры и форм организации методологической работы, ибо, по нашему убеждению, системный подход существует только как подразделение и особая организованность методологии и методологического подхода. Он возникает в условиях, когда приходится объединять несколько разных предметов — об этом мы уже говорили — и двигаться при этом в соответствии со средствами и нормами методологии. И если само выражение «системный подход» и соответствующие ему организованности мышления и деятельности появляются также и у представителей специальных наук, то это происходит, на наш взгляд, только за счет того, что они заимствуют средства, методы и онтологию методологической работы. Следовательно, только описывая структуру методологической работы и методологии, мы можем подойти к вопросу о специфике системного подхода. До этого мы вообще не могли даже пытаться отвечать на этот вопрос. Более того, поскольку в методологической позиции можно пользоваться разными системами изображений, постольку специфика системного подхода, даже если мы ищем ее в действительности методологии и методологической работы, тоже будет определяться по-разному в зависимости от того, какую систему описаний мы выберем. Если мы выберем описание в теории мышления, то будем определять специфику системного мышления. Но можно описывать системный подход также и в средствах теории деятельности, и тогда специфика его будет выражена и зафиксирована иначе. Таким образом, и здесь мы должны учитывать момент множественности возможных представлений.
После того как это зафиксировано, можно сделать следующий шаг и попробовать собрать и изобразить на схеме те особенности или принципы методологического подхода, которые формулировались ранее. Иначе говоря, теперь нужно нарисовать схему системно-структурной методологической работы, учитывая сформулированные выше принципы.
2. В предшествующих рассуждениях было установлено, что методологическая работа направлена на деятельности — практические, инженерно-проектные, исследовательские, управленческие и т. п. и их организованности; она должна обеспечить их построение, организацию и дальнейшее развитие (ср. [1969 b; Разработка… 1975]). Эта работа носит содержательный характер и осуществляется на материале отдельных предметов — научных, инженерных, управленческих и т. п. Поэтому на схеме блоки предметов, вырастающих над практиками разного рода, охватываются частными системно-структурными методологическими разработками (см. схему 1). Но естественно, что методологическая работа не может ограничиться только этим: ведь частные системно-методологические разработки, будь то в физике, в биологии, в теории управления или в психологии, не могут дать общего понятия системы и не могут привести к созданию общих методов системной работы, равноприменимых во всех предметах. Следовательно, нужны еще слои методологической работы, которые обеспечивают все частно-методологические разработки общими понятиями, общими онтологическими картинами и логикой системного мышления. Таким образом, мы получаем четыре слоя деятельностей, каждый из которых как бы надстраивается над предшествующим и ассимилирует его; это: 1) слой практик (включая туда инженерно-конструкторские, организационно-управленческие, проектные, педагогические и другие разработки); 2) слой научных, инженерных, оргуправленческих, проектных и других предметов; 3) слой частных методологических разработок и, наконец, 4) слой общей методологии.
Теперь надо сделать следующий шаг и ответить на вопрос, как можно представить себе устройство общей системно-структурной методологии.
Выше мы уже подчеркивали, что продуктом методологических разработок должны быть не только и не столько знания (тем более научные), сколько методические предписания, проекты, программы, нормы и т. п., которые будут использоваться в нижележащих слоях мышления и деятельности — в частно-методологических разработках, в предметах разного рода и в практиках. Поэтому первая и основная часть общей системно-структурной методологии должна быть не исследовательской, а конструкторской и проектной. Схематизируя этот вывод, мы изобразили в «теле» общей методологии над совокупностью частно-методологических разработок слой общего методологического системно-структурного конструирования и проектирования (на схеме 1 стрелки, идущие от этого блока, изображают процесс обеспечения частно-методологических и предметных разработок общими средствами).
Отношения слоя методологического системно-структурного конструирования и проектирования к нижележащим слоям мышления и деятельности можно пояснить на примере научно-предметной работы (которая к настоящему времени проанализирована лучше, чем другие виды предметной работы).
В специальных логико-методологических исследованиях (см., в частности, [Пробл. иссл. структуры науки, 1967, с. 106–190]) было установлено, что во всяком научном предмете имеется по меньшей мере девять разных эпистемологических единиц: 1) проблемы, 2) задачи, 3) «опытные факты», 4) «экспериментальные факты», 5) совокупность тех общих знаний, которые строятся в этом научном предмете, 6) онтологические схемы и картины, 7) модели, 8) средства (языки, понятия, категории), 9) методы и методики (см. схему 2). Это набор основных блоков научного предмета.
Имея этот перечень, мы можем теперь задать вопрос, какие же из названных организованностей формируются и создаются непосредственно в научном предмете, а какие, напротив, заимствуются из методологии и формируются под ее определяющим влиянием. Историко-научный анализ дает здесь совершенно определенный ответ: по крайней мере четыре элемента всякого научного предмета — онтологические схемы и картины, средства и методы, а также проблемы — всегда вырабатывались либо целиком за пределами научных предметов (в философии и в зародышевых структурах естественнонаучной методологии), либо же формально в рамках науки, но на деле — в захваченных ею системах философского и методологического мышления.
Поэтому мы должны как бы удвоить эти четыре блока и поместить их — в другой связи и в другой соорганизации — еще и в саму методологию (прежде всего в ее конструктивные и проектные части) и показать стрелками, что основное содержание этих блоков внутри научных предметов порождается их двойниками в системе методологии (см. схему 2). И примерно тоже самое мы находим при изучении истории становления и развития инженерных, организационно-управленческих и других предметов.
Но для того чтобы блоки конструирования и проектирования, представленные в общей схеме системно-структурной методологии (см. схему 1), могли бы работать, нужно еще иметь по крайней мере две группы специальных знаний: во-первых — разнообразные знания (конструктивно-технические, проектно-технические, естественнонаучные и т. д.) о тех объектах, которые создаются конструктивно-методологической и проектно-методологической мыследеятельностью [1966 а, {с. 211–227}; Дубровский, Щедровицкий Л… 1971; Разработка… 1975,с. 393–408]); это — обязательное требование всякой продуктивной работы, не имеющей прототипов: поскольку блок методологического конструирования и проектирования поставляет в научные, инженерные и управленческие предметы определенные организованности, функционирующие дальше по законам этих предметов, то для проектирования необходимо знать назначение и функции этих организованностей, требования к их морфологии и т. п. [1969 b, с. 50–84; Дубровский, Щедровицкий Л., 1971; Разработка… 1975, с. 299–302]); во-вторых, методики и понятийные средства самого методологического конструирования и проектирования.
Эти два типа знаний должны войти в «тело» методологического конструирования и проектирования и использоваться там в качестве средств; но ясно, что до этого они должны быть где-то получены.
Выше мы уже подчеркивали, что методологическая работа не может быть сведена к одному лишь конструированию и проектированию. Она соединяет конструирование и проектирование с исследованием. Поэтому, кроме слоя методологического конструирования и проектирования, в системе методологической работы обязательно должен существовать по меньшей мере еще один слой методологической работы — слой исследований. По своему строению методологические исследования — это исследования особого типа, поскольку объектами их являются не физические, химические и биологические явления, а научные предметы, т. е. знания из тех или иных наук вместе с объектами этих знаний и вместе с деятельностью порождения и использования знаний; в силу этого мы должны здесь говорить об исследовании, которое отличается от естественнонаучного прежде всего спецификой своего объекта. Но специфика объекта изучения влечет за собой специфику средств и методов исследования, и поэтому точно так же мы можем и должны говорить здесь о специфике технологии методологических исследований.
Чтобы связать эти утверждения с дискуссиями, проходящими сейчас внутри системного движения, мы напомним тезисы, выдвинутые Дж. Клиром и В. Н. Садовским [Trends… 1972; Садовский, 1974]: «общая теория систем» является не теорией, а метатеорией; это значит, что на вопрос о том, что же является объектом понимаемой таким образом «общей теории систем», должен последовать и следует ответ: понятия, языки, методы, проблемы других наук.
Если оставить в стороне вопрос о целесообразности и правильности использования здесь термина «метатеория» и учитывать только суть дела, то можно сказать, что главное здесь нащупано и выражено: хотя ОТС — это не естественнонаучное исследование, но все же исследование, и, будучи исследованием, оно сильно отличается от традиционного естественнонаучного исследования.
На наш взгляд, Дж. Клир и В. Н. Садовский имеют в виду именно методологическое исследование; это исследование целиком входит в систему методологической работы — и этим определяется его специфика, но оно ни в коем случае не исчерпывает ни методологической работы в целом, ни даже методологического анализа, ибо наряду с ним в методологии есть и другие формы анализа, о которых мы будем говорить дальше. А эта форма, называемая методологическим исследованием, определена, во-первых, своей ориентацией на научные, инженерные, оргуправленческие и другие предметы, а во-вторых, своей функцией обслуживания методологической конструктивной и проектной работы. Учитывая рефлексивное происхождение исследовательской работы, мы должны представить ее в виде блока, охватывающего все то, что исследуется (см. схему 1).
Кроме того, в состав системно-структурной методологии должен войти по крайней мере еще один слой работы, назначение которого состоит в том, чтобы осознавать и систематизировать собственную организацию методологической работы в системной области: этот блок, следовательно, организует системно-структурную методологию как некоторое целое, связывая и объединяя воедино методологическое системно-структурное конструирование и проектирование со всеми обслуживающими его знаниями и методологическими системно-структурными исследованиями. Поэтому мы можем назвать его слоем «метаметодологии», или, точнее, системной авторефлексии методологии. Этот слой работы связывает системно-структурную методологию с более широкими, объемлющими ее системами — с философией диалектического материализма и всей культурой человечества, накопленной в ходе исторического развития. По сути дела это и есть слой собственно методологической рефлексии и методологического мышления, охватывающий все другие компоненты методологической работы и создающий специфику методологической организации мышления и деятельности. Пока что мы не можем характеризовать его через специфику языка, понятий и процедур методологического мышления, но мы уже определенным образом ухватили и выразили его в соорганизации и связях объектов методологической рефлексии и методологического мышления, а дальше задача будет состоять в том, чтобы сформировать средства и методы методологического мышления как соразмерные организации его объектной области, или пространства его объектов.
Таким образом, смысл всей описанной нами схемы может быть резюмирован в одном утверждении: если мы хотим рассматривать и характеризовать структуру и формы организации методологии системно-структурных исследований, то должны исходить не из схемы научного предмета и его основных функциональных единиц, представленной на схеме 2, а совсем из иной схемы организации мыследеятельности, именно из той, которая представлена на схеме 1, и рассматривать методологию как сверхпредметную структуру, охватывающую как предметы, так и практики разного рода и предполагающую не одно какое-то отношение к ним, а массу разных отношений — не только исследовательское, но и конструктивное, проектное, рефлексивное, организационное и т. д.
В силу этого структурно-системная методология оказывается не просто сложной структурой и сложной системой, а гетерогенной и гетерархированной системой, имеющей одновременно как ступенчато-иерархированное, так и «матрешечное» строение.
Основную «субстанцию» (если только так можно выразиться) этой системы образует методологическая рефлексия, которая захватывает практики разного рода и обслуживающие их или независимые предметы — скажем, геотехники и геологии, электротехники и теории электричества, психотехники И психологии и т. д. и т. п.; в этих практиках и предметах разного рода системно-структурная методологическая рефлексия выделяет системные проблемы разного рода, затем (в соответствии с разными мыслительными отношениями) оформляется в разные виды и типы системно-структурного мышления: программирующее, проектное, конструктивное, исследовательское, организационное и т. д. Все эти различные типы методологического мышления выявляются, оформляются и организуются внутри рефлексии — из ее собственной субстанции и субстанции захваченных ею практик и предметов. Кроме того, все эти организованности методологического мышления соорганизуются еще друг с другом в определенные кооперативные структуры, соответствующие линиям циркуляции их продуктов в пространстве методологии. Методологическое программирование поставляет во все другие подразделения методологии программы мыслительной и практической работы, методологическое проектирование — проекты практик и предметов разного рода, методологическое конструирование — системно-структурные онтологии, средства системно-структурного анализа, т. е. системную графику, понятия, описывающие употребления этой графики в мыслительной работе, основные категории, процедуры и методы системного мышления и т. д. и т. п., а методологическое исследование — знания о системно-структурных аспектах практической и предметной работы.
Для правильного понимания всей этой организации очень важно иметь в виду, что системно-структурное методологическое исследование направлено не на системные объекты, а на системно-структурную мыследеятельность и описывает ее процессы, механизмы и строение; поэтому, кроме «системщиков», работающих в разных частных предметах и на материале практики, должны быть еще «чистые системщики», или «системщики-методологи», которые осуществляют системно-структурное методологическое программирование, проектирование и исследование и в ходе него создают и исследуют то, что мы называем «структурами вообще» и «системами вообще».
Обобщая этот момент, связанный уже с различием позиций и типов работы внутри методологии, мы можем теперь сказать, что в рамках системно-структурной методологии существует и должно существовать много разных типов и способов мышления и мыслительной работы, а соответственно этому — много разных позиций и, можно даже сказать, специализаций. Это будут: 1) организация системных практик разного рода, 2) разработка системных проблем в рамках частных предметов науки, инженерии, управления и т. п., 3) системно-структурное программирование исследований и разработок, 4) системно-структурное проектирование, 5) системно-структурное конструирование, 6) методологическое системно-структурное исследование, описывающее системные разработки в рамках научных, инженерных и управленческих предметов и практик разного рода, и, наконец, 7) методологическая авторефлексия всей области системно-структурных разработок в целом.
И если мы хотим наладить порядок в нашем «цехе» системно-структурной методологии, то должны учитывать, с одной стороны, принципиальное различие всех этих видов и типов деятельности, а с другой стороны, их органическую связь в рамках системно-структурной методологии. Если какую-то из этих областей элиминировать, то никакой системно-структурной методологии в целом не получится и в конце концов будут подорваны и перестанут развертываться системно-структурные исследования в научных, инженерных и организационно-управленческих предметах и в практике.
IV. Организация методологической работы и проблемы построения системного подхода
1. Все, что было сказано нами выше и представлено на схеме 1, это определенный проект организации методологического мышления и методологической работы в системной области. И в этой связи напрашивается вопрос: какое же отношение все это имеет к системному подходу, тому самому системному подходу, который должен дать нам конкретные системные категории, системные методы анализа и системные представления для различных областей практики и научного исследования? И в этом вопросе вместе с тем будет звучать сомнение в том, что все сказанное имеет прямое и непосредственное отношение к делу, что оно задает и определяет специфику системного подхода: ведь все это некоторые общие схемы организации методологической работы, и они, как кажется, не связаны непосредственно с особенностями системно-структурных представлений, которые в конечном счете, очевидно, определяют и задают сам системный подход; так примерно будет формулироваться здесь основное возражение.
С точки зрения традиционных натуралистических представлений оно совершенно законно. Но именно с натуралистической точки зрения, исходящей из того, что «она уже знает», что такое системный подход, а не с точки зрения методологических и деятельностных представлений, которые развертываются в предположении, что адекватных и эффективных системно-структурных представлений у нас сейчас нет, что их еще только надо выработать, получить, и в этом, в частности, состоит задача системного движения.
Но если эти последние утверждения правдоподобны, то у нас могут быть только две стратегии: 1) непосредственно приступить «к делу» и начать конструировать системно-структурные представления, не зная, как это делать и что должно получиться в результате, либо же 2) спроектировать и создать такую организацию, или «машину деятельности», которая бы в процессе своего функционирования начала перерабатывать современные зародыши системно-структурных представлений в стройную и непротиворечивую систему системных взглядов и системных разработок. Третьей стратегии не дано, хотя всегда есть путь (кстати, самый массовый и самый распространенный) нового обговаривания и переформулирования уже имеющихся представлений, созданных другими, но он не дает подлинных вкладов в культуру.
Итак, есть две возможные стратегии собственно продуктивной работы. Первая не может устроить нас по чисто профессиональным соображениям (хотя вместе с тем мы хорошо понимаем, что без нее или ее элементов не обходится никакая работа, в том числе и самые рафинированные методологические построения). Поэтому, нисколько не отрицая значения первой стратегии, мы тем не менее для организации своей работы выбираем вторую. Наша задача — создание особой «машины мыследеятельности», которая будет производить системно-структурные представления; и в этом, на наш взгляд, суть методологического подхода к разработке системно-структурной методологии.
Для натуралистического мировоззрения, как уже говорилось, такой ход представляется несуразным. Методологов постоянно спрашивают: а вы имеете схемы или планы тех системно-структурных представлений, которые должна создавать эта «машина»? Ведь если не знать этих продуктов, то нельзя сконструировать и «машину»! По сути дела, задача здесь ставится так: дайте нам системно-структурные представления, и мы сконструируем соответствующую им «машину». На это мы отвечаем: если бы у нас уже были системно-структурные представления, то нам незачем было бы создавать эту «машину»; в том-то и дело, что у нас этих представлений еще нет и, более того, мы даже не знаем, какими они должны быть, и, чтобы как-то выйти из этой безнадежной для «натуралиста» ситуации, мы создаем «методологическую машину», которая будет производить нужные нам системно-структурные представления. То, что это будут системно-структурные представления, гарантируется тем, что «машина» будет ориентирована на системные проблемы и будет перерабатывать материал системной области, а то, что это будут методологические представления, гарантируется методологическим устройством самой «машины». Устройство «машины» и характер перерабатываемого ею материала, следовательно, должны гарантировать нам необходимое качество получаемых продуктов.
Здесь, правда, возникает следующий вопрос (и в ответах на него возможны сильные расхождения): на какой именно материал системной области и каким образом должна быть ориентирована или направлена эта «методологическая машина»? Но, на наш взгляд, ответ на него уже дан предлагаемой нами схемой организации методологической работы. Если кто-то думает, что методологическое мышление, подобно научному, направляется на натуральные объекты, то он, естественно, будет считать таким материалом системно представленные натуральные объекты; тот, кто думает, что методологическое мышление направлено на научные предметы и знания, будет считать основным материалом системного подхода системные знания и проблемы, а тот, кто считает предметом методологического анализа процедуры, методики и методы исследовательской и проектной работы, тот, естественно, выделит на передний план их системные аналоги. Для нас в рамках идеи методологической организации системно-структурных исследований и разработок равно-приемлемы все эти варианты: они все войдут в предлагаемую схему организации. И это, по-видимому, главное.
Важное преимущество такой организации системно-структурных исследований и разработок состоит в том, что она не отвергает ни одного из существующих вариантов предметной и методологической работы, принимает их все и показывает место, роль и необходимость каждого. Но она, кроме того, берет их в связях и отношениях друг с другом, в их сопричастности к целому и в их зависимостях от целого и на основе этого дополнительно углубляет и развивает каждый из этих видов работы.
Кроме того — и это очень важно для понимания существа дела, — эта схема устанавливает особые отношения между структурой (или устройством) «методологической машины» и захватываемым ею материалом. Характер «машины» определяется по крайней мере и тем, и другим; материал, который она включает в себя, в такой же мере влияет на характер и качество ее продукта, как и сама структура (или порядок и последовательность переработки материала соответствующими формами); и, более того, сам материал за счет специфического устройства этой «машины» (в особенности за счет работы блока авторефлексии) все время оказывает давление на устройство «машины», все время перерабатывается в устройство «машины», в ее формы.
И если уж останавливаться на вопросе, почему предлагаемый проект организации системно-структурной методологии и все связанные с ним представления кажутся обычно странными и вызывают много возражений, то надо указать прежде всего на это решение вопроса об отношении между конструкцией «машины» и захватываемым ею материалом: в предлагаемом нами проекте системно-структурной методологии конструкция «машины» рассчитана не только на переработку захватываемого ею материала, но также на имитацию и воспроизведение морфологии этого материала (по сути дела этот принцип является дальнейшим обобщением принципа содержательности логических форм, лежащего в основании содержательно-генетической логики); конкретно это отношение реализуется в «машине методологии» за счет методологической рефлексии и блока методологических исследований системной работы во всех видах и типах человеческой деятельности.
2. Наконец, есть еще одно основание для возражений, выдвигаемых обычно против предлагаемой нами схемы организации системно-структурной методологии. Оно связано с неправильным, на наш взгляд, пониманием процессов истории и механизмов развития человеческой деятельности. Нередко задают вопрос, как можно обосновать то, что предлагаемая система методологической работы решит именно ту совокупность проблем, которые стоят сейчас в различных областях науки и практики и характеризуются обычно как системно-структурные проблемы. Но суть нашей точки зрения как раз в том и состоит, что вся охарактеризованная выше система методологической работы создается и организуется отнюдь не для того, чтобы решать сегодняшние проблемы, называемые «системно-структурными» (хотя по ходу дела она должна решить или чаще всего снять и эти проблемы); система методологической работы создается для того, чтобы развивать все совокупное мышление и совокупную деятельность человечества. Непосредственным поводом для создания ее служат сегодняшние проблемы, но если бы мы ограничили наши цели и задачи только ими, то это была бы во многом пустая или, во всяком случае, малоэффективная работа. Поэтому реальной целью системно-структурной методологии должно быть не устранение и преодоление той или иной группы частных проблем, а обеспечение постоянного и непрерывного системного развития деятельности. При этом, естественно, должны постоянно выявляться и фиксироваться возникающие проблемы. Но было бы ошибкой думать, что напряжения и разрывы в деятельности (или проблемы) однозначно определяют направления и способы их разрешения, или, в других словах, переходы к задачам. Ничего подобного. В абстрактной возможности существует всегда бесконечное множество решений каждой проблемы, а в практическом плане — достаточно большое число существенно разных решений. Если мы объединяем проблемы и ищем одно решение для каждой из таких объединенных групп, то найти практически значимое решение, конечно, труднее, чем для каждой отдельной проблемы, но все равно таких решений всегда может быть несколько разных. Таким образом, напряжение, разрыв или проблема в мыследеятельности не определяют еще однозначно задачу мыследеятельности; во многом задача определяется используемыми нами средствами, а средства есть всегда результат нашей «испорченности», нашего индивидуального вклада в историю, и именно они определяют, каким образом и за счет каких конструкций будет преодолен и снят тот или иной набор затруднений, разрывов и проблем в деятельности.
Все это в полной мере относится и к системному движению. Нельзя спрашивать, даст ли предлагаемая организация системно-структурной методологии те самые, нужные нам системно-структурные представления, ибо никто не может сказать заранее, какие же именно системно-структурные представления нужны. Есть определенный набор напряжений, затруднений и проблем в деятельности, которые мы считаем системно-структурными. Но это лишь повод для создания системного подхода и системно-структурной методологии, а когда последняя будет создана, то именно производимые ею представления и средства анализа и будут системно-структурными в точном смысле этого слова.
Таким образом, критика исходит из предположения, что специфика системно-структурных представлений и системного подхода может быть задана безотносительно к средствам, используемым нами для создания данных представлений, а мы, наоборот, утверждаем, что это немыслимо, что характер системно-структурных представлений и системного подхода в целом будет определяться в первую очередь характером используемых нами средств и соответственно предлагаем считать подлинными системно-структурными представлениями те, которые будут производиться созданной нами «машиной» системно-структурной методологии.
Такой подход непосредственно вытекает из характеристики системного движения, данной нами выше: установка на системные разработки есть, а что такое «система» и «системное» неизвестно; во всяком случае, представители разных групп в системном движении понимают все это по-разному. Эти различия вытекают из различия средств и ценностных установок. Поэтому прежде всего надо инвентаризировать и определить эти средства и установки. Мы со своей стороны выдвигаем концепцию методологической организации системной работы. И для нас поэтому совершенно естественно считать, что подлинными системно-структурными представлениями будут те, которые создает эта организация, так же как для представителей других групп естественно считать, что подлинные системно-структурные представления будут созданы по предлагаемым ими моделям.
При этом мы отнюдь не считаем намеченный нами путь единственным; мы лишь считаем его наиболее широким и наиболее эффективным с точки зрения идеи непрерывного развития мыследеятельности. Всякий разрыв в исторической ситуации должен быть заполнен какой-то конструкцией, но такого требования, чтобы это была одна-единственная конструкция, как мы сейчас понимаем, в истории нет и не может быть. Из разрывной ситуации, образно говоря, мы можем идти в разные стороны, а куда целесообразнее всего идти — определяется не этой ситуацией, а перспективными траекториями нашего дальнейшего движения. Наша программа — создание новой формации мышления, которую мы называем методологической, и новых форм организации мыследеятельности, которые как «машины» произведут новые системно-структурные представления. И если нас спрашивают: а будут ли это мышление и эти формы организации мыследеятельности соответствовать старым ситуациям (от которых мы отталкиваемся), старым проблемам и намечающимся в этих ситуациях представлениям, то мы отвечаем, что, конечно же, не будут: какой же смысл создавать новые формации мышления и новые «машины деятельности», чтобы в результате вернуться в старые системы и к старым проблемам.
3. Таким образом, мы вновь подошли, но уже с другими представлениями, к основному и решающему пункту современных дискуссий. Разработка системного подхода не имеет и не может иметь, на наш взгляд, самодовлеющего значения. Системный подход в нынешней социокультурной ситуации может быть создан и будет эффективным только в том случае, если он будет включен в более общую и более широкую задачу создания и разработки средств методологического мышления и методологической работы. И такой путь, как мы стремились показать, соответствует условиям возникновения системного подхода и традициям его развития. Справедливо и обратное утверждение: системный подход, как нам представляется, является одним из важнейших моментов современного методологического мышления и современной методологической работы, без него методология сегодня не может ни сложиться, ни существовать. Поэтому важнейшей социокультурной задачей на современном этапе является соединение системного подхода с методологическим подходом и его различными вариантами, такими, как деятельностный, нормативный, типологический подходы, и обратно — обогащение и развитие методологического подхода и всех его разнообразных вариантов за счет специфических средств системного подхода. И эта двусторонняя задача может быть решена, по нашему мнению, с помощью и в рамках охарактеризованной выше методологической организации систем мыследеятельности.
Организационно — деятельностная игра как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности[69]
Вступление
Середина XX в. сделала отчетливыми многие изменения в условиях нашей жизни, в том числе кардинальные изменения в средствах, способах и формах организации нашего мышления и деятельности. Осознано, что инженерное мышление принципиально отличается от научно-исследовательского и нуждается для своего оформления в иных, нежели традиционные, логико-методологических схемах и правилах, способных соединять исследовательскую работу с конструктивной и проектировочной. Зафиксировано, что организационно-управленческая деятельность стала профессиональной, вошла в системы производственной работы и, следовательно, тоже нуждается в своей особой логике и методологии мышления. Планирование выделилось в особый тип мыследеятельности (т. е. мышления, включенного в контекст практической деятельности, далее всюду — МД) и сформировало вокруг себя особый пласт прожективного мышления (объединяющего прогнозирование, программирование, оргпроектирование и т. п.), которое точно так же нуждается в новых средствах, новой логике и новых формах организации. Теперь известно, что научное исследование, отчасти в процессе своего имманентного развития, отчасти под влиянием уже названных изменений в других сферах МД, распалось на массу изолированных друг от друга научных предметов, каждый из которых развивается практически независимо от других, и поэтому, чтобы достаточно эффективно решить какую-нибудь практическую задачу, приходится проделывать специальную работу по комплексированию этих научных предметов и еще дополнительно увязывать их с конструктивными и проектными разработками и все это вместе взятое вставлять в стандартные формы и модули соорганизации, руководства и управления МД, осуществляемой коллективами людей (ср. [1981 а *, Мирский, 1980; Разработка… 1975; Комплексный… 1979]).
Последний момент представляется нам имеющим самостоятельное значение, ибо он связывает изменения в структурах МД с условиями работы каждого отдельного человека. Сегодня в процессах эксплуатации созданных нами технических систем и в процессах непрерывно расширяющегося освоения мира мы постоянно сталкиваемся с такими задачами и заданиями, решение которых выше возможностей каждого отдельного человека и требует участия в работе большого коллектива, составленного из представителей разных профессий, разных научных дисциплин и предметов. Однако соорганизация их всех в одну работающую систему оказывается, как правило, невозможной: профессионально и предметно организованное мышление каждого ставит этому труднопреодолимые преграды, высокий профессионализм не столько обеспечивает совместную коллективную работу, сколько мешает ей; предметное мышление каждого, замкнутое на свою профессиональную работу, не стыкуется и не соорганизуется с предметным мышлением других, не входит в комплекс полипредметного и полипрофессионального мышления, которое здесь необходимо.
И эта ситуация — фиксируемая сейчас повсеместно, практически в каждой сфере и отрасли МД — порождает очень сложную культурно-историческую проблему, имеющую много разных аспектов. Решение ее связано с изменением многих общественных факторов — с подготовкой таких специалистов и профессионалов, которые могли бы решать сложнейшие народнохозяйственные задачи в условиях коллективной и комплексированной работы, с созданием более гибких и содержательных форм институциональной и административной организации коллективной деятельности, с изменением существующих форм образования и т. п., но самое главное и решающее, по нашему глубокому убеждению, заключено все же в разработке новых средств, методов и форм организации надпредметного и надпрофессионального мышления и МД, тех средств, методов и форм организации, которые в литературе последних лет получили название методологических.
У нас в стране осознанная и целенаправленная разработка этих средств, методов и форм организации мышления (далее — М) и МД началась на рубеже 40-х и 50-х годов и сейчас интенсивно продолжается по многим линиям. И именно в одной из этих линий как форма практической реализации системомыслительной (далее — СМ) и системомыследеятельностной (далее — СМД) методологии были задуманы и созданы два вида игр: в начале 60-х годов — интеллектуально-методологические игры (далее — ИМИ), а в 1979 г. — организационно-деятельностные игры (далее — ОДИ).
К настоящему времени ОДИ начинают получать распространение в качестве средства и метода решения сложных проблем, имеющих важное народнохозяйственное значение, и, более того, в качестве достаточно универсальной и эффективной формы организации, развития и исследования коллективной МД.
Предыстория становления ОДИ
В процессе становления и развития ОДИ, с одной стороны, можно выделить ряд сформировавших ее базовых компонент, а с другой стороны, саму эту предысторию разбить на ряд периодов, организуемых в соответствии с логико-онтологической структурой категории происхождения [1963 с].
ОДИ строятся в исходных принципах на марксистской теории деятельности. Конкретным их основанием (первой базовой компонентой) являются определенные методологические концепции, которые сами прошли в своем развитии три основных этапа:
1) с 1952 г. по 1960 г. — этап содержательно-генетической зпистемологии (логики) и теории мышления [1957 b; 1962 а *; 1965 с; 1976; Семиотика… 1967];
2) с 1961 г. по. 1971 г. — этап деятельностного подхода и общей теории деятельности (см., к примеру, [1969 b; 1970; Генисаретский, 1970; Сидоренко, 1972; Обучение… 1966; Семиотика… 1967; Пробл. иссл. структуры… 1967; Разработка… 1975]);
3) с 1971 г. — этап СМД-подхода с одновременным переносом центра тяжести теоретических исследований и разработок на общую структуру методологии и ее основные единицы — подходы (см., к примеру, [1974 а*; 1981 а*]).
И хотя в практике ОДИ реализуются идеи всех трех этапов, тем не менее сама ОДИ как особая форма организации коллективного М и МД могла появиться только на третьем этапе, когда произошло объединение системомыслительных и системодеятельностных представлений и методов.
Второй базовой компонентой ОДИ была практика проведения полидисциплинарных комплексных методологических семинаров, сложившаяся к 1955 г. и получившая широкое распространение в первой половине 60-х годов (см., например, [Спиркин, Сазонов, 1964; 1970 a]). Уже к концу 1962 г. в ходе дискуссий, с одной стороны, по поводу проблем рефлексии, с другой — по поводу проблем взаимоотношений организатора и руководителя работ с коллективом [Пробл. иссл. систем… 1965, с. 61–68] и, с третьей стороны, по поводу организации полипредметного М и соответственно этому — по поводу методов и техник синтеза, конфигурирования и соорганизации разнопредметных знаний [1964 а*; 1964 h*; 1966 j; 1971 і; 1981 а*; Комплексный… 1979] эта практика методологической работы стала осмысливаться в идее ИМИ. При этом собственно методологическая проблематика постоянно формировалась как рефлексивное отражение практики идущих в это время методологических семинаров [1964 а"; 1966 j; 1981 а*; Спиркин, Сазонов, 1964; Пробл. иссл. систем… 1965, с. 61–68; Пробл. иссл. структуры… 1967, с. 106–121; Логика… 1977].
Параллельно с этим — и это дало третью, очень важную компоненту ОДИ — на базе НИИ дошкольного воспитания АПН РСФСР с 1961 г. проводились общеметодологические, социокультурные и психолого-педагогические исследования игр детей [1964 b*; 1973 d; Надежина, 1964 b; Психология… 1966]; по-видимому, именно это соединение теоретического и организационно-методологического анализа детских игр с практикой работы методологических семинаров и привело в 1962 г. к появлению идеи ИМИ, сыгравшей свою роль в дальнейшем при формировании идеи ОДИ.
К концу 60-х и началу 70-х годов сложилось уже совершенно отчетливое понимание того, что методология — это не просто учение о средствах и методах нашего М и деятельности, а форма организации и в этом смысле «рамка» всей МД и жизнедеятельности людей, что методологию нельзя передавать как знание или набор инструментов от одного человека к другому, а можно лишь выращивать, включая людей в новую для них сферу методологической МД и обеспечивая им там полную и целостную жизнедеятельность. В этой связи, естественно, встал вопрос о тех формах практической организации МД, в которых коллективное методологическое М могло бы выращиваться не только в узких и эзотерических группах методологов, но и в значительно более широких по своему составу группах профессионалов и специалистов.
Эти размышления подкреплялись и стимулировались установками на поиск эффективных форм организации комплексных и системных исследований и разработок, которые могли бы обеспечить решение важнейших народнохозяйственных проблем и задач. Чисто теоретический поиск этих форм продолжался примерно до 1976 г.
Весь этот долгий период с 1952 по 1976 г. можно считать первым, инкубационным периодом становления ОДИ.
Второй период — по сути своей он был переходным — охватывает сравнительно короткое время: с конца 1976 г. по июль 1979 г. В работах, начатых совместно с Д. А. Аросьевым и В. И. Астаховым, была сделана попытка включить средства, методы и организационные формы, созданные в ходе ИМИ, в контекст и в систему учебных деловых игр (далее — УДИ), которые мы проводили с коллективами спортивных тренеров, работавших в центрах олимпийской подготовки, и в результате этого появились очень своеобразные гибридные игры, соединявшие в себе свойства УДИ и свойства ИМИ.
В этот период мы провели четыре многодневные игры такого типа и еще несколько игр меньшего масштаба, в которых отрабатывались различные фрагменты больших игр. Каждая из этих игр детально анализировалась на следовавших за нею многонедельных рефлексивных разборах, и было подготовлено три отчета по играм для ЦСК ДСО профсоюзов (см., например, [1978 b]).
Этот опыт включения ИМИ в организационный контекст и идеологию УДИ можно считать четвертой важнейшей компонентой в становлении ОДИ. Главным результатом этого периода было то, что мы на практике увидели и поняли, что работу тренеров по подготовке высококлассных спортсменов практически невозможно представить в каких-либо общезначимых нормах и моделях. В силу этого никто в этих условиях не может выступать в роли учителя, владеющего нормой, и, следовательно, определение путей и способов подготовки каждого отдельного спортсмена выступает всегда как экземплифицированная проблема, которую, подобно многим народнохозяйственным или методологическим проблемам, можно и нужно решать как уникальную и неповторимую — путем организации сложной конфликтной ситуации, выявления и фиксации множества проблем, с разных сторон отражающих эту конфликтную ситуацию, перевода их в пакеты традиционных и новых задач и последовательного решения этих задач в соответствии с параллельно создаваемыми планами работы.
На этом опыте мы поняли также, что тренеров высокого класса надо не обучать, а непрерывно развивать, и необходимая для этого организационная форма должна походить скорее на форму ИМИ, нежели на форму УДИ.
К весне 1979 г. сложилась уже прямая и предельно конкретизированная установка на выработку новой формы игр, которая могла бы обеспечить разрешение сложных народнохозяйственных и социокультурных проблем, достигала полного жизненного включения участников в процесс мыслительной работы, развивала их и, следовательно, была бы достаточно близка к организационным формам ИМИ, но вместе с тем придала бы им более экзотерическую и деятельно-практическую форму. И этот круг вопросов непрерывно обсуждался заинтересованными лицами во время встреч на различных совещаниях и конференциях.
Поэтому мы с большим интересом отнеслись к предложению одной научно-проектной организации, сделанному в июле 1979 года, провести аналитический разбор темы «Разработка ассортимента товаров народного потребления для Уральского региона», включенной в план важнейших народнохозяйственных проблем. По времени это предложение совпало с началом совместной разработки коллективами сотрудников НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР и МОГИФК новой темы «Анализ техники решения сложных проблем и задач в условиях неполной информации и коллективного действия», и мы тогда решили, что это новое предложение как нельзя лучше подходит для того, чтобы спроектировать и практически проверить новую, комплексную и системную форму организации коллективной МД, направленной на решение сложной народнохозяйственной проблемы, и по ходу этих проектных и программирующих разработок, а затем по ходу организации и осуществления всей коллективной работы провести параллельные исследования процессов решения проблем и задач в условиях неполной информации И коллективного действия, а вместе с тем и всей вообще коллективной МД. Таким образом в структуру ОДИ вошло в качестве непременного условия и компоненты само исследование рабочих и игровых, а также жизнедеятельностных процессов групп и всего коллектива в целом. Дальнейший опыт показал, что подобные исследования являются одним из важнейших факторов коллективной МД, и они закрепились а качестве базовой компоненты, конституирующей саму форму ОДИ.
По сути дела, решение спроектировать новую форму организации для коллективной МД, направленной на решение проблемы «Разработка ассортимента товаров народного потребления», завершило предысторию становления ОДИ и ввело нас в ситуацию порождения ОДИ (ср. [1963 с]), соединившую все естественно сложившиеся в предыстории компоненты с целенаправленной технической установкой на искусственное создание новой формы организации МД.
Ситуация становления ОДИ
Ситуация, в которой разрабатывались оргпроект и программа первой ОДИ, была довольно необычной с точки зрения традиционных производственных и нировских установок и соединяла в себе ряд моментов, которые мы сейчас считаем необходимыми и обязательными условиями всякой ОДИ:
1. Заказчик находился в весьма сложном положении: он не знал и не представлял себе, как выполнить задание, числившееся в его плане, и поэтому сам не мог сформулировать ТЗ на предстоящую работу, но вместе с тем ждал, что его выведут из тупика, в котором он оказался.
2. Разработчики-методологи имели четкое и ясное понимание того. что тупик, в котором оказался заказчик в связи с данным заданием, не случаен, а является закономерным и обусловлен тем, что не существует никаких профессиональных и дисциплинарных образцов и никаких способов профессионального и дисциплинарного решения того задания, которое он получил; иначе говоря, это задание квалифицировалось не как задача, а как проблема, и притом обязательно — как полипрофессиональная и полидисциплинарная (ср. [Комплексный… 1979]).
3. Методологи уже знали и хорошо понимали, что задания такого рода — а они к этому времени стали типичными и массовыми — могут решаться только на пути разработки и создания новых форм организации коллективной МД, тех самых форм, которые в литературе получил название междисциплинарных, комплексных и системных (см., к примеру, [Мирский, 1980]).
4. Группа методологов всем ходом своего предшествующего развития уже была приведена к установке создать такую игровую форм организации коллективной МД, реализующей основные идеи и принципы СМД-методологии, которая бы наглядно показала и доказала прикладную, практическую эффективность и значимость как самой этой формы игры, так и стоящей за ней СМД-методологии.
5. Все участники предстоящей игры, и в первую очередь сами методологи, хорошо понимали, что никто из них не имеет, во-первых, способов решения поставленного перед ними задания, а во-вторых, способов организации необходимого в этих условиях коллективного мыследействования; как второе, так и первое надо было искать в ходе самой коллективной работы, а значит, всем участникам предстояло развивать существующие средства, методы и оргформы МД и развиваться самим.
Именно с этим пониманием и этими установками мы и приступили к разработке оргпроекта и программы первой ОДИ. При этом само выражение «игра» при всех имевшихся в нашем распоряжении теоретических концепциях игр детей и взрослых, при всем нашем опыте проведения ИМИ и УДИ на первых порах употреблялось совершенно условно и несло в себе преимущественно негативный смысл: «игра» — значит не конференция, не совещание, не симпозиум и не работа в обычном смысле этого слова, а нечто совсем иное; что именно — это мы тогда плохо себе представляли.
А обдумывалось и обсуждалось проектируемое мероприятие прежде всего в терминах заданной темы и возможного мыследеятельного содержания, т. е. того рабочего процесса, который мы должны были осуществить совместно с сотрудниками института. Поскольку на основную часть игры отводилось всего 9 дней, мы с самого начала не могли рассчитывать на выполнение исходного задания в целом — разработку ассортимента товаров народного потребления для Уральского региона, а решили сосредоточиться на первом, предварительном этапе этой работы (имевшем для нас куда большее значение) — на программировании комплексных исследований и проектных разработок (далее — КИПР), обеспечивающих в дальнейшем создание ассортимента товаров народного потребления. Эти соображения с самого начала позволили нам спроектировать несколько рабочих групп, каждая из которых занималась своим особым ассортиментом, но все они делали одну и ту же работу в плане программирования КИПР.
Указанная сдвижка темы в принципе не влияла на характер проблемной ситуации: вторая тема была столь же проблематичной, как и первая, ибо к этому моменту не было ни профессионалов в этой области КИПР, ни сколько-нибудь технологизированных и закрепленных в методиках средств и методов подобной работы. Мы хорошо понимали, что если хотим разрешить путем коллективных усилий эту проблему, то должны по ходу дела, опираясь на все то, что имели участники игры, нащупать, найти, слепить, с одной стороны, средства, методы и технику программирующей МД, а с другой стороны — знаковые формы для выражения и фиксации самой программы КИПР. Но каким в принципе могло быть то и другое — этого мы не знали, ибо все существующие и известные нам формы явно не подходили к данному случаю. Таким образом, даже формулировки целевого задания для самих себя были явно парадоксальными, а в каком-то смысле и просто неприемлемыми (хотя сейчас мы уже хорошо понимаем, что это необходимая и, может быть, даже единственно возможная форма фиксации целей в проблемной ситуации): «Иди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».
Разработчикам оргпроекта и программы игры было ясно, что средства, методы, техника и знаковые формы программирующей МД могут быть получены только из того, что уже имели реальные участники игры, в первую очередь — из средств, методов, техники и знаковых форм проектной, исследовательской, методологической, оргуправленческой МД, но опять-таки не путем простого их суммирования и механических композиций, а лишь путем переплава и развития всего этого в условиях коллективной полипрофессиональной и особым образом организованной МД. Значит, основная рабочая цель и задача состояли в том, чтобы найти такие формы организации коллективной МД, которые заставили бы всех участников, во-первых, работать совместно — а это можно было сделать только на путях комплексирования и систематизации профессиональной работы, — а во-вторых, в ходе этой совместной работы переплавлять свои собственные средства, методы, техники и знаковые формы М так, чтобы в результате появились новые средства, методы и техники программирования.
Совершенно ясно, что на том, первом этапе оргпроектирования и программирования предстоящего мероприятия все наши целевые установки были чисто ситуативными и не несли в себе идеи создания новой социокультурной формы игры. Конечно, разработчики оргпроекта и программы преследовали также и свои формальные цели и задачи: создать формы прикладной СМД-методологии и показать их практическую эффективность — об этом уже было сказано выше, — и потому все обсуждения на первом, подготовительном этапе шли в достаточно обобщенных формулировках, но цели работы все равно оставались сугубо практическими и ситуативными: нужно было создать формы организации для коллективной межпрофессиональной МД группы людей, которые бы по мере своего развертывания по ходу дела привели к формированию МД нового типа — собственно программирования. И это надо было сделать для данных конкретных условий и для данного достаточно хорошо известного коллектива людей. На большее разработчики новой формы организации МД тогда не подряжались. Поэтому они не знали и не могли знать, что именно они создадут: будет ли эта оргформа коллективной МД формой на один раз, уникальным и единичным творением, или же она приобретет общее значение и станет некоторой общей культурной формой, достаточно эффективной во всех случаях, когда надо организовать коллективную МД, направленную на разрешение сложных народнохозяйственных проблем. Если вопросы такого рода вдруг и возникали по ходу дискуссий на подготовительном этапе, то их беспощадно отсекали как преждевременные и вообще не относящиеся к существу дела.
Точно так же отсекались все рефлексивные метавопросы: почему мы называем проектируемую форму коллективной МД «игрой», и в какой мере она действительно «игра», а в какой мере «не-игра», и как в том, что мы проектируем, связаны рабочие и игровые процессы и способы действования, и будет ли «играть» тот, кто будет лишь работать или бороться в рамках «игры» и в принципе не примет игровой формы и не будет осуществлять игровых действий, и т. д. и т. п. Все эти вопросы, конечно, возникали и ставились в процессе подготовки первой игры, но они, повторяем, отсекались как незначимые и несущественные на этом этапе работы и все переносились на будущее, т. е. на рефлексивное обсуждение всего этого мероприятия после того, как оно пройдет и покажет, что оно собой представляет на деле.
В этом, конечно, заключалась слабость этой части нашей работы: мы действовали без многих необходимых понятий, но мы делали то, что могли.
В силу совершенно естественных обстоятельств работа по подготовке и проведению игры распалась на два этапа, существенно отличающихся друг от друга как по составу участников, так и по формам организации. Первый этап — подготовительный — проходил в Москве, и в нем принимали участие прежде всего будущие организаторы игры в Новой Утке на базе научно-проектного института. На этом этапе нужно было разработать основной замысел и концепцию проводимого мероприятия, сформулировать основные рабочие цели, которые нужно было достичь с помощью игры (последняя выступала здесь как средство достижения этих целей и именно в этой своей функции рассматривалась и проектировалась), надо было разработать оргпроект, программу и план игры, а для самых существенных и острых моментов — также и сценарии, надо было произвести первую предварительную функциональную структуризацию коллектива, распределить между организаторами обязанности и ответственность, теоретически квалифицировать основные места, роли и амплуа, которые должны были выбрать себе основные участники игры, и т. д. и т. п.
Отчасти в соответствии с оргпроектом предстоящей игры в Новой Утке, но в большей мере исходя из интересов и возможностей организаторов, с самого начала выделилось четыре конкурирующих фокуса организации и управления игрой:
1) разработчик одного из альтернативных вариантов программы игры и, далее, соруководитель одной из рабочих групп; он предлагал в качестве основного и ведущего для организации и проведения игры проектный подход;
2) группа молодых методологов, которая должна была реализовать установку на ситуационное программирование и ситуационное управление рабочими процессами в игре; эта группа должна была обеспечить соруководство второй рабочей группой;
3) руководитель исследованиями в игре, который все время настаивал на том, что должна быть разработана детализированная и достаточно жесткая программа предстоящих исследований, которой в дальнейшем должны подчиняться все действия по руководству и управлению игрой;
4) организатор и руководитель игры в целом и одновременно соруководитель одной из рабочих групп, который в течение всего периода подготовки игры критиковал других организаторов, настаивая на более свободном и неопределенном, ситуативном и в сути своей поисковом стиле руководства и управления игрой и рабочими процессами в ней.
Опять же по чисто внешним обстоятельствам на всю подготовку игры мы имели всего 25 дней, и за это время было проведено 11 рабочих обсуждений (примерно по 4 часа каждое).
По форме этот подготовительный этап представлял собой «малую игру» для организаторов, и многие процессы и приемы будущей игры на месте здесь не просто продумывались и обсуждались, но буквально имитировались и проигрывались (см. схему 1).
Поскольку средства, методы и техники программирования КИПР не были известны и идти к созданию их нужно было от разных других видов и типов МД — это мы уже все хорошо понимали, постольку между основными соорганизаторами игры сразу же возникли принципиальные расхождения и разногласия по вопросу о том, что должны представлять собой рабочие процессы в игре, как они должны строиться и на какой МД в первую очередь базироваться. Одни говорили, что это должно быть системное проектирование, другие — что это должно быть прогнозирование, третьи — что это должно быть техническое исследование, а четвертые — что идти надо от всего этого вместе, а главным делать процесс становления и развития новой МД — самого программирования КИПР. И между этими позициями в течение всего подготовительного этапа шла непрерывная мыслительная борьба, с одной стороны, подготовившая организаторов к перипетиям игры на месте, а с другой — сильно продвинувшая общее понимание существа стоящих перед всеми нами проблем.
Основной этап игры проходил с 18 по 26 августа 1979 г. С первого же дня нас ждали сюрпризы: значительная часть сотрудников института, поскольку первые дни игры падали на субботу и воскресенье, просто не приехали, и нам пришлось срочно перестраивать как программу, так и оргпроект игры. Так, в силу внешних обстоятельств появилась первая, вводная фаза основного этапа игры, продолжавшаяся два дня, в течение которых мы обсуждали с приехавшей частью сотрудников института теоретические и методологические проблемы программирования КИПР по теме «Ассортимент товаров народного потребления» и смогли спокойно, без спешки сформировать основные ядра рабочих групп. Это неожиданное обстоятельство сильно облегчило процесс начальной организации групп, но вместе с тем существенно сократило время игровых разработок.
Третий день ушел в основном на установочные доклады, в которых разбирались: 1) общая концепция, цели, программа и регламент игры, 2) общая методологическая схема программирования КИПР [Логика… 1977; Комплексный… 1979], 3) концепция и идеология проектно-целевого подхода в программировании, 4) связи и отношения между рабочими процессами в игре, функциональной организацией коллектива, обеспечивающего рабочие процессы, и процессами межиндивидного и межличностного взаимодействия между участниками. Это была вторая фаза основного этапа игры, в ходе которой должно было происходить самоопределение участников относительно целей игры, ситуации игрового действия, других участников и т. д.
Четвертый и пятый дни объединялись в одну, третью фазу, основной смысл и содержание которой должны были составить распредмечивание и, соответственно, декомпозиция жестких структур профессиональной МД на составляющие — мыследействование, рефлексию, мысль — коммуникацию, понимание и чистое мышление. Параллельно с этим должна была происходить проблематизация ситуации, сложившейся в игре, а через нее и проблематизация «большой», социокультурной ситуации, в которой вынуждены работать и решать свои профессионально-предметные задачи участники игры.
Шестой день был буферным, по сути дела «запасным». По программе одна половина его предназначалась для отдыха, а другая — для рефлексивно-теоретического обсуждения рабочей темы игры в свете сложившейся в игре ситуации. Это была четвертая фаза основного этапа.
В пятой фазе — седьмой и восьмой дни — шла ударная работа по конструированию и прорисовке программы КИПР по теме, сборка всего материала, полученного в процессе распредмечивания и проблематизации, в новые, табличные формы фиксации, отработка форм и способов соорганизации программных «пустографок» в кортежи, армады и системы.
На девятый день (шестая фаза основного этапа игры) докладывались важнейшие рабочие результаты — принципы программирования КИПР, чистые формы фиксации программного содержания, «пустографки» или «модули», фрагменты конкретных программ по теме ассортимента товаров народного потребления и т. п., а также происходил рефлексивный анализ хода игры, ее слабых и сильных сторон, удач и неудач, взаимоотношений между участниками, форм организации коммуникации, М и МД.
Результаты игры поразили всех участников. Хотя работа была очень напряженной и, сравнительно с другими формами организации работ, прямо-таки стремительной, мы, конечно, не смогли выполнить всего того, что намечали (программа сознательно строилась с ориентацией на практически невыполнимые объемы работ, и мы дальше сделали это обязательным принципом оргпроектирования и программирования ОДИ, учитывая, что главная их цель и назначение — это развитие МД и самих участников). Но то, что практически было сделано за 9 дней работы, намного превосходило любые, даже смелые ожидания участников: были разработаны знаковые формы фиксации программ КИПР, определено их содержание, разработаны новые средства, методы и техники программирующей МД, в том числе новые средства, методы и формы фиксации пространства коллективной МД, созданы и отработаны новые средства распредмечивания, сильно продвинуты вперед теоретические представления СМД-методологии и т. д. Но самое главное состояло даже не в этом, а в том, что на конкретном примере практической организации коллективной МД было показано, что можно создавать такие формы организации совместной работы и межпрофессионального М, которые с необходимостью приводят к сплавлению и развитию исходных форм МД, к порождению новых знаковых форм, средств, методов и техник взаимопонимания и М, вынуждают развиваться если не всех, то во всяком случае многих участников коллективной работы.
Последний день игры проходил на высоком эмоциональном подъеме, участники — проектировщики, исследователи, методологи — были буквально «на подъеме», и никто из них, несмотря на огромное напряжение и многочисленные стрессовые ситуации в ходе игры, не хотел прекращать общей работы. Успех выбранной формы организации коллективной МД был неоспорим. И поэтому участники игры приняли решение распространить ее на другие случаи и ситуации, а это означало, что они, во-первых, приняли то, что произошло, в качестве образца, на основе которого будут строиться другие мероприятия подобного рода, а во-вторых, по сути дела подрядились теперь ответить на вопросы, что же происходило и произошло в этой «игре», рассмотреть все происходившее как новый тип игры и соответственно этому перестроить и развить само понятие игры, разработать методологию и теорию организации игр этого типа, а также описать на теоретическом и техническом уровне все процессы коллективной МД и жизнедеятельности, развертывающиеся в их рамках.
На этом по сути дела закончилась предыстория ОДИ, процесс становления ее как новой формы организации коллективной МД, и начались совсем иные процессы, процессы развития, образующие уже собственно историю ОДИ.
Вместе с тем в тот же день, 26 августа 1979 г., закончился основной этап ОДИ-1 и начался третий ее этап, этап выхода из игры, первой фазой которого стало детальное рефлексивное обсуждение основных методологических результатов игры, происходившее в поезде Свердловск — Москва 27 и 28 августа, второй фазой — четыре обсуждения на заседаниях Комиссии по психологии мышления и логике уже в Москве в период с 30 августа по 15 сентября 1979 г., а затем было решено проводить это обсуждение в той же игровой манере, в которой проходило само новоуткинское мероприятие, и таким образом рефлексивное обсуждение ОДИ-1 было целенаправленно преобразовано в ОДИ-2, которая продолжалась вплоть до 14 мая 1981 г. (см. перечень ОДИ на с. 130).
Практика ОДИ
За время с июля 1979 г. по сентябрь 1983 г. коллектив исследователей, объединившихся вокруг Комиссии по психологии мышления и логике Всесоюзного общества психологов, и коллективы сотрудников НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР и МОГИФК, проводящие исследования по теме «Анализ техники решения сложных проблем и задач в условиях неполной информации и коллективного действия», провели под нашим руководством 29 «больших» ОДИ.
Всю эту совокупность игр очень трудно описать как одно целое в силу многоцелевого, многофункционального и многопланового характера каждой ОДИ. Сделать это так же трудно, как описать в целом жизнь массы людей. Попытка обойти эту трудность, перечислив темы всех игр в порядке их проведения [1983 а], вызывает понятные нарекания: чисто назывной и вместе с тем реалистически ориентированный способ представления материала, предполагающий трудоемкую работу продумывания и вживання в ситуации, вступает в противоречие с нашим рассудком, привыкшим к понятийным и собственно научным обобщениям. Но всякая абстракция, образованная по какому-то одному параметру игры, пусть даже весьма существенному, оказывается лишь односторонним срезом, превращающим ее из живого реального целого в труп. И это тоже понятно, ибо всякая ОДИ является неимоверно сложным многосторонним образованием, которое можно правильно понять и представить себе только при условии, что вы ее проживете, реально или в имитирующем понимании и мышлении, и, соответственно этому, адекватными игре будут только системные и экземплифицированные описания [1964 а*; 1966 j; 1976; 1981 а*]. По-видимому, каждая ОДИ должна описываться методом восхождения от абстрактного к конкретному как совершенно уникальная система. Это означает, по сути дела, что не может быть единой теории ОД-игр, а возможны лишь, во-первых, понятие ОДИ, а во-вторых — развертывающаяся на его основе и одновременно фундирующая его типология ОДИ.
Но чтобы построить такую типологию игр, необходимо иметь уже разработанными средства и методы системно-типологического представления сложных полифункциональных и полиструктурных объектов, а к их разработке еще только-только подходят в самых продвинутых в этом плане областях науки. Таким образом, типология ОДИ появится, вероятнее всего, на каких-то уже очень поздних этапах всей работы.
Тем не менее проведенные уже игры должны быть как-то представлены, и, по возможности, в типизированном и понятийно оформленном виде. Поэтому, не имея возможности на этом этапе построить типологию игр, мы вынуждены прибегать к более простым формам типизации — прежде всего к типономии и в меньшей степени к типографии. При этом, производя группировки ОДИ по типам, мы должны все время иметь в виду, что этих типизации может быть много (значительно больше, чем самих игр в их перечне) и все они будут разными в зависимости от того, какие структурные характеристики ОДИ и какие симптомокомплексы их мы считаем наиболее важными и принципиальными.
Среди важнейших характеристик, которые мы можем выделить при первых заходах на типизацию ОДИ, на передний план сразу же выдвигается несколько.
Первая среди них — это, по-видимому, целевая установка заказчика, которая определяет назначение и функции игры с точки зрения МД заказчика и в какой-то мере выражена и закреплена в формулировке заказа-задания на игру.
Вторая характеристика, имеющая не меньшее значение, — это целевая установка организатора и руководителя игры, которая в большинстве случаев откладывается в формулировке темы, в оргпроекте и программе игры.
Третья характеристика — это структура оргпроекта и программы игры, которые обычно фиксируются в виде регламента игры и подробно обсуждаются в установочных докладах руководителя. Описание оргпроекта и программы игры дает возможность перейти затем к типографическому представлению игр.
Четвертая характеристика — это результаты, продукты и последствия игры, которые фиксируются, как правило, в постигровой рефлексии, но могут фиксироваться также на этапах замысливания и подготовки игры, и тогда они могут находить себе выражение и как-то закрепляться в оргпроекте и в программе.
Все эти четыре фактора, выявляемых, повторим, уже при первых попытках типизировать ОДИ, конечно, связаны друге другом и друг друга взаимно обусловливают, что мы и стремились специально подчеркнуть, но вместе с тем каждый из них живет своей собственной жизнью и может постоянно расходиться с другими; цели заказчика могут расходиться с целями организатора и руководителя игры, у каждого из них к тому же бывает, как правило, не одна цель, а сразу несколько, причем ранги их могут меняться в ходе самой игры, формулировка темы может не соответствовать формулировке заказа-задания, оргпроект и программа игры могут нести в себе множество моментов, расходящихся с целевыми установками заказчика и руководителя, и благодаря всему этому появляется достаточная свобода действий для всего коллектива участников игры, появляются моменты соревнования и борьбы, и за счет этого в итоге игры появляется масса новых продуктов и последствий, не предусмотренных ни целями заказчика и организатора игры, ни оргпроектом и программой.
Все это делает крайне сложными типономические описания ОДИ, неизбежно делает их синкретическими и весьма случайными, зависящими от наших ситуативных целей. И именно это заставляло нас в прошлом, чтобы достичь хоть какой-то объективности, обращаться к простому перечню проведенных игр по их темам-названиям. Но сейчас это невозможно. И поэтому нам приходится выделять в качестве основания для типизированного описания ОДИ набор весьма условных интегральных параметров, которые могут быть названы «смысловой направленностью ОДИ». Всего нами было выделено 9 таких обобщенных смысловых направлений, к которым мы затем отнесли проведенные нами «большие» игры, и в результате получилось следующее:
1. С направленностью на решение организационно-производственных проблем было проведено 3 игры (И-11: «Вывод из эксплуатации и определение перспектив дальнейшего использования энергоблока АЭС», VIII. 81; И-15: «Город. Принципиальные задания на разработку программ развития, моделей и генплана города», IV. 82; И-18: «Совершенствование форм организации ремонтно-строительной службы на АЭС», VIII. 82), и еще для трех игр (И-1, И-3, И-22) она была важнейшей вторичной темой.
2. С направленностью на решение принципиальных научных проблем было проведено 6 игр (И-7: «Обеспечение нормального функционирования и развития технологий и деятельности на АЭС», III–IV. 81; И-23: «Системный подход в геологии — перспективы распространения и развития», IV. 83; И-24: «Новые формы обучения и исследования: ситуационный анализ и анализ ситуаций», IV–V. 83; И-25: «Приемы и способы выделения системных объектов», V. 83; И-26: «Геологическая таксономия и системный подход», V. 83; И-27: «Перспективы и пути автоматизации систем МД», V–VI. 83), и еще для четырех игр (И-3, И-11, И-12, И-22) она была важнейшей вторичной темой.
3. С направленностью на программирование развития и осуществление радикальных инноваций было проведено 3 игры (И-10: «Программирование социального развития коллектива строительства АЭС», VI–VII. 81; уже указанная выше И-15; И-22: «Цели, программы и формы соорганизации научно-исследовательских и проектных работ в головном научно-проектном институте отрасли», ІІІ. 83), и еще для двух игр (И-20, И-29) она была важнейшей вторичной темой.
4. С направленностью на программирование комплексных научных исследований и разработок было проведено 6 игр (уже названная выше И-1; И-2: «Формирование коллектива и разработка программы для комплексных междисциплинарных и многопредметных методологически организованных исследований ОДИ», IX. 79-V. 81; И-5: «Формирование оргструктуры и программы работ Института комплексных прикладных исследований организации, руководства и управления, работающего в системе научно-производственного объединения», 11. 81; И-14: ОДИ по теме «Коммуникация и взаимопонимание в качестве предмета комплексных исследований», проведенная в форме ДИ, IV. 82; И-19: «Цели и процессы целеобразования в коллективной МД: разработка целевой части программы исследований по теме», VIII–IX. 82; И-20: «Программирование и оргпроектирование производственной практики и практической подготовки студентов вузов», Х. 82), и еще для трех игр (И-3, И-17, И-22) она была важнейшей вторичной темой.
5. С направленностью на разработку и исследование новых форм обучения и воспитания в вузе было проведено 5 игр (И-12: «Учебно-воспитательный процесс в вузе», XI. 82; И-21: «Пути и методы совершенствования производственной практики студентов вуза. 1-й этап. Формы организации практической подготовки студентов в вузе 2000 года — основные проблемы», I–II. 83; уже названные выше И-20 и И-24; И-29: «Проблемная и заданная организация ситуаций и систем профессионально-производственной и учебной МД», IX. 83), и еще для четырех игр (И-4, И-13, И-16, И-17) она была важнейшей вторичной темой.
6. С направленностью на обучение, подготовку и повышение квалификации кадров было проведено 4 игры (И-8: «Формирование игрового коллектива для большой игры "Город"», IV. 81; И-9: «Вступление в должность начальника Управления строительством АЭС», V–VI. 81; уже названная выше И-19; И-13: «Учебно-воспитательная работа в вузе», X–XI. 81), и еще в 13 играх (И-1, И-2, И-4, И-5, И-16, И-17, И-19, И-21, И-22, И-23, И-24, И-25, И-28) это направление работы было профилирующим.
7. С направленностью на сравнительный анализ и исследование различных типов МД было проведено 5 игр (И-3: «Дизайн-проектирование и дизайн-программирование систем — сравнительный СМД-анализ», VIII. 80; И-4: «Выявление средств, методов и техники изобретательской деятельности», XI. 80; И-17: «Программирование и оргпроектирование в различных сферах МД», VIII. 82 и уже названные выше И-10 и И-20), и еще в трех играх (И-12, И-13, И-16) она была важнейшей вторичной темой.
8. Направленность на исследование структур, процессов и механизмов МД была профилирующей для 19 игр (уже названных выше И-1, И-2, И-3, И-4, И-9, И-11, И-12, И-14, И-15, И-17, И-19, И-20, И-21, И-24, И-25, И-28, И-29, а также для И-6: «Основания, механизмы и процессы понимания сложного научного текста в междисциплинарной группе», И. 81, и для И-16: «Процессы проблематизации в ОДИ», VII. 82).
9. Направленность на исследование взаимодействий и взаимоотношений индивидов и групп в учрежденческих и клубных структурах была крайне важной по меньшей мере для 9 игр (И-1, И-2, И-5, И-7, И-9, И-11, И-22, И-24, И-28), но в большей или меньшей мере она затрагивалась во всех без исключения играх.
Кроме названных выше «больших» игр, на основе сложившихся образцов был проведен еще ряд игр несколько меньшего масштаба: в Харькове на базе ХИИКС — Ю. Л. Воробьевым и его сотрудниками, а на базе ХИСИ — А. П. Буряком и Ю. М. Михеевым, в Горьком на базе ГИСИ — К. Я. Вазиной, в Киеве на базах КГИФК — Ю. Н. Теппером и на базе КиевНИИТИА — В. Л. Авксентьевым и А. П. Зинченко, в Ярославле — В. С. Дудченко и его сотрудниками, в Ворошиловграде на базе ВФ ИЭП АН УССР — А. С. Казарновским.
Поэтому можно считать, что к настоящему времени накоплен уже первый практический и достаточно объективированный опыт организации и проведения ОДИ и пришло время для аналитического и критического обсуждения его в различных планах — организационном, педагогическом, проектном, исследовательском и др. Ясно, что круг вопросов, который здесь надо обсуждать, неимоверно широк и разнообразен, а сам предмет обсуждения в силу своей многоплановости и системного характера крайне сложен; поэтому в каждой работе, посвященной ОДИ, на первых порах можно надеяться выделить и разобрать только отдельные аспекты ее, и это, безусловно, будет вызывать у читателей ощущение односторонности, фрагментарности отдельных описаний, а отсюда — неудовлетворенность. Но мы не видим сейчас другого пути анализа и в этой статье хотим рассмотреть ОДИ с точки зрения основной схемы МД.
ОДИ как мыследеятельность
Выше мы уже отмечали, что ОДИ с самого начала создавалась как форма практически-деятельной реализации теоретических представлений СМ-, СД- и СМД-методологии, т. е. с определенной целевой установкой и определенным назначением. По сути дела это означает, что ОДИ создавалась во многом технически и является в силу этого технически организованной практикой. С точки зрения здравого смысла это банально и достаточно очевидно, но из этого с необходимостью следует, что ОДИ должна фиксироваться организаторами в виде объекта Т-воздействий, а следовательно — в И-, ИЕ-, ИИЕ-онтологических схемах [Семиотика… 1967, с. 19–56; Комплексный… 1979, с. 97–107,121–127].
Сами эти схемы могут быть как специфическими, фиксирующими отличительные признаки игр вообще и ОДИ в частности, так и неспецифическими, представляющими ОДИ, скажем, как систему М, Д и МД-Функции этих схем в разработке методологии и теории ОДИ, конечно же. неодинаковы. Но важно, что и те и другие в равной мере необходимы организаторам игр для анализа, проектирования и программирование ОДИ. Более того, неспецифические схемы могут оказаться практически более значимыми, если рабочей целью организаторов является не игра как таковая, а определенные процессы М и МД в играющем коллективе. В таком случае именно представления о М и МД оказываются на переднем плане и в центре внимания организаторов, а представления об игре отходят на задний план и могут быть значительно менее разработанными и детализированными.
Именно при такой ранжировке теоретических представлений создавалась, как мы уже отмечали, ОДИ, и при такой же ранжировке до сих пор организуются и проводятся все конкретные игры. И это обстоятельство полностью оправдывает намеченную здесь последовательность введения и обсуждения онтологических схем: мы начинаем с общих представлений ОДИ как систем М, Д и МД, а уже затем постепенно идем к представлениям ее как игры особого рода.
Основные онтологические схемы СМ- и СД-подходов и принципы их построения не раз уже описывались в литературе (см., к примеру, [1957 b; 1965 с; 1969 b; 1970; Обучение… 1966; Генисаретский, 1970; Сидоренко, 1972; Сазонов, 1980, 1981; Семиотика… 1967; Пробл. иссл. структуры… 1967; Разработка… 1975]), а основные схемы СМД-подхода, несмотря на то, что ядро их сформировалось уже к 1979 г., практически еще ни разу не описывались и не комментировались. Поэтому здесь при задании общего контекста методологического и научно-теоретического анализа ОДИ представляется необходимым прежде всего ввести базовую схему МД (см. схему 2).
Она содержит три относительно автономных пояса МД, расположенных по горизонталям один над другим: 1) пояс социально организованного коллективного мыcлeдeйcrвoвaния (oбозначается символом мД), 2) пояс мысли-коммуникации, выражающейся и закрепляющейся прежде всего в словесных текстах (обозначается символом М-К), и 3) пояс чистого мышления, развертывающегося в невербальных схемах, формулах, графиках, таблицах, картах, диаграммах и т. п. (обозначается символом М).
Центральным и стержневым в этой трехпоясной системе является пояс М-К, а два других могут рассматриваться как лежащие по разные стороны от оси М-К — исключительно принципиальный момент в плане определения места и функций М в системе МД: каждый из названных поясов имеет свою специфическую действительность, и действительность М оказывается по этой схеме вторым пределом, лежащим как бы напротив действительности мД, разворачивающейся непосредственно на захватываемом им материале. И это обстоятельство точно соответствует тому, что мы можем фиксировать феноменально: плоскость доски или бумаги, на которой мы пишем, противостоит, если рассматривать ее относительно оси М-К, реальному миру мД.
Для того чтобы упростить схему, а вместе с тем и объект, на примере которого рассматриваются основные принципы анализа, мы можем ввести вертикальную ось симметрии и таким образом выделить простейший случай диалогической организации М-К; для того чтобы зафиксировать и рассмотреть более сложные случаи полилогической организации М-К, надо вводить более сложные схемы. Точно так же для упрощения и сокращения процедур идеализации и пояснений на схеме фиксируется не весь двусторонний диалог, а только один акт М-К — односторонняя передача текста сообщения, и за счет этого поляризуются функции участников диалога.
Для каждого пояса МД на схеме вводится свой набор позиционеров как носителей соответствующих процессов МД.
В нижнем поясе это будут мыследействующие позиционеры 1. 1, 1. 2, 1. 3 и т. д., а в правой части схемы — позиционеры 2. 1, 2. 2, 2. 3 и т. д. Само членение ситуаций мД производится здесь относительно процесса М-К — на нем, как мы уже сказали, фокусирована схема, и это соответствует практике организации большинства ОДИ. При этом по ходу игры ситуации мД могут как объединяться в одну — это происходит на общих заседаниях всего коллектива, — и тогда М-К должна рассматриваться относительно рамок и условий единой ситуации мД, но могут и разделяться — как это происходит во время работы отдельных групп, — и тогда процесс М-К становится единственной формой, связующей и организующей все целое МД.
Формы и способы детерминации процессов мД являются крайне сложными, и прежде всего в силу их разнообразия; здесь будет и культурная нормировка, характерная для всех воспроизводящихся систем [1969 b; 1970; Обучение… 1966; Генисаретский, 1970], и социальная организация [Генисаретский, 1970], и целевая детерминация, характерная для всех актов действия, и Т-детерминация средствами, методами и техниками МД, и детерминация объективными законами, характерная для всех Е- и ЕИ-систем [Обучение… 1966], и т. д., и т. п. Иными словами, все системы мД будут гетерогенными, гетерохронными и гетерархированными ИЕ-полисистемами и будут требовать соответствующего многостороннего и многопланового описания, проектирования и программирования.
В среднем поясе это будут, соответственно, коммуницирующие позиционеры: слева на схеме — выражающие мысль в вербальных текстах, а справа (по условиям упрощения и идеализации) — понимающие эти тексты и создающие благодаря этому пониманию смысл ситуации [1974 а*]. В зависимости от того, какие пояса МД замыкаются на текст М-К в ходе выражения, в левой части схемы можно выделить три абстрактные позиции: 3. 1 — в том случае, когда в тексте М-К выражаются какие-то аспекты и моменты ситуации мД, фиксированные в рефлексии этой ситуации, 3. 2 — в том случае, когда в тексте М-К выражаются какие-то аспекты и моменты М, и 3. 3 — в том случае, когда в тексте М-К соотносятся, связываются и зашнуровываются аспекты и моменты как мД, так и М. Аналогично для правой части схемы можно выделить четыре позиции понимающих: 4. 1 — для того случая, когда текст М-К понимается и осмысляется в собственно коммуникативной действительности, 4. 2 — для того случая, когда текст понимается за счет выхода в мД, 4. 3 — для того случая, когда текст понимается за счет выхода в М, и 4. 4 — для того случая, когда при понимании текста М-К происходит сопоставление и разделение компонентов М и мД.
В этом пункте, кстати, обнаруживается отнюдь не тривиальная и имеющая принципиальное значение асимметричность позиций создающего текст М-К и понимающего его; нередко получается и так, что текст, выражавший какие-то аспекты и моменты ситуаций мД, понимается за счет выхода в пояс чистого М и наоборот — тексты, выражающие действительность чистого М, понимаются за счет выхода в пояс мД.
Специально надо отметить, что пояс М-К практически не подчиняется различению правильного и неправильного. Он живет по принципам полилога (т. е. многих логик), противоречий и конфликтов. Это всегда поле борьбы и взаимоотрицаний, которые только и придают М-К ее особый смысл и оправдывают ее существование в качестве особого пояса МД.
В верхнем поясе МД находятся мыслящие позиционеры. В условной манере предложенной схемы позиционер 5 строит свое М на базе опыта собственного мД и выражения его в текстах М-К, а позиционер 6 — в первую очередь на основе понимания чужих текстов (фундируемого опытом собственного мД).
В отличие от всех других поясов МД пояс М имеет свои строгие правила и законы, причем достаточно монизированные; это все то, что Аристотель называл словом «логос» — собственно логические правила образования и преобразования знаковых форм, все математические оперативные системы, все формальные и формализованные фрагменты научных теорий, все научно-предметные «законы» и «закономерности», все схемы идеальных объектов, детерминирующие процесс М, все категории, алгоритмы и другие схемы операционализации процессов М.
В зависимости от способов понимающей интерпретации все схемы, формулы, графики, таблицы и т. п. могут прочитываться и использоваться в процессах М либо как формы, изображающие идеальные объекты и идеализованные процедуры М, либо как сами идеальные объекты, в которые «упирается» наша мысль. Как правило, в этих случаях предполагается, что между формой и идеальным содержанием существует прямое соответствие или «параллелизм» [1957 b]. Отказ от этого принципа порождает совершенно новые структуры содержательного и методологически организованного М, развертывающегося по принципу «многих знаний» [1964 а*; 1966 j; 1981 а*}.
У каждого пояса МД есть своя специфическая действительность, и между этими тремя типами действительности никогда нельзя устанавливать отношения тождества: они могут лишь отображаться друг на друга посредством рефлексии и понимания, и это может делаться каждый раз только за счет переоформления одного в другое. А содержание у каждой из этих форм будет появляться в результате вторичной рефлексивной фиксации уже совершенного отображения. Поэтому мы будем называть М, М-К и мД «реальными» в тех случаях, когда они рассматриваются внутри онтологически трактуемых систем МД как их составляющие или подсистемы. И наоборот, схема МД будет рассматриваться и трактоваться как «действительная» в том случае, если мы будем брать ее в отношении к строго определенному М и в его системе; в настоящее время таким М является методологическое мышление о МД.
Все три пояса МД, развертывающихся согласно исходному допущению по горизонталям, объединяются в одно системное целое, с одной стороны, за счет уже названных процессов понимания, а с другой — за счет процессов рефлексии. Процессы рефлексии пронизывают все процессы мД, М-К и М и изображаются на схеме вертикальными связями, движениями и переходами (ср. [Разработка… с. 131–143]). Носители рефлексии изображаются зачерненными символами позиционеров, а комбинации цифр при них, скажем 1–3, 3–5, 6–4 и т. д., обозначают функциональное место соответствующего акта рефлексии: первая цифра символизирует рефлектируемый процесс МД, а вторая — тот процесс, в котором находят форму для фиксации и выражения рефлексии. Среди прочих могут быть и рефлексивные позиции типа 1–1, 3–3 и т. д. символизирующие, что форму фиксации и выражения рефлексии ищут в том же процессе МД, который был объектом рефлексии.
Каждый из названных поясов МД может обособляться от других и выступать в качестве относительно автономной и самостоятельной системы. М может формализоваться и за счет этого целиком отрываться от рефлексии М-К и мД и становиться особой мыслительной деятельностью по развертыванию чистых форм М, своего рода производством знаково-знаниевых форм, содержательных, но не имеющих смысловой связи с практическим мД. И точно так же М-К может элиминировать свои рефлексивные связи и отношения с мД и М и разворачиваться только в узких границах действительности М-К, превращаясь в бездеятельную и безмысленную речь, в пустые разговоры, не организующие и не обеспечивающие ни М, ни мД. И аналогично этому может сложиться и существовать изолированное мД, оторванное от М-К и чистого М и ставшее в силу этого косным воспроизводством, лишенным всех и всяких механизмов развития. В каждом из этих случаев мы будем иметь лишь вырожденную форму МД. И сколь бы рафинированной и правильной она ни была с точки зрения существующих норм М, М-К или мД, все равно она будет оставаться бездуховной и бессмысленной с точки зрения исторических интересов МД в целом.
История показывает нам много примеров подобного вырождения МД и вместе с тем демонстрирует целый ряд специальных форм, средств и методов, выработанных для того, чтобы удержать смысловую целостность МД в условиях, когда образующие ее пояса мД, М-К и М отделялись друг от друга и распадались на самостоятельные формы МД, терявшие свою осмысленность, а вместе с тем и духовность (ср. [Гессе, 1969]). В частности, то, что мы называем «научным предметом» — а он как структура и организованность был создан в первой половине XVII в. и наиболее ярко выражен в работах Ф. Бэкона и Галилея, — является не чем иным, как формой и средством соединения умозрительного философского и методологического М с реальным техническим мД, направленным на вещи окружающего нас техноприродного мира [1981 а*, {с. 104}; Обучение… 1966, с. 109–11; Разработка… с. 117–125]. При этом из традиционного мД были взяты опытные факты, из философского и теологического М — онтологические схемы и картины, из М-К — проблемы, задачи, знания и понятия, ко всему этому добавлены новые и специфические образования — модели и эксперимент, обеспечившие связь традиционных форм М и М-К с техническим мД, и все это с помощью новых схем рефлексивного взаимоотображения было завязано и соорганизовано в новые «знаково-знаниевые машины» МД, получившие у Галилея название «новых наук». Этим было положено начало новой предметной форме организации МД, объединившей в рамках одной организационной единицы конструктивное и оперативное М идеализованными процессами и идеальными объектами с материально ориентированным пониманием и техническим мД. Вместе с тем было положено начало профессиям (в современном смысле этого слова), инженерному делу как соединению науки с искусством [1981 а *; Горохов, 1982 а] и таким надпредметным связкам научных предметов, технического мД и философии, какими являются «научные дисциплины» [Мирский, 1980].
В настоящее время эти формы предметной и дисциплинарной соорганизации М, М-К и мД вновь вошли в противоречие с господствующими формами технической и оргуправленческой практики, которые нуждаются в полипредметном и полидисциплинарном, комплексном мыслительном обеспечении. И это поставило на очередь дня задачу создания новых, более сложных и более гибких форм соорганизации М, М-К и мД, форм, которые могли бы обеспечить быстрое распредмечивание существующих структур МД, удерживание их смысла и содержания в непредметных (или надпредметных) знаковых формах и новое опредмечивание их в структурах и организованностях М, М-К и мД, соответствующих собранным комплексам МД.
Разработка СМД-методологии является одной из попыток ответить на этот запрос. И важнейшей среди созданных ею форм соорганизации М, М-К и мД в целостные единицы МД является ОДИ. Поэтому нельзя понять как функции и назначение, так и внутреннюю природу ОДИ без развернутой схемы МД, показывающей многообразие форм ее существования и процессов, с одной стороны, разделяющих МД на пояса, а с другой стороны, связывающих их в одно целое.
Собрав в одной рабочей ситуации представителей разных профессий и научных предметов, мы тем самым предопределяем различие используемых ими в общей работе мыслительных схем, слабую согласованность, а часто и полную несовместимость высказываний и точек зрения, различие образцов и планов мД. Следствием этого являются противоречия, конфликты и разрывы в коллективной МД. Они вынуждают участников общей работы выходить в рефлексивные позиции. Начинается сдвижка всей совокупной МД коллектива по «рефлексивным вертикалям» и одновременно творение новых рефлексивных форм М-К, ориентированных на выявление и фиксацию причин и источников противоречий, конфликтов и разрывов в МД. На уровне М-К вся эта работа оформляется как ситуационный анализ, целеопределение и ситуативная проблематизация осуществляемых работ.
Сопоставление того, что происходит «здесь и теперь», т. е. в игровой ситуации, с тем, что происходит во внешних для игры производственных и социокультурных ситуациях, позволяет участникам игры самоопределиться не только в игре, но и по отношению к социуму в целом. Противоречия и конфликты в игре осознаются как проявления и частные случаи общезначимых профессиональных и предметных противоречий.
Параллельно со всем этим начинается уяснение культурного и социального смысла позиций и точек зрения оппонентов. Появляется интерес к их способам работы, и делаются попытки разобраться в общей структуре и основных составляющих их МД. Но это пока не продвигает коллектив в решении исходных заданий. Необходимость соорганизации работы всех в одно целое и адаптации М и мД каждого к этому целому осознается обычно уже к исходу третьего дня работы, в крайнем случае — к началу четвертого. Но пока что нет средств и методов сделать это.
Для того чтобы начать сознательно и целенаправленно строить новую систему коллективной МД и перестраивать, исходя из интересов целого, ее отдельные составляющие, надо иметь техническое представление МД, зафиксировать в специальных технических знаниях ее структуру, социальную и культурную организацию, процедуры и операции мД и М, средства и методы работы и т. п., т. е. представить МД в виде объекта организационно-технического действия коллектива. А это, в свою очередь, можно сделать только в действительности М о МД. Начинается новая рефлексивная сдвижка по вертикалям всей совокупной МД — теперь уже из пояса М-К в пояс чистого М. Коллектив ищет новые схематизмы, новые знаковые формы для того, чтобы представить теперь уже в объектно-ориентированной форме ситуацию коллективной МД. Сначала не очень понятно, какую — игровую или социокультурную: в действительности М на первых порах различие между ними стирается, и, чтобы удержать его, нужна специальная техника понимания схем и работы с ними. Как только появляются первые схемы для фиксации и представления ситуаций, ситанализ переходит в анализ ситуаций (теперь уже как И- или Е-объектов, а не как рамок и условий коллективной МД).
Вместе с тем появляется характерная для методологического М возможность двойной работы со схемами — объектно-онтологической и оргдеятельной [Комплексный… 1979, с. 121–126]. Плоского листа бумаги или доски становится уже недостаточно, чтобы в действительности М зафиксировать и отобразить это многообразие способов работы с одной схемой. Приходится вводить многомерную пространственную форму для разделения и соорганизации разных действительностей в одном и едином процессе М и в сложной полилогической М-К, обеспечивающей его.
Попытки собственно мыслительного анализа и представления МД различных участников общей работы, начавшиеся еще в фазе конфликтов и противоречий на уровне М-К, заставляют вводить все новые и новые планы представления МД и размещать их в разных плоскостях пространственно организованной действительности М о МД; так в схемах МД появляются отдельные плоскости ценностей, целей, средств и методов, процедур и технологий, предметного или объектно-онтологического содержания и т. д. и т. п. Многие из этих плоскостей оказываются ортогональными друг к другу, и это дает нам возможность чисто композиционно и конструктивно развертывать новые комплексированные системы МД.
Таким образом, выйдя в действительность М о МД, участники коллективной работы начинают проектировать и программировать свою будущую МД, они начинают изменять и трансформировать самих себя как мыслящих, коммуницирующих и мыследействующих. Двигаясь в различных плоскостях пространственно организованных представлений о МД, они определяют различные аспекты и планы своей МД и соотносят их друг с другом, выбирая допустимые и эффективные в данных условиях комбинации.
Вся эта работа осуществляется в распредмеченных формах М — ситуационных, таблично-типологических, структурно-функциональных и т. п. — и принадлежит сфере уже не научного, а собственно методологического М, разворачивающегося в своем формальном содержании над предметами и проходящего как бы сквозь них (ср. [1981 а*]). На этом этапе и в этом процессе участники ОДИ, с одной стороны, осваивают уже существующие средства, методы и технологии методологического М, а с другой стороны, творят новые средства, методы и технологии или, во всяком случае, демонстрируют те лакуны и «дырки», для которых эти средства, методы и технологии необходимо создавать. За счет этого методологи-исследователи в каждой ОДИ неизменно получают свой опытно-практический и экспериментальный материал в отношении современных, наиболее развитых форм прожективного М.
Но в ОДИ дело не заканчивается этим. Все программы МД, созданные в поясе чистого распредмеченного М, все вновь спроектированные структуры М-К и мД должны быть тут же реализованы; участники игры как бы «примеривают» их в своей коллективной работе, «надевают на себя» и начинают создавать новый практический опыт мД. Благодаря этому оргпроекты и программы новых, комплексных систем МД получают экспериментальную проверку (в условиях игровой имитации) на внутреннюю согласованность, эффективность, надежность и устойчивость в различных социокультурных окружениях. Системы мД, оправдавшие себя, закрепляются в виде образцов и нормируются, а не оправдавшие — либо отбрасываются, либо же распредмечиваются и развиваются дальше в тех же самых рефлексивных циклах на последующих фазах работы.
Таким образом, ОДИ оказывается не просто еще одной, частной формой организации чистого методологического М или М-К, а новой формой организации МД в целом, особой единицей практической системы МД, органически связывающей М, М-К и мД в структурах такого рода, которые обеспечивают постоянное и непрерывное развитие систем МД, а вместе с тем — изменение и трансформацию всего захватываемого ими антропологического и социокультурного материала.
В формах ОДИ может быть организована и осуществлена разнообразная по характеру и сложности коллективная МД. Иначе говоря, ОДИ — это такая форма организации коллективной МД, в которой может быть воплощено (представлено, оформлено, проимитировано) различное МД-содержание. При этом, конечно, оно будет лишь проигрываемым содержанием, слабо нормированным, пластичным и лабильным. Но это как раз и есть то, ради чего мы обращаемся к самой игре как особому типу и особой форме организации МД.
Такая способность ОДИ как универсальной формы имитации различных видов и типов коллективной МД позволяет нам использовать ее с самым разным назначением и функциями. Какими именно — это зависит от типа и характера тех систем МД, которые «захватывают» ОДИ и стремятся использовать ее в своих целях. Если внешняя система-пользователь ОДИ будет, к примеру, производственной, то ОДИ получит производственно-практическое назначение и может выступить в качестве средства и метода разрешения производственных проблем и задач. Если же эта внешняя система-пользователь будет педагогической, то ОДИ может выступить в качестве средства и метода обучения и воспитания детей в школе или в качестве средства и метода подготовки и переподготовки инженерных и руководящих кадров в системе ИПК и ФПК. В рамках инновационной службы ОДИ может использоваться в качестве средства и метода внедрения разнообразных мыследеятельных и организационных новшеств, а в службе развития — в качестве средства, метода и организационной формы развития различных структур и техник МД (включая сюда техники, средства и методы чистого М, М-К, понимания, рефлексии и мД). При этом внутри сферы культуротехники ОДИ могут использоваться для получения новых примеров, образцов, стандартов и норм, а также для развития интегрирующих их систем культуры, внутри сферы социотехники — для формирования консолидированных групп и коллективов, внутри оргуправленческой сферы — для создания новых организаций и «машин» МД, внутри сферы НИР — для создания новых проектов, новых программ исследования, для постановки и разрешения научных проблем и задач.
Заключение
Проведенные к настоящему времени ОДИ и вся система обеспечивающих их теоретических и экспериментально-практических исследований показали, что в качестве организационной формы коллективной МД ОДИ может использоваться как средство и метод для:
— анализа и описания ситуаций коллективной МД;
— выявления и четкого формулирования сложных народнохозяйственных проблем;
— программирования комплексных исследований и разработок, обеспечивающих перевод этих проблем в наборы профессионально-дисциплинарных задач и последующего разрешения этих задач в соответствии с условиями и требованиями сложившейся ситуации;
— внедрения системных новообразований (в том числе машинизированных и автоматизированных) в различные сферы общественной практики;
— выявления и формулирования целей искусственно-технического (далее — ИТ) развития различных систем и организованностей МД;
— ИТ-развития различных систем МД — производственно-технических, научно-проектных, педагогических, организационно-управленческих и др.;
— ИТ-развития учреждений, коллективов, групп, отдельных лиц;
— повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов и руководящих работников различных отраслей народного хозяйства;
— обучения и воспитания студентов и школьников;
— комплексных экспериментальных исследований различных систем и организованностей МД и жизнедеятельности людей, в том числе:
а) систем коллективной МД различной сложности;
б) поведения и действий отдельных людей в различных организационных, социальных и культурных условиях;
в) процессов самоопределения и самоорганизации людей в новых для них условиях;
г) взаимоотношений и взаимодействий людей в малых и больших группах (включая конфликтные взаимодействия и противоборства);
д) позиционных, ролевых, статусных, личностных, кооперативных и коммуникативных структур групп и коллективов;
е) процессов и способов решения задач, процессов целеобразования, анализа ситуаций, проблематизации, формулирования принципиальных и технических заданий;
ж) ситуаций, процессов и механизмов учения-обучения и воспитания;
з) процессов и механизмов развития МД, групповых структур, учреждений и отдельных лиц.
Эта картина возможных способов практического использования ОДИ открывает широкое поле для работы в самых различных направлениях.
Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов[70]
1. Организация деловых контактов и совместной работы представителей разных профессиональных сфер и научных дисциплин до сих пор остается сложной проблемой. Подавляющее большинство исследователей во всех областях науки предпочитает работать только в рамках своих научных предметов и на представителей других дисциплин смотрит как на «чужаков», которых надо опасаться и держать на приличном расстоянии, чтобы предохранить свои научные предметы от «загрязнения» и вульгаризации. И во многом в наш век массовой коммуникации эти опасения и заботы оправданы и разумны. Но, с другой стороны, мир, в котором мы живем и действуем, един, он не разделен на автономные географические, геологические, физические и социокультурные миры, и те проблемы, которые стоят сейчас перед учеными-предметниками, как правило, являются не только и не столько предметными, но общими для многих наук, а часто — для всех наук, как естественных, так и общественных. И в подавляющем большинстве случаев эти проблемы не могут быть разрешены усилиями представителей одной какой-либо науки, а требуют вкладов со стороны многих наук. Уже одно это обстоятельство заставляет нас искать формы совместной работы над общими проблемами, формы междисциплинарной коммуникации и комплексного полипредметного мышления [1974 b*; 1981 а*; 1987 b; Мирский, 1980; 1982; Горохов, 1982 а, b; Комплексный… 1979, ч. 2].
Углубляя это, уже достаточно утвердившееся к настоящему времени представление, я рискнул бы даже сказать, что главный принцип, который реально разделяет нас сейчас в нашей работе, это уже не различия в научно-предметных представлениях, а методологические различия в подходах, которые мы принимаем, организуя свою работу, различия в способах онтологического видения и представления мира, различия в средствах и методах нашей мыслительной работы, оформляемые часто как различия в «логиках» нашего мышления.
Это, на мой взгляд, сейчас много важнее, чем различия в научных предметах. Два специалиста, исповедующие, скажем, системный подход, легче сговорятся между собой, даже если один из них — геолог, а другой — социолог, нежели в том случае, когда оба они — геологи, но один работает в системных представлениях, а другой — в вещных. Это мы тоже должны зафиксировать как существеннейшую характеристику современной социокультурной ситуации [1974 b*; 1981 а *; 1982; 1987 b; Мирский, 1980; Горохов, 1982 а, b; Комплексный… 1979, ч. 2] и постоянно учитывать в своем анализе.
Принимая это в качестве принципа, наиболее точно выражающего суть тех изменений, которые претерпело наше мышление в последние 50 лет, мы попробуем далее рассмотреть (в применении к материалу естественных наук) различия между натуралистическим и системодеятельностным подходами в исследовании и познании, которые считаем важнейшими и во многих отношениях даже решающими для современной социокультурной ситуации в науке.
2. Всякий исследователь, принимающий натуралистический подход, независимо от того, в какой науке он работает, исходит из того, что ему уже дан объект его рассмотрения, что он сам как исследователь противостоит этому объекту и применяет к нему определенный набор исследовательских процедур и операций, которые и дают ему, исследователю, знания об объекте. Эти знания представляют своего рода трафареты, шаблоны или схемы, которые мы накладываем на объект и таким образом получаем его изображение, а вместе с тем — вид и форму самого объекта.
Исследователь-натуралист никогда не задает вопросов, откуда взялся «объект» и как он в принципе получается, ибо для него, сколь бы методологически изощренным и развитым он ни был, природа с самого начала состоит из объектов, а точнее, как писал К. Маркс, из объектов созерцания,[71] которые и становятся затем объектами специального научного исследования.
Мысля таким образом, натуралист работает (и, можно даже сказать, находится), во-первых, в эпистемолого-организационных схемах (схема 1а), сформированных в период античности, во-вторых, в гносеолого-организационных схемах, оформившихся с начала XV в. — сейчас обычно они выражаются в схеме познавательного отношения «субъект — объект» (схема 16), и, в-третьих, в собственно натуралистической конкретизации субъект-объектной схемы (схема 1в), сформировавшейся на рубеже XVI–XVII вв. за счет введения понятия «природа» (в первую очередь в работах Ф. Бэкона); чтобы перекинуть мост к дальнейшему обсуждению системодеятельностного подхода, я буду представлять субъект-объектные отношения в деятельностных схемах и символах (схема 2) и при этом для упрощения «склею» познавательное и исследовательское отношения субъекта к природе в одном знаке (в точном соответствии с тем, как это обычно делается в методологии натурализма).
Чтобы с самого начала убрать возможную неправильную трактовку моих слов, специально подчеркну, что пока я никак не критикую натуралистическую точку зрения, а лишь резко и схематически выражаю суть ее — те специальные онтологические и организационно-мыслительные допущения, которые лежат в ее основании. Натуралистический подход, на мой взгляд, является столь же законным и логически основательным, как и все другие подходы; более того, в противоположность многим другим подходам, он прекрасно проработан за последние четыреста лет, и именно ему наука обязана всеми своими основными успехами. Поэтому, когда речь зайдет о критике натуралистического подхода, да еще особенно в области естественных наук, то это будет совсем не простым делом.[72]
Но это — к будущему, а сейчас мне важно лишь подчеркнуть, что натуралистический подход отнюдь не единственный, и наряду с ним существуют и другие, по идее не менее значимые, подходы.
3. И, в частности, в самом этом сопоставлении и анализе разных подходов в научных исследованиях и разработках я реализую другой — деятельностный, или, точнее, системодеятельностный, подход, который в задании основной организационной структуры мышления исходит не из оппозиции «субъект — объект», или, в более специфических терминах, не из оппозиции «исследователь — исследуемый объект», а из самих систем деятельности и мышления, из тех средств и методов, той техники и технологии, тех процедур и операций и, наконец, тех онтологических схем и представлений, которые составляют структуру мыследеятельности — МД (в частности, исследовательской) и задают основные формы ее организации.
В рамках развернутой системодеятельностной трактовки натуралистического подхода все то, что было представлено на схеме 2, я должен перерисовать несколько иначе (схема 3) и, в частности, зафиксировать у исследователя: 1) определенный набор мыслительных и деятельностных средств, с которыми он «выходит» на объект; 2) определенный набор действий (процедур и операций), которые он применяет в отношении к объекту; 3) то, что мы называем (в технической манере) «табло сознания» исследователя, на котором появляются образы, фиксирующие опыт его исследовательской работы; 4) тексты речи-мысли, в которых исследователь фиксирует ход и результаты своей исследовательской работы и сообщает о них другим людям (заметим на будущее, что в этих текстах выражаются, среди прочего, его знания об объекте), и, наконец, 5) строго определенные нормы и схемы организации исследовательской МД, в частности категории, которые зтот исследователь реализует в практике своего мышления и своей деятельности, когда становится в то самое исследовательски-познавательное отношение к объекту, которое представлено на этой схеме акта мыследействия; в частности, это могут быть те самые натуралистические гносеолого-организационные схемы (схема 1в), которые он как бы «надевает на себя», занимая место «субъекта познания» или «субъекта исследования» и одновременно объявляя то, на что направлены его операции и процедуры, и то, что он «видит» перед собой благодаря онтологическим схемам и картинам, — «в виде объекта природы» и вместе с тем «объекта познания» или «объекта исследования» (более проработанные схемы организации деятельности и мышления см. [1964 а*; 1966 j; 1966 а*; 1969 b; 1974а*; 1981 а*; 1982; Разработка… 1975]).
Нужно еще специально подчеркнуть — и это, в принципе, одно из величайших чудес в организации работы нашего сознания, — что при всей совершенно очевидной сложности нашей МД, в частности исследовательской, при обилии входящих в нее разнообразных элементов сознание натуралиста в предметно-теоретической форме фиксирует только объект исследования, сосредоточено только на нем, только его замечает и видит — и в этом, по-видимому, величайшая простота и сила натуралистического подхода, его бесспорное практическое преимущество. Натуралистически организованное сознание, следовательно, не замечает сложнейших структур мышления и деятельности и того обстоятельства, что объект МД включен в эту МД, является функциональным и морфологическим элементом ее, а видит вместо сложнейших структур мыследеятельности только два морфологических фокуса ее — объект и субъект, их оно различает и разделяет, между ними проводит границу, стягивает все «мыследеятельное» к ним одним, а затем полагает между ними отношение, или связь особого рода — познавательно-исследовательскую.
4. Подобное представление структур и механизмов исследовательской МД сложилось в результате философской рефлексии научно-исследовательской работы прежде всего в XVII–XVIII вв. — рефлексии, в большей мере прожективной и спекулятивной, нежели ретроспективной и исследовательской [Разработка… с. 131–143], что затем было заимствовано широким кругом естествоиспытателей и закреплено традицией. Именно благодаря рефлексивной спекуляции «объект» оказался «вынутым» из систем МД и знаний и был противопоставлен «субъекту» в качестве самостоятельной реальной сущности, существующей в мире природы. И хотя такое представление было совершенно очевидным переупрощением реального положения дел, оно позволило сознанию натуралиста сосредоточиться на «объекте» и начать анализировать его с помощью специальных процедур, направленных на материал природы, выделять в нем свойства и качества, фиксировать их в знаниях и понятиях, переводить в формы «видения» и созерцания, обсуждать все это как непосредственно-феноменально и опосредованно-рефлексивно данное и т. д. и т. п. Но все это, как и вообще сосредоточение на объекте, стало возможным, как я уже отметил, только благодаря тому, что в ходе исторического развития МД, в частности научных и философских форм ее, была сформирована сначала эпистемолого-организационная схема, а затем обосновывавшая и оправдывавшая ее гносеолого-организационная схема, ставшая основной формой организации нашей рефлексии и нашего знания. Именно эта схема с конца XVIII в. стала определять наше понимание и смыслообразование в процессе научно-исследовательской работы (понимание чужих текстов и понимание ситуаций), а также способы порождения самих текстов и выражаемых в них знаний.
Но после того как такая форма понимания и знаний была задана, мы уже в любых условиях, априорно, как это показывал И. Кант, начинали видеть то, что знали; для данной формы организации МД это означает, что мы начинали видеть объект со всеми теми характеристиками, которые мы приписали материалу природы посредством нашей МД, и все эти характеристики мы выводили не из МД и приписывали отнюдь не мыследеятельности, а именно объекту природы как таковому.
Образно говоря, реально мы как бы «наклеивали» наши знания на материал природы и таким образом порождали объекты рассмотрения. Пока это не сделано, объектов просто нет. А если нет объектов, то не может быть и натуралистического подхода в изучении их. Выражая это в виде общего принципа, можно сказать, что реализация натуралистического подхода в исследовании возможна лишь при условии, что мы уже знаем, хотя бы в общих чертах, как устроен объект анализа, где проходят его границы и какими методами его можно исследовать. Естественные науки, разворачивавшиеся на базе натуралистического подхода, стали возможны лишь после того, как Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Декарт и др., опиравшиеся на огромную методологическую и философскую работу своих предшественников — математиков, логиков и метафизиков, построили общие представления о природе и возможных способах существования объектов природы, а их последователи в XVII–XIX вв. создали еще целый ряд более конкретных представлений о разных типах объектов природы, соответствующих разным естественнонаучным категориям — субстанции, процесса, взаимодействия, вещи, поля, множества частиц и т. п. И все это время с начала XVII в., вот уже около четырехсот лет, мы продолжали эксплуатировать эти базовые представления и строили на них, одно за другим, разные научные предметы. И в принципе, если брать науку саму по себе, изолированно от развития инженерии, техники и производства, то эту работу можно продолжать бесконечно и создавать все новые и новые натуралистически организованные научные предметы. Но дело в том, что за это время кардинально изменился характер самой общественной практики, изменились ее реальные ситуации, изменился характер общественно значимой МД, и в силу этого характер «объектов», создаваемых в науке на базе натуралистического подхода, перестал соответствовать тем проблемам и задачам, которые порождает и творит сама практика.
Если попробовать выразить эти изменения практики предельно сжато и кратко, то можно наверное сказать, что за это время сложилась и оформилась многосторонняя комплексная практика, порождающая такое мыследеятельное содержание, которое никак уже не может быть выражено в представлениях о традиционных натуральных объектах; и мы, следовательно, попадаем в социокультурную ситуацию, очень напоминающую ту, в которой начинали свою работу философы, методологи, математики и физики XVII века: подобно тому, как они создали тогда новые онтологические представления о мире природы и таким образом заложили основания для развития всей системы «натуральных» наук, так и мы сейчас должны создать принципиально новые онтологические представления о мире деятельности и мышления и таким образом заложить основания для развития системы мыследеятельностных наук. Но это, в свою очередь, предполагает, с одной стороны, обращение к принципиально новым категориальным схемам, а с другой — использование совершенно иного, не натуралистического, а деятельностного или, еще точнее, системодеятельностного подхода.
5. Переход от натуралистического подхода к системодеятельностному связан с целым рядом изменений в структуре и формах организации нашего мышления и МД, которые подготавливались исторически и происходили в особенно явной и заметной форме в последние три столетия.
Первое из них связано с появлением и постепенным распространением наряду со схемами и моделями объектов нашей МД также еще и схем мышления, деятельности и МД как таковых. К середине XX столетия это движение оформилось как установка на создание наук о мышлении и деятельности, что потенциально несет в себе новую научно-техническую революцию.
Второе изменение — оно исходило из первого и поддерживало его — это перенос центра тяжести в организации мышления и МД со схем объектов мыследействия на схемы и модели самих мышления, деятельности и мыследеятельности как таковых. Оно было особенно характерным для областей, где развертывалась полипрофессиональная и полипредметная работа, которая нуждалась в комплексной и системной организации [1987 b; Комплексный… 1979] и насаждалась в первую очередь оргуправленческой работой, которая в последние 100 лет становилась все более значимой, а после первой мировой войны стала господствующей [1976].
Третье изменение — соорганизация схем объектов мыследействия со схемами мышления, деятельности и МД как таковых в знаниевые связки совершенно нового типа (обычно их называют «подходами»), — соорганизация, достигнутая за счет использования «схем многих знаний» [1964а *; 1966j} и, далее, схем многомерной, пространственной организации знаний о МД [1972 а; 1983 с*; Комплексный… 1979]; благодаря этому нововведению методологическое мышление получило возможность оформиться в новый вид и тип МД, в «методологическую работу» и методологическую сферу, которая складывается как бы над наукой, захватывает и подчиняет ее себе и становится новой исторической формой «всеобщего» мышления, замыкающего на время рамки нашего мира [1964 а *; 1966 j; 1981 а*; 1982; 1983 с*; 1987 b].
Фиксации и уяснению смысла и сути всех этих изменений в структуре и формах организации нашей МД сильно мешает то обстоятельство, что в течение трех последних столетий методологическая работа развивалась преимущественно на материале науки. Связь между ними была столь тесной и оказала такое влияние на формы методологического самосознания, что чуть ли не повсеместно методология стала рассматриваться как надстройка над наукой, обязанная последней как происхождением, так и своим существованием.
При таком подходе практически не имело смысла ставить вопросы о каких-либо самостоятельных формах организации методологии и ее специфических средствах: она рассматривалась по образу и подобию науки — чаще всего в виде метатеории. И если даже фиксировалось, что на ранних этапах своего становления методология могла иметь форму методики и проекта, то все равно эти формы рассматривались как зародыши, неминуемо превращающиеся в дальнейшем в форму научной теории.
Это же представление проецировалось в историю мышления: считалось, что наука складывается в теле философии сама собой, без посредства методологии, затем выделяется в самостоятельную сферу и после этого порождает методологию науки, в основном подобную самой науке.
Но само представление об автономном существовании науки как особой сферы познания возникло и получило распространение не так давно — в конце XVIII и начале XIX вв. и приблизительно соответствует лишь тому, что реально сложилось и существовало только во второй половине XIX и первой половине XX в. Поэтому, если мы хотим рассмотреть взаимоотношения методологии и науки в более широком историческом контексте, скажем, от античности до наших дней, и получить, соответственно этому, более глубокие и более адекватные представления об этом отношении, то должны начинать анализ не с обособленной и изолированной науки, а с нерасчлененной соцелостности всех форм человеческого мыследействия — мифологических, конструктивно-технических, собственно научных, инженерных, проектных и других; мы называем эту соцелостность «сферой мыследеятельности».
Всем, кто мыслит традиционно, бесспорно, может показаться, что выделение этой соцелостности в качестве предмета анализа является чисто искусственным делом, не схватывающим подлинную организацию нашего деятельного мира. Но такое представление — типичный результат абсолютизации профессионального партикуляризма, характерного для нашего времени. Соцелостность всех форм и типов мыследействия реально существовала, по-видимому, во все периоды развития человеческого общества и существует сейчас, сколь бы разнообразными ни были входящие в нее формы мышления и деятельности и как бы ни обособлялись они друг от друга в организационном плане. Другое дело, что в одни эпохи сфера МД была более дифференцирована и напоминала скорее конгломерат, нежели целостность, в другие, наоборот, была более интегрирована и принимала разнообразные формы — от агломерации до почти тотально организованного целого. Но при этом в каждую историческую эпоху существовала такая форма МД, которая выдвигалась на передний план и брала на себя функции рефлексивного представления и рефлексивной организации всей сферы МД. В предантичный период это была мифология, в античный — философия, в средние века — теология, в XVII–XVIII вв. — снова философия, в XIX и XX вв. — наука. Именно эту соцелостность разных форм МД мы и должны рассматривать, если хотим исследовать взаимоотношения науки и методология и исторические изменения этого взаимоотношения.
Все, что известно нам сейчас по истории МД, показывает, что в течение долгого времени элементы научного и методологического мышления складывались и оформлялись вместе и, по сути дела, параллельно друг другу внутри иных форм мышления и МД — мифологических, философских, теологических и практика-методических. В принципе можно предположить, что как наука, так и методология имели свои независимые линии развития и могли бы оформиться в относительно самостоятельные сферы МД. Но известные нам факты говорят другое. На деле получилось так, что во всех переломных точках, характеризующих основные этапы становления науки, — в античности, в позднем средневековье и в XVII–XVIII вв. — методология складывалась раньше, а наука появлялась и оформлялась внутри нее, по сути дела — как специфическая организация некоторых частей методологии. Именно такое отношение между методологическим и научным мышлением находим мы в работах Платона, Аристотеля, Евклида, Птолемея, Орема, Р. Бэкона, Галилея, Декарта и других выдающихся мыслителей. Более того, уже элементарный анализ всех этих работ показывает, что методологическое мышление выступало при этом не только в качестве объемлющей системы, но также и в качестве средства порождения специфических организованностей научного мышления — так называемых научных предметов. В сочинениях Галилея и Декарта это выявляется с такой же отчетливостью, как и в сочинениях Птолемея и Аристотеля.
Но после того как научное мышление складывалось и оформлялось внутри методологического, всегда происходила очень странная, на первый взгляд, вещь: научное мышление закреплялось в своих специфических организованностях и начинало развиваться по своим внутренним, имманентным законам, а методологическое мышление, породившее науку, наоборот, не закреплялось ни в каких специфических организованностях, пригодных для автономного и имманентного развертывания, начинало распадаться и как бы отходило в общей сфере МД на задний план. И это опять-таки можно проследить по всем работам, характерным для постреволюционных периодов в истории МД.
Названное отношение между методологией и наукой было бы легче выявить, если бы оно не затемнялось другим, по сути дела, противоположно направленным отношением и процессом. Параллельно процессу разрушения и выпадения исходных форм методологии над научно-исследовательским мышлением (как только оно начинало оформляться в автономную и обособленную сферу МД) появлялась «вторичная методология» — методология научного исследования.
Последняя имеет два относительно независимых источника: традиции собственно методологического мышления и рефлексию научного мышления. И процессы, порожденные этими двумя источниками, непрерывно взаимодействуют друг с другом. Рефлексия научного мышления может оформляться по-разному: 1) научно (и в таком случае порождает метатеории разного рода); 2) методически и философски (и тогда появляются чаще всего «комментарии»); либо же, наконец, 3) собственно методологически (и это каждый раз дает новый толчок для развития собственно методологического мышления) [1981 а; 1982].
В принципе, рефлексия возникает над каждой МД и раньше или позже превращается в ту или иную форму мышления. Затем, когда это мышление перерабатывается в мыслительную деятельность, т. е. когда оно нормируется и начинает транслироваться [1967а], над ним надстраиваются новая рефлексия и новое мышление, организующиеся в ту или иную форму «вторичной» методологии. Впервые это произошло, по-видимому, именно с научным мышлением, превратившимся в научно-исследовательскую МД, но сейчас по тому же, теперь проторенному, пути идут практико-методическое, инженерно-техническое, проектное, организационно-управленческое и историческое мышление. Над каждым из них надстраивается своя «вторичная» методология, организующая этот тип мышления в относительно замкнутое и автономное целое, и таким образом складываются различные сферы профессиональной МД.
Возникшие совершенно естественно и необходимо в качестве служб, обеспечивающих развитие профессиональных форм мышления, все эти «вторичные» методологии ходом своего относительно независимого развития начинают разрушать и дезорганизовывать целостность сферы МД: каждый тип мышления благодаря организующим функциям своей профессиональной методологии обособляется от других типов мышления и «окукливается»; вместе с тем происходит разделение и окукливание разных форм методологического мышления, превращающихся в так называемые «частные методологии». Таким образом, и на уровне методологического мышления, по идее призванного интегрировать сферу МД, начинает воспроизводиться та разобщенность и обособленность, которая характерна для современных наук и профессиональных типов мышления. Мы вновь приходим к ситуации, реально угрожающей целостности человеческой МД. Естественным ответом на нее становится «опускание» интегрирующей функции на более простые, массовые формы мышления и деятельности, но это лишь усугубляет и закрепляет разобщенность.
Альтернативным решением проблемы, на мой взгляд, является развитие методологического мышления как универсальной формы мышления, организованной в самостоятельную сферу МД и рефлексивно (в том числе и исследовательски) охватывающей все другие формы и типы мышления. Развитая таким образом методология должна будет включать образцы всех форм, способов и стилей мышления — методические, конструктивно-технические, научные, проектные, организационно-управленческие, исторические и т. д.; она будет свободно использовать знания всех типов и видов, но базироваться в первую очередь на специальном комплексе методологических дисциплин — теории МД, теории мышления, теории деятельности, семиотике, теории знаний, теории коммуникации и взаимопонимания и т. п. [1969 b; 1981а *; 1982]; она будет свободно использовать все существующие категории, но базироваться пока, в первую очередь, на категории системы, снимающей и организующей все другие категории; как целое она будет организовываться специальной рефлексией методологического мышления, фиксируемой в средствах содержательно-генетической эпистемологии (и логики), а также в онтологических представлениях всех методологических дисциплин [1981 а*; 1982].
6. Итак, в силу всех этих процессов (и существующих проектов организации будущего) мы оказываемся поставленными в такое положение, что должны, как это было и в период научной революции, выработать новые категориальные представления объектов наших исследований и разработок. И именно в этой связи, как уже было сказано, мы обращаемся к структурно-системным представлениям и стараемся представить объекты нашего мыследействования как структуры и системы или, если говорить точнее, как полиструктуры и полисистемы. А затем, исходя из этого категориального представления объектов наших исследований, мы стремимся определить возможные формы организации таких исследований — предметные, непредметные, надпредметные [1966 а*, {с. 203–227}; 1981 а*; 1982; 1987 b, с. 209–218].
И именно эта последняя процедура — определение форм организации технических, собственно научных и методологических исследований полиструктурных и полисистемных объектов — является здесь главной и решающей, именно на нее в первую очередь направлено наше внимание и именно об этих аспектах всего дела мы хотим получить конкретное представление. Но в силу этого суть расхождений, разделяющих «натуралистов» и «деятельностников», суть конфронтации между ними оказывается заключенной совсем не в том, системные или несистемные представления об объекте мы исповедуем, а в том, какой подход — натуралистический или деятельностный — реализуем мы в своем мышлении и в своей научно-исследовательской работе. Именно это различие образует сердцевину чуть ли не всех методологических проблем в разных науках.
Мы представляем в этом споре системодеятельностный подход. Основания, которые заставляют нас вставать на его позиции, как видно, весьма просты, хотя и не тривиальны. Если мы пришли к такому положению дел, что представления об объекте изучения кажутся нам нескладными и внутренне противоречивыми, если они не раскрывают новых перспектив перед нашей практикой, если нам приходится то и дело констатировать, что в наших представлениях об объекте нет теперь порядка, то надо, говорим мы, перестать «пялиться» на объект и в нем искать причины и источники этого беспорядка, а обратиться к своей собственной МД, к ее средствам, методам и формам организации, и произвести перестройку в них, ибо наши представления об объекте, да и сам объект как особая организованность, задаются и определяются не только и даже не столько материалом природы и мира, сколько средствами и методами нашего мышления и нашей деятельности. И именно в этом переводе нашего внимания и наших интересов с объекта как такового на средства и методы нашей собственной МД, творящей объекты и представления о них, и состоит суть деятельностного подхода. Если натуралистический подход ориентирует нас в первую очередь на материал природы, в нем непосредственно видит разрешение затруднений и парадоксов современной науки, то деятельностный подход, напротив, ориентирует нас в первую очередь на средства, методы и структуры нашей собственной МД, и в их перестройке и развитии видит он путь дальнейшего совершенствования самой науки. В этом главная идея деятельностного подхода и в этом его отличие от натуралистического подхода.
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Проблемы методологии системного исследования[73]
Системы и структуры как проблема современной науки и техники
Развитие современной науки характеризуется не только необычайно быстрым накоплением все новых и новых знаний, но и тем, что существенно изменились и продолжают меняться принципы и методы научно-исследовательской работы. Среди понятий, наиболее концентрированно выражающих этот процесс, исключительное место принадлежит понятиям системы и структуры. Внешне это проявляется прежде всего в том, что термины, обозначающие их, стали сейчас самыми распространенными в научной и популярной литературе. Лингвист не может написать нескольких предложений, не упомянув о системе языка, химик — о структурах соединений, кибернетик — о системах управления, логик — о системе знаний, биолог — о структурности организма, и все они употребляют эти слова, как говорится, «с большой буквы», вкладывая в них особый, веский смысл.
И дело здесь не просто в моде. Изучение объектов как структур и систем стало в настоящее время основной задачей по сути дела всех наук. Эта направленность в способах понимания или, можно сказать, «виденья» объектов начала формироваться уже давно, но только во второй четверти XX столетия произошел действительно переворот во взглядах и она получила повсеместное распространение и признание.
Победа новой точки зрения и широкий переход к системным предметам и проблемам были обусловлены не только внутренним развитием самих наук, но во многом также развитием современного производства. Характерное и знаменательное явление наших дней — технические системы «большого масштаба», нередко комплексно автоматизированные и обслуживаемые сложнейшими электронно-вычислительными машинами. Рациональное управление экономикой в целом и отдельными ее отраслями, даже отдельными предприятиями требует целостного представления о системе, включающей в себя производство и его организацию, сложную сеть коммуникаций различного рода, организацию снабжения и сбыта и т. п. С системами гигантского масштаба, охватывающими целую страну и даже несколько стран, сталкиваемся мы и в военном деле. Чтобы управлять подобными системами, их нужно специально изучать. Так развитие производства и техники влияет на формирование новых системных предметов и проблем исследования.
Но значение этих проблем не только в том, что к ним обращаются в разных и многих научных дисциплинах. Значительно важнее, что в решении их заключен, по-видимому, какой-то узел развития науки в целом, ее «технологии», т. е. приемов и способов самого исследования. Для лингвиста в первую очередь важно выяснить, конечно, что представляют собой системы языка, для биолога — что представляет собой то или иное живое целое или популяция, для социолога — определенная социальная система. Но для науки в целом значительно важнее другое — постараться нащупать какие-то пути и способы, которые вообще сделали бы возможным исследование объектов как систем и структур. Ибо нынешние достижения человечества в решении этих проблем, несмотря на все их практическое и теоретическое значение, еще очень и очень незначительны.
Известный австрийский биолог Л. Берталанфи, живущий сейчас в Канаде, создал специальное общество для разработки «общей теории систем». Оно объединяет многих ученых самых различных специальностей, которые от частных проблем отдельных специальных наук пришли к постановке общих методологических вопросов [Лекторский, Садовский, 1960]. Этот факт — признание необходимости общего подхода к анализу систем и структур. Но вместе с тем приходится признать, что именно общих решений пока нет, и это отрицательно сказывается на развитии специальных наук. Приемы и способы системного и структурного исследования остаются пока еще не разработанными фактически во всей науке, и поэтому так важно и полезно сейчас встать на более широкую точку зрения, постараться выяснить не только то, каковы системы языка, живого организма, социального или экономического целого, но и то, как мы их исследуем, как вообще их можно исследовать.
Иными словами, это можно сказать так: именно из-за того, что в исследовании объектов как систем и структур мы сталкиваемся сегодня со значительными трудностями и природа этих трудностей оказывается в принципе одинаковой в разных областях, необходимо всемерно развертывать специальные логико-методологические исследования. Их задача состоит в том, чтобы сформулировать систему общих принципов и правил, в соответствии с которыми можно было бы строить системно-структурное исследование частных объектов.
В условиях современной науки методологический анализ вообще приобрел первостепенное значение, поскольку исследователь имеет дело, как правило, с исключительно сложными познавательными конструкциями, выступающими в качестве средств анализа. Именно этим следует объяснить повсеместное резкое усиление внимания к методологическим проблемам науки. Им было посвящено, как известно, и специальное расширенное заседание президиума Академии наук СССР в октябре 1963 г. [Методологические… 1964]. В выступлениях ведущих советских ученых было показано, что специальный методологический анализ стал органически необходимым в решении по сути дела всех фундаментальных задач современной науки.
Так мы естественно приходим к необходимости более подробно и детально обсудить вопрос о том,
в чем специфика методологического подхода к проблемам науки.
Задача представителя специальной науки состоит в том, чтобы построить знание о предмете своего изучения, или, иначе, описать этот предмет в некоторой знаковой форме. При этом ученый пользуется средствами и методами, уже выработанными в его науке. Пока они «работают» безотказно и дают знания, хорошо согласующиеся между собой и отвечающие поставленным задачам, ему не приходится задумываться по поводу их характера и строения. Иное положение складывается, когда встают задачи, не разрешимые старыми средствами и методами, или когда появляются новые объекты, к которым старые средства не могут быть приложены; тогда условием решения задачи становится создание новых средств и методов.
Как это делается? Возможны две полярные линии. Одна — это путь «искусства».[74] Он заключается в комбинировании уже существующих в данной науке средств и методов, в многочисленных пробах, приводящих в конце концов к трансформации этих средств и к нахождению случайного решения, в попытках переноса средств из других наук, отсеивании неудачного и в приспосабливании, прилаживании того, что оказалось наиболее подходящим. Главные факторы в этом процессе — время и число проб; в конце концов нужное средство бывает найдено. Основной признак — отсутствие каких-либо общих знаний о средствах и методах, которые бы направляли и регулировали этот поиск.
Второй путь разработки новых средств исследования предполагает теорию самих методов, «методологию». В этом случае специалист-предметник комбинирует не просто что придется, что попало «под руку», а в соответствии с имеющимися у него знаниями о всех существующих в это время средствах и их отношении к задачам. Он пытается перенести не любые средства из других наук, а только те, о которых он знает, что они могут подойти для решения вставших перед ним задач и описания заданных ему объектов; в случае необходимости он создает новые средства, заранее зная, подобно инженеру, создающему машины, какими они должны быть.
Но какой должна быть сама методология науки, ее знания, чтобы обеспечить подобную работу по созданию средств научного исследования?
Существуют две основные точки зрения на этот счет.
Представитель первой точки зрения (ее можно назвать «натурфилософской») считает, что предмет методологии — природа, мир как таковые. С этой стороны методолог, на его взгляд, ничем не отличается от специалиста-предметника. Например, физик анализирует физические процессы в объектах, и ученый, работающий в области методологии физики, тоже должен изучать эти же физические процессы. Разница между ними заключается только в том, что физик будет изучать физические процессы конкретно, опираясь, с одной стороны, на экспериментальные методы, с другой стороны — на аппарат математики, а методолог будет изучать физические процессы «в общем», выделяя их «общие» стороны и свойства. По убеждению натурфилософа, понятия, вырабатываемые при таком «общем подходе» к физическим процессам, могут служить методами для конкретного физического исследования.
Представитель второй точки зрения (ее можно назвать «теоретико-познавательной») считает, что предмет методологии как науки принципиально отличен от предмета всех других конкретных наук; это — деятельность познания, мышление, или, если говорить более точно, вся деятельность человечества, включая сюда не только собственно познание, но и производство. Можно сказать, что методология, на его взгляд, есть теория человеческой деятельности. Именно поэтому методологические знания могут служить руководством при поисках и выработке новых средств научного исследования: ведь они описывают и даже заранее проектируют ту деятельность, которую нужно для этого осуществить.
По-видимому, только теоретико-познавательная точка зрения на методологию оправдывает ее выделение в качестве действительной науки. Чтобы описать условия, в которых выделяются специфически методологические проблемы, рассмотрим в схематизированном виде особые ситуации, складывающиеся в ходе развития науки, — так называемые «антиномии», или «парадоксы».
Их общая логическая схема может быть представлена очень просто. Определенный объект А, являющийся образцом и эталоном класса, анализируется сначала посредством процедуры Δ1 и выступает как обладающий свойством В; потом этот же объект анализируется посредством другой процедуры Δ2 и выступает как обладающий свойством не-В. При проверке обнаруживается, что процедуры выполнены правильно, что они обе в равной мере могут быть применены к этому объекту и при данном уровне развития науки не удается выявить того свойства в объекте, которое обусловливает столь странные результаты исследования. Таким образом, оба знания «А есть В» и «А есть не-В», полученные соответственно с помощью процедур Δ1, и Δ2, оказываются одинаково обоснованными и «правильными», и это создает особую ситуацию «разрыва» в развитии науки.
Уже в древнегреческий период была зафиксирована масса подобных ситуаций (они назывались «апориями») в самых различных науках — в математике, физике, философии.
Например, записывался натуральный ряд чисел, в нем выделялись числа — «полные квадраты»; они сопоставлялись со всем рядом:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16… 1 4 9 16…
Совершенно очевидно, что при таком способе сопоставления чем дальше мы будем двигаться по ряду, тем меньшим будет «вес» полных квадратов по сравнению со всеми другими числами. Из этого делали вывод, что число полных квадратов в ряду натуральных чисел меньше, чем число всех чисел. Но затем предлагался другой способ сопоставления: каждому числу натурального ряда ставился в соответствие его квадрат
1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 9 16 25 36 49 64
Было очевидно, что сколько бы мы ни двигались так по ряду, мы всегда сможем это сделать. Из этого делали вывод, что число полных квадратов в бесконечном ряду чисел не меньше числа всех чисел.
Таким образом, применяя два различных способа рассуждения — и заметим: правильных с точки зрения существовавших тогда понятий, — мы приходим к двум различным, взаимно исключающим друг друга утверждениям.
Могут попробовать возразить, что эти утверждения не были правильными, так как к бесконечным множествам, с точки зрения современной математики, не могут применяться понятия «больше», «меньше», «равно», а должны применяться понятия «мощности» и связанные с ними процедуры сопоставления.[75] Это правильно. Но мы знаем это сегодня, а когда этот вопрос встал и когда его обсуждали, начиная, по-видимому, с Демокрита и вплоть до работ Г. Кантора, понятия мощности множества не существовало и приходилось пользоваться теми понятиями, которые были. Кроме того, даже и с этой модернизированной точки зрения нужно признать, что оба утверждения по поводу числа полных квадратов в ряду натуральных чисел находятся в совершенно равных условиях — оба являются одинаково ложными или одинаково истинными. Только это важно в контексте данного рассуждения: возникала ситуация, в которой два знания исключали друг друга и оба были одинаково правильными, и из этой ситуации нужно было выходить, создавая новые средства науки.
Чтобы снять возможное впечатление, будто парадоксальная ситуация возникает из-за оперирования «трудным» и немного мистическим понятием бесконечности, разберем еще пример физического парадокса, выявленного Г. Галилеем примерно через две тысячи лет после появления разобранного выше математического парадокса.
Различие между равномерными и переменными движениями стало известно людям уже давно. Но это было лишь наглядное, чувственное знание, не осмысленное в понятиях. Существовавший во времена Аристотеля чувственно-непосредственный способ сопоставления движений, когда время фиксировалось как равное, а сравнивались одни лишь отрезки пройденного телами пути, не позволял выявить различие между равномерными и переменными движениями в виде понятия.
И хотя в представлении древних понятие скорости было результатом и средством сопоставления движений вообще, независимо от их характера, по содержанию и по своему строению оно служило адекватным отражением только равномерных движений. Поэтому когда Галилей приступил к исследованию ускоренных движений, используя для этого понятие скорости, выраженное в формуле v = s/t, то это привело его к логическому противоречию (антиномии). Так как часы, находившиеся в его распоряжении, несмотря на все произведенные усовершенствования, были все еще малопригодны для измерения небольших промежутков времени, Галилей решил замедлить исследуемые движения падения с помощью наклонных плоскостей, а это в свою очередь заставило его сопоставить между собой падение тел по вертикали и по наклонным. Согласно определениям Аристотеля, из двух движущихся тел то имеет большую скорость, которое проходит за одно и то же время большее пространство, чем другое, или то же пространство, но за меньшее время. Соответственно считалось, что два движущихся тела обладают одинаковой скоростью, если они проходят равные пространства в равные промежутки времени.
Галилея эти определения уже не удовлетворяли. Выработанный им способ измерения времени позволил представить понятие скорости в виде математического отношения величин пути и времени. С этой новой точки зрения ничего не изменится, если назвать скорости равными и тогда, «когда пройденные пространства находятся в таком же отношении, как и времена, в течение которых они пройдены…» [Галилей, 1948, с. 34]. Поскольку Галилей уже «подвел» понятие скорости под более широкое понятие математического отношения, сделанный им переход был вполне законен. Равенство отношений s1/t1 = s2/t2 как при s1 = s2 так и при s1 s2 остается справедливым, если t1 и t2 меняются в той же пропорции, что и пути.
Итак, имеются два определения равенства скоростей двух движущихся тел.
Первое: скорости двух тел равны, если за равные промежутки времени эти тела проходят равные пространства.
Второе: скорости двух тел равны, если пространства, проходимые одним и другим, пропорциональны временам прохождения.
Второе определение является обобщением первого. Имея эти два определения, Галилей приступил к сопоставлению конкретных случаев падения тел. Пусть по СВ и СА (см. схему 1) падают два одинаковых тела. Скорость тела, падающего по СВ, будет больше скорости тела, падающего по СА, ибо, как показывает опыт, в течение того времени, за которое первое падающее тело пройдет весь отрезок СВ, второе пройдет по наклонной СА часть CD, которая будет меньше СВ. Отсюда в соответствии с первым определением можно сделать вывод, что скорости тел, падающих по наклонной и по вертикали, не равны.
В то же время известное Галилею положение о том, что скорость падающих тел в какой-либо точке зависит только от высоты их падения, наводят его на мысль, что раз скорости тел в точках А и В, расположенных на одной горизонтали, равны, то они должны быть и вообще равны на отрезках СА и СВ. Он проверяет это предположение на опыте, и действительно оказывается, что отношение времен падения по всей наклонной и по всей вертикали равно отношению длин наклонной и вертикали. Отсюда в соответствии со вторым определением можно сделать вывод, что скорости тел, падающих по наклонной и по вертикали, равны.
Таким образом, следуя рассуждению Галилея, мы получили два противоречащих положения: 1) «Скорости тел, падающих по СА и СВ, равны»; 2) «Скорости тел, падающих по СА и СВ, не равны».
Причину выявленного Галилеем противоречия нельзя искать в произведенном им обобщении условий равенства скоростей. Если бы мы, пользуясь старым условием равенства скоростей, начали сопоставлять движения шаров по СА и СВ, беря отрезки проходимого пути в разных частях СА и СВ, то мы получили бы и при старом определении весьма противоречивые результаты. Скорость падения шара no CB могла оказаться в одном месте больше скорости падения шара по СА, в другом — равной, в третьем — меньшей. Таким образом, рассмотренное развитие понятия скорости и обобщение условий равенства скоростей не являлись причиной противоречия, а были лишь случайными обстоятельствами, которые облегчили его обнаружение.
Причина этого противоречия заключена в том, что понятие скорости, сложившееся из сопоставления равномерных движений и однозначно характеризовавшее эти движения, уже не подходит для сопоставления и однозначной характеристики движений неравномерных.
Подобные логические противоречия, или антиномии, можно часто встретить в истории науки. Оба положения, составляющие антиномию, в равной мере истинны и неистинны. Истинны в том смысле, что они оба действительны, если мы исходим из существовавшего в то время определенного строения исходного понятия. Неистинны в том смысле, что это строение понятия уже не может дать однозначной характеристики новых исследуемых явлений.
Ситуации парадоксов, или антиномий, занимают особое положение в ходе развития науки. Прежде всего в их контексте уже бессмысленно спрашивать: какому из имеющихся знаний соответствует объект, первому или второму. Он не соответствует ни одному из них, он отличен от обоих. Так, благодаря сопоставлению двух исключающих друг друга знаний, относимых к одному объекту, сам объект отделяется от знаний о нем и противопоставляется им как нечто третье, пока не познанное. По выражению Гегеля, сначала в понятии мы видели сам объект, теперь понятие как форма отделяется от объекта. Это первый и, наверное, основной шаг в формировании теоретико-познавательной точки зрения на мир.
Выделение объекта как чего-то отличного от того, что мы видим в знании, и сопоставление знаний друг с другом заставляет сделать следующий шаг и поставить вопрос: чем обусловлено это различие знаний. При ответе на этот вопрос выявляется следующий элемент предмета теории познания: процедуры получения знаний, процедуры познавательной деятельности. Именно в них находят ту причину, которая привела к различию знаний об объекте.
Появление теоретико-познавательной точки зрения делает возможным и собственно методологический подход в разработке средств науки.
Дело в том, что в каждой ситуации могут быть поставлены две разные задачи и в соответствии с этим как практическая, так и исследовательская деятельность могут идти по двум принципиально различным линиям и опираться на различные методы. В одном случае исследование будет направлено на преодоление именно этой, единичной антиномии, на выработку нового специального понятия, «снимающего» антиномию. В другом — оно может быть направлено на выяснение условий появления антиномий вообще (а не только этой единичной), на анализ путей и методов их преодоления, на выяснение структуры вновь получаемого знания в его отношении к прежним, антиномичным.
В первом случае мы будем оставаться в рамках данной специальной науки, математики, физики или химии, будем пользоваться ее специфическими методами. И при этом каждая новая антиномия будет вставать перед нами такой же проблемой, как и предыдущая, и мы будем подходить к ее решению вооруженными так же, как мы были вооружены при решении первой. Наш опыт преодоления антиномий никак не будет осознаваться и не будет влиять на последующую деятельность.
Во втором случае необходимо выйти за границы той или иной специальной науки и выделить совсем особый предмет рассмотрения — знания об объектах, процессы выработки и использования их. Здесь придется прибегнуть к совершенно иным методам исследования, выработать понятия принципиально иного рода, нежели понятия той или иной специальной науки; и это будут понятия методологии (в широком смысле этого слова, включая туда логику и теорию познания).
Антиномии, или парадоксы, возникающие в ходе развития науки, были взяты нами в качестве примера ситуаций, которые делают необходимой постановку собственно методологических задач. В этих ситуациях фактически формируется и выделяется та действительность, которая становится предметом методологии как науки. Эта действительность — деятельность по получению знаний.[76]
Мы можем изобразить ее строение в блок-схеме, если выделим и перечислим основные составляющие всякой деятельности. Специальный анализ показывает, что в любой акт познавательной деятельности обязательно входят: 1) задачи (или требования), 2) объекты, 3) средства, 4) формы знаний и 5) процедуры, создающие их (см. схему 2).
Эту схему можно рассматривать как первое приближенное изображение предмета методологических исследований.
Очень важно также подчеркнуть, что постановка вопроса об объекте как таковом, в отличие от «данности» его в той или иной форме знания, появляется впервые отнюдь не в специально-научных исследованиях, как это обычно думают, а только в методологическом анализе. В специально-научных исследованиях, где имеется одно или несколько легко соединимых друг с другом знаний об объекте, не возникает вопросов об объекте как таковом и нет нужды противопоставлять его знаниям. Мы уверены, что объект таков, каким он дан нам в этих «знаниях». Только в ситуациях антиномий и аналогичных им нам приходится выделять объект, ставить вопрос о его природе и стараться изобразить его как таковой, в форме, отличной от всех уже существующих о нем знаний [1964 h *, I]. Поэтому именно методология и теория познания, как это ни странно на первый взгляд, оказываются учением об объектах и областях объектов, т. е. обязательно включают в себя моделирующую мир онтологию.[77] Поэтому ошибочным является тезис, время от времени всплывающий в философской литературе, что де теория познания и логика являются наукой о деятельности и процессах познания, & не о мире. Это противопоставление неправомерно: она является наукой о деятельности познания и тем самым о мире, включенном и включаемом в нее. Само это противопоставление было обусловлено неправильным пониманием объективности — был забыт знаменитый тезис К. Маркса: «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно» [Маркс, 1955 b, с. 1].
Но это представление объектов в методологии существенно отличается от их представления в специальных науках: оно создается как изображение их «высшей» объективности, освобожденной от частной формы тех или иных специальных задач. По этой же причине методологическая онтология не имеет ничего общего с натурфилософией: она существует в системе методологии и создается не на основе анализа физической, химической или какой-либо иной эмпирии, а на основе анализа человеческой деятельности — производства (практики) и мышления.
Таким образом, переходя в область методологического исследования, мы формируем совершенно особый предмет, который не совпадает с предметом ни одной частной науки. И мы можем исследовать и описывать этот предмет только с помощью особых методов, не сводимых к методам специальных наук.
О том, что это утверждение не является общепризнанным, что вокруг него сейчас еще идет борьба, говорит хотя бы широко распространенный и принятый многими тезис Д. Гильберта, что обоснование математики есть дело самой математики [Гильберт, 1948, с. 391, 363–364; Клини, 1957, с. 55, 58]. И не только математики, но и представители многих других наук разделяют и поддерживают тезис, что методологию специальных наук должны разрабатывать представители самих этих наук. Поэтому формулируя положение, что методология науки имеет свой особый предмет и использует свои особые методы — только в этом случае она будет действительной наукой, — мы противопоставляем его положению, что методологические проблемы каждой науки могут решаться методами самой этой науки. На наш взгляд, торжество такого подхода приводило всегда только к уничтожению самой методологии как науки. И то, что его нередко принимали, объясняется лишь одним — тем, что он избавлял от необходимости разрабатывать особые методы методологии науки. Отвергая этот тезис, мы сталкиваемся с этой проблемой во всей ее остроте: что представляют собой и какими должны быть основные средства методологии или теории деятельности. Одним из них является
различение объекта и предмета знания
Объект существует независимо от знания, он существовал и до его появления. Предмет знания, напротив, формируется самим знанием. Начиная изучать или просто «включая» в деятельность какой-либо объект, мы берем его с одной или нескольких сторон. Эти выделенные стороны становятся «заместителем» или «представителем» всего многостороннего объекта; они фиксируются в знаковой форме знания. Поскольку это — знание об объективно существующем, оно всегда объективируется нами и как таковое образует «предмет». В специально-научном анализе мы всегда рассматриваем его как адекватный объекту. И это правильно. Но при этом надо всегда помнить — а в методологическом исследовании это положение становится главным, — что предмет знания не тождествен объекту: он является продуктом человеческой познавательной деятельности и как особое создание человечества подчинен особым закономерностям, не совпадающим с закономерностями самого объекта.
Одному и тому же объекту может соответствовать несколько различных предметов. Это объясняется тем, что характер предмета знания зависит не только от того, какой объект он отражает, но и от того, зачем этот предмет сформирован, для решения какой задачи.
Чтобы пояснить эти общие абстрактные определения, рассмотрим простой пример.
Предположим, что у нас в двух населенных пунктах имеются две группы баранов (схема 3). Это, бесспорно, объекты. Люди имеют с ними дело, разным образом используют их, и в какой-то момент перед ними встает задача пересчитать их. Сначала пересчитывается одна группа, положим — 1, 2, 3, 4, затем вторая — 1, 2, 3, 4 и наконец оба числа складываются: 4 + 4 = 8.
И уже в этом простом факте выступает ряд очень сложных и вместе с тем очень интересных моментов. Объекты, бараны, имеют целый ряд сторон и когда мы их начинаем считать, то выделяем одну сторону каждой группы — количество баранов. Это количество мы выражаем в значках, в цифре 4 один раз, затем в цифре 4 второй раз, а потом производим какое-то странное действие — мы складываем числа. Если бы у нас были не две группы, а, скажем, пять, и в каждой из них было бы по 4 барана, то мы не складывали бы, а просто умножали числа: 4 х 5 = 20, т. е. произвели бы другое, еще более странное действие.
Почему я их все время называю странными? Давайте спросим себя, может ли быть применено действие сложения к баранам как таковым? Или, скажем, действие умножения? Или — продолжим эту линию рассуждения — действия деления, извлечения корня, возведения в степень? Бесспорно, нет.
Но есть и еще одна, не менее важная сторона дела. Мы должны спросить себя: разве эти действия — сложение, умножение, возведение в степень — применяются к «закорючкам», выражающим знаки, к цифрам? Когда мы складываем, то складываем не цифры, а числа. И есть большая разница между цифрой и числом, потому что цифра — это просто значок, след от чернил, краски, мела, а число есть образование совершенно особого рода, это — значок, в котором выражена определенная сторона объектов. И мы складываем числа не потому, что они значки, точно так же как мы умножаем их не потому, что они цифры; мы складываем и умножаем, потому что в этих значках выражена строго определенная сторона объектов, именно — количество. В них она получила самостоятельное существование, отдельное от объектов, и в соответствии с этим когда мы говорим о числе как особом образовании, отличном от баранов как таковых и от количества баранов, то имеем в виду не объект и не стороны этого объекта, а особый, созданный человечеством «предмет».
Этот предмет такая же реальность, как и исходные объекты, но он имеет совершенно особое социальное существование и особую структуру, отличную от структуры объектов. Сами по себе цифры — еще не предмет. Но точно так же и объекты — это еще не предмет. Предмет возникает и начинает существовать, когда процедура сопоставления выделяет в группе баранов количество и выражает его в значках чисел. То, с чем мы имеем дело, это, таким образом, связка или отношение замещения между баранами, взятыми в определенном сопоставлении, и знаковой формой чисел; но оно объективно существует и выражено только в этой знаковой форме и способах деятельности с нею. Предмет знания — реальность, но законы деятельности с ней как с реальностью — особые законы; с баранами мы действуем одним образом, с числами мы действуем и должны действовать совершенно иначе. И только выразив количество баранов в особой знаковой форме, мы получили возможность действовать с ним особым образом, именно как с количеством, а не как с баранами. Раньше мы не могли этого делать, мы должны были действовать с баранами, как это полагается по их природе и сути, в крайнем случае мы могли их пересчитать.
В самом по себе объекте никакого предмета не содержится. Но он может быть выделен как особое содержание посредством практических и познавательных действий с объектом. Это содержание может быть зафиксировано в знаках. И коль скоро это происходит, возникает предмет и предстает перед человеком в объективированном виде как существующий помимо тех объектов, от которых он был абстрагирован. Его объективированная «данность» порождает иллюзии — как будто бы имеют дело с самим объектом. Это иллюзорное понимание сути дела, возникнув уже в сравнительно простых ситуациях (например, с количеством), проникает затем в высшие этажи науки и там запутывает все окончательно.
Есть единственный путь понять природу предмета — это выяснение механизмов era образования и структуры, а это означает и анализ его как последовательно надстраивающихся друг над другом плоскостей замещения.
Простейший вид предмета может быть представлен в схеме 4.
Здесь первую плоскость образует оперирование с объектом X посредством процедур Δ1, Δ2… Результаты такого оперирования выражаются в знаках (А) (В), которые фиксируют и замещают выделенное в первой плоскости содержание Х Δ1 Δ2… Эти знаки включены в особую деятельность λ1 λ2 — формальное оперирование со знаками, — и все это вместе образует вторую плоскость. Результаты преобразования знаковой формы во второй плоскости относятся к объекту X. Исходное замещение и обратное отнесение изображены на схеме стрелками.
Знаковые образования (А) (В) и применяемые к ним операции λ1 λ2 сами могут образовать новую исходную плоскость, к которой применяются новые содержательные действия сопоставления (скажем, Δ 1,Δ 2…); иначе говоря, сами знаки становятся объектом следующей деятельности. В этом случае результаты оперирования во второй плоскости фиксируются в знаковых образованиях (G) (E) (D), которые образуют следующую, третью плоскость замещения, причем оперирование со знаками здесь осуществляется посредством особых процедур υ1υ2… В дальнейшем может образоваться еще одна или ряд плоскостей, так что в конечном счете мы получаем иерархию отношений замещения, которая может быть изображена в схеме 5.
Таким образом, мы можем сказать, что «предмет» это — иерархированная система замещений объекта знаками, включенными в определенные системы оперирования (см. по этому поводу наши статьи [1960 а; 1964с *]), в которых эти системы замещения существуют реально как объекты особого рода, они опредмечиваются в виде научной литературы или производственной деятельности общества по созданию и использованию знаковых систем. Подрастающее поколение непрерывно «приобщается» к этим системам замещения, усваивает их, а затем строит свою деятельность на основе их.
Проведенное таким образом различение объекта и предмета знания позволяет ввести еще одно важнейшее понятие методологии:
онтологическое представление содержания знания
Важнейшим результатом предшествующего анализа было положение о том, что применение действий сопоставления к объектам создает новое содержание; мы изобразили его символами ХΔ1Δ2… Это содержание фиксируется, выражается в знаковой форме (А) (В) и способах оперирования с нею — λ1λ2. Применяя затем другие действия сопоставления к знакам (А) (В), мы получаем новое содержание, которое выражаем в знаках (D) (E) (F) и очень часто относим непосредственно к объекту X. Например, мы измеряем последовательно соответствующие друг другу значения давления и объема определенной массы газа (первая плоскость предмета), получаем ряды значения р1, р2, р3… V1, V2, V3… (образующих вторую плоскость предмета), затем сопоставляем их как p1V1<->p2V2<->p3V3<->… и находим математическую форму их зависимости pV = const (которая должна быть помещена уже на третьей плоскости предмета). Содержание этой формы мы рассматриваем как «закон», которому подчиняется газ, и, следовательно, относим его непосредственно к нашему объекту.
Но нередко такое непосредственное отнесение не может быть выполнено, так как содержание, выявляемое опосредованно из деятельности со знаками, не соответствует эмпирически наблюдаемым или выявляемым свойствам объекта. Тогда для него строят специальное знаковое изображение, которое «встает» как бы между знаковой формой знания и эмпирически данными объектами.
Если обратиться к приведенной выше схеме «предмета», то ситуацию, в которой вновь полученное знание не удается отнести к объекту, можно будет изобразить в схеме 6.
Здесь в очерченном пунктиром прямоугольнике изображен «разрыв», возникший из-за того, что мы не можем отнести результаты, полученные при оперировании в четвертой плоскости знания, непосредственно на объект X. Для ликвидации этого разрыва строится особая знаковая конструкция (на схеме она изображена маленьким квадратом с буквой О в середине), которая должна определенным образом представить предмет «как таковой». Исходя из этой специфической функции, о подобных изображениях можно говорить как об онтологических представлениях содержаний знания. Это точно выражает специфическую познавательную роль таких знаковых конструкций: они должны так представить объект, чтобы обеспечить связь его с вновь полученными знаниями. Именно таким путем появляются так называемые «идеальные предметы» — тяжелая точка, идеальный рычаг, абсолютно упругое тело, математический маятник и др. [Хайкин, 1947].
Рассмотрим в качестве примера «математический маятник». Уравнение его колебаний содержит знаки М — массы маятника и l — его длины. Представим себе, что перед нами реальные маятниковые часы с массивным диском и длинным стержнем. Можно ли применить это математическое уравнение колебаний маятника для описания реального движения маятника часов? Оказывается, что если мы будем измерять его действительные параметры — длину стержня или массу диска, то получим неправильные результаты. Математическое уравнение колебаний маятника может быть отнесено непосредственно лишь к особому идеальному предмету — «математическому маятнику», а он, в свою очередь, может быть представлен только в знаках. Чтобы применить математическое уравнение колебаний маятника к реальному маятнику, последний нужно еще свести к математическому маятнику, а это значит, с помощью особых специально задаваемых процедур измерить и рассчитать так называемые «приведенную длину» и «приведенную массу» реального маятника (см. схему 7).
Аналогичная картина с онтологическими представлениями обнаруживается и у всех других научных знаний.
Онтологическое представление дает вторую форму существования предмету знания: оно как бы «сплющивает» его многоплоскостную структуру в одном изображении.
Только теперь, введя эти общеметодологические понятия, мы можем вернуться к проблемам системно-структурного исследования и спросить:
что такое система?
Термин «система» определяется с помощью таких терминов, как «связь» (или «взаимосвязь»), «элемент», «целое», «единство». В чисто словесных формулировках еще можно встретить согласие, но представители разных наук вкладывают в эти слова столь различный смысл, что на деле согласие их является лишь видимым: для одних «связь» это просто геометрические взаимоотношения частей; для других — зависимость между частями или сторонами целого; одни будут называть «структурой» геометрическое взаимоотношение, другие сведут ее к «набору» элементов. Часто теоретические определения расходятся с эмпирическим материалом. Так, например, известный английский кибернетик Ст. Бир называет системой взаимосвязь самых различных элементов, а в качестве примера приводит бильярд, в котором никаких взаимосвязей фактически нет, а есть только функциональное единство целого [Вир, 1963, с. 22]. Поэтому, наверное, самым правильным было бы сказать, что в настоящее время вообще не существует удовлетворительных, достаточно широко принятых понятий системы и структуры. Не смогло предложить таких понятий и общество по разработке «общей теории систем». Г. Х. Гуд и Р. Э. Макол, анализирующие системы «большого масштаба», отказываются предпринимать какие-либо попытки точно определить границы, очерчивающие рассматриваемые ими системы. «Как обычно бывает в любой области, — замечают они, — эти границы проходят по широким неопределенным территориям и поиски их точного положения вызвали бы большие, но бесплодные споры» [Гуд, Макол, 1962, с. 17]. И фактически выраженная ими позиция является единственной широко распространенной среди тех, кто исследует конкретные системы и структуры.
Ее бессмысленно оспаривать, если заранее известно, что в данный момент у ваших оппонентов все равно нет средств, чтобы решить проблему. Но и только. Вряд ли стоит специально доказывать, что неограниченность и расплывчатость исходных понятий крайне затрудняет научное исследование и делает его фактически малопродуктивным.
Наверное, в этой ситуации полезно поставить вопрос: почему все попытки выделить специфические признаки систем в течение столь долгого времени не дают положительного результата? Ответ на него в каком-то смысле банален: по-видимому, пытаются объединить в одном классе слишком разнородные явления, не видят, ухватившись за формальные и вместе с тем лишь интуитивно понятые характеристики целого и составляющих его элементов, более существенных и глубоких различений, действительно определяющих природу и жизнь «систем».
Немалую роль в установке исследовать «системы вообще» играет и ложная методологическая догма, что-де всегда надо стремиться к выделению из массы разнородных явлений общих инвариантов в ущерб эмпирическому движению к деталям и обусловленному им ограничению.
По-видимому, здесь единственно эффективным путем теоретической разработки проблемы должен быть путь разграничения и разделения охватываемого исследованием эмпирического материала на более узкие области, выделяемые по каким-то другим, несистемным, но более важным для объектов признакам.
В частности, нужно провести исключительно важное и принципиальное различение систем на
«организации» и «структуры»
Даже при наличии всех обычно перечисляемых признаков систем сложные объекты могут не иметь друг с другом ничего общего именно в «системном» отношении. Покажем это на простых моделях.
Представим себе деревянную основу, на которой в специально выдолбленных ячейках лежат шарики (схема 8).
Шарики прочно занимают свои места и все вместе они образуют строго определенную конфигурацию. Эта конфигурация может быть описана с помощью тех или иных «целостных» характеристик, например, можно установить ее ромбовидный характер. Каждый шарик имеет свое строго определенное место, свою позицию и жестко определен в своем отношении как к целому, так и к другим шарикам. Если убрать один из шариков, то целое, бесспорно, изменится: вместо ромбовидной конфигурации мы будем иметь треугольную. Следовательно, эти четыре шарика образуют некоторое единое целое: изменение места по крайней мере одного шарика или его исчезновение изменяет целое. Но вот важная особенность: изменение в положении одного шарика никак не сказывается на положении других. С изменением положения одного шарика происходит изменение целого, хотя оставшиеся его элементы остаются неизменными. Указанные свойства определяют класс систем одного из простейших типов, а именно — организации с отношениями. В такого рода системных образованиях отсутствуют связи.
Возьмем другой пример. На такой же самой деревянной основе поместим шарики в той же ромбовидной конфигурации, но, в отличие от первого примера, свяжем их друг с другом и с основой пружинками (схема 9).
Когда пружинки уравновешены, вся система покоится и четыре шарика образуют ромбовидную конфигурацию. Изменим положение одного из шариков. При этом, конечно, изменится общая конфигурация системы, но не так, как это было в предыдущем случае: система пружин, выведенная из равновесия в результате изменения положения одного из шариков, придет в движение, все остальные шарики сместятся, появится совершенно новая конфигурация. Как и в первом случае, произошло изменение целого, но теперь уже — за счет изменения положения всех элементов. В этом особенность систем второго типа: их элементы не только относятся друг к другу, но они также и связаны между собой. Именно поэтому изменение положения одного из шариков влечет за собой изменение положения других. Таким образом, в этом случае мы имеем принципиально иной тип систем — системы связей, или структуры.
Но это различение типов систем по основанию «отношение — связь» отнюдь не единственное. Не меньшую роль играет также различение их на
системы знания и системы объекта
В подавляющем большинстве современных работ по проблемам структур и систем или по методологии структурно-системного исследования эти принципиальные различения не проводятся. Система знания об объекте отождествляется в них обычно с системой предмета, а система предмета затем механически накладывается на систему объекта. В дальнейшем этой, фактически одной, системе даются разные трактовки: то она выступает как система знания, то как система объекта, отраженного в этом знании. И даже непрерывно возникающие из-за этого антиномии не могут разрушить веру в единство и совпадение этих трех систем.
В лингвистике, например, постоянно употребляют как синонимы выражения «системы знаний о языке», «системы языка», «системы языка как объекта языкознания» и доказывают, что система предмета не может отличаться от системы объекта (см., например, [О соотношении… 1960, с. 95, 102, 125 и др.]).
Такое же положение отчетливо обнаруживается в кибернетике. У. Р. Эшби в работах 50-х годов не мог представить себе систему иначе, как совокупность связанных между собой параметров. Ст. Бир в противоположность Эшби, казалось бы, все время говорит о системах объектов, но на поверку оказывается, что это те же системы предметных онтологических изображений, которые лишь в чисто словесном плане получают объектную интерпретацию.
Между тем системы знания, предмета и объекта совершенно очевидно не совпадают друг с другом и ни в коем случае не могут отождествляться.
Научное знание всегда системно. Уже простейшие виды знания, такие, как «береза — белая», «металл — электропроводен» и т. п., представляют собой системы; форма их состоит из элементов, связанных друг с другом, а вместе с тем и содержание выступает расчлененным и одновременно связанным в некоторое единство. И какие бы другие более сложные виды знаний мы ни брали — отдельные положения или целые теории, — они всегда будут системными. Разница заключается только в виде и сложности самих систем.
Обратимся теперь к объектам. Всякий реальный объект, если говорить о его материальной природе, т. е. рассматривать его как таковой, вне связи с теми или иными задачами изучения, представляет собой сложное целое и имеет определенное строение. Но в зависимости от задач исследования он может рассматриваться и рассматривается по-разному: во-первых, как простое тело, со стороны «внешних», если можно так сказать, свойств (последние, в свою очередь, могут быть: а) атрибутивными или б) функциями); во-вторых, как сложное тело, со стороны состава, т. е. как собрание, совокупность элементов (последние могут рассматриваться: а) как разнородные, и тогда состав характеризуется только по «качеству», или б) как однородные в определенном отношении, и тогда состав получает также и количественную характеристику); наконец, в-третьих, как «сеть» или «решетка» связанных между собой элементов. В этом последнем случае на передний план в исследовании выступают не элементы и даже не отношения между ними, а связи элементов. Нам здесь важно отметить, что это — объективные связи, т. е. не связи между элементами знания об объекте — в этом случае мы опять вернулись бы к системности знания, — а связи между элементами самого объекта и в самом объекте, связи не как продукт мыслительной деятельности, а как то, что исследуется и должно быть определенным образом воспроизведено в знаковой форме знания.
Рассмотрим теперь взаимоотношение между системой объекта и системой знания о нем.
Очень часто, даже если знание системно, в его системе никак не отображается система объекта. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать несколько простых примеров.
Представим себе простую модель: три шарика находятся на определенном расстоянии друг от друга и образуют какую-то организацию. Предположим далее, что перед нами стоит задача описать эту систему, в том числе, естественно, отношения между ее элементами. Это нетрудно сделать с помощью системы координат. Предположим, что ось координат проходит через центр первого шарика и расположена горизонтально. Тогда отношение двух других шариков к первому мы сможем описать с помощью двух характеристик — их расстояний от него и углов относительно оси координат (схема 10). Это будут соответственно l1α1, и l2α2. Рассмотрим отношение между системой этого описания и объективной системой организации. Предположим сначала, что все шарики одинаковы. Поэтому в целом ряде случаев специальная фиксация их как элементов объективной системы вообще не нужна. В характеристиках описания фиксируются исключительно сами отношения. Вместе с тем эти характеристики выступают как элементы знания и они определенным образом сгруппированы. Между характеристиками l и α по существу нет никаких отношений и связей: мы можем как угодно менять их местами, хотя и существует определенная последовательность, фиксирующая порядок получения самих этих характеристик. Между характеристиками l1 и α1, существует известная совместность, которая выражается либо близостью их записи, либо запятой, но может быть также выражена знаком «и». Между группами l1α1, и l2α2 тоже существует определенная совместность, которая выражается знаком «и».
Поскольку между первым и вторым «и» существует свое отношение и своя субординация (первый связывает характеристики, которые относятся к одному элементу объективной системы, а второй — характеристики, относящиеся к разным элементам), в принципе можно говорить о системности самого описания. Против этого вряд ли есть смысл возражать, но важно подчеркнуть, что в подобной системе описания и в знаках логических связей никак не отражены (не изображены) отношения объектов. Система объекта есть одно, а система описания этого объекта есть нечто совсем другое, и между ними нет никакого изоморфизма или отношения изображения.
Важно также подчеркнуть значительную произвольность подобной системы описания по отношению к системе объекта. Она определяется не столько объективными особенностями описываемой системы (хотя и это имеет место), сколько способом самого описания. Если, к примеру, мы примем за ось координат не горизонтальную, а вертикальную линию, соединяющую первый и второй шарики, то наше описание, как нетрудно заметить, значительно изменится. Положение второго шарика будет характеризоваться теперь уже не двумя координатами, а только одной. Вместе с тем исчезает первый знак логической связи; положение третьего шарика будет характеризоваться по-прежнему двумя координатами, но это будут уже другие характеристики, ибо изменится значение угла. Очевидно, что это означает существенное изменение и всей системы описания в целом.
Расхождение между системой описания и системой объекта можно выявить и по другим линиям сравнения.
Но и этого мало. Исключительное значение во всем круге системно-структурных исследований играет еще различение
системы предмета и системы объекта
Отчетливее всего различие между ними выступает тогда, когда мы сравниваем между собой так называемые «эмпирическую» и «абстрактно-логические» системы описания сложного объекта.
Чтобы провести это сравнение, мы воспользуемся приемом так называемого «двойного знания». Предположим, что мы имеем некоторый объект, который в отношении его внутреннего строения является «черным ящиком», пользуясь языком кибернетики. Но вместе с тем этот объект может быть познан как угодно точно и подробно со стороны своих «внешних», или эмпирических, свойств. Предположим для упрощения, что у него есть три входа и выхода — А, В, С — и мы можем, в соответствии с нашими целями, менять каждое из значений А, В или С в каких-то определенных границах (схема 11).
Предположим также, что в другом знании мы имеем совершенно полное, можно сказать абсолютное, представление о внутреннем строении или структуре этого объекта (схема 12). Мы будем определенным образом сравнивать между собой эти знания, будем переходить от одного к другому, стараясь выяснить отношение реальной структуры объекта — «черного ящика» к получаемым эмпирическим знаниям о нем.
Чтобы провести конкретное рассуждение, предположим, что рассматриваемый нами объект имеет очень простую структуру — состоит из элементов А, В, С, связанных между собой двусторонними связями. Для упрощения предположим также, что каждый из этих элементов дает одно эмпирическое проявление — это будут соответственно А, В и С. Мы можем произвольно менять эти значения «на входе» и измерять соответствующее изменение значений «на выходе» других элементов. Иначе говоря, в нашем рассуждении элементы структуры объекта не будут отличаться от эмпирически выявляемых сторон. Это очень сильное упрощение, и мы таким путем снимаем одну из основных проблем структурного анализа, но это значительно облегчит наше рассуждение и не повредит выяснению того основного, что нам сейчас необходимо. Положим далее, что мы применяем при исследовании объекта эмпирическую процедуру, принятую во всех естественных науках. Мы фиксируем одну из сторон, к примеру С; добьемся того, чтобы на протяжении всего опыта ее значение оставалось постоянным, и, меняя значение другой, к примеру А, будем определять вызванные этим изменения значений третьей стороны В. Мы получим два ряда соответствующих друг другу значений.
Это будет табличное выражение зависимости, которая существует в данном объекте между А и В. Чтобы выразить эту зависимость, мы должны будем произвести определенные сопоставления найденных значений и подобрать ту аналитическую математическую форму, которая будет соответствовать всем зафиксированным в таблице значениям. Пусть это будет β = f1(α). Это математическое выражение даст нам определенное изображение рассматриваемого объекта, именно, эмпирическое изображение зависимости стороны В от стороны А при постоянном С.
Но поставим перед собой вопрос: в какой мере эта математическая функция является изображением связи между А и В в структуре объекта? Простое рассуждение показывает, что фактически ни в какой. Ведь изменение значений В после вызванных нами изменений значений А было результатом не только непосредственной связи между А и В, но в такой же мере и опосредствованной связи А — > С — > В (тот факт, что С оставалось неизменным в ходе опыта, в общем случае нисколько не говорит о том, что этой связи вообще не было или что она «не работала»). Но и этого мало, одним из компонентов этого изменения В была и обратная связь В с А через С. Таким образом, можно сказать, что функция β = f1(α) изображает не связь В с А как таковую, а суммарное действие целого ряда связей, по существу всех связей в структуре объекта — и А <-> В, и В <-> А, и А <-> С <-> В, и В <-> С <-> А.
Иначе можно сказать так: функция β = f1(α) изображает действие связи А <-> В, модифицированное наличием всех других связей объекта; она изображает связь А <-> В такой, как она действует и проверяется в структуре всех других связей. Это означает, между прочим, что в функции β = f1(α) уже учитывается в неявном виде наличие действия всех других связей объекта, но именно скрыто, невыделенно. Функция β = f1(α) есть, таким образом, не изображение связи А <-> В, а изображение всего рассматриваемого объекта с определенной стороны.
Проведенное рассуждение мы можем, очевидно, повторить для зависимости С от А при фиксированном В, затем — для зависимости С от В при фиксированном А, потом — для зависимости А от В при фиксированном С, и т. д. Всего мы получим 6 функций:
Каждая из них будет фиксировать зависимость между двумя сторонами объекта, тем самым, конечно, и связь между этими сторонами-элементами. Но не саму по себе связь, не как таковую, а лишь в том виде, как она проявляется при наличии и действии других связей этой структуры. Каждая будет выражением эмпирического знания об объекте в целом и не будет давать знания о соответствующей связи в чистом виде. И как бы мы ни пытались выделить эту связь посредством чисто эмпирического анализа, нам это не удастся: мы каждый раз будем получать проявление суммарного действия всех связей структуры.
Специально отметим, что использование аппарата функций двух переменных тоже не может помочь делу. Мы прибегаем к нему в том случае, когда при исследовании зависимости двух сторон объекта не можем сохранить постоянным значение третьей. Но использование этого аппарата нисколько не приближает нас к выделению структурных связей объекта как таковых.
Рассматривая значения двух сторон как независимые переменные, мы очевидно объединяем действия двух связей в одном выражении, скажем, А <-> В и С <-> В, а третью, А <-> С, просто игнорируем. Получив систему уравнений мы придем к положению, аналогичному разобранному выше.
Этот пример дает отчетливое представление о различии эмпирического, представленного в данном случае в математических функциях, и абстрактно-логического описания структуры объекта.
Таким образом, сколько мы ни движемся в эмпирической сфере и сколько мы ни заходим с разных ее сторон, реальная структура объекта остается невыясненной. «Черный ящик» остается «черным ящиком». Чтобы выделить каждую из связей структуры объекта в чистом виде, нужны иные приемы и способы анализа, нежели описанные выше эмпирические сопоставления. В науке разработка этих приемов и способов анализа началась, по-видимому, с периода Возрождения, именно с Галилея, хотя у него, конечно, были предшественники.
Свободное падение тел начал рассматривать уже Аристотель, и он исследовал его чисто эмпирически: брал различные по весу тела и измерял время падения их с одной и той же высоты; способы измерения времени были тогда весьма приблизительными, и в пределах достигаемой точности отчетливо обнаруживалось монотонное сокращение времени падения при увеличении веса тела. Формулировались качественные законы: «чем тяжелее тело, тем меньшее время оно падает с той же высоты», или «чем тяжелее тело, тем быстрее оно падает». Сопоставление рядов значений веса и времени падения давало формулы зависимости, приблизительно верные в довольно широкой области значения: t = k/p. Эти формулы проверялись и уточнялись в течение чуть ли не двух тысяч лет, но все оставалось по сути без изменения. Еще у Леонардо да Винчи мы находим очень остроумные схемы эксперимента, направленные на проверку этого закона, но они, как и все другие, могли показать в лучшем случае его неточность, в конце концов, дать какую-то очень сложную формулу, показывающую зависимость скорости падения тел от их веса, но никогда и никак не могли привести к современной теоретической формуле, данной Г. Галилеем: «Все тела падают на землю одинаково, независимо от их веса». И надо заметить, что если бы мы захотели проверить эту общепризнанную и совершенно правильную формулу эмпирически, в наших естественных условиях, т. е. там, где она по сути должна применяться, то убедились бы только в одном — что она не соответствует эмпирической действительности. Это знание является абстрактно-логическим.
Приемы и способы эмпирической выработки таких знаний усиленно разрабатывались в ряде наук, но каких-либо существенных результатов получено не было. Поэтому на каком-то этапе развития науки была перевернута сама задача: основным методом исследования стало
конструирование структурных моделей
Если раньше шли от эмпирически выявленных зависимостей сторон объектов к определяющим их структурным связям и таким образом анализировали, расчленяли в абстракциях заданный объект, то теперь уже в исходной точке начали строить, конструировать другой объект, структурный, который рассматривается как заместитель или модель исследуемого объекта и именно для этого создается. Поскольку структура модели строится самим исследователем, она известна, а поскольку она рассматривается как модель исследуемого объекта, то считается познанной и структура последнего.
Такими были уже самые первые исследования структур в механике (И. Бернулли, Ж. Д'Аламбер). Их метод был перенесен затем в исследования строения вещества (так называемые «молекулярно-кинетические», «электронные» теории и т. п.), а в последнее время получил распространение и во всех других науках. По существу такое переворачивание задачи является, по-видимому, единственным известным нам сейчас продуктивным средством и способом исследования и воспроизведения в мысли структур объектов.
Но вместе с тем — и эта сторона дела должна быть отчетливо осознана — то обстоятельство, что структуры объектов-моделей строятся, конструируются, не снимает задачи эмпирического анализа структуры исходных исследуемых объектов. В господствующих течениях современной позитивистской методологии или «логики науки» проблема построения систем моделей получила специфически математическую окраску и берется крайне односторонне. Вопрос о соответствии модели исходному объекту, или, иначе, вопрос об «адекватности» модели (конечно, относительно определенной задачи), отодвигается на задний план или совсем отбрасывается. Это достигается благодаря отделению вопроса о построении модели от вопроса о так называемой интерпретации ее. Получается, что сначала мы должны построить структуру («формальную», как часто говорят), а затем уже решать вопрос, может ли она рассматриваться как модель исследуемого объекта. Все, что относится к решению первой задачи, есть фактически чистая «математика», т. е. «формальная» дисциплина, занимающаяся построением (в пределе — любых) возможных структур; и это построение по существу независимо от задачи исследования того или иного частного объекта. Но в эмпирическом исследовании нас интересует всегда только одна определенная структура, дающая «правильное» изображение заданного объекта. А это значит, что «математическая» теория построения структур, хоть она и является как идея весьма естественной и как теория — весьма плодотворной в определенных отношениях, тем не менее ни в коем случае не может заменить или полностью вытеснить задачу эмпирического исследования определенных структурных объектов. Она лишь становится рядом с этой последней и дает ей определенные формальные средства, которые, чтобы стать логикой эмпирического исследования, должны быть дополнены особыми приемами эмпирического анализа. А эти приемы, как мы уже говорили, остаются до сих пор в общем и целом неисследованными.
Дело, с одной стороны, еще более усложняется, а с другой — несколько облегчается в определенных отношениях, когда в число важнейших задач выдвигается
анализ исторически развивающихся систем
Методы структурного исследования развивающихся объектов являются более сложными, нежели методы исследования неразвивающихся объектов, потому что в этих объектах всегда одновременно существуют фактически две системы связей — функционирования и генезиса, причем эти системы, с одной стороны, существенно различные и должны быть различены, а с другой — не могут быть отделены друг от друга. Если мы, предположим, ставим перед собой задачу исследовать и воспроизвести в знании связи функционирования органического объекта отдельно от связей генезиса, то очень часто это просто невозможно сделать: в каждый момент времени, в каждом «синхронном» срезе объекта генетические связи продолжают действовать, продолжают оказывать влияние на связи функционирования и даже, более того, определяют характер и строение последних. Поэтому связи функционирования, если пытаться брать их отдельно, либо вообще не могут быть выделены, либо, если их все же удается фиксировать, не могут быть объяснены; они кажутся неправдоподобными, мистическими.
Этот факт был обнаружен уже давно, а в работах Гегеля и Маркса было показано, что решение проблемы лежит в разработке «исторических теорий» подобных объектов. Но принять этот тезис — значит согласиться с такой постановкой вопроса: для того чтобы исследовать и воспроизвести в знании структуру функционирования объекта, надо предварительно исследовать и воспроизвести в знании его генетическую структуру (может быть, не всю, но, во всяком случае, в тех ее частях, от которых зависит характер структуры функционирования). Чтобы проанализировать одну структуру — функциональную, надо предварительно проанализировать еще другую — генетическую. При этом встает старый парадокс. Понимание структуры функционирования зависит от понимания структуры генезиса. Но и наоборот: степень понимания структуры генезиса зависит от того, насколько глубоко и детально мы проанализировали структуру уже «ставшего», развитого состояния рассматриваемого объекта. К. Маркс указывал на необходимость исследовать развитые состояния органических объектов с точки зрения истории их развития, но ему же принадлежат знаменитые слова о том, что ключ к пониманию анатомии обезьяны лежит в анатомии человека. Преодоление этой антиномии заключается в разработке такого способа исследования, который сочетал бы в себе приемы как функционарного, так и генетического анализа, в котором бы исследование «ставшего» состояния объекта было средством для воспроизведения его генезиса, а знание законов генезиса служило бы средством для анализа и более глубокого понимания структуры функционирования в самом развитом состоянии. В этом усложнение методологической задачи при переходе к исследованию органических объектов.
Но в этом же заключено и то, что облегчает ее. Нетрудно заметить, что знания о закономерностях генезиса можно использовать таким образом, чтобы они давали дополнительные, весьма важные данные о способе и порядке построения структуры функционирования заданного объекта, данные, которых не может быть при воспроизведении структуры обычного, неорганического объекта. Именно можно положить, что это построение должно воспроизводить историю развития рассматриваемого объекта от его первого, простейшего структурного состояния до последнего, наиболее сложного. Иначе, в более общей форме, это выражается так: можно положить, что способ и порядок построения функционарной структуры органического объекта должен соответствовать закономерностям развития этого объекта.
Тогда задача отыскания структуры рассматриваемого органического объекта сведется к трем более частным задачам: 1) произвести эмпирический «неструктурный» (хотя и ориентированный на выявление определенных структурных моментов) анализ «ставшего», наиболее развитого его состояния; 2) выявить, найти каким-то способом структуру, которую можно было бы рассматривать как простейшую для него, генетически исходную; Гегель, а вслед за ним и Маркс называли эту структуру «клеточкой» исследуемого предмета; 3) найти закономерности развития, или, точнее, развертывания, этой структуры в более сложные, такие, чтобы в конечном счете они привели к структуре, характеризующейся всеми теми проявлениями, которые были выделены при эмпирическом «неструктурном» анализе «ставшего» состояния объекта. Решение этих трех задач и будет решением основной исходной задачи: выявить структуру функционирования заданного объекта.
Каждое из них имеет свои специфические трудности. Эмпирический анализ, как уже выяснилось выше, не дает возможности выделить структурные связи объекта; поэтому и приходится вести изучение, которое мы назвали «неструктурным». Но оно вместе с тем ориентировано на выделение тех моментов в эмпирическом материале, которые обусловлены структурой объекта, и, следовательно, должно уже исходить из определенного структурного анализа, из общих представлений о структурах и их проявлениях [Грушин, 1961].
Исключительно сложным делом, требующим особых изощренных приемов и способов исследования, является также построение «клеточки» теоретического изображения органического объекта. Анализируя логическую структуру «Капитала» К. Маркса, А. А. Зиновьев описал ряд общих признаков «клеточки», знание которых дает возможность ответить на вопрос, является та или иная структура «клеточкой» заданного объекта или нет [Зиновьев, 1954]. Но этих признаков еще недостаточно для построения самой структуры «клеточки». Чтобы сконструировать ее, нужны еще какие-то дополнительные процедуры.
Точно так же особые приемы и методы анализа нужны для определения тех способов рассуждения, которые зададут нам механизм и правила развертывания «клеточки» в более сложные структуры, изображающие рассматриваемый объект в детализированном и конкретном виде.
И к какому бы из этих направлений исследования мы ни обратились, всюду главной задачей и, можно сказать, «узлом» всех проблем оказывается выявление и воспроизведение связей объекта. Но решение ее очень затрудняется из-за постоянного смешения понятий
«отношение» и «связь»
Понятие связи кажется интуитивно ясным, особенно когда мы мыслим его конкретными примерами, как, скажем, связью причины и ее следствий, или образом двух объектов, скрепленных стержнем. В этом же интуитивном смысле употреблялось оно в бэконовско-миллевской логической традиции и не вызывало особых возражений. Но сейчас все больше и больше обнаруживается, что это интуитивное понимание не может нас удовлетворить, что его уже недостаточно, так как происходит постоянное смешение структурных связей объектов, с одной стороны, с формальными связками следования в рассуждениях, а с другой — с отношениями. Имея дело с суждением «Петр Первый выше Наполеона», еще сравнительно легко угадать, что его содержанием является отношение, а не связь, но если взять чуть более сложные суждения, например «Иван брат Петра» или «А часть В», то здесь уже не так просто разобраться, с чем именно мы имеем дело — с отношением или связью. Поэтому в логической традиции второй половины XIX столетия и первой половины XX высказывания «А — причина В» и «А брат В» рассматривались вместе, как неотличимые друг от друга суждения об отношениях [Поварнин, 1916]. Это, естественно, приводило и к соответствующему теоретическому осознанию самих категорий «отношения» и «связи»: первое рассматривалось как родовое понятие второго, а интуитивно угадываемое различие между ними считалось лежащим за пределами логики.
Реальные попытки логического разделения «отношения» и «связи» начались сравнительно недавно. Но эти попытки, с одной стороны, так и не дали действительно существенных теоретических результатов, а с другой, даже если бы они были успешными, все равно не могли привести к выделению общего понятия о связи, так как с самого начала были направлены на частные случаи.
Первая фундаментальная попытка выделить общие критерии для различения знаний об отношениях и знаний о связях и соответственно самих отношений и связей была предпринята в 1955–1960 годах А. А. Зиновьевым.
По его мнению, решение этой проблемы нельзя было получить, пытаясь непосредственно определить специфику самой связи: на этом пути мы не движемся дальше тавтологических утверждений, вроде «связь есть связность, взаимообусловленность», «высказывания о связи — это те, в которых фиксируются связи» и т. п. Поэтому Зиновьев начал свое исследование с другого конца — с анализа логической структуры знаний о связях и правил их формального преобразования в рассуждениях. Выделив среди различных положений науки, с одной стороны, бесспорные примеры высказываний о связях, как, скажем, «с изменением А меняется В», «А — причина В» и т. п., а с другой, типичные высказывания об отношениях, как, например, «А больше В», он сравнил способы формальной переработки тех и других в иные положения и обнаружил здесь принципиальную разницу. Оказалось, что выделенные им высказывания о связях подчиняются иным логическим правилам вывода, нежели высказывания об отношениях. Если несколько упростить дело, то это можно описать так: для высказываний об отношениях действует схема формальной переработки «Если А > В, В > С, то А > С», а для высказываний о связях эта схема уже неверна — из положений «А вызывает В» и «В вызывает С» не следует с необходимостью «А вызывает С», хотя в некоторых случаях это и может иметь место [Зиновьев, 1959 а, с. 113–124].
Доказав таким путем особую логическую природу знаний о связях, А. А. Зиновьев попытался затем охарактеризовать сами связи как особое содержание этих знаний. «Определив высказывания о связях как особый тип высказываний, можно определить сами связи как то, что отображается высказываниями этого рода», — писал он [Зиновьев, 1960 с, с. 59]. Но чтобы преодолеть обычную здесь тавтологию — связи есть то, что выражается в знаниях о связи, — нужно было, очевидно, построить особые изображения для самих связей, отличные от форм их фиксации в высказываниях.
Если мы обратимся к материалу современной науки, то увидим, что в ней существует ряд различных способов изображения связей. Наиболее известными и, можно сказать, популярными являются изображения в виде черточек, связывающих между собой знаки элементов, как, например, в структурных формулах химии. Другой формой изображения связей служат сейчас «линии» каналов передачи сигналов между блоками информационных или каких-либо иных машин. Особые формы изображения связей — графики, таблицы и некоторые элементы в физических или инженерных моделях.
Но все эти широко распространенные в современной науке формы графического изображения связей имели тот общий недостаток, что они никак не обнаруживали свое родство с высказываниями о связи и не показывали тех процедур анализа и построения самих высказываний, которые надо было выявить, чтобы осуществить описанную выше программу логических исследований. Поэтому их пришлось отбросить и искать среди всех возможных форм изображения связей те, которые могли бы как-то раскрыть тайну выделения связи как особого объективного содержания. К счастью, оказалось, что в предшествующем развитии логики такая форма была уже найдена и даже представлена в схематической таблице. Это были схемы так называемого индуктивного или экспериментального выявления причинной связи Бэкона — Гершеля — Милля [Асмус, 1947, с. 260–285; Минто, 1901, с. 165–221].
Они пришли в логику вместе с наукой нового времени и были обобщением приемов практической исследовательской работы лаборатории XVII и XVIII столетий; это были методы наблюдений, проводившихся с целью определения причинной связи и зависимости.
Одним из важнейших среди них был прием так называемого «единственного различия». Принцип его сам Дж. Ст. Милль и его последователи выражали так. Если после введения какого-либо фактора появляется или после удаления его исчезает известное явление, причем мы не вводим и не удаляем никакого другого обстоятельства, которое могло бы иметь в данном случае влияние, и не производим никакого изменения среди первоначальных условий явления, то указанный фактор и составляет причину явления [Минто, 1901, с. 207]. Позднее этот принцип стали изображать в виде схемы умозаключения:
Случаи Наблюдаемые обстоятельства Явление, причина которого должна быть установлена 1 ABCDE а 2 BCDE —
Вывод: причина явления а есть обстоятельство А [Асмус, 1947, с. 268–269].
Эта схема накладывается на реальные исследуемые ситуации: если «поведение» двух каких-либо объектов, факторов или явлений в ней соответствовало изображенному на схеме, то мы могли утверждать, что между ними есть причинная связь. В этой схеме индуктивного вывода А. А. Зиновьев нашел то, что ему было нужно: она удовлетворяла всем поставленным выше требованиям — была особым изображением содержания знания о связи, отличным от формы самого знания, и вместе с тем, в противоположность всем другим видам изображений, отчетливо показывала сам способ построения знания.
Чтобы избавиться от некоторых недостатков традиционных схем. Зиновьев ввел ряд новых, формально точно определенных понятий и их специальных знаковых изображений. Основным стало знаковое изображение «объекта сопоставления», куда вошли как знаки самих реальных «предметов» — а, b, с… так и знаки выделенных в них свойств или признаков — Q, R, Р… В целом «объект» изображался знаковыми группами вида (Qa), (Rb), (Pb) и т. д. Отсутствие «объекта» рассматривалось тоже как определенный объект и изображалось знаковой группой вида (—Qa). Фиксация «объекта» в соответствующем знании выражалась в знаковой группе «Qa» или «—Qa».
После того как были выведены эти знаковые изображения и соответствующие им понятия, приведенную выше схему индуктивного сопоставления стало возможным изобразить в виде таблицы:
I(Qa)(Rb)II(-Qa)(-Rb)
Первая строка ее должна была изображать одну ситуацию сопоставления «объектов» Qa и Rb, вторая строка — другую ситуацию сопоставления, в которой отсутствие Qa «сопровождалось» отсутствием Rb. Сопоставление этих двух ситуаций позволяло заключить о наличии связи между Qa и Rb и строить высказывание: «Если существует (Qa), то существует (Rb). В целом вся таблица, выражающая сопоставление ситуаций, называлась «набором». Порядок сопоставления «объектов» в ситуациях и ситуаций в наборах определял тип выявляемой связи [Зиновьев, 1959 а, с. 113–138]. Так, по мнению А. А. Зиновьева, разнообразные наборы ситуаций могут служить обобщенной моделью всех тех содержаний знаний, которые мы называем «связями».
На основе этих представлений и знаковых изображений А. А. Зиновьев построил математико-логическое исчисление связей, определил условия логической истинности различных сложных высказываний о связях, построенных по определенным правилам из более простых высказываний. И эта работа, повторим снова, является наиболее принципиальной и фундаментальной из всех, выполненных к настоящему времени по проблемам логического определения связи.
Но, несмотря на все свои достоинства, она имеет один существенный недостаток: не может охватить всех существующих в настоящее время и широко употребляемых в науке понятий связи; и даже, наверное, можно сказать еще резче: введенное в ней понятие связи вообще не соответствует большинству из этих употреблений, и в частности всем знаниям о связях объектов и элементов в целом, всем кинематическим и механическим представлениям связи и т. п.
На наш взгляд, причина этого заключается в основаниях метода анализа — они оказались слишком узкими и, может быть, даже просто неправильными. В обоснование этого утверждения мы хотим рассмотреть
основные противоречия существующего понятия связи
Среди разнообразных знаний о связях, встречающихся в современной научной литературе, можно выделить два полярных типа: один фиксирует зависимости или связи между свойствами, признаками объектов, другой — связи между самими объектами, рассматриваемыми в качестве элементов целого. Характерным примером знания первого типа является аналитическая форма выражения какого-либо «закона», скажем закона Бойля — Мариотта о зависимости между объемом и давлением газа: pV = const. Примером знания второго типа может служить описание структурной формулы какого-либо химического соединения, скажем, в простейшем случае вида: Са(ОН)2. И если мы возьмем знания о связях второго типа, то оказывается, что как способы их построения, так и способы формального оперирования с ними совершенно не соответствуют тому, что А. А. Зиновьев описал в понятиях «объектов сопоставления», ситуаций и наборов. Его понятие построено таким образом, что не может охватить и выразить связи между элементами реальной структуры объектов, элементами, получаемыми путем разложения этой структуры. И в этом мы видим его первое основное противоречие. Но тогда из этого утверждения должен следовать еще и вопрос: каким образом мы выявляем связи структуры самих объектов?
Из этого же утверждения мы можем вывести и второе противоречие существующего понятия связи. Дело в том, что «объекты», фигурирующие в таблицах ситуации сопоставления, являются на самом деле не объектами, а предметами знания, но предметы являются не чем иным, как связками замещения операционно выделенных содержаний знаками, и рассматривать их нужно именно таким образом, т. е. учитывая многие плоскости знакового замещения и анализируя, что нового вносит в процесс выявления содержания знания каждая из них. То, что в существующем понятии связи не учитывается эта сторона дела, является важнейшим его дефектом, и именно из-за этого в нем не удается «схватить» реальные языковые средства и особенности содержания различных научных высказываний о связях.
Дело в том, что содержание знаний о связи задается не только тем, какие сопоставления осуществляются в плоскости исходных объектов, но также и тем, в каких знаковых средствах фиксируется выявленное таким образом содержание, и что именно, в соответствии с этим, становится объектом последующих сопоставлений. Подавляющее большинство современных знаний о связях имеет своим содержанием сопоставления, в которых участвуют, кроме самих объектов, разлагаемых на части и синтезируемых из этих частей, еще знаки разного типа, лежащие в различных плоскостях замещения и «снимающие» в себе разное содержание. Например, в современной химии это, кроме самих реагирующих веществ и описаний их меняющихся свойств, еще формулы состава, структурные формулы, физико-химические и физические модели атомов и молекул вещества. И сопоставление, выделяющее в объектах новое содержание, в частности их структуру, идет все время за счет переходов от одних знаковых средств и плоскостей замещения к другим. Как бы «в разрезе» вся эта система замещений и происходящих на его основе сопоставлений изображена на схеме 13.
Надо специально сказать, что появление особых изображений состава и структуры химических соединений или физико-химических и физических моделей вещества кардинальным образом меняет характер рассуждений и выводов в химии. Меняется сама логика мышления, логические правила содержательного и формального решения задач. В частности, меняются способы построения высказываний о связях: чтобы получить знания о связях на основе уже имеющихся структурных формул, нужны совсем иные схемы сопоставлений и вообще процедур, нежели те, к которым мы должны были прибегать, получая знания о связях на основе формул состава. И то же самое происходит во всех других науках по мере развития их знаковых средств и появления новых плоскостей замещения.
Поэтому вполне естественно, что логическая теория знаний о связях, не учитывающая этих моментов, оказывается очень ограниченной и не может охватить не только всех, но даже самых главных типов этих знаний. Чтобы построить действительно общую логическую теорию высказываний о связях, нужен принципиально иной подход к проблеме, иные логические основания, и в частности учитывающие, с одной стороны, эмпирическое различение связей между объектами и связей между признаками, а с другой — многоплоскостное строение всякого знания. Реализуя этот принцип, мы хотим рассмотреть
«логическое окружение» понятии связи
Анализ истории мышления показывает, что все исходные понятия связи возникают на пересечении ряда способов анализа объектов и поэтому объединяют и снимают в себе разные группы мыслительных процедур. Чтобы показать сам способ рассуждения при анализе их, мы разберем упрощенную комбинацию из нескольких таких мыслительных процедур.
Первая — чисто эмпирическое выявление сначала соотношения, а потом зависимости двух свойств-параметров какого-либо объекта или явления. Простейшая иллюстрация этой линии исследования объектов — выявление зависимости между давлением и объемом газа в полемике Р. Бойля против Линуса [Розенбергер, 1937, ч. II, с. 136]. Бойлю нужно было убедить Линуса в существовании сопротивления воздуха. Он взял изогнутую в виде сифона стеклянную трубку с запаянным коротким коленом и наполнил ее через длинное (открытое) колено ртутью. По мере приливання ртути воздух в коротком колене сжимался, но продолжал уравновешивать все больший и больший столб ртути. Чтобы охарактеризовать «сопротивление» воздуха, Бойлю нужно было сопоставить уменьшающиеся объемы воздуха и соответствующие избытки давления в длинном колене. Самой «естественной» формой фиксации соотношения объемов и избытков давления была таблица pV
Лишь через некоторое время ученик Бойля — Ричард Тоунлей — заметил, что произведение давления на объем остается примерно постоянным, выделил таким образом инвариант, и это позволило зафиксировать в аналитической форме формулы (и функции) саму зависимость между давлением и объемом p1V1= p2V2= p3V3=… = PV = const; p = с/V, V = c/p.
Математическая теория пропорций дала оперативную знаковую форму для выражения эмпирически выявленной зависимости между двумя свойствами объекта.
Вторую мыслительную процедуру можно назвать «объяснением» категории зависимости. После того как были зафиксированы и получили математическую форму выражения первые простейшие зависимости между свойствами объектов, начался длительный период поисков их объяснений. Мы не обсуждаем сейчас вопроса о тех причинах, которые сделали необходимым такое объяснение, и об условиях, которые сделали возможным его появление; мы принимаем это как исторический факт. Средством подобных объяснений стали «инженерные конструкции», т. е. «искусственные», как-то связанные друг с другом объекты. Это могли быть, к примеру, два шара, скрепленных стержнем, веревкой или пружиной.
Представление об этих «искусственных» объектах по сути дела «накладывалось» на эмпирически выявляемые зависимости между свойствами исследуемых «естественных» объектов и становилось средством понимания их: одно свойство объекта меняется в результате изменения другого, или, иначе, одно зависит от другого, потому что они как-то связаны друг с другом. Исследователь начинал «видеть» таблицу меняющихся значений свойств а и b сквозь образ связанных между собой шаров, представлял ее как результат изменений в состоянии связи
и вместе с тем как проявление самой этой связи. Если, к примеру, мы будем менять «положение» а, то соответственно изменится положение b, и это найдет себе выражение в таблице
а a1 a2 а3 a4 b b1 b2 b3 b4
которую можно будет затем выразить в виде той или иной аналитически представленной зависимости. «Искусственная» инженерная конструкция в виде двух связанных между собой объектов превратилась в объяснительную модель эмпирически выявляемых и фиксируемых в таблицах и функциях зависимостей.
Так складывается мыслительная конструкция, включающая две разнородные исследовательские процедуры: 1) эмпирическое выявление зависимости двух свойств изучаемого объекта и 2) объяснение этой зависимости путем отнесения ее к другому объекту, сконструированному человеком в виде двух связанных между собой элементов. Она может быть изображена схемой 14.
Эта конструкция как целое и соответствует первым формам научных понятий связи.
Математическая форма функции выражает зависимость двух свойств объекта друг от друга, но в ней нет выражения связи, и ничто не дает оснований для введения этого понятия. Другими словами, понятие связи не может появиться, пока мы пользуемся одними лишь таблицами и математическими формами выражения зависимостей. Связь появляется и может быть выделена как нечто особое и самостоятельное только с введением «искусственной» конструкции связанных между собой объектов. Именно в этой конструкции впервые она получает реальное вещественное существование в виде стержня, пружины или веревки — впервые становится особым, можно сказать, вещественным объектом. Но если мы возьмем эту конструкцию саму по себе, то в ней тоже не будет никакой связи; стержень и пружина так и останутся просто стержнем и пружиной. Они становятся «связью» только благодаря тому, что сама эта конструкция выступает в роли «объяснительной модели» зависимости свойств, эмпирически выявленной в изучаемом объекте. Иначе говоря, определенные элементы «инженерных конструкций» (стержни, пружины, приводные ремни, передаточные механизмы и т. п.) выступают в качестве «связей» только в силу того, что они принимаются за «основание» тех или иных зависимостей свойств объектов.
Очень важно подчеркнуть еще одно обстоятельство. Связи являются объектами особого рода, но в своей непосредственной данности как объекты они существуют только в объяснительной модели. В изучаемых «естественных» объектах природы нет ничего похожего на них, ни стержней, ни пружин. По сути дела они приписываются объектам, поскольку «инженерные конструкции» выступают в качестве изображений или в качестве моделей этих объектов. Поэтому, говоря о существовании «связей» в объектах, мы должны понимать, что реально они существуют только либо в эмпирически выявляемых зависимостях свойств, либо в тех внутренних механизмах, которые лежат в основе этих зависимостей и специфичны для изучаемого объекта. «Внутренние механизмы» объекта, по определению, не могут стать предметом эмпирического анализа, и единственной эмпирически выявляемой реальностью являются зависимости. Но любая выявленная зависимость тотчас же понимается исследователем как определенная «связь». Это происходит за счет той мыслительной конструкции, которую мы описали выше. Всякая зависимость понимается как связь, а каждая связь реально существует и проявляется в какой-либо эмпирически выявленной зависимости. Значит, на этом этапе в понятии связи все время существует двойственность: одну сторону ее составляет зависимость свойств в объекте, а другую — связность элементов модели; такая двойственность не представляет опасности до тех пор, пока между тем и другим удается устанавливать однозначное соответствие.
Но это соответствие начинает нарушаться, как только мы переходим в эмпирическом анализе от зависимостей между двумя параметрами-свойствами к зависимостям между многими параметрами. Простейший из этих случаев мы уже разобрали выше, воспользовавшись приемом «двойного знания» (см. главу «Системы предмета и системы объекта»). Мы предположили, что структура изучаемого нами объекта состоит из трех элементов А, В, С и двусторонних связей между ними. С помощью эмпирических процедур можно выявить зависимости между любыми двумя параметрами-свойствами объекта и выразить их в форме математических функций. Всего получится шесть разных выражений:
Для каждого из них можно будет подобрать модель соответствующего механизма связи, и таким образом получится шесть разных моделей для изображения единой структуры объекта. Но так как объект у всех этих моделей один, естественно, встанет и всегда встает задача объединить их все в одной синтетической модели. Сделать это механически невозможно: ведь в каждой функции фактически «присутствует», как мы уже выяснили выше, вся структура объекта, а следовательно, и каждая из шести моделей механизмов связи является частным функциональным аналогом всей структуры. Но если синтез будет производиться не механически, то это означает только одно — что будет сконструирована какая-то новая модель, с новыми элементами и связями, причем эти связи будут такими, что ни одна из них в отдельности не будет соответствовать механизмам, моделирующим эмпирически выявленные зависимости; лишь вместе и во взаимодействии друг с другом в рамках единого механизма эти связи будут давать основу для объяснения всех перечисленных выше функций (схема 15).
После того как такая синтетическая модель механизмов объекта построена, появляется совершенно очевидный разрыв между связями структуры объекта и функциональными изображениями зависимостей его свойств. Чтобы его преодолеть, нужно еще проделать особую работу и вывести эти зависимости из модели механизма. Именно это и есть та замена эмпирического анализа структур конструированием их гипотетических моделей, о которой мы говорили выше (см. главу «Конструирование структурных моделей»). При этом из анализа механизмов модели «выводятся» различные проявления, в том числе и возможные зависимости между свойствами, и сопоставляются с тем набором свойств и зависимостей, которые удалось выявить путем эмпирического анализа в самом объекте. Если свойства, выведенные из модели, совпадают со свойствами объекта, мы считаем, что модель механизма построена правильно.
В процессе выведения свойств из модели механизма приходится особым образом оперировать различными составляющими самой модели. Наверное, наиболее важным и распространенным способом оперирования является механическое соединение элементов и фрагментов модели друг с другом, добавление одних к другим и разложение сложных моделей на более простые составляющие.
Благодаря этому в плоскости самих моделей механизмов появляется еще одно дополнительное содержание. В образе двух шаров, скрепленных стержнем, и шары и стержень были одинаковыми материальными составляющими модели. Функциональное отличие стержня возникало благодаря соотнесению его с особым знаком функции в выражении зависимости. Теперь, когда сам механизм начинают разбирать по элементам, должно появиться еще одно особое образование — то, что опять соединяет или скрепляет в целое части, полученные путем разложения или раздробления объекта. Если целое, состоящее из двух шаров, скрепленных стержнем, дробится таким образом, что учитываются только шары, то стержень перестает быть материальной составляющей механизма и становится дополнительным формальным средством, привлекаемым как бы со стороны и не имеющим аналогов в самом механизме. Если при разложении целого учитываются не только шары, но и стержни, то все они выступают как разные, но в формальном отношении равноправные элементы целого. Тогда в качестве скрепляющих, связывающих средств должно быть взято что-то иное.
Так, благодаря разрыву непосредственной связи с математическими выражениями функций, с одной стороны, и появлению формальной деятельности разложения модели на части и соединения ее из частей, с другой стороны, возникают «связи» в собственном смысле этого слова. Благодаря своим особым смысловым функциям они освобождаются по сути дела от всех вещественных свойств и получают чисто формальное оперативное содержание. После этого становится возможным появление особых знаковых обозначений связей — чаще всего в виде черточек, — которые уже не изображают никаких вещественных элементов, а лишь саму связь в ее предельно абстрактном смысле.
Именно здесь мы впервые попадаем в сферу собственно структурного исследования и здесь же впервые окончательно оформляются связи как особые составляющие структурных моделей и особое содержание знаний об объектах, отличное от зависимостей между свойствами.
Но этот же процесс приводит и к тому, что структурные изображения объектов, составленные из знаков элементов и знаков связей, обособляются от изображений механизмов «жизни» объектов и начинают существовать как самостоятельные образования в общей системе знаний об объектах.
Один из важнейших результатов такого обособления состоит в том, что знаки элементов и знаки связей сравнительно недолго существуют как простые элементы структурного изображения объектов. Скоро они организуются в оперативные системы и начинают употребляться в соответствии со специальными правилами. Оперативная система таких знаков по сути дела представляет собой особую «математику»: исследователь получает возможность двигаться в ее плоскости совершенно формально, и лишь полученный в конечном итоге результат он относит, опять-таки по особым правилам, на объект. По-видимому, именно в этом состоит основной смысл всего описанного выше движения, если рассматривать его в плане логики и методологии исследования. Формализация исследования, перевод его в плоскость оперирования со знаками кардинально меняет сам тип исследовательской работы, неизмеримо упрощая и ускоряя ее, избавляет от необходимости проделывать длинную цепь эмпирических наблюдений и процедур, при более высоком качестве результата.
Весь этот процесс можно проследить, в частности, на истории возникновения и употребления структурных формул В химии, которые уже давно представляют собой оперативную систему; ее элементами являются черточки — изображения связей, подчиняющиеся жестко фиксированным правилам оперирования. Нетрудно заметить, что само возникновение этих формул полностью укладывается в рамки приведенной выше схемы. По-видимому, такую же, в принципе, роль начинают играть во многих отраслях современной науки элементы инженерных конструкций, которые первоначально появились как средства изображения объектов исследования, но теперь все более и более организуются в системы с определенными правилами оперирования; впрочем, этот процесс пока нельзя считать завершенным, хотя тенденция его вырисовывается достаточно отчетливо.
Рассматривая таким образом знания о связи, мы обнаруживаем особую структуру, которая может быть названа
«организм» понятия
Самое главное в характеристике научного понятия состоит в том, что оно существует отнюдь не в голове того или иного индивида, а является объективным образованием, зафиксированным в знаках и имеющим жесткую иерархированную структуру. Из предшествующего изложения видно, что такая структура может быть представлена в виде ряда плоскостей или элементов, определенным образом связанных между собой, причем в нее могут включаться и включаются знаки различного типа, выполняющие различные функции. Но тем не менее все плоскости этой структуры образуют единое целое. Поэтому всякое понятие или знание можно рассматривать как объективный организм, обладающий своей собственной логикой движения — своими возможностями развертывания. И только весь этот организм в целом образует то, что создает содержание того или иного понятия. Нетрудно заметить, что такой подход к структуре научного понятия расходится с тем, что мы обычно встречаем в формальной логике. Но мы и стремились показать, что формальнологический подход не раскрывает и не может раскрыть ни содержания понятия, ни его объективной структуры сложного познавательного организма, ни его специфических функций в познавательной деятельности.
В нашем анализе структура организма понятия была изображена в виде совокупности жестко связанных блоков или плоскостей. Ни один из этих блоков не образует собственно понятия, хотя в каждом из них есть свои особые правила оперирования, и ни один из этих блоков, если его брать отдельно, не позволяет выделить содержание понятия. Все это создается единством всех блоков.
Но чему служит это единство? Определяя его природу, можно сказать, что понятие — это своеобразная машина. Блок-схема, в которой мы изображали понятие, включена в определенную систему потребления, причем каждый из блоков «работает» особым образом: таблицы, аналитические формулы, разные типы моделей включены в системы действий, специфических для каждого блока. Но на эти разные деятельности с объектами и знаками накладывается «сетка» связей. Ее смысл состоит в том, что она дает возможность переходить от одной деятельности к другой. Именно наличие способа перехода между блоками или, что то же самое, между разными типами деятельности, позволяет говорить о структуре целого, о едином организме понятия. Каждый слой, каждая плоскость живут по своим особым законам, являются фрагментами определенного типа деятельности, но, кроме того, они еще связаны между собой, и это позволяет замещать один вид деятельности другим. И благодаря этому отдельные фрагменты различных деятельностей «сплавляются» в единую структуру, образуют единый организм, имеющий особые законы жизни.
Эта «организмическая» природа понятия имеет особенно важное значение в системно-структурном исследовании. Ведь в нем познавательные конструкции особенно сложны, а чем сложнее их структура, тем более необходим сознательно методологический подход к их построению. Кроме того, понятия системно-структурного исследования характеризуются сложным, многосторонним содержанием, выступающим на целом ряде различных уровней; поэтому здесь необходима четкая фиксация каждого уровня и правил перехода между ними, в противном случае «машина» может отказать при переработке содержания в каком-то из «узлов», а это повлечет за собой ошибки в исследовании.
Заключение
Мы рассмотрели только некоторые проблемы методологии системно-структурного исследования, указали лишь небольшую часть трудностей, с которыми сталкивается здесь исследователь. Но и это, быть может, позволит представить всю новизну и сложность задач, встающих в этой области, новой для человеческого мышления.
Не будет преувеличением сказать, что системно-структурные исследования открывают новую, необыкновенно важную область научного творчества. Вступая в нее, мы вступаем в страну чудесных открытий, которые сулят человечеству больше, чем это сейчас можно себе представить. Построение теории жизни и управление большими экономическими системами, рациональная организация обучения и широкое планирование научных исследований, современное градостроительство и создание сложнейших кибернетических устройств — все эти и многие другие проблемы не могут быть успешно решены без средств системно-структурного исследования.
Но чтобы создать такие средства, нужна большая и кропотливая работа в особой сфере познания — в сфере методологии. Она будет успешной только при одном условии — если преодолеет гипнотическую силу старых форм мышления. То, с чем сталкивается ученый при исследовании сложного объекта, обычно поначалу кажется странным и противоречащим здравому смыслу.
Часто при исследовании систем и структур мы вступаем в противоречие с привычной нам интуитивной логикой. Это проявилось в свое время при оценке некоторых положений Гегеля. Например, до сих пор у многих вызывает протест и раздражение его утверждение о том, что целое равно части. Но если более детально анализировать работы Гегеля, то обнаруживается, что такое утверждение имеет строгий смысл в созданных им новых способах анализа. Не менее разительное непонимание нередко обнаруживается и при анализе проблемы противоречия, которая по самой своей сути никак не укладывается в рамки здравого смысла и лежащей в его основе обыденной интуитивной логики. Когда К. Маркс говорят о «расщеплении» товара на потребительную стоимость и стоимость, то многие понимают это как расщепление реального товара, такого, как библия или бутылка вина. Нередко стоит большого труда убедить, что в случае превращения простой товарной формы в сложную мы не имеем реального расщепления товара на товар и деньги. К. Маркс применяет здесь особый метод структурно-функционального исследования, не соответствующий процессу реального развития товара, и специально оговаривает это. Но обычно этой оговорки не замечают.
По сути дела, то же самое происходит и будет происходить со многими, если не со всеми понятиями, специфическими для структурно-системного исследования. Это и понятно: чтобы анализировать системы и структуры, надо построить принципиально новые формы мышления, не только непривычные, но нередко и противоречащие здравому смыслу и интуиции. А для этого надо преодолеть фетишизм старых понятийных конструкций. Без этой работы по расчистке старых и созданию новых понятий, новых форм научного мышления нельзя рассчитывать на построение методологии системно-структурного исследования.
Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности[78]
Кто может решить эту проблему?
«Особую дискуссию вызвали сообщения о методе генетического исследования в психологии и определении критериев интеллектуального развития детей. Участники обсуждения… критиковали докладчиков за тенденцию свести развитие к обучению, отрицать наличие внутренних законов развития психики ребенка» (из обзора работы украинской психологической конференции в декабре 1964 г. — «Вопросы психологии», 1965. № 3. С. 188–189).
Эта статья представляет собой попытку рассмотреть те методологические и логические принципы, которые лежат в основе различных точек зрения по этому вопросу. Только отчетливое понимание их, по нашему мнению, позволит перевести дискуссию на рельсы собственно научной аргументации.
1. Проблема обучения и развития появилась на стыке педагогики и психологии, и кажется, что именно в рамках этих двух наук и их средствами она должна решаться. Но это ошибка. Психологи могут изучать и описывать изменения в психике и поведении детей, происходящие в условиях обучения, и на основе этого устанавливать «законы» или «нормы» развития. Педагоги-методисты могут, учитывая или не учитывая эти «нормы», разрабатывать программу, средства и приемы обучения. Педагоги-ученые могут анализировать и описывать ситуации обучения, структуру учебных предметов и т. п. Но ни у кого из них нет средств, чтобы обсуждать и решать саму проблему взаимоотношения «обучения» и «развития»; чтобы решить «проблему», т. е. ту совокупность теоретических затруднений и парадоксов, которая объединяется этим названием, нужно на само изучение обучения и на изучение развития посмотреть как бы со стороны и при этом «увидеть» и сопоставить друг с другом, с одной стороны, само обучение и развитие, взятые как действительность, а с другой — существующие представления об обучении и о развитии. Это можно сделать только в предмете особой науки — теории деятельности, ее средствами, осуществляя специальный методологический анализ.
Именно поэтому все предшествующие дискуссии по проблеме, которые велись исключительно в понятиях психологии и педагогики, заканчивались, по сути дела, ничем и вызвали известную усталость от самого теоретизирования.
Деятельность: «массовая» и «частная»
2. Долгое время «деятельность» подводилась под категорию процесса, и этим определялись методы ее изучения. Но, на наш взгляд, в этом состояла одна из двух основных причин, которые приводили к неудачам в исследовании деятельности. Второй причиной было то, что деятельность в большинстве случаев рассматривалась как достояние индивида, как производимая им, а индивид по отношению к ней выступал как деятель.
Мы рассматриваем деятельность прежде всего как очень сложную структуру, составленную из разнородных элементов и связей между ними; более того, она является, по-видимому, полиструктурой, т. е. состоит из многих как бы наложенных друг на друга структур, а каждая из них, в свою очередь, состоит из многих частичных структур и иерархирована. Категория полиструктуры определяет методы изучения деятельности.
В зависимости от задач исследования можно выделять в деятельности в качестве относительно целостных и самостоятельных объектов изучения разные структуры и подструктуры, и тогда у нас будут получаться качественно разные представления деятельности. Это значит, что в теории деятельности будет фигурировать несколько различных «единиц».
Так, например, можно представить в виде единицы деятельности весь социальный организм в целом; это будет универсум деятельности. Структура подобной единицы будет охватывать вещи, самих людей и процессы их изменения; люди в этом случае будут элементами деятельности. Мы считаем такое, социологическое представление деятельности исходным в ее теории; оно дает раздел так называемой «массовой деятельности».
Аналогичным образом в рамках «массовой деятельности» можно представить и различные фрагменты или части социального организма, например сферу производства, сферу потребления, «клуб» и др.
Но точно так же можно взять в качестве единицы ту деятельность, посредством которой решаются отдельные частные задачи; это будет представление деятельности, взятое как бы в другом «повороте» и на другом уровне увеличения; мы называем эти структуры «частными» или просто «деятельностью».
В общей теории деятельности устанавливается определенный порядок рассмотрения всех выделенных единиц, ибо существует зависимость анализа одних структур деятельности от знания и описания других; вместе с тем между этими единицами устанавливаются теоретические связи: содержательные — в системе онтологии теории, формальные — между утверждениями о различных структурах.
3. Характер и конфигурация каждой структуры определяются теми процессами, в которых «живет» деятельность, ибо сами структуры есть не что иное, как особый способ фиксации и выражения механизмов этих процессов.
В «массовой деятельности» основным процессом, определяющим характер всех ее структур, является воспроизводство. В него входят все другие социальные процессы, в том числе трансляция и обучение.
Воспроизводство и трансляция «культуры»
4. Довольно естественно попытаться представить воспроизводство в виде циклов, обеспечивающих создание новой социальной структуры на основе какой-то прежней. Тогда в самом простом и абстрактном виде предмет изучения можно представить в структуре, изображенной на схеме 1. Это и будет единица, изучаемая в этом разделе теории деятельности. Социальные структуры S1 и S2, являющиеся, соответственно, исходной и конечной в цикле воспроизводства, а также их изображения на схеме мы будем называть состояниями.
Дальнейшая задача в линии развертывания предмета анализа будет заключаться, очевидно, в том, чтобы определить, во-первых, те элементы и компоненты состояний социальных структур, которые должны воспроизводиться, и, во-вторых, механизмы, обеспечивающие их воспроизводство.
Решение первой задачи упирается в детализированное описание и классификацию всевозможных составляющих социального организма. Для методологического анализа вполне достаточно назвать только некоторые и совершенно бесспорные элементы: это — орудия и предметы труда, условия и предметы потребления, сами люди, отношения между ними, организационные формы их деятельности. Решение второй задачи должно осуществляться уже в тесной связи с решением первой, так как возможные механизмы воспроизводства, очевидно, зависят от характера и природы самих воспроизводимых элементов (подробнее методическая сторона этого вопроса разбирается в специальной статье [1967 а*]).
5. Исходная и простейшая форма среди многих разнообразных механизмов воспроизводства — это простое «перетекание» или простая передача элементов от одного, разрушающегося состояния социальной структуры в другое, складывающееся. Так могут переходить из одного состояния в другое орудия, предметы и продукты труда, так могут переходить отдельные люди и некоторые организации людей. Подобная вещественная передача элементов от одного состояния к другому по существу не требует восстановления (или воспроизводства) в точном смысле слова, но является необходимым составляющим процессом в нем; мы называем ее трансляцией элементов социума [1963 b; 1965 е*; 1966 b*; 1967 а*].
6. Более сложным механизм воспроизводства становится в тех случаях, когда элементы первого, разрушившегося состояния не переходят сами непосредственно во второе состояние, не становятся его элементами, а служат как бы образцами, или эталонами, для воссоздания других точно таких же образований, входящих во второе состояние социальной структуры (схема 2).
Образцы, или эталоны, имеют совершенно особую функцию в социуме: они должны как-то «запечатлеть» в себе то, что имеется в первом состоянии, чтобы затем по ним можно было «отпечатать» то, что пойдет во второе состояние. Следовательно, сами образцы, или эталоны, «живут» уже вне этих состояний; они движутся как бы параллельно им, постоянно обеспечивая восстановление социальных структур (схема 3). Так мы приходим к необходимости разделить внутри социума две разные сферы — собственно производства и «культуры»; последнее — это совокупности тех средств, которые обеспечивают восстановление производственных (или каких-либо иных) структур. (Заметим сразу же, что разделение этих образований, заданное таким образом, справедливо лишь для этого уровня абстракции, а при дальнейшем усложнении модели требует уточнений.)
При таком механизме восстановления состояний мы имеем воспроизводство в точном смысле этого слова. Но непременным условием его является деятельность: образцы, или эталоны, смогут выполнить свою функцию только в том случае, если рядом будет человек, который может создать по эталонам новые образования, входящие в производственные структуры (схема 4). Значит, подобный процесс трансляции имеет смысл лишь в том случае, если параллельно ему непрерывно передается деятельность. Но как это возможно?
7. Деятельность, как мы уже говорили, занимает совершенно особое положение в системе социума.
Именно она является тем фактором, который превращает все его элементы (и вещи, и отношения) в одну или несколько целостных структур. Вне деятельности нет ни средств производства, ни знаков, ни предметов искусства; вне деятельности нет самих людей. Точно так же и в процессе воспроизводства социума именно деятельность занимает основное место — и как то, что воспроизводится, и как то, что обеспечивает воспроизводство.
Самая простейшая форма трансляции деятельности — это переход из одной производственной структуры в другую самих людей, носителей деятельности. Здесь не возникает никаких особых затруднений и проблем, так как нет воспроизводства самой деятельности; сложные ситуации возникают только тогда, когда ставится задача действительного воспроизводства ее.
Как и при трансляции других элементов социума, простейшим здесь будет тот случай, когда определенные деятельности выталкиваются в сферу культуры и служат в качестве образцов для осуществления такой же деятельности в производственных структурах. Реальный механизм этого — приобретение некоторыми людьми особой функции, позволяющей им формировать привычки, поступки, деятельность других людей. Знаменитый дуэлянт и игрок, крупный политический деятель, кинозвезда часто являются семиотическими, «культурными» образованиями социума по преимуществу, поскольку служат образцами для подражания («волосы, как у Брижит Бардо», «свитер, как у Жана Маре»). Деятельность образцового рабочего, известного новатора и т. п. неизбежно приобретает особую «культурную» функцию, поскольку она становится образцом для подражания. В определенных условиях эти люди перестают работать в собственно производственной сфере, их деятельность становится только образцом и вместе с тем чисто «культурным» образованием. Так, в частности, происходит с рабочими-мастерами, обучающими в школах и училищах. Педагог, вообще, по многим параметрам, совершенно независимо от его воли и желания, выступает как элемент культуры; но и с точки зрения сознательно формулируемых требований одна из важных его педагогических функций — быть живым носителем определенных деятельностей и разворачивать их в качестве образцов для подражания при передаче другим людям (схема 5).
8. Но подобное выражение образцов деятельности в живых людях, олицетворение их, является лишь одним из видов фиксации ее в процессе трансляции. Другим средством фиксации и передачи деятельности служат любые ее продукты (как вещественные, так и знаковые); они сохраняют и переносят свойства и строение деятельности. Особый вид трансляции деятельности образует передача тех знаковых образований, которые использовались при построении деятельности в качестве средств или орудий (схема 6, где П — любые продукты данной деятельности, ЗС — ее знаковые средства, ВС — вещественные средства). На первых этапах вещественные и знаковые средства деятельности передаются именно в тех сочетаниях и связях, в каких они были употреблены при решении задач [1964 а, Розин, 1967 b]. Так, по-видимому, возникают тексты, представленные сейчас в собственно научной литературе.
Но в каком бы виде ни передавалась деятельность: в виде ли «живых» образцов, или в виде предметов продуктов и знаковых средств, — воспроизведение ее другими людьми в новых состояниях социальной системы возможно только в том случае, если эти люди умеют это делать, т. е. если они умеют «копировать» деятельность других людей или восстанавливать деятельность по ее продуктам и примененным в ней знаковым средствам. Если же такой способности нет, то в процессе воспроизводства, несмотря на трансляцию деятельности, возникает разрыв. Именно как средство преодоления этого разрыва исторически сложилась и развилась сфера обучения.
Трансляция «культуры» и обучение
9. Функция обучения в системе общественного воспроизводства состоит в том, чтобы обеспечить формирование у индивидов деятельностей в соответствии с образцами, представленными в сфере культуры в виде «живой», реально осуществляемой деятельности или же в виде знаковых средств и продуктов деятельности. Таким образом, обучение деятельностям является вторым необходимым звеном в процессе воспроизводства; оно дополняет процесс трансляции и в каком-то смысле выступает даже как противоположный ему механизм. Этот момент обнаруживается особенно отчетливо в тех случаях, когда деятельность транслируется не в «живом» виде, а только в форме своих средств и продуктов: трансляция опредмечивает деятельность, дает ей превращенную предметную или знаковую форму, а обучение обеспечивает обратное превращение предметных и знаковых форм в деятельность индивидов, оно как бы «выращивает» деятельность в соответствии с этими формами и даже из них (схема 7).
Здесь важно отметить, что вещественные и знаковые эталоны, а также продукты и средства деятельности попадают в совершенно различные контексты реальной деятельности индивида в зависимости от того, владеет он этой деятельностью или еще только должен научиться. Для человека, владеющего математикой, формулы являются вспомогательными средствами, позволяющими перевести содержательную мыслительную работу в формальную и даже чисто механическую. Для учащегося формула предстает в совершенно ином виде: он должен увидеть и раскрыть в ней те системы содержательных операций, вместо которых или в контексте которых она используется; только таким путем он сможет овладеть и формулой, и выраженной в ней деятельностью. Деятельность второго типа называется «учением». Нередко ее объектом становится деятельность других людей, выбранная в качестве образца (т. е. то, что изображено на схеме 5). Деятельность учения как бы «пересекается» или перекрещивается с обучением.
Обучение и «педагогическое производство»
10. Итак, обучение в системе воспроизводства имеет совершенно специфическую задачу: оно должно сформировать деятельность, используя различные вещественные и знаковые образования; при этом уже неважно, будут входить в дальнейшем эти знаковые средства в деятельность или нет. Для обучения важно только одно, чтобы эти знаковые средства были наилучшим образом приспособлены к тому, чтобы с их помощью формировать деятельность. Но подавляющее большинство знаковых средств и продуктов деятельности, в частности научной деятельности, меньше всего подходит для этого. И даже более того, очень часто условия использования их в деятельности требуют исключения всего того, что отражает характер и строение самой деятельности. В связи с этим ставится новая задача, обусловленная специфическими требованиями обучения: создать и транслировать из одного состояния системы в другое специальные описания деятельности, такие комбинации вещественных и знаковых образований, которые лучше всего соответствовали бы процессам восстановления структуры самой деятельности.
Но это требование, в свою очередь, делает необходимой особую работу по созданию подобных форм предметного и знакового выражения деятельности — условно ее можно назвать «педагогическим производством», — и она, очевидно, должна ориентироваться прежде всего на специфические закономерности и механизмы процессов обучения (схема 8) [1964 d; 1966 b; Москаева, 1964; Розин, 1965; Наука и… 1965].
Важно подчеркнуть, что «учебные средства» заменяют те продукты и вещественно-знаковые средства деятельности, которые раньше транслировались непосредственно (схема 7) и становились объектами учения. С появлением специальных учебных средств деятельность учения преобразуется в «учебную деятельность», которая уже не пересекается с деятельностью обучения, а должна быть подчинена ей; если на первых этапах деятельность учения была ведущей, а учитель предоставлял лишь «живой» образец деятельности, которую надо было скопировать, то теперь ведущей деятельностью становится собственно обучение, а учебная деятельность выступает как включенная в нее или во всяком случае управляемая ею. (В дальнейшем при сравнительно высоком уровне развития учащихся отношение между этими двумя деятельностями вновь меняется: многие элементы обучения сливаются с учебной деятельностью, и все это вместе передается учащемуся; появляется «самообучение» и самообразование.)
Упрощая схему 8, мы можем элиминировать «педагогическое производство» и представить дело так, что учебные средства просто транслируются от одного состояния социальной системы к другим, обеспечивая в условиях обучения овладение деятельностью.
11. Так мы приходим к очень важному различению собственно научных и учебных знаний. Первые, а соответственно и выражающие их знаковые конструкции предназначены для включения в производственную (в том числе по производству других научных знаний) деятельность; они строятся в предположении, что индивиды могут осуществить эту деятельность и произвести включение средств. Вторые, наоборот, строятся в предположении, что индивиды еще не умеют осуществлять необходимую деятельность и должны будут учиться ей на материале и с помощью этих образований (ср. [Наука и… 1965]).
Это разграничение является, конечно, абстрактным: оно задает различие и, можно даже сказать, противоположность двух функций, которые реально «работают» всегда вместе. Но из последнего обстоятельства следует не то, что мы должны отказаться от самого различения, а лишь то, что мы должны дополнить его еще рядом знаний, отвечающих на вопросы, в какой мере знаковые образования, соответствующие этим двум разным функциям, могут совмещаться друг с другом или, наоборот, исключают друг друга, каковы правила и закономерности соединения их в единые комплексные знаковые структуры и т. п.; получив эти знания, мы сможем практически эффективно пользоваться и введенным выше абстрактным различением.
«Система» обучения и воспитания
12. В предыдущем анализе мы постоянно сталкивались с тем обстоятельством, что использование любых образований, транслируемых из одного состояния в другое, предполагает наличие у индивидов какой-то деятельности. Это справедливо и для тех случаев, когда транслируется сама деятельность. Чтобы научиться ей даже в условиях обучения, нужно уже владеть какими-то деятельностями, которые выступают в качестве предпосылок научения, а в ряде случаев, кроме того, входят «элементами» во вновь присваиваемую деятельность. Так складывается сложная цепь зависимостей одних деятельностей от других. Эта зависимость определяет способ организации деятельностей в трансляции и порядок задания их в обучении. Те сравнительно простые виды деятельностей, которые образуют общие составляющие для других более сложных видов деятельностей и являются поэтому предпосылками при освоении последних, выделяются в особые учебные системы и транслируются по особым «каналам»; им обучают заранее. Это составляет первую группу каналов трансляции деятельности и соответственно первое подразделение обучения. Если затем исходят из того, что общие элементы деятельностей уже освоены, то трансляцию более сложных деятельностей сводят к трансляции тех знаковых средств, которые позволяют построить эту сложную деятельность из освоенных элементов. Это образует вторую группу каналов трансляции деятельности. Важно подчеркнуть, что эти две группы каналов являются принципиально разнородными — они противопоставлены друг другу: первый построен на непосредственной передаче деятельности, второй — на передаче знаковых средств построения сложных деятельностей из более простых.
Это пока очень абстрактная схема. В действительности обе группы сами расчленены на множество разнородных составляющих. Во-первых, само обучение общим элементам деятельности строится в несколько этапов, причем каждый опирается на предшествующие, и, следовательно, для каждого этапа, начиная со второго, строится своя система знаковых средств. Таким образом, и сам первый канал разлагается на составляющие по той же схеме, по какой был введен он сам, и этот процесс идет постоянно и в настоящее время. Кроме того, «обучение» членится по типам деятельности — например, «воспитание» (физическое, нравственное, эстетическое и т. п.), общее образование, специальное образование, профессиональное обучение, — и каждый тип требует своей организации процесса трансляции и своих особых знаковых средств.
Не менее сложная дифференциация идет и во второй группе каналов. Использование знаковых средств для построения деятельности само предполагает особые деятельности. И чем больше различных знаковых средств, тем разнообразнее эти деятельности, и им тоже надо специально обучать. Таким образом, развертывание и усложнение второй группы каналов трансляции деятельности предъявляет особые задания первой группе, увеличивая перечни тех элементарных деятельностей, которые должны быть освоены в ходе предварительного обучения. Со временем оказывается, что эти деятельности, необходимые для употребления знаковых средств, составляют львиную долю всех социальных деятельностей.
Таким образом, в результате всего этого процесса создаются как особая конструкция длинные ряды зависимых друг от друга специальных учебных средств и соответствующих им ситуаций обучения.
13. Это рассуждение можно обобщить. Хотя каждый этап обучения и воспитания детей не сводится к одним лишь учебным средствам, а предполагает значительно более широкую систему «жизненных» отношений к другим детям, к педагогу, к окружающим явлениям и т. п., мы с полным правом можем говорить о том, что эти системы в целом транслируются и строятся искусственно в целях обучения и воспитания. Мы можем говорить о длинном ряде ситуаций жизни ребенка, которые создаются для обучения общественно-фиксированным деятельностям и через которые общество как бы «протаскивает» ребенка в ходе его воспитания и обучения (схема 9).
Нужно подчеркнуть, что эта «труба» — искусственно созданная система (поэтому мы и называем ее «инкубатором»); она возникла на определенном этапе исторического развития общества, сначала как очень маленькое образование, еще не обособившееся от системы самого производства, постепенно все более и более разрасталась, причем рост ее шел «слева направо», т. е. от производства и вплетенного в него обучения — к «чистым» формам обучения, от обучения сложным деятельностям — к обучению все более простым деятельностям, лежащим в основании всех других; при этом, конечно, происходила перестройка всей системы. Вырабатываемые таким образом ситуации обучения и воспитания и их последовательности закреплялись в особых средствах трансляции и передавались от поколения к поколению. Но это значит, что закреплялись в особых средствах трансляции, передавались из поколения в поколение и навязывались ребенку его жизненные ситуации во всей этой системе «инкубатора».
Важно отметить зависимость между последовательными частями или этапами системы, обратную реальному временному движению ребенка по ней. Ребенок идет «справа налево», и прохождение им «правых» частей системы является условием и основанием прохождения следующих, «левых». В построении системы существует прямо противоположная зависимость: существование и необходимость «левых» частей системы является основанием для выделения и создания строго определенных «правых» частей. Фактически мы имеем одну двустороннюю зависимость: чтобы овладеть деятельностью, заданной в «левом» элементе, ребенок должен предварительно овладеть деятельностями, заданными в «правом» элементе, а поэтому последний должен быть дан в системе воспитания и обучения и предшествовать первому.
Обучение и воспитание как сфера «массовой деятельности»
14. В предшествующих частях статьи мы охарактеризовали место и функции обучения и воспитания в системе общественного воспроизводства. Одновременно мы начали раскрывать и изображать структуру и механизмы этих составляющих воспроизводства, рассматривая их как особую сферу «массовой деятельности». Так внутри сферы обучения и воспитания появилось особое подразделение — «педагогическое производство» (схема 8). Но полученная картина еще очень неполна, ее нужно уточнить и развернуть дальше.
А. В контексте практического обучения рождается особая педагогическая деятельность — «обобщение опыта обучения», которая заключается в сопоставлении разных процедур обучающей деятельности и в выделении из них наиболее эффективных приемов.
Сначала учитель хочет просто научить своих учеников и для этого совершает все свои действия. И если это не удается ему с первого раза, то он повторяет их, добавляя новые, более эффективные элементы и выбрасывая плохие, неработающие. И так повторяется снова и снова, пока практическая задача обучения не бывает решена. Получается ряд варьирующих деятельностей — D', D", D'"… каждая из которых направлена на решение одной и той же задачи обучения. Лучшие варианты интуитивно выделяются учителем и закрепляются в его индивидуальной деятельности в качестве неких стандартов. Но сама эта практика повторения деятельности с разными вариациями создает условия и материал для появления деятельности принципиально иного типа: сравнения и анализа уже произведенных деятельностей, направленных на то, чтобы выбрать из них (или же сконструировать из их элементов) лучшие, наиболее совершенные и эффективные деятельности. Необходимость передавать деятельность обучения непрерывно расширяющемуся кругу лиц приводит к тому, что такая деятельность начинает практиковаться все чаще и чаще и наконец оформляется в особую специальность. От учителя отделяется методист, конструирующий приемы и способы обучения. Его деятельность создает иные продукты, нежели деятельность учителя, и направлена на иные объекты; она начинает обслуживать деятельность учителей и вместе с тем управлять ею.
В. Сохраняется и непрерывно развивается уже описанная нами деятельность построения учебных средств, обеспечивающих овладение производственной деятельностью. Но из нее выделяется особая деятельность составления программ обучения, которая затем начинает управлять непосредственной разработкой учебных средств.
Механизмы выделения этой новой специальности аналогичны механизмам разделения практической деятельности учителя и деятельности методиста, конструирующего приемы обучения: когда отдельные учебные средства и учебные предметы уже созданы или сложились, появляется необходимость связывать их друг с другом, согласовывать, объединять в единой системе и передавать ее от поколения к поколению. Эта работа требует уже иных средств, нежели конструирование отдельных учебных средств (мы будем еще говорить об этом ниже), и поэтому она обособляется и оформляется в отдельную специальность; появляется педагог-методист, разрабатывающий программы обучения и воспитания.
С. Чтобы строить программу образования и отдельные обеспечивающие ее учебные предметы и средства, нужно иметь представление о целях обучения и воспитания, нужно их сформулировать. И это тоже особая работа. На ранних этапах развития общества ею занимаются, как правило, политические деятели или деятели культуры, т. е. люди, по роду своих занятий не имеющие непосредственного отношения к педагогике.
Но расширение системы образования, все большая дифференциация подготавливаемых специалистов, усложнение и совершенствование техники обучения и воспитания и т. п. заставляют все больше детализировать и конкретизировать цели (ср. [1964 d; 1966 і*; Файнбург, 1966]). Чтобы обеспечить это, нужен все более скрупулезный, а следовательно, и специализированный труд. Поэтому формулирование и конкретная разработка целей образования начинает все больше входить в систему самого «педагогического производства» и все более отделяется от собственно политического формулирования целей развития общества. В системе педагогики появляется особая специальность педагога-проектировщика, разрабатывающего модель-проект человека будущего общества.
Если теперь все выделенные внутри «педагогического производства» специальности свести воедино, то получится схема 10.
Деятельность всех этих специалистов образует единую сферу, в которой все составляющие связаны и зависят друг от друга: конкретный проект, выражающий цели образования, нужно сформулировать, чтобы потом можно было построить программу обучения и воспитания; программа нужна, чтобы определить число, вид и связь тех учебных предметов, которые должны быть включены в систему образования; в зависимости от характера учебных средств строятся те приемы и способы обучения, которые обеспечивают передачу средств учащимся. Таким образом, продукты деятельности одного специалиста передаются другому и становятся у него либо средствами, либо управляющими регулятивами, либо составляющими объектов деятельности; а все это вместе образует единую систему кооперированной деятельности.
15. Когда вся эта работа выполнена — учебные средства построены в соответствии с программой, приемы обучения обеспечивают освоение этих средств, а вся система «инкубатора» в целом дает возможность формировать именно таких людей, какие нужны обществу, — тогда вся изображенная выше структура кооперированной деятельности, обслуживающей работу учителей, становится ненужной. Система учебных предметов и приемы обучения, раз созданные, продолжают жить в сфере «культуры» и непрерывно транслируются от одного состояния социума к другому, обеспечивая работу учителей и обучение учащихся. Точно так же остаются в сфере «культуры» и транслируются как проект, выражающий цели образования, так и программа; они в любой момент могут быть извлечены из хранилищ и использованы для обоснования существующего порядка обучения и воспитания. Таким образом, методическая работа как бы «свертывается» в работу по трансляции ее уже готовых продуктов.[79]
Но так продолжается лишь до тех пор, пока сложившаяся система образования обеспечивает подготовку людей, удовлетворяющих существующей системе «производство — потребление — клуб»; когда же между требованиями этой «действующей» части социума и «инкубатором» создается разрыв, то вся описанная выше система методической деятельности развертывается вновь, чтобы опять последовательно создать новый проект целей, новую программу образования, новую систему учебных предметов и новые приемы, обеспечивающие их освоение. Все это меняет характер и продукты деятельности обучения, устраняет разрыв между подготовленными индивидами и требованиями общества (ср. [1964 d; 1965 е]).
В условиях быстро развивающегося общества методическая работа строится не в виде спорадически возникающих вспышек, как это описано выше, а ведется специальными институтами постоянно; но она все равно может быть направлена лишь на то, чтобы менять существующую систему обучения и воспитания — по частям или сразу во всей системе.
16. Нарисованная выше картина «педагогического производства» еще отнюдь не полна. Во-первых, мы сознательно оставили в стороне все деятельности, возникающие в этой системе в связи с задачами государственной организации «системы народного образования» и руководства ею. Это особый круг вопросов, которых мы не будем касаться. Во-вторых, в системе пока отсутствуют все деятельности, направленные на получение знаний, обслуживающих «педагогическое производство». Но ими мы уже не можем пренебречь, так как именно в них, в их отношении к методической работе заключено решение рассматриваемой нами проблемы. К обсуждению этого мы и должны сейчас перейти.
Графическое изображение сферы обучения и воспитания, подобное представленному выше, независимо от того, берется ли оно в совершенно развитом и детализированном виде или лишь в неполном и частичном, выступает для исследователя-методолога как сам объект; другими словами, в методологических рассуждениях мы полагаем, что это и есть объект [1964 а*; 1963 b].
Особенность этого объекта в том, что он — «массовая деятельность». Внутри него находятся люди, занимающие определенные места в системе общественного воспроизводства. Все они имеют какие-то знания о той области объекта, с которой им приходится работать и которая, образно говоря, находится «перед ними». Эти знания являются такими же объективными элементами и составляющими структуры «массовой деятельности», как и все остальное. Они могут быть проанализированы, с одной стороны, в отношении к тем областям объекта, знаниями о которых они являются, а с другой — как орудия и инструментарий, как средства, используемые каждым деятелем педагогического производства в его специализированной работе. Таким образом, пользуясь своим «видением» этой сферы деятельности как объекта, исследователь-методолог может: 1) соотнести друг с другом «место» и функции знаний в деятельности с областью их объектов и содержанием (видом и способом представления этих объектов) и 2) сопоставить полученные так «связки соотнесения» друг с другом, чтобы определить зависимость объекта и содержания знания от того «места», для обслуживания которого оно вырабатывается. Одновременно он сможет, пользуясь специальным аппаратом понятий содержательно-генетической логики, описать характер этих знаний и способы их получения [1964с*].
Становясь затем на позицию каждого из введенных выше деятелей педагогики, исследователь-методолог получит возможность «увидеть» эту область объектов такой, какой ее «видят» они; но каждое из этих частных и специализированных «видений» будет уже объяснено особенностями того «места» в сфере педагогического производства, на котором оно используется, и будет выступать не как изолированная и самостоятельная картина объекта, а как элемент более широкого теоретико-деятельностного представления, объединяющего или, точнее, конфигурирующего массу различных частных знаний (об идее конфигуратора см. [1964 h*; 1967 с; 1967 а*; Восхождение… I960]). Среди них должно оказаться и психологическое знание о развитии ребенка, получаемое в одной строго определенной позиции. Но к этому нужно еще подойти. И первый вопрос, с которого надо начинать, может быть задан в очень общей форме: какие, собственно, знания нужны различным деятелям педагогического производства?
«Практико-методические», «конструктивно-технические» и собственно научные знания
17. При всех различиях знания, необходимые педагогам, могут быть охарактеризованы по ряду общих логических признаков.
Любую деятельность, будь то воспитание детей или выработка новых научных знаний, можно рассматривать как получение определенного продукта, соответствующего требованиям задачи или «целям». И в какой бы форме ни выступала сама задача, она всегда должна содержать определенное знание о продукте деятельности, которое образует основное ядро знаний, необходимых для построения деятельности.[80] Вторая их составляющая — знания о материале или объектах, из которых должен или может быть получен необходимый продукт. Третья группа знаний фиксирует средства деятельности и действия по их применению.[81] Четвертую составляющую образуют знания о той последовательности действий или «операций», которую надо совершить, чтобы из заданного или выбранного материала получить необходимый продукт. Форма фиксации этих знаний может быть самой различной — от простых навыков до сложнейших разветвленных алгоритмов или «принципов метода».
И кроме того, все эти знания не «живут» отдельно друг от друга, а образуют системы, в которых все перечисленные моменты практической деятельности представлены как зависящие друг от друга: материал, выбираемый для получения заданных продуктов, определяется характером наличных средств и действий; а изменение материала, в свою очередь, ведет к необходимости изменения применяемых средств и действий. Эти зависимости выражаются в знаниях, имеющих весьма разнообразную смысловую структуру и логическую форму. Если отвлечься от различий смысла и формы, а взять лишь содержание всех этих знаний и представить его в виде структурно расчлененной «действительности», то получится модель, изображенная на схеме 11. Здесь Ои — исходный объект или материал преобразований, Ок — продукт рассматриваемой деятельности, О1 и О2 — промежуточные продукты и объекты преобразований, Ср — средства, а Д — действия. Конечно, эта модель изображает лишь самую простую и общую структуру содержания знаний, обслуживающих практическую деятельность.
18. Первая особенность знаний, непосредственно обслуживающих практическую деятельность, состоит в том, что все объекты, включенные в деятельность — они представлены на схеме 11, — фиксируются в них исключительно как объекты деятельности: как преобразуемый ею материал, как продукты, получающиеся в результате преобразований, или как средства, используемые в них. И это естественно, так как действующему человеку непосредственно нужно знать только одно: что именно и с какими объектами нужно делать.
Вторая особенность этих знаний состоит в том, что они ориентированы на получение определенного продукта. Типичной для них можно считать форму вида: «Чтобы получить продукт Е, надо взять объект А и совершить по отношению к нему действия α, β, γ». Нетрудно заметить, что смысловая структура этого знания центрирована на продукте деятельности, а само оно организовано так, чтобы обеспечить построение практической деятельности индивидами. Иначе можно сказать, что эти знания организованы в виде предписаний для деятельности. В соответствии с этим признаком мы будем называть их «практико-методическими».
19. Хотя по форме и способу своей организации практико-методические знания ориентированы на новую, еще не свершившуюся деятельность — они говорят о том, что нужно сделать, — тем не менее по содержанию они чаще всего лишь фиксируют опыт уже свершенных действий. Каждому практико-методическому знанию соответствует одно или несколько знаний, фиксирующих результаты прошлых деятельностей, из переработки которых оно и возникает.
Какими бы ни были эти знания — научными или не научными, — у них есть одна общая особенность, отличающая их от практико-методических знаний. Она состоит в том, что смысловая структура всех этих знаний центрирована не на продукте, а на объекте преобразований: они говорят об объекте, о том, что с ним происходит или может происходить.
Вид и способы, какими это фиксируется, могут быть разными.
Одну большую группу образуют знания, в которых говорится о том, что произойдет с заданным объектом, когда мы на него определенным образом подействуем. Типичной для этих знаний можно считать форму вида: «Если к объекту А применить действия α, β, и γ, то получится объект Е». Здесь сохраняется анализ объектов исключительно с точки зрения деятельности; этот момент роднит знания такого типа с практико-методическими. Но другой момент — центрированность смысловой структуры знания на объекте — резко отличает их от последних. Вместе с тем эти знания, как будет показано дальше, по другим признакам существенно отличаются от собственно научных знаний. Мы будем называть их «конструктивно-техническими».[82]
Новые конструктивно-технические знания, если брать их исходные и специфические формы,[83] могут появляться лишь по мере того, как создаются и реально осуществляются новые виды и типы практического преобразования объектов. Каждый раз они фиксируют единичные случаи таких преобразований и закрепляются в виде общего знания у отдельных людей и коллективов, если соответствуют многим, сходным между собой случаям. При этом обобщение опирается лишь на опыт многих отдельных практических преобразований и пока не имеет никаких специальных средств и процедур «научного анализа» самих объектов; поэтому действительная общность и практический успех этих знаний оказываются очень ограниченными.
20. На основе уже выработанных связок между конструктивно-техническими и практико-методическими знаниями люди осуществляют преобразования новых объектов, входящих в сферу их деятельности. Они стремятся получить определенные продукты и для этого применяют к объектам уже известные им средства и действия. Но реальные результаты деятельности отнюдь не всегда соответствуют их ожиданиям. И это понятно, так как любой объект «сопротивляется» действиям людей, он имеет свою самостоятельную «жизнь» и свое собственное «поведение», которые и обнаруживаются, когда мы начинаем действовать на него: реальный результат всего преобразования определяется не только нашей деятельностью, но и особенностями «природы» объекта. Для деятеля-практика это обстоятельство выступает чаще всего как разрыв между его целями, его ожиданием и тем, что получается на деле, как нарушение его опыта и фиксирующих его знаний. Оно заставляет его пересматривать и перестраивать имеющиеся знания, но только для того, чтобы аналогичный разрыв повторился вскоре снова и снова.
Этот ряд непрерывно воспроизводящихся разрывов создает необходимость в принципиально новом подходе к миру объектов. Нужно объяснить причины постоянно повторяющихся расхождений между целями деятельности и ее результатами. И эта установка, когда она складывается, создает основную предпосылку для появления особой «объяснительной» работы, а затем — научных знаний и собственно научного анализа.
Для реального оформления науки нужно много различных условий — экономических, социальных, технических и политических. Но если взять идейную сторону, то решающим является переворот во взгляде на объекты деятельности, переворот в способе их «видения». Хотя для человека-практика изменения объектов происходят всегда в деятельности и являются ее продуктами, он должен теперь взглянуть на них как на «естественные» процессы, происходящие независимо от его деятельности и подчиняющиеся своим «внутренним» механизмам и «внутренним» законам.
Падение камня всегда вызвано какой-либо причиной — до этого он лежал на месте, — но до тех пор, пока само падение рассматривается как действие этой причины, не может быть никакого научного анализа этого процесса (об этом убедительно говорят две тысячи лет совершенно непродуктивных дискуссий и попыток анализа [Гуковский, 1947; Hall, 1954; Wohlwill, 1906]). Снаряд запускается орудием, созданным людьми, и людьми же направляется в цель. Но до тех пор, пока полет снаряда рассматривается только в отношении к действиям людей и орудия, не может быть никаких научных знаний. Чтобы получить их, нужно рассмотреть полет снаряда как естественный, «природный» процесс, происходящий по законам, независимым от деятельности людей. Колесо не имеет аналогов в несоциализированной природе, это машина, придуманная человеком, но, чтобы получить научные знания о качении колеса, нужно рассмотреть это как естественный процесс, подчиняющийся «природным» законам.
В такой позиции заключено известное противоречие. Ведь в принципе человека (и вообще человечество) интересует только то, что уже включено или может быть включено в деятельность, следовательно, не то, что «естественно», но внутри деятельности он вынужден находить, если хочет наилучшим образом организовать саму деятельность, то, что может быть представлено как «естественное», «природное», происходящее независимо от деятельности, по своим «внутренним» механизмам и законам.
И именно в этом состоит специфический признак, отличающий собственно научный подход и научные (естественнонаучные) знания от практико-методических и конструктивно-технических знаний.
21. Переход от конструктивно-технических к научным знаниям отражается и на логической структуре выражающих их утверждений. Сначала мы получаем пассивную страдательную форму: «Объект А может преобразовываться в объект Е», в которой опущены моменты действия, потом — фиксацию возможности превращения объекта А во многие различные объекты Е, К, М и т. д., еще дальше — форму вида: «При наличии условий р и q с объектом А будут происходить изменения b, с, d» и, наконец, — абстрактную идеализованную форму вида: «Изменения объекта А подчиняются закону F».[84]
Но эти отличия логического смысла и формы, специфические для научных знаний, являются лишь одним из частных проявлений тех изменений, которые связаны с появлением науки. Она представляет собой совершенно новую сферу деятельности, которая буквально всем отличается от сферы практики и выработки практико-методических и конструктивно-технических знаний.
А. Научные знания, как мы уже говорили, должны выделить и зафиксировать некоторые «естественные» процессы, происходящие в объектах и подчиненные их «внутренним» законам, причем в условиях, когда эти объекты включены в деятельность и оцениваются с точки зрения ее целей и механизмов. Для этого нужно найти и выделить или же задать такие «объектные» образования, которые обладали бы такими «естественными» законами или, точнее, которым бы с большей степенью правдоподобия можно было приписать такие законы. Эти объектные агломерации или конструкции должны обладать целостностью или замкнутостью относительно тех «естественных» и «внутренних» законов, которые мы ищем. Собственно, они потому и называются «внутренними», что таким образом подчеркивается независимость их как от преобразующей деятельности человечества, так и от их «естественного», природного окружения.
Выделение и ограничение подобных объектных конструкций является довольно искусственным и во многом условным делом. Характерный пример этого — описание движения какого-либо тела в среде. Во время движения происходит постоянное взаимодействие со средой. Но, формулируя закон движения, мы не вводим среду и взаимодействие в объект, к которому относится закон, не анализируем механизмов и законов самого взаимодействия. В законе движения фиксируется и выражается лишь изменение пространственной координаты тела во времени. А это значит, что мы выделяем в качестве объективной конструкции для нашего знания лишь само тело и его «движение». Взаимодействие же учитывается неявно — в виде указания на условия движения тела («в воздухе», «в масле», «в безвоздушном пространстве») или в виде так называемых граничных условий.[85]
Кроме того, не всегда легко определить и очертить границы того образования, которое будет обладать «естественными» внутренними законами. Нередко структуры, выделенные относительно одного закона, например закона функционирования, могут оказаться неполными или просто «не теми» относительно другого закона, например закона развития [1963с*;1965 b].
В. Поскольку границы «объективных структур», выделяемых для научного анализа, соотносительны с типом знаний, которые мы при этом получаем, то можно сказать, что в науке мы всегда имеем связки между объектными конструкциями и знаковыми формами фиксирующих их знаний. Эти связки образуют «предметы научного изучения», или «предметы науки» [1964а *; 1964h *]. Знание, находящееся как бы сверху объекта, задает не только способ его «видения», но и направления, по которым пойдет дальнейшее развертывание науки. Иначе говоря, «предмет», составленный из неоднородных элементов знаний и объектных конструкций, является органической системой, которая живет и разворачивается по своим особым законам, отличным от законов жизни эмпирических объектов [1964 а *; 1964 h *, III; 1965 b].
С. Но и сами объектные конструкции, развертываемые внутри предметов науки (всегда относительно тех или иных «естественных» процессов и законов), не могут быть отдельными эмпирическими объектами или их связками; они обязательно должны быть обобщенными, а значит, и абстрактными структурами; в противном случае научные знания не могли бы обеспечить успех довольно разнообразной и постоянно варьирующей практики.
Это требование к объекту научного знания соединяется с требованием, описанным в пункте А, и оба они реализуются в выделении и создании внутри предметов науки особых «абстрактных», или «идеальных», объектов знания, отличных от единичных эмпирических объектов.
Идеальные объекты науки образуют особую «действительность», которая существует наряду с единичными эмпирическими объектами и является ничуть не меньшей реальностью, чем они [1964а"; 1964 h*, III; Ильенков, 1962].
Схематически все образования, описанные в предыдущих пунктах, и некоторые из их взаимоотношений представлены на схеме 12.
D. Научные знания и идеальные объекты, входящие в структуру предмета, вырабатываются с помощью особых процедур, отличных от анализа эмпирически данных объектов. При этом сначала получение общих знаний выступает одновременно как создание идеальных обобщенных объектов, подразумеваемых за знаниями и представленных в виде их «смысла» (простейшие из этих процедур описаны в [1958 b*]); затем конструирование идеальных объектов выделяется в особую деятельность внутри научного исследования; наиболее отчетливое выражение она получает в создании знаковых моделей объектов [1964 Л*, I; Метод… 1964; Розин, 1965].
На идеальных объектах начинает развертываться специально организованная познавательная деятельность: с одной стороны, эти объекты изучаются и описываются в специальных знаниях, а с другой — они непрерывно расширяются и конструируются дальше средствами науки и в ее рамках. Эта деятельность все больше освобождается от непосредственной связи с практикой и с деятельностью по выработке практикометодических и конструктивно-технических знаний. Появляется тезис об исследовании объектов как таковых, открывающий перспективу для построения все более многосторонних идеальных объектов и получения синтетических и «конкретных» знаний [Восхождение… 1960; Зиновьев, 1954].
Выражение идеальных объектов в специальных знаковых формах, отличных от форм описательного знания («онтологические схемы смысла», «модели» и т. п.), изменяет процедуры получения общих знаний. Они приобретают характер собственно теоретической работы и уже почти совсем не связаны с анализом эмпирического материала [1965 b; Москаева, Розин, 1966]. Все это происходит внутри предметов изучения и объединяющих их структур науки и подчиняется особым принципам и законам развития «предметов» как особых органических систем [1964 a*;1964h*, III].
Е. Обособление научных предметов от сферы практической деятельности и обслуживающих ее практико-методических и конструктивно-технических знаний создает целый ряд особых затруднений в практическом использовании научных знаний. Они связаны, с одной стороны, с экспериментальной проверкой на единичных эмпирических объектах знаний, полученных путем изучения идеальных объектов, и с другой — с построением на основе научных знаний практической и конструктивно-технической деятельности. Постепенное разрешение этих затруднений ведет к формированию особых процедур использования научных знаний в отнесении к единичным эмпирическим объектам. Они опираются на особые сопоставления идеальных объектов с единичными объектами, включенными в практическую или методико-конструктивную деятельность.
Использование научных знаний меняет как способы выработки практико-методических и конструктивно-технических знаний, так и практику.
Сами практические действия начинают сознаваться и строиться как реализующие «естественные» и «внутренние» потенции объектов к изменению, зафиксированные в уже имеющихся научных знаниях. (Нередко на основе этого складываются ошибочные убеждения, что другие изменения и практические преобразования этих объектов вообще невозможны; современная педагогическая ориентировка на «естественные» законы психического развития детей — хороший тому пример.)
Наличие теоретически полученных знаний о возможных и невозможных изменениях объектов позволяет предсказывать результаты и последствия новых практических действий, направленных на эмпирические объекты, и сознательно искать такие средства и способы воздействий, которые бы могли реализовать заложенные в объектах потенции. При этом научные знания перерабатываются параллельно в практико-методические или конструктивно-технические знания.
И вся эта работа со все большей очевидностью обнаруживает, что между практической и конструктивно-технической деятельностью, с одной стороны, и научно-исследовательской деятельностью — с другой, существуют строго определенные соответствия. Чтобы построить какую-либо практическую или конструктивно-техническую деятельность и получить в ней необходимые продукты, нужно построить и развернуть определенные научные предметы и получить в них строго определенные знания. Но, с другой стороны, всякий научный предмет и всякое знание в нем открывают строго определенные и всегда весьма ограниченные возможности для построения практических и конструктивно-технических деятельностей.
С этой точки зрения нам нужно рассмотреть некоторые частные виды научных знаний и научных предметов, важные для понимания проблемы обучения и развития.
«Технический» анализ причин и научный анализ «естественных» процессов
22. Всякая сфера практической деятельности характеризуется, с одной стороны, своим особым набором практических задач, ас другой — специальными средствами и приемами деятельности, обеспечивающими их решение. Как средства, так и приемы деятельности постепенно вырабатывались, отбирались и накапливались в ходе истории, а задачи — продукт вторичного осознания деятельности — фиксировали их отношение к возможным продуктам и материалу деятельности. В принципе наличные средства и приемы деятельности соответствовали возможным задачам, т. е. обеспечивали их решение. Но в какие-то моменты и периоды исторического развития деятельности возникало такое положение, что сложившиеся и закрепленные традицией системы практической деятельности переставали обеспечивать решение стоящих перед ними задач; и это повторялось перманентно.
Причины возникновения подобных разрывов в системе деятельности могли быть самыми различными: 1) общество могло поставить новые задачи и цели, 2) мог исчезнуть или видоизмениться материал деятельности, 3) могли погибнуть некоторые из имеющихся средств и приемов, 4) могла разрушиться система организации деятельности или стать необходимой другая организация и т. д.
В таких ситуациях необходима более или менее существенная и относительно быстрая перестройка систем деятельности. Практические деятели и техники-конструкторы начинают искать, строить и применять новые средства и приемы деятельности. Они делают это, опираясь на свою интуицию и творческую активность; но сколь бы совершенным ни было то и другое, подобный практический поиск и конструктивное творчество очень нескоро приводят к нужным результатам. Как правило, вновь изобретаемые средства и приемы деятельности, во всяком случае на первых порах, дают продукты, сильно отличающиеся от тех, которых ждут. И тогда приходится искать «причины» этого, причины расхождений между реально полученным и ожидаемым, чтобы затем устранить, элиминировать их или же так построить новые средства и действия, чтобы они преодолевали сами расхождения.
Но это значит, что в системе данного производства появляются новая функция и новый вид деятельности. Рядом с практиком и техником-конструктором встает фигура «объяснителя», который уже не воздействует на объекты производства, не преобразует их к заданному виду, а ищет и выделяет «причины», объясняющие, почему все происходит так, а не иначе.[86] Схематически эта ситуация представлена на схеме 13 (О цель — изображает то, что должно было получиться в результате практических действий, Ок — то, что реально получилось, Ои — исходный материал переработки).
Вновь возникающая объяснительная деятельность органически зависит от практической и конструктивно-технической: неудачные результаты практической деятельности создают эмпирический объект, на который направлена деятельность «объяснителя», и во многом задают линии самого объяснения. Действительно, сами по себе данные действия практика (с теми средствами, которыми он пользовался, и в тех условиях, в каких ему пришлось действовать), объективно говоря, и должны были дать тот результат, который получился. Но он разошелся с тем, что ожидал сам практик, опиравшийся на свой прошлый опыт и связанный с ним новый замысел. И естественно, что, с его субъективной точки зрения, получилось совсем не то, что должно было получиться. С точки зрения прошлого опыта и замысла полученный результат является отклонением от «нормы» и должен быть объяснен как отклонение. Соответственно этому и вопрос о «причинах» ставится как вопрос о причинах получившихся отклонений, и ищутся они для того, чтобы затем в соответствии с знаниями о них можно было перестроить саму практику. Именно в этом прежде всего и проявляется зависимость «объяснительной» деятельности от практической и конструктивно-технической.
Определяемое таким образом понятие причины и установка на последующую перестройку практики очерчивают область и направление объяснительного анализа. Расхождение реально полученных результатов практической деятельности с прошлым опытом и замыслом может быть объяснено либо тем, что в данном случае использовался другой исходный объект, либо же тем, что при этом были новые условия и новые внешние воздействия, исказившие результаты практической деятельности. Эти два возможных направления поиска причин отклонений от «нормы» задают и две основные линии познавательного анализа.
В первом случае объект преобразований новой практической ситуации сопоставляют с тем объектом, который раньше использовался в аналогичных ситуациях, выявляют его особенные, отличительные свойства и в них начинают видеть причину получившихся расхождений.
Схематически задаваемая таким образом область анализа представлена на схеме 14. Фигурные скобки у объектов обозначают на ней познавательные сопоставления, (ABCD) — знание, фиксирующее расхождение между ожидаемым и полученным результатом, (αβγ) — знание об отличительных свойствах объекта Ои сравнительно с объектом Ок из прошлых ситуаций.
Во втором случае при поиске причин полученного результата ищут и описывают (в отношении к каким-либо эталонам) те условия и факторы, действие которых в новой практической ситуации вызвало необычное изменение исходного объекта. Схематически задаваемая таким образом область анализа представлена на схеме 15. Р и Q на ней изображают условия нового и, соответственно, старого практического преобразования, (s) — знание о различии между ними, которое трактуется как причина того, что вместо 02 получилось Ок.[87]
Важно отметить, что на этом этапе «объяснительного» анализа преобразующие действия человека не включаются в область «причин» получившегося на практике отклонения от ожидаемой «нормы» и не анализируются; это понятно, так как только такая установка соответствует практическим задачам анализа: найти причину, объясняющую, почему привычные практические действия не дали желаемого результата.
Существенно также, что вся эта работа не является собственно научным исследованием и не создает еще ни научных знаний, ни предметов научного изучения. Связь причины с ее действием может быть выражена в собственно научном знании только в том случае, если она встречается достаточно часто и допускает практически значимое обобщенное представление. Но, чтобы получить такую связь причины и действия, надо поставить вопрос принципиально иначе, нежели он ставится в практике. Действительно, исходным и определяющим во всей этой работе является фиксация расхождений между реально полученным и ожидаемым. Даже тогда, когда эти расхождения становятся постоянными и повторяющимися, они все равно рассматриваются как отклонения, т. е. как что-то случайное и не связанное необходимым образом с той основой, которую мы уже зафиксировали в своем ожидании. Этому прямо соответствует понятие об условиям, воздействие которых видоизменяет результаты нашей преобразующей деятельности (схема 15); но и в тех случаях, когда причину отклонений ищут в самом преобразуемом объекте (схема 14), все равно выделяют и фиксируют лишь те свойства, которые отличают его от необходимого образца, и, следовательно, рассматривают их как дополнительные, случайно привнесенные. Можно сказать, что поиск «причин» расхождений между реально полученным и ожидаемым результатом задает особые расчленения и представления ситуаций практической деятельности и преобразуемых в ней объектов, но эти расчленения и представления таковы, что на их основе нельзя получить собственно научные, обобщенные знания и сформировать предметы научного изучения.
23. В связи с задачей получения обобщенных знаний начинается особая работа по созданию предметов научного изучения. Сначала она идет под знаком категории причины, выработанной в связи с описанным выше «техническим» анализом; ей лишь придают особый поворот. Это достигается тем, что полученные в практических преобразованиях результаты, какими бы они ни были по отношению к прошлому опыту, рассматриваются не как случайные отклонения от «нормы», а как необходимые и закономерные. Тогда «причину» нужно искать уже не для отклонений реально получаемого результата от ожидаемой «нормы», а для всего этого результата, рассматриваемого как «норма».
Но такой «причиной», как нетрудно выяснить в методологическом анализе, может быть только совокупность «природы» преобразуемого объекта, условий его преобразования и самих практических действий, осуществляющих преобразование. Именно все эти три фактора будут определять вид и характер конечного продукта преобразований.
Если таким образом определить категорию причины, то, как нетрудно заметить, все знания, вырабатываемые в соответствии с ней, потеряют свой практический смысл. Действительно, в ситуации «технического анализа» причины отклонений надо было выделять и анализировать для того, чтобы затем в соответствии с полученным знанием перестраивать ту (строго определенную) систему практических действий, которая дала неожиданные результаты. А для чего вырабатываются знания о «причинах» здесь? Ведь они соотнесены с результатами, которые уже есть, считаются необходимыми и могут быть получены вновь теми же средствами и приемами. В этом плане все подобные знания лишь повторяют то, что уже зафиксировано один раз в «опыте» и навыках практической деятельности, и не имеют никакого значения ни для нее самой, ни для ее перестройки. Попросту говоря, если мы уже получили и получаем в практике то, что нам нужно, то зачем еще знать, благодаря чему это получается! Во всяком случае, если такие знания и могли бы иметь какое-либо значение для практики и конструктивно-технической деятельности, то не для тех, которые мы описывали выше.
К тому же оказывается, что, как правило, не удается и вообще нельзя построить систему знаний о конкретных случаях, которая соответствовала бы структуре заданной по-новому категории причины. Действительно, выше уже говорилось, что характер и вид полученного в практическом преобразовании продукта определяется тремя группами очень неоднородных и неравнозначных факторов: 1) «природой» самого преобразуемого объекта, 2) внешними условиями преобразования и 3) практическими действиями человека (схема 16). Все они должны войти в область объектов, описываемую теоретически в соответствии со структурой категории причины. При этом, так как эти факторы очень разнородны и по-разному участвуют в образовании продукта Ок, каждый из них должен быть выделен и проанализирован отдельно от других; продуктом этого анализа должны быть обобщенные знания о каждом факторе и его действии. Затем действия всех трех факторов должны быть как-то суммированы, а знания о них — объединены в одно сложное теоретическое знание. Именно этого требует задача собственно научного описания сложных объектов. Однако ни анализ подобного объекта по отдельным составляющим, ни тем более синтез частичных знаний, относящихся к его разным составляющим, не могут быть сейчас осуществлены.
Так, условия преобразований — и это можно считать принципом — не могут быть выделены во всей их полноте. Поэтому обычно фиксируют отличия конечного состояния объекта от исходного состояния и ищут причину появления этих отличий. Но она, очевидно, опять-таки заключена не только во внешних условиях, но также в действиях человека и «природе» объекта. Единственным средством отделения условий от других составляющих причины оказывается метод варьирования. Но тогда условия, уже по способу своего задания, выступают как то, что случайно и постоянно меняется, как что-то связанное с преобразованием внешним образом; само преобразование, заданное исходным состоянием объекта, в противоположность этому выступает как постоянное и остающееся неизменным при всех вариациях условий. Но такое противопоставление с самого начала делает невозможной фиксацию действия условий в общем научном знании; оно может быть учтено лишь как модифицирующее основную связь перехода от Ои к Ок, но и этот учет в подавляющем большинстве случаев наталкивается на такие трудности, которые до сих пор не преодолены [1964а*; Гуковский, 1947; Зиновьев, 1954; Beck, 1907].
Еще более сложно обстоит дело с анализом практических действий людей и влияния их на «природу» объектов. До самого последнего времени вообще не ставилась задача изучения их как особых «естественных» структур, подчиняющихся объективным законам, и не было выработано никаких понятий для их обобщенного научного анализа [1964 а*; 1964с*; Котарбиньский, 1963].
Единственной составляющей объекта, изображенного на схеме 16, которая могла научно анализироваться и описываться в обобщенных знаниях, была, таким образом, связь между исходным и конечным состояниями преобразуемого объекта. Употребление понятия причины здесь (несмотря на очевидную методическую несостоятельность такого подхода) привело к очень важному и плодотворному выделению самой связи между Ои и Ок в качестве особого и самостоятельного предмета изучения, позволило противопоставить ее другим связям и выделить сами объекты в качестве особого и целостного мира.[88]
Тем самым было подготовлено и обосновано выделение мира «естественных» процессов.
Само понятие «естественное» находилось в прямом противоречии с понятием причины (хотя это долгое время не осознавалось, а в полной мере не осознается и до сих пор); но не это глубокое философское противоречие, а значительно более частные моменты обусловили здесь вытеснение понятия причины: после того как выделились и стали объектом изучения «естественные» процессы, не имело уже ни теоретического, ни практического смысла характеризовать исходное состояние объекта как причину его конечного состояния. Поэтому, с одной стороны, начала сильно меняться сама категория причины, приобретая совсем иное содержание и смысл, а с другой — в научном анализе «естественного» мира стали применяться другие категории, на основе которых строились в дальнейшем основные научные предметы. Важнейшими среди них были категории процесса и развития.
24. Главными предпосылками формирования собственно научного подхода, как мы уже говорили, были два момента: 1) то, что получалось в результате преобразований, начали рассматривать как то, что должно было получаться; 2) практические действия человека вообще элиминировались из области анализа. Сначала это делалось вообще без всякого обоснования; потом им стало служить предположение, что действия человека являются не тем, что производит результат, не «причиной» его, а лишь «средством», которое разрешает проявиться внутренним «естественным» силам и причинам, заложенным в самом объекте. Но когда такое предположение появилось, то стало возможным рассматривать все формы, приобретаемые объектом в ходе преобразования его, как последовательные его состояния в едином процессе изменения. Еще стали говорить о стадиях и этапах самого процесса изменений. (Эти два выражения характеризуют два разных понимания и, если можно так выразиться, два разных видения объекта изучения; переход от первого ко второму был исключительно важным, так как дал возможность анализировать и описывать сами процессы как объекты.)
Как «естественные» изменения объекта в едином процессе, так и «естественный процесс» изменений объекта по-разному анализируются и изображаются.
Простейшая форма — изображения в виде ограниченной (как правило, небольшой) последовательности фиксированных состояний объекта, характеризуемых какими-либо его параметрами. Это могут быть качественно различные характеристики вида α, β, γ, δ… или количественно разные характеристики в рамках одного качества — α1 α 2, α 3…; последний случай называется ростом объекта. Набор подобных характеристик выступает как «норма» и нормирующая шкала процесса изменений. На этом этапе анализа еще не возникает различий между изображением процесса изменений и изображением самих меняющихся объектов: последовательность параметров выступает как образ самого процесса, а каждый отдельный параметр — как образ определенного состояния объекта.
Более сложная форма изображения возникает тогда, когда мы пытаемся найти, сконструировать какое-то регулярное правило, которым можно характеризовать развертывание всего ряда параметров. При этом мы либо «углубляемся» в сам объект, начинаем анализировать его строение и протекающие в нем «внутренние» процессы, либо же идем в чисто феноменологическом плане и пытаемся сконструировать какую-либо зависимость изменения параметров от времени (скорость) или от предшествующих значений этих же параметров (интенсивность). В обоих вариантах феноменологического анализа появляется то, что называется «законами» изменения объектов. «Законы» отнесены к процессам, а характеристики состояний объектов получаются на основе их путем особых процедур. Так возникают различия между изображениями объектов в процессе их изменения и изображениями процессов, по сути дела безотносительными к специфике и внутреннему строению самих меняющихся объектов.
Феноменологические знания, даже когда они выступают в виде законов «жизни» объектов, характеризуют и описывают лишь сферу «явления» и поэтому весьма ограниченны. Знания о строении объектов и их «внутренних» процессах более существенны, но их трудно получить, так как мы всегда здесь сталкиваемся с проблемой относительно полного и исчерпывающего очерчивания границ изучаемого объекта. При феноменологическом описании достаточно иметь набор выделенных параметров — и можно искать соответствующие обобщения, а при структурном анализе обязательно нужно достичь выделения всех элементов и связей, участвующих в рассматриваемом «внутреннем» процессе (ср. [1966 b*]), и это всегда является очень тяжелым делом. Поэтому в практике исследований предпочтение нередко отдают феноменологическим знаниям.
Еще более сложными становятся изображения процессов изменения, когда, исходя из структурных представлений объектов и протекающих в них внутренних процессов, начинают анализировать механизмы «жизни» объектов, вводят понятия о функционировании и развитии, а затем на основе этого строят модели функционирующих и развивающихся объектов.
На этом этапе анализа различие и противоположность изображений меняющихся объектов и самих процессов изменения вновь снимается: феноменологические законы изменений объектов выводятся из их структурных моделей и объясняются.
Перечисленные здесь формы надо рассматривать не просто как рядоположенные; они характеризуют последовательность развития и углубления знаний о «естественных» процессах, которую проходят, по-видимому, все науки до того, как начинаются обоснование и синтез их в рамках теории деятельности.
25. Этот же путь целиком проходит и психология, когда она вырабатывает и развертывает понятие о психическом развитии детей.
Чтобы показать это на конкретном историческом материале, нужно рассмотреть:
1) первые этапы становления представлений о «естественном» развитии ребенка и его разнообразных психических качеств в педагогике и психологии;
2) дальнейшее имманентное развитие сложившегося таким образом предмета изучения в рамках психологической науки;
3) воздействия педагогической практики на развертывание психологических представлений о развитии ребенка, а также возможные формы использования психологических знаний о развитии в педагогической практике;
4) теоретические затруднения в «психологии развития», возникающие в связи с соотнесением ее представлений с представлениями других наук — биологии, логики и, главное, социологии, в связи с попытками связать их все в рамках единого представления о человеке [1964 с*, 1964 c*; 1966 b*; Непомнящая, 1964];
5) теоретические затруднения в использовании самого понятия развития в применении, с одной стороны, к человеку и человечеству, а с другой — к таким абстрактным объектам, как «познание», «психика», «способности», «личность» и т. п. [1963 b; 1964 f; 1966 b*; Непомнящая, 1964, 1965];
6) становление «культурно-исторической» концепции в психологии и связанное с этим появление «педагогической психологии» с ее особым объектом, несводимым уже к человеку как таковому или его отдельным качествам;
7) возникший благодаря этому разрыв между новыми онтологическими представлениями о человеке и его развитии в условиях обучения, с одной стороны, и прежними генетическими приемами и методами исследования процессов развития — с другой [1966 b*; 1964 е, f; Непомнящая, 1964].
Проведенный таким образом историко-критический анализ проблемы позволит затем:
а) построить новое детализированное представление об обучении как особой сфере массовой деятельности и особом подразделении социального организма;
6) разработать методы выделения процессов развития внутри обучения с тем, чтобы их можно было исследовать как зависимые от систем обучения и воспитания (уже существующих или возможных);
в) выработать методы проектирования человека будущего общества и определения соответствующих этим проектам целей образования;
г) разработать методы проектирования новых систем обучения и воспитания, обеспечивающих оптимальные траектории движения к заданным целям образования [1966 b*; 1964 е; Непомнящая, 1964].
Два понятия системы[89]
Когда сейчас характеризуют «систему» (будь то содержание понятия или объект), говорят обычно, что это сложное единство, в котором могут быть выделены составные части, или элементы, а также схема связей и отношений между ними; иногда к этому добавляют и зависимости между связями. За этим определением мы как бы непосредственно «видим» объект, составленный из элементов и связей между ними; то, что мы «видим», и есть онтологическая картина системного подхода. Но сама эта картина снимает, как бы «свертывает» в себе все те процедуры и способы оперирования, которые мы применяем на разных уровнях познания, воспроизводящего те или иные объекты в виде «систем» [1964а*, {с. 165–170}; 1965 d]. И именно они должны быть раскрыты, если мы хотим выявить объективное содержание и логическую структуру понятия системы.
За онтологической картиной стоят по меньшей мере три группы процедур.
Первая из них включает две процедуры: разложение объекта на части и объединение частей в целое. Обычно объединение производится с помощью дополнительно вводимых связей. Благодаря связям части, выступавшие после разложения в роли простых тел, становятся элементами. С определенной точки зрения объединение частей в целое выглядит как обратная процедура по отношению к разложению целого на части, хотя то, что получается в результате объединения, очень часто не тождественно тому, что было в исходном пункте разложения [1964a*, {с. 187–193}; 1965d; Генисаретский, 1965].
Вторая группа процедур — измерение эмпирически заданного объекта и фиксация его «сторон», или свойств, в различных по своему формальному строению знаниях. После того как объект разложен на части, к полученным таким образом «простым телам» тоже могут применяться процедуры измерения, и таким образом мы будем получать, с одной стороны, характеристики целого, а с другой — характеристики его частей. Операцией, обратной измерению, будет восстановление объекта на основе знания о нем.
Третья группа процедур включает, во-первых, «погружение» элементов и объединяющей их структуры как бы внутрь целого и, во-вторых, обратную операцию «извлечения» элементов или структуры из этого целого.
Все перечисленные группы процедур должны быть соотнесены и связаны в одну согласованную и непротиворечивую систему, снятую в элементно-структурном онтологическом представлении системного объекта (наподобие того, как сняты в числовом ряду операции сложения — вычитания, умножения — деления, возведения в степень — извлечения корня в арифметике). Но этого до сих пор не удалось сделать, и поэтому появилось большое число методологических затруднений и парадоксов.
Многие из них хорошо известны: это прежде всего парадокс совпадения — несовпадения простого тела и элемента, зафиксированный в химии еще Д. И. Менделеевым, парадокс материальности — нематериальности связей и структур.
Когда А. Лавуазье разлагал химические вещества на «элементы» (в его понимании), а потом из «элементов» получал «соединения», то он трактовал свои процедуры как имитацию в деятельности исследователя того, что обычно делает «природа». Но это обязывало в конце концов описать в такой же естественнонаучной манере все, что происходит или может происходить с системами и в системах химических соединений, всю их «жизнь». И это «естественнонаучное», или «натуральное», описание процессов в системах должно было вытекать из их элементно-структурных представлений, полученных на основе разложения — объединения объектов. Но именно эту задачу установления формальных соответствий между процессами в целостном объекте и процессами в его частях, соответствий, дающих возможность искать материальную реализацию для определенных процессов или же (обратная процедура) предсказывать процессы в целом, если известна материальная организация частей, так и не удалось решить на теоретическом или методологическом уровне ни в одной области системных исследований. И это не должно вызывать удивления, ибо в тех группах процедур, которые мы описали выше в качестве стоящих за принятыми и шире всего распространенными онтологическими картинами и определениями систем, совершенно отсутствовали выявление и описание естественных процессов жизни этих систем. Отсутствуют они и во многих новейших подходах к анализу систем. Это не значит, что о процессах вообще не говорят. Нет, они всегда упоминаются как «функционирование систем», «динамика системы» и т. п., но затем подавляющее большинство исследователей сводят процессы либо к структурным, либо к параметрическим характеристикам.
Однако такое разделение и даже противопоставление, с одной стороны, «системы», взятой в ее элементно-структурном представлении, а с другой стороны, процессов, протекающих в системе, разделение, по сути дела равносильное утверждению, что система определяется ее строением, а не протекающими в ней процессами, уже не соответствует практическим и теоретическим способам работы во многих системных областях современной инженерии и науки.
Во многом появление этих новых способов работы было связано с особенностями проектировочного подхода, но затем оно распространилось и на собственно научные представления [Дубровский, Щедровицкий Л., 1971 а, с. 3–44]. Дело в том, что все классические естественные науки начинали свой анализ с четко отграниченных и материально выделенных предметов, существование и законы жизни которых, как постулировалось, не зависели от деятельности человека; считалось, что они были именно такими, какими мы их находили и видели. Затем на этих объектах развертывалась сложная система познавательных процедур (в том числе процедур измерения), с помощью которых исследователь вычленял, среди прочего, процессы, присущие этим объектам; посредством специальных знаков он описывал эти процессы и таким образом отделял от «материала» объектов, представлял как самодостаточные сущности и в конце концов делал их идеальными объектами, существующими как бы наряду с исходными материально выделенными предметами анализа. Но, как бы потом ни понимались и ни употреблялись эти представления о процессах, они всегда соответствовали материально выделенным объектам, ибо были получены из их изучения.
При проектировании идут противоположным путем. В центре внимания стоит продукт, который должна произвести машина или сложная система. Поэтому проектировщик должен получить прежде всего функцию, т. е. осуществление заданных преобразований объекта деятельности; для этого нужно знать и описать определенное функционирование системы, а материал, который будет обеспечивать это функционирование, — вторичное дело. Поэтому он начинает не с материально выделенных объектов, а с идеально заданных функций и функционирования и уже от них идет к тому или иному обеспечивающему их материалу. При этом он должен иметь это функционирование в качестве объекта своей деятельности, следовательно, должен особым образом представлять его — так, чтобы его можно было компоновать, преобразовывать и трансформировать в известных пределах независимо от материала (поскольку материал должен быть выбран потом в соответствии с полученным способом функционирования). Но это означает, что проектировщик начинает задание своего объекта с фиксации процессов в этом объекте, в первую очередь процессов функционирования, и именно эти процессы определяют границы объекта проектирования как системы, а все остальное должно быть к ним подстроено [1973с; 1969 а*; Гущин и др., 1969]. Этот специфический порядок выделения и организации объекта, сложившийся в проектировании, начинает распространяться затем на научные дисциплины, обслуживающие проектирование (а такими становятся постепенно многие из существующих ныне научных дисциплин), и приводит в конце концов к принципиальному изменению типа объектов, рассматриваемых в современной науке, а вместе с тем к изменению структуры самого научного исследования [1970; Дубровский, Щедровицкий Л… 1971 а].
Учет всех этих процессов заставляет нас сделать вывод, что современный системный подход, реально существующий и развивающийся в проектировании и в новых научных дисциплинах, уже не может основываться на традиционном понятии системы, свертывавшем в себе указанные выше процедуры измерения параметров, разложения объекта на части и погружения частей внутрь целого, что ему уже недостаточно онтологического представления «системы» в виде совокупности элементов и объединяющей их структуры, а также тех понятий «элемент», «связь», «зависимость», «структура» и др., которые обслуживали эту онтологическую картину. Современный системный подход предполагает совсем иную процедурную базу, а следовательно, также и иную онтологическую картину «системы», в которой фиксируются иные стороны ее как объекта и предмета изучения и в иных соотношениях. Соответственно этому будут иными основные категории системного подхода и само понятие системы.
Суть нового подхода можно выразить в весьма простом принципе: рассмотреть какой-либо объект в виде сложной системы — значит представить его последовательно в четырех категориальных планах — процессов какого-то одного вида, функциональной структуры, организованностей материала, морфологии, — а затем разложить план морфологии еще раз по всем указанным выше планам и продолжать эту процедуру до тех пор, пока не получится необходимое нам конкретное представление объекта. В наглядной форме содержание этого принципа представлено на схеме:[90] каждая развертка схемы в столбце представляет собой один шаг системного исследования, который задает изображение объекта в виде простой системы. Благодаря обратной процедуре свертывания второго системного представления объекта в «морфологию» первой системы морфология выступает в качестве особого слоя в простом системном представлении и организует три других плана относительно себя во второй слой.
Новое представление системы имеет ряд преимуществ сравнительно с прежним. Одно из них — это возможность без труда соединить любые процессуальные представления о системе, в том числе эволюционно-генетические, со структурными и организационными. Другое преимущество состоит в том, что без затруднений и парадоксов решается проблема взаимодействия систем; раньше всякое предположение о взаимодействии систем автоматически превращало их в элементы системы взаимодействия, теперь системы могут взаимодействовать друг с другом на уровне материала, и это никак не влияет на целостность и автономность их функциональных структур и процессов. Уже эти немногие соображения, как нам кажется, дают право говорить об эффективности нового понятия системы и сулят в дальнейшем много важных достижений, если будут затрачены силы и время на его детальную разработку.
Исходные представления и категориальные средства теории деятельности[91]
I. Первые подходы в изучении деятельности
Если оставить в стороне отдельные постановки вопросов и ориентироваться только на достаточно систематические разработки, то, наверное, можно сказать, что в философии изучение деятельности как таковой началось примерно 350 лет назад, хотя общие основания и определенная традиция в этой области шли уже от Аристотеля. Главной причиной, заставившей создавать понятие деятельности и конструировать соответствующий идеальный объект, была необходимость оправдать (сначала в объектно-онтологическом, а потом в естественнонаучном, эмпирическом плане) соотнесение и связь в мысли таких разнородных предметов, как знания, операции, вещи, смыслы, значения, цели, мотивы, сознание, знаки и т. п. — а к началу XVII в. такого рода соотнесения, как мы хорошо знаем, стали постоянным и массовым явлением. Наиболее значительный вклад в выделение деятельности в качестве особой действительности и особого предмета изучения был сделан представителями немецкой классической философии — И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллингом и Г. В. Гегелем. Однако все их разработки оставались все же по преимуществу в сфере философии и очень медленно проникали в положительные науки, даже в те, где деятельность была совершенно очевидным объектом изучения. Объясняется это в первую очередь тем, что никак не удавалось выработать средства и методы научного исследования, адекватные специфическим особенностям деятельности как объекта.
Характерный пример этого дает история языковедения, и мы очень кратко остановимся на некоторых ее моментах, чтобы пояснить и связать с эмпирией сделанное выше утверждение.
Сам принцип, что «речь-язык» есть не что иное, как деятельность, намечал уже Аристотель и очень резко формулировали В. Гумбольдт и его последователи. Они построили много рассуждений для доказательства того, что «язык» есть именно деятельность, а не что-либо другое, но при этом не показали и не могли показать, что же именно следует из этого в отношении самих методов исследования языка, в чем специфика изображения его как деятельности и какими должны быть процедуры анализа. Фактически как предмет исследования, так и процедуры анализа оставались одними и теми же независимо от того, принимали исследователи эту характеристику или отвергали ее. А поэтому обесценивался и сам принцип, он терял смысл, и многие языковеды отбрасывали его как совершенно лишнюю, чисто словесную добавку, не вносившую ничего нового в методы исследования.
Так как исходным эмпирическим материалом языковедческого анализа всегда в конечном счете являются знаковые цепочки текстов, остающиеся после актов речевой коммуникации и мышления, то принцип «язык есть деятельность» требовал от его сторонников либо того, чтобы они «нашли» деятельность в самих текстах, либо же смены эмпирического материала исследований. В истории языковедения наметились обе эти линии.
При этом попытки увидеть и выделить деятельность в текстах особым образом повлияли на само понятие деятельности: его начали сводить к представлению о «движении», или «процессе». Тогда моментом, специфическим для деятельности, оказались связи между знаковыми элементами текста; представление текста как деятельности стало равнозначно представлению его как структуры и в результате потеряло всю свою новизну и специфику.
Психологические концепции в языковедении, сложившиеся во второй половине XIX в., расширили представление о деятельности, они перестали ориентироваться на одни лишь тексты и создали ряд более сложных схем актов речевой деятельности. Соссюровская схема была высшей точкой в развитии этих представлений; от нее пошли две принципиально разные линии исследований: одна слилась или сливается с современной психолингвистикой [Леонтьев А. А., 1967, 1969; Теория… 1968], другая вернулась назад, к текстам (для этого было много оснований) и дала, в частности, современные «структурные» представления [Ельмслев, 1960].
Сопоставляя психологистическую схему акта речевой деятельности, созданную Ф. Соссюром [Соссюр, 1933], с современными схемами состава акта деятельности,[92] мы видим, что в ней были выделены, по сути дела, «средства» деятельности и вместе с тем схвачена очень важная связь между средствами и продуктами. Решающим было также отнесение системы языка к средствам деятельности. Но вместе с тем сами средства были сведены, по сути дела, к элементам продуктов-текстов (что особенно отчетливо выступило позднее у Н. С. Трубецкого [Трубецкой, 1961]). Кроме того, соединяя новую схему акта речевой деятельности с традиционными представлениями и понятиями, исследователи либо приходили к неразрешимым проблемам, либо двигались по кругу. Действительно, реальные акты речи объяснялись наличием соответствующих средств языка у индивидов, появление этих средств можно было объяснить только усвоением их, а это в свою очередь влекло за собой вопрос: где же и в чем существуют эти средства как содержания усвоения. Если отвечали, что они существуют в речевых текстах, т. е. в продуктах деятельности, то круг замыкался; а если признавали существование системы языка помимо и вне продуктов речевой деятельности, то вставала проблема объяснить ее объективное существование, а это не удавалось сделать из-за отсутствия правильной социологической (или культурно-исторической) точки зрения [1967 а, е].
Таким образом, введение акта речевой деятельности привело языковедение к индивиду, а учет индивида — к психолингвистике. Но все это из-за отсутствия средств и методов синтеза индивидуально-психологических и логико-социологических планов исследования в свою очередь привело к отрицанию исторической точки зрения. Лингвисты первой четверти XX в. заново повторяли ход рассуждений И. Канта.
Л. Ельмслев сменил психологистическую точку зрения на эпистемологическую. Объектом языковедческого анализа вновь был объявлен не акт речи, а знаковый текст. При таком подходе система языка выступала как конструкт [Ельмслев, 1960]. Таким образом, к решению проблемы зашли с другой стороны. Это было своевременным и важным. Но в этом повороте было утеряно многое из того, чего достигло языкознание ко времени Соссюра, и в частности взгляд на язык как на деятельность. Это сделало позицию структурализма крайне односторонней, а многие важные проблемы изучения языка неразрешимыми.
Одна из таких проблем — двойное существование «языка». Водном плане он выступает как средство построения деятельности, как психическое достояние индивидов, как их готовность к действиям. В другом плане язык выступает как знание о речевых текстах, как эпистемологический конструкт. Основной вопрос, возникающий здесь: как возможно совмещение этих двух определений языка? Но во всех дискуссиях, которые уже давно ведутся вокруг этого вопроса лингвистами, не намечается никаких удовлетворительных решений (см., в частности, [О соотношении… 1960]). И мы бы сказали, что такие решения и не могут быть найдены, пока мы не обратимся к исследованию речи-языка как деятельности. На наш взгляд, именно идея деятельности и логико-социологический анализ механизмов развития деятельности в человеческом обществе, с одной стороны, логико-психологический анализ структуры осуществления ее индивидами, с другой, дают возможность совместить эти определения и объяснить правильность каждого. Вместе с тем, эта линия исследований дает разрешение многим из тех парадоксов, которые накопились к настоящему времени в языкознании и близких к нему науках; в частности, парадоксам взаимоотношения языка и мышления, парадоксам развития речи-языка и др. [1957 а*; 1966 d; 1967 е].
Но исследование речи-языка как деятельности предполагает полную переориентацию и перестройку самих лингвистических исследований (их онтологических и категориальных оснований, логики рассуждений и процедур эмпирических измерений) — дело, на которое лингвистам не так-то легко решиться.
Злоключения лингвистики вокруг понятия деятельности — история, типичная для всех «академических» гуманитарных и социальных наук, так или иначе сталкивающихся с этой проблемой.[93] И это дает нам право утверждать, что деятельность не изучалась совсем или изучалась крайне мало и неудачно в гуманитарных и социальных науках прежде всего потому, что этим наукам не удавалось выработать средства и методы исследования, соответствующие природе и строению деятельности.
Новая линия поисков и попыток в этой области была привнесена техническими и математическими дисциплинами в последние 30 лет, когда в области инженерного проектирования возникла по-настоящему острая потребность иметь представление о деятельности. Первые систематические разработки в этой области были стимулированы экономическими и военными потребностями в период Второй мировой войны. Чтобы обеспечить организацию перевозок военных грузов через Атлантику, были созданы и систематизированы методы «исследований операций» [Морз, Кимбелл, 1956; Черчмен и др., 1967]. Для наилучшей и более эффективной организации промышленного производства разрабатывались различные методические варианты этой дисциплины — системы «Перт», «Паттерн», «Форкаст» и др. [Наука — … 1966]; в дальнейшем они вылились в ряд относительно самостоятельных дисциплин, называемых «анализом решений», «анализом систем», «системным планированием» и т. д. [Квейд, 1969; Оптнер, 1969; Акофф, 1972; Ansoff, Brandenburg, 1967]. При проектировании больших информационных и управляющих систем сложилась «системотехника» [Гуд, Макол, 1962; Гослинг, 1964; Честнат, 1969; Диксон, 1969; Holl, 1962; Gosling, 1962], которая в дальнейшем переросла в методологию и теорию системного и инженерно-психологического проектирования [1969а *; 1971 b; 1973 с; Гущин и др., 1969; Дубровский, 1969; Дубровский, Щедровицкий Л., 1970 а, b, 1971 а].
Можно было бы назвать и ряд других дисциплин, объединяемых общей ориентацией на изучение деятельности. Но все они берут деятельность с каких-то частных, не самых важных и не самых существенных сторон. Поэтому естественно, что параллельно всем собственно научным, инженерным и математическим разработкам такого рода возникло и сейчас все более усиливается движение за разработку Общей Теории Деятельности.
Еще в конце 20-х гг. нашего столетия польский философ и социолог Т. Котарбиньский изложил исходные идеи или даже основы специальной науки о деятельности — «праксеологии». С тех пор она непрерывно развивается, нашла многих последователей, а в последнее время нередко используется в Польше в качестве методологического основания гуманитарных и социальных наук [Котарбиньский, 1963; Греневский, 1964; Prakseologia, 1966; Zieleniewsky, 1971].
Другая линия обобщенных исследований деятельности развернулась в это время в рамках социологии.
В самом начале столетия М. Вебер, пытаясь определить предмет социологии, ввел понятие о социальном действии, которое он отделял от действия, направленного на неодушевленные объекты [Weber, 1964, 1947], а Дж. Мид в своих лекциях в Гарвардском университете разработал понятие об акте деятельности и рассматривал в свете него все познавательные, психические и социальные феномены [Mead, 1945].
Объединяя эти две традиции, Т. Парсонс в 30-е гг. построил аналитическую теорию социального действия [Parsons, 1937]. И хотя как у М. Вебера и Дж. Мида, так и у самого Т. Парсонса понятие действия или акта учитывало в первую очередь явления и особенности поведения отдельных людей (и в этом плане недалеко ушло от традиционных представлений психологистического бихевиоризма), тем не менее в нем содержались уже отчетливые методологические установки и фиксировались такие элементы человеческого действия — нормы культуры, ценности, институциональные ориентации и т. п., которые разрывали не только узкие рамки бихевиоризма, но и рамки всех наук, ограничивающих себя изучением людей как таковых и их объединений [Parsons, 1937, 1961 b].
Уже в этот ранний период Т. Парсонс говорил не только о структуре социального действия, но и об общей теории действия, которая, по его мысли, должна была стать методологическим и теоретическим основанием всех гуманитарных и социальных наук [Parsons, 1937, 1949, 1964 b]. В дальнейшем эта тема получила существенное развитие и стала чуть ли не главной для самого Т. Парсонса и некоторых его последователей. В 1951 г. группа исследователей разных специальностей, объединенных Парсонсом, выпустила книгу с весьма характерным названием — «В направлении общей теории действия» [Toward… 1951], где пыталась раскрыть методологические функции теории действия по отношению к психологии, культурантропологии, аксиологии и другим социально-духовным дисциплинам. Эта работа была продолжена позднее в целой серии исследований, выполненных самим Т. Парсонсом и связанными с ним коллективами ученых [Parsons et. al. 1953; Parsons, 1959, 1961 а, 1964 b; Parsons, Bales, 1955; Parsons, Smelser, 1956; Парсонс, 1968].
Параллельно этому движению в социологии и, может быть, под известным его влиянием в конце 40-х гг. специальный Исследовательский комитет Фонда Форда разработал программу развития «бихевиоральных наук» (сам термин «бихевиоральные науки» противопоставлялся при этом как «социальным наукам», так и традиционному «бихевиоризму») [Ford… 1949; Behavioral… 1953; Berelson, 1968]. Программа рассматривалась как 1) исследовательская, а не практическая, 2) научная, а не философская, 3) междисциплинарная, 4) рассчитанная на весьма длительное время. В 1952 г. был создан Центр исследований по бихевиоральным наукам [Berelson, Steiner, 1964, The behavioral… 1964]. Несколько позднее (частично вокруг этого Центра, а также независимо) возникли специальные междисциплинарные журналы: «American behavioral scientist». Princeton (издается с 1958 г.); «Behavioral science». Baltimore (издается с 1965 г.); «Journal of applied behavioral science». N. Y. (издается с 1965 г.); «Journal of the history of the behavioral sciences». Brandon (издается с 1965 г.); «Behavioral sciences notes». New Haven (издается с 1966 г.). В 1957 г. Центр опубликовал окончательный вариант Программы исследований [Berelson, 1968; Berelson, Steiner, 1964; Miller, 1955; The planning… 1961; Unfinished… 1964]. Главной целью было объявлено объединение всех дисциплин и направлений, связанных с анализом деятельности, в единую систему бихевиоральных наук. В конечном счете эта система наук должна связать между собой инженерные разработки такого типа, как «системотехника» (один полюс), математические разработки такого типа, как «исследование операций» (второй полюс), и такие традиционно-гуманитарные и социальные науки, как этнопсихология, этнолингвистика, антропология, теория культуры и теория человеческих взаимоотношений (третий полюс).
Таким образом, речь идет о создании принципиально новых обобщений, о перестройке и трансформации многих традиционных и недавно сложившихся наук, об установлении новых «мостов» между естественными науками, математикой, инженерией и социологией, о дополнении многих областей «технического искусства» соответствующими областями науки.
В Советском Союзе Общая Теория Деятельности разрабатывается исследователями, объединившимися в 1958 г. вокруг Комиссии по психологии мышления и логике Всесоюзного общества психологов, а с 1962 г. — вокруг семинара «Структуры и системы в науке и технике» философской секции Совета по кибернетике АН СССР [Спиркин, Сазонов, 1964].
Работая в разных философских и научных традициях, используя разные онтологические картины и категории, все эти исследователи стремятся в общем и целом к одному — к тому, чтобы «схватить» и изобразить в моделях специфические свойства и признаки деятельности, найти конструктивные и проектные методы развертывания ее структур. Но пока важнейшие результаты и выводы касаются не столько самого объекта, сколько наших средств и методов исследования.
Сейчас уже стало ясно, что все отмеченные выше затруднения языковедения в анализе природы «речи-языка» (как и затруднения других наук в анализе иных, но тоже связанных с деятельностью предметов) были лишь отражением более общих трудностей, с которыми столкнулось человеческое мышление, когда оно попыталось проникнуть в тайны деятельности. Точно так же мы уже понимаем сейчас, что все многочисленные попытки выявить и описать специфику деятельности заканчивались до сих пор неудачно в первую очередь из-за того, что к ней подходили с неправильными мерками (ср. [1968 а; 1971 h]).
Предшествующее развитие естественных наук дало нам несколько хорошо разработанных категорий. Среди них самыми привычными и распространенными были категории «вещи», «свойства» и «процесса». Когда начали изучать деятельность, то прежде всего — и это было совершенно естественно — постарались применить именно эти категории. Но результатом было лишь множество парадоксов и затруднений разного рода.
Например, «вещь» всегда локализована в определенном месте. А где локализована деятельность? До сих пор все попытки найти ей место где-то вокруг человека или в человеке заканчивались неудачами. В конце концов они заставили поставить вопрос: а имеет ли вообще деятельность локализацию в таком же смысле, как ее имеют «вещи»?
«Вещь» состоит из частей и в каждый момент времени представлена всеми своими частями; с этой точки зрения она совершенно однородна. А из каких частей состоит деятельность и можно ли эти части пространственно суммировать в одно целое? До сих пор ответ получался только отрицательным, и это привело к утверждениям, что деятельность есть «процесс».
Но и такое решение оказалось неудовлетворительным. Мы говорим о «процессе», когда рассматриваем изменение какого-либо объекта и можем выразить его в последовательности «состояний» объекта. Это значит, что каждая характеристика в этой последовательности относится к объекту в целом, а между собой они еще, кроме того, связаны особым отношением «во времени» (схема 1). Это означает также, что в каждом состоянии объект представлен одновременно и в целом, и как бы одной своей частью; эти части могут особым образом собираться в целое, что в свою очередь, дает основание для того, чтобы по определенной, уже отработанной человечеством логике связывать между собой характеристики различных состояний объекта, находить «законы изменения» его и выражать их в функциональных зависимостях разного рода.[94]
Эта логика оказалась неприменимой к деятельности. Постоянное превращение «сукцессивного», т. е. развернутого и протекающего во времени, процесса, в «симультанное», т. е. происходящее в полной своей структуре одномоментно, — факт, давно зафиксированный в самых разных исследованиях психической деятельности человека. Он привел исследователей к мысли, что в так называемом сукцессивном процессе в каждый момент времени осуществляется не вся структура изучаемого целого, а только часть ее, причем в различные моменты времени — функционально разные части. Деятельность, взятая в своей минимальной объективной целостности, выступила как «размытая» во времени: разные ее части и элементы реализуются в разное время, и вместе с тем между ними существуют такие связи и зависимости, которые (благодаря каким-то специфическим механизмам) действуют все это время и объединяют все элементы в одну целостную структуру, чего не было в процессах изменения элементарных объектов. В самом абстрактном виде это представление изображено на схеме 2. (Ниже штрихпунктирной черты на ней представлена та картина, которая получается, когда мы рассматриваем реализацию изучаемого объекта как «процесса», не учитывая функциональных связей и зависимостей между нумерованными элементами. Выше штрихпунктирной черты изображен сам объект с теми функциональными связями и зависимостями (двойные черточки), которые существуют между его элементами.)
Сравнение этих двух изображений помогает понять, почему на основе категории «процесс» никогда не удавалось объяснить, каким образом человек действует, как он использует свои прошлые продукты в качестве средств новой деятельности, как он объединяет в одной актуальной структуре «прошлое», «настоящее» и «будущее».[95]
Все эти, а также многие другие парадоксы и затруднения, которые мы здесь не можем обсуждать, привели постепенно к пониманию того, что деятельность является объектом совершенно особого категориального типа, объектом, к которому нельзя применять ни логику «вещи-свойства», ни логику «процесса». В какой-то момент человечество оказалось в положения, описанном Ст. Лемом в «Солярисе»: оно не только не знало, что такое деятельность, но и не знало, какими средствами это можно узнать.
II. Исходное фундаментальное представление: деятельность — система
Решение указанной выше методологической проблемы, как это и бывает обычно, выкристаллизовывалось постепенно, приходя с разных сторон и накапливаясь маленькими «кусочками».
Обсуждение проблемы локализации деятельности заострилось на более узком вопросе: как относится «деятельность» к отдельному человеку?
По традиции, поскольку само понятие деятельности формировалось из понятия «поведение», деятельность как таковую в большинстве случаев рассматривали как атрибут отдельного человека, как то, что им производится, создается и осуществляется, а сам человек в соответствии с этим выступал как «деятель». И до сих пор большинство исследователей — психологов, логиков и даже социологов, не говоря уже о физиках, химиках и биологах, — думают точно так; само предположение, что вопрос может ставиться как-то иначе, например, что деятельность носит безличный характер, кажется им диким и несуразным.
Но есть совершенно иная точка зрения. Работы Гегеля и Маркса утвердили рядом с традиционным пониманием деятельности другое, значительно более глубокое: согласно ему человеческая социальная деятельность должна рассматриваться не как атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность, значительно более широкая, чем сами «люди». Не отдельные индивиды тогда создают и производят деятельность, а наоборот: она сама «захватывает» их и заставляет «вести» себя определенным образом. По отношению к частной форме деятельности — речи-языку — В. Гумбольдт выразил сходную мысль так: не люди овладевают языком, а язык овладевает людьми.
Каждый человек, когда он рождается, сталкивается с уже сложившейся и непрерывно осуществляющейся вокруг него и рядом с ним деятельностью. Можно сказать, что универсум социальной человеческой деятельности сначала противостоит каждому ребенку: чтобы стать действительным человеком, ребенок должен «прикрепиться» к системе человеческой деятельности, это значит — овладеть определенными видами деятельности, научиться осуществлять их в кооперации с другими людьми. И только в меру овладения частями человеческой социальной деятельности ребенок становится человеком и личностью [1966 а*; 1968 а; 1970].
При таком подходе, очевидно, универсум социальной деятельности не может уже рассматриваться как принадлежащий людям в качестве их атрибута или достояния, даже если мы берем людей в больших массах и организациях. Наоборот, сами люди оказываются принадлежащими к деятельности, включенными в нее либо в качестве материала, либо в качестве элементов наряду с машинами, вещами, знаками, социальными организациями и т. п. Деятельность, рассматриваемая таким образом, оказывается системой с многочисленными и весьма разнообразными функциональными и материальными компонентами и связями между ними.
Каждый из этих компонентов имеет свое относительно самостоятельное «движение» и связан с другими компонентами того же типа: люди — с людьми, машины — с машинами, знаки — со знаками. Вместе с тем каждый компонент связан с компонентами других типов, и в связи друг с другом они образуют множество структур разного вида и сорта.
Таким образом, система человеческой социальной деятельности оказывается полиструктурой, т. е. состоит из многих как бы наложенных друг на друга структур, а каждая из них в свою очередь состоит из многих частных структур, находящихся в иерархических отношениях друг с другом.
Компоненты разного типа, связанные в единство системой деятельности, подчиняются разным группам законов и живут каждый в своем особом процессе. Вместе с тем эти компоненты и процессы их изменения связаны в единство общей системой целостной деятельности. Поэтому можно сказать, что деятельность есть неоднородная полиструктура, объединяющая много разных и разнонаправленных процессов, протекающих с разным темпом и, по сути дела, в разное время (графически это можно представить, развертывая дальше структурную схему, введенную выше, и фиксируя различные виды связей и зависимостей между элементами разными линиями).
Введенные таким образом категории системы и полиструктуры определяют методы изучения как деятельности вообще, так и любых конкретных видов деятельности.
В частности, в зависимости от целей и задач исследования мы можем выделять в деятельности в качестве относительно целостных и самостоятельных объектов изучения разные структуры, представлять их в виде самостоятельных систем и тогда будут получаться качественно разные представления деятельности. Это значит, что Теория Деятельности будет объединять целый ряд различных научных предметов и каждый из них будет характеризоваться своими особыми «единицами» деятельности.[96]
Например, можно взять в качестве единицы деятельности весь социальный организм в целом и представить его в виде довольно простых структур, соответствующих основным механизмам его жизни (в частности, механизму воспроизводства), и считать объект, заданный этой структурой, полной и самодостаточной системой. Для многих задач такое представление деятельности будет исходным и основным в теоретическом развертывании моделей деятельности; объекты, заданные такими моделями, мы называем «массовой деятельностью» [1966 а *; 1967 а; 1967a*; 1968 а; 1970].
В рамках массовой деятельности можно выделить другие, более частные системы деятельности, изображающие различные фрагменты или части социального организма, например, сферы производства, обучения, науки, проектированиям т. п. [1966а*; 1967a, d, g*; 1968а; 1969 b; 1970 а; Дизайн… 1967].
Но точно так же можно взять в качестве единицы и системы ту деятельность, посредством которой решаются отдельные частные задачи. Это будет представление деятельности, взятое как бы в другом «повороте» и на другом уровне структурности; мы называем такие представления «актами деятельности».
Среди этих «частных» изображений деятельности есть такие, в которых деятельность или ее отдельные элементы и подсистемы рассматриваются как зафиксированные, с одной стороны, в виде вещественных и знаковых средств, которые нужно усвоить, а с другой стороны — в виде норм тех процедур, которые нужно выполнить, чтобы получить определенные продукты, и в этом плане — как противопоставленные или противостоящие каждому отдельному индивиду. Подобные изображения того, что каждый человек должен делать, чтобы быть членом социальной системы, мы называем обычно «нормативными» изображениями деятельности [1962с; 1965 с; 1964 с*; Пантина, 1966; Розин, 1968; Непомнящая, 1968; Москаева, 1968; Алексеев Н., 1968; Генисаретский, 1967].
Наконец, есть совсем абстрактные, собственно методические представления деятельности в виде набора блоков. Самое простое из них имеет вид, представленный на схеме 3, но чаще употребляются более сложные схемы с большим числом различных блоков. Все они выступают в роли «разборных ящиков», помогающих выделять основные элементы как в своей собственной деятельности, так и в деятельности других людей.
Каждый из этих способов изображения деятельности имеет свою область практических и методологических приложений, каждый задает особую группу моделей и схем, которые ложатся в основание тех или иных описательных или оперативных систем знания.
Конечно, ответ на вопрос о том, какие схемы и модели деятельности вообще возможны и какие из них дают адекватное представление о деятельности как действительности совсем особого рода, будет получен лишь в ходе будущего многолетнего развития Теории Деятельности и всех опирающихся на нее дисциплин. Но уже сейчас можно отметить два существенных момента, характеризующих эти схемы. Один из них состоит в том, что схемы деятельности благодаря неоднородности своих элементов и полиструктурному характеру обладают значительно большими оперативными возможностями, чем любые другие схемы и модели из уже существующих естественнонаучных теорий. В принципе они таковы — и это соответствует реальному положению человеческой деятельности, — что позволяют описывать и объяснять с определенной стороны все, что встречается и может встретиться в нашем опыте. При этом то, что мы называем «деятельностью», выступает, с одной стороны, как предельно широкая, по сути дела универсальная, конструктивная или оперативная система, из единиц которой можно строить модели любых социальных явлений и процессов, а с другой стороны (при соответствующей интерпретации) — как «субстанция» особого типа, подчиняющаяся специфическим естественным законам функционирования и развития.
Благодаря этому схемы деятельности, когда они соотносятся с другими схемами, изображающими какие-либо социальные процессы, отношения и связи, могут трактоваться как изображения механизмов этих процессов и связей (при этом всякая единица деятельности имеет, конечно, свою собственную систему, включающую разнообразные элементы и связи между ними). Тогда утверждение, что та или иная единица деятельности выступает как механизм, осуществляющий или производящий какую-то другую структуру, означает, что мы каким-то образом соотносим эти две структуры и устанавливаем между ними определенное отношение соответствия (заметим, забегая несколько вперед, что это методологическое положение играет решающую роль в анализе основного социального отношения «норма — реализация»).
Второй важный момент состоит в том, что уже существующие схемы и модели деятельности позволяют рационально и сравнительно просто объяснять такие соотношения между разными элементами нашего мира, которые до самого последнего времени вызывали одно лишь удивление и казались до крайности парадоксальными (эти моменты мы будем обсуждать в следующих разделах этого приложения).
III. Категории и научный предмет
Называя деятельность системой и полиструктурой, мы стремимся задать «категориальное лицо» научных предметов, в которых она, по предположению, может быть схвачена и адекватно описана. Это определение, следовательно, нельзя понимать непосредственно объектно: говоря, что деятельность есть система, мы характеризуем в первую очередь наши собственные способы анализа и изображения деятельности, но при этом хотим, чтобы они соответствовали изучаемому объекту; таким образом, категориальное определение все же относится к объекту, но опосредованно — через научный предмет.[97] Поэтому подлинное содержание всякого категориального определения раскрывается по основным характеристикам научного предмета; эти же характеристики задают «шаблон», по которому мы можем сравнивать друг с другом разные категориальные определения.
Современные исследования по методологии показали, что наука в целом и любые ее относительно самостоятельные подсистемы не могут быть сведены к одной-единственной эпистемологической единице, которую раньше было принято называть «знанием». Сегодня мы знаем по крайней мере восемь типов эпистемологических единиц и еще несколько сложных инфра- или суперединиц, объединяющих исходные единицы.
В число эпистемологических единиц первого уровня входят: 1) «факты», называемые также единицами эмпирического материала; 2) «средства выражения» (весьма условное название, используемое за отсутствием другого, более подходящего), среди которых окажутся «языки» разного типа (описываемые в методологии и логике), оперативные системы математики, системы понятий, заимствованные из других наук или созданные специально в качестве средств в рамках этой же науки, представления и понятия из общей методологии и т. п.; 3) методические предписания или системы методик, фиксирующие процедуры научно-исследовательской работы; 4) онтологические схемы, изображающие идеальную действительность изучения; 5) модели, репрезентирующие частные объекты исследования; 6) знания, объединяемые в систему теории; 7) проблемы и 8) задачи научного исследования.
Сейчас принято, изображая эти единицы в рамках одной эпистемологической системы, более точно — того, что называется «научным предметом», зарисовывать их в виде блок-схемы, особым образом изображающей состав, а иногда и функциональную структуру этого целого.[98] В _ одном из возможных вариантов состав научного предмета представлен на схеме 4.[99]
Любая достаточно развитая наука может быть представлена в таком наборе блоков. Если эта наука уже сложилась, то блок-схема будет служить изображением существующих в ней предметов, а если она, подобно теории деятельности, еще только складывается, то выражением конструктивных требований к ее будущим предметам, или их проектом.
В зависимости от задач исследования и, естественно, способов употребления самой схемы на нее будут накладываться «сети» из различных связей и отношений, а параллельно этому в плоскости теоретического описания науки будет строиться фиксированная иерархия разных системных представлений.[100]
Основная трудность, возникающая при решении этой задачи, связана с тем, что между всеми блоками, входящими в систему научного предмета, существуют отношения и связи рефлексивного отображения.[101]
Средства для распутывания этих отношений и связей дает анализ процедур и механизмов научно-исследовательской деятельности, отображаемых на этой блок-схеме в виде процессов функционирования и развития научного предмета. В зависимости от того, какой процесс мы выделяем, блок-схема и стоящий за ней предмет выступают либо в виде искусственно преобразуемого объекта, либо в виде естественно меняющегося целого, либо в виде «машины», перерабатывающей некоторый материал. Например, если мы выделим из системы научного предмета блоки «эмпирический материал» и «теоретические знания» и будем считать, что цель и назначение науки состоит в переводе «фактов» в форму «теоретического знания», то вся система научного предмета выступит в виде «машины», осуществляющей эту переработку [Розин, Москаева, 1967; Розин, 1967 а, с; Самсонова, Воронина, 1967]. Но точно таким же образом мы сможем выделить задачи конструирования или преобразования в соответствии с «фактами», поступающими в блок эмпирического материала, блоков «модели», «методики», «онтология», «средства выражения». Тогда внутри системы научного предмета мы должны будем выделить еще несколько «машин», осуществляющих эти конструирования и преобразования.
Особое место в системе научного предмета занимают «проблемы» и «задачи»; они фиксируют отношения несоответствия между наполнениями других блоков системы науки и определяют общий характер и направление процессов научно-исследовательской деятельности, перестраивающих эти наполнения.
Кроме того, каждый научный предмет существует и изменяется в широком окружении других научных предметов: математики, общей методологии и философии [Розин, 1967 с; Москаева, 1967; Симоненко, 1967]. Из этого окружения он может получать эмпирический материал, онтологические представления и схемы, а также средства выражения для содержаний, образующих наполнение всех блоков. Некоторые из элементов этого окружения, например философия и методология (но не математика!), управляют функционированием и развитием научных предметов;[102] в частности, определяющим для всех научных предметов является изменение и развитие категорий мышления, осуществляемое в рамках и средствами философии и методологии.
Системы, образующие наполнения всех блоков научного предмета, построены в соответствии с определенными категориями; можно сказать, что категории задают строение систем наполнения, а также управляют всеми мыслительными движениями внутри них и переходами от одних систем к другим в рамках общей структуры научного предмета. Поэтому всякое принципиальное изменение в способах фиксации и описания какого-либо объекта средствами науки означает вместе с тем изменение аппарата категорий, характеризующих наше мышление; и наоборот — смена основных категорий, определяющих уровень и способы нашего мышления, должна привести и приводит к перестройке наполнений всех блоков научного предмета.
Соответственно этому переход к новым категориям, адекватным такому объекту, каким является деятельность (в частности, к категориям системного подхода), должен привести к изменениям и перестройке всех традиционных типов структур и организованностей во всех блоках научного предмета — задать иную логическую структуру знаниям, моделям, онтологии, методикам (или методам) и даже проблемам и задачам.
Проследить эти изменения по всем блокам научного предмета, описывающего пусть даже какой-то один, обобщенный объект, — очень сложная и трудоемкая работа, никак не укладывающаяся в рамки одного исследования, каким бы объемным оно ни было. Поэтому обычно, когда проводят анализ какого-то определенного научного предмета или строят методологическую план-карту предстоящих научных исследований, ограничиваются наполнением одного лишь блока — блока онтологии, задающего общее представление той действительности, которая создается данной наукой и изучается в ней.[103]
Такое ограничение вполне допустимо, так как блок онтологии занимает в системе научного предмета, с одной стороны, центральное, а с другой стороны, весьма обособленное место. Все другие блоки, во-первых, отображают свое содержание на онтологической картине, а во-вторых, зависят от онтологии и часто строятся на ее основе или во всяком случае обосновываются ею. Поэтому онтологические картины науки можно рассматривать во многом независимо от всех других блоков и вместе с тем считать, что все другие блоки нами при этом как-то схватываются и учитываются, поскольку они уже отразили свое содержание в блоке онтологии. Такое ограничение показательных характеристик научного предмета сказывается и на анализе предметного содержания категориальных определений: он тоже центрируется на онтологической картине, а все остальные компоненты содержания, в том числе операционно-методические, формальные и проблемно-вопросные, организуются вокруг нее и рассматриваются преимущественно в той мере, в какой они влияют на онтологическую компоненту содержания или уже отображены в ней. Именно в таком плане мы и должны сейчас рассмотреть основные категории, применяемые в системном анализе деятельности.[104]
IV. Основные категории системного подхода
Когда сейчас характеризуют «систему» (будь то содержание понятия или объект), то говорят обычно, что это сложное единство, в котором могут быть выделены составные части — элементы, а также схема связей или отношений между элементами — структура.[105] За этим определением мы как бы непосредственно видим объект, составленный из элементов и связей между ними; то, что мы видим, и есть онтологическая картина системного подхода. Но сама онтологическая картина, как мы уже говорили выше, снимает, «свертывает в себе» все те процедуры и способы оперирования, которые мы применяем к различным знаковым элементам научных предметов, воспроизводящих объекты в виде систем. И именно они должны быть раскрыты, если мы хотим определить категории системного подхода.
За онтологической картиной, представленной в приведенном выше определении, стоят по меньшей мере три группы процедур.
Первая из них включает две процедуры: разложение объекта на части и объединение частей в целое (схема 5а, с. 250). Обычно объединение производится с помощью дополнительно вводимых связей. Благодаря связям части, выступавшие после разложения в роли простых тел, становятся элементами. С определенной точки зрения объединение частей в целое выступает как обратная процедура по отношению к разложению целого на части; однако то, что получается в результате, не есть возвращение к исходному состоянию целого.
Вторая группа процедур — измерение эмпирически заданного объекта и фиксация его «сторон» или свойств в различных по своему формальному строению характеристиках. После того, как объект разложен на части, к полученным «простым телам» тоже могут применяться процедуры измерения и таким образом мы будем получать, с одной стороны, характеристики исходного объекта, целого, а с другой стороны — характеристики его частей (схема 5б). Операцией, обратной измерению, будет восстановление объекта по его характеристике.
Третья группа процедур включает, во-первых, погружение элементов и объединяющей их структуры как бы внутрь целого (схема 5в) и, во-вторых, обратную операцию «извлечения», «вынимания» элементов или структуры из этого целого.
Перечисленные группы процедур теснейшим образом связаны и взаимно дополняют друг друга. Объединение частей в единство с помощью связей преследует цель вернуться назад к исходному целому. Но само это возвращение может быть определено и оценено лишь с точки зрения характеристик, выявленных с помощью второй группы процедур. По сути дела, отождествление исходного целого и вновь созданной структурной целостности происходит по характеристикам свойств (схема 5 г): свойства структурной целостности должны быть точно такими же, какими были характеристики исходного целого, — именно для этого мы производим объединение частей. Но этому отождествлению характеристик должно соответствовать в другом слое предмета погружение структурной целостности в исходное целое. Таким образом, объединение частей с помощью связей и отождествление характеристик выступают как форма логического движения, благодаря которому осуществляется погружение.[106]
Исключительно важным здесь является вопрос о значении связей и структуры. В принципе на этом этапе связи выступают в качестве дополнительных средств, привносимых извне именно для того, чтобы скрепить, связать, стянуть части, полученные при разложении. Их не было в исходном целом, когда мы расчленяли и разлагали его на части. Но так как совокупность частей не есть целое, мы вводим эти дополнительные составляющие, чтобы получить из совокупности частей некоторое единство. Вся эта работа очень напоминает склеивание разбитого зеркала: чтобы собрать его из осколков, мы вводим либо дополнительную основу и клей в качестве того, что соединит эти осколки в единство, либо же набор стерженьков, на которые насаживаем эти осколки. Ни клей, ни стерженьки не являются составляющими зеркала как такового, во всяком случае в исходном состоянии; но и в новом состоянии, несмотря на то что они уже стали частями зеркала, их существование не влияет и не должно влиять на работу самого зеркала. Обобщая этот простой пример, можно сказать, что связи, вводимые для объединения частей, имеют иной статус относительно целого, нежели сами эти части: они не определяют свойств целого; поэтому можно сказать, что относительно целого они существуют на другом уровне иерархии.[107]
Но связи и структура рассматривались в качества внешних добавок, не влияющих на свойства и работу целого, только на первых этапах системного анализа. В молекулярно-кинетической теории вещества их стали учитывать фактически уже с Д. Бернулли, но долгое время связи выступали там только в своем конкретном физическом воплощении, а не по их обобщенной логической сущности. Поэтому действительный переворот в трактовке отношения между связями элементов и свойствами целого произошел лишь во второй половине ХІХв., когда структурная химия показала, что один и тот же набор элементов может давать несколько разных целостностей, характеризующихся разными свойствами, и причина этого заложена в способах связи этих элементов в целое, следовательно — в структуре. Структура наряду с элементами стала тем, что определяет свойства целого.
Но такой вывод создал массу специфических затруднений в исследовании и привел к многочисленным парадоксам.
Одним из самых характерных среди них является парадокс «материальности — нематериальности» связей и структуры. Пока элементы и связи располагались на разных уровнях иерархии предмета, вопрос о материальности связей просто не вставал; а как только связи оказались на одном уровне или даже в одной «плоскости» с элементами, так сразу же он приобрел первостепенное значение.[108]
Большая группа парадоксов связана с проблемами эмпирического обоснования связей и структур. Если части получаются путем реального (или мыслимого реальным) разложения целого и благодаря этому, как можно предполагать, доступны эмпирическому анализу, то связи и структура, как мы уже говорили, привносятся извне и носят чисто конструктивный и гипотетико-дедуктивный характер. То, что их объявили
Конечно, связи между элементами также могут быть представлены вполне ощутимой субстанцией, например клей, гвозди или шарниры между составными частями механической системы. Однако даже в этом случае общее количество субстанции, содержащейся в связях, образующих структуру механического объекта, несравненно меньше количества субстанции, содержащейся в элементах объекта: поэтому нередко с достаточным основанием субстанцией связей можно пренебрегать и анализировать структуру как "чистую схему отношений"…
Как это ни парадоксально на первый взгляд, отвлечение от субстантных свойств элементов и связей системы и описание этой системы исключительно в структурных терминах совсем не означают, что мы полностью лишаемся возможности иметь информацию и о субстанции системы. Дело в том, что каждый элемент системы, в свою очередь, может рассматриваться как самостоятельный сложный объект; а поскольку многие его свойства также зависят от присущих ему структурных особенностей, то это значит, что чисто индивидуальные особенности элемента как субстантной самостоятельной единицы также могут быть сформулированы в терминах своеобразия его структуры. Следовательно, методика анализа и описания структур, методика выявления тех свойств системы, которые связаны только с особенностями ее структуры, оказывается применимой и к описанию особенностей субстанции элементов определяющими свойства целого, не изменило их характера. Появилась лишь новая задача — объяснять свойства целого с помощью моделей структур, и появились соответствующие этой задаче процедуры. По сути дела, структура всегда была фикцией, которая вводилась для связи и объяснения внешне выявляемых свойств целого и зависимостей между ними. Поэтому структуры всегда подбирались так и такими, чтобы они могли объяснить уже выявленные свойства и зависимости свойств. Но что тогда могло подтвердить и обосновать истинность введенной исследователем структуры? В попытках ответить на этот вопрос логики перебрали массу вариантов решений, начиная от «наивного подтверждения» и кончая «эволюционистской фальсификацией» [Popper, 1935, 1959, 1963; Lakatos, 1962; Лакатос, 1967]. Общий результат был малоутешительным: оказалось, что всякое подтверждение носит весьма условный и временный характер, а смысл познания состоит в том, чтобы как можно быстрее опровергать все гипотетически вводимые структуры [Lafaitos, 1970, 1972].
Однако столь радикальный критицистский вывод не мог, конечно, остановить онтологического конструирования объектов из связей и структур. Те и другие стали, по сути дела, всеобщими строительными элементами, из которых сейчас создаются картины самых разных объектов. Кроме того, оказалось, что нужно еще ввести зависимости между связями, образующие как бы действительность третьего уровня, лежащую над связями и элементами; и именно эти зависимости характеризуют структуру как целое, ибо они объединяют связи и собирают их в единство. Вместе с тем такая конструкция внутреннего строения объекта дает совершенно новое представление его как целостного образования [1964а*, {с. 175–182}].
Но самым главным возражением против этого способа представлять и анализировать системы были все же не эти затруднения и парадоксы, а то, что при таком подходе не решалась и не могла быть решена главная задача системного анализа — установление формальных соответствий между процессом в целостном объекте и процессами в его частях, соответствий, дающих возможность искать материальную реализацию для определенных процессов или же (обратная процедура) предсказывать процессы в целом, если известна материальная организация частей.
В тех группах процедур, которые мы описали выше в качестве стоящих за принятыми и шире всего распространенными онтологическими картинами систем и определениями их, совершенно отсутствовали выявление и описание процессов. Отсутствуют они и во многих новейших подходах к анализу систем.[109]
Это не значит, что о процессах вообще не говорят. Нет, они всегда упоминаются — как «функционирование системы» (обратите внимание: не как «система функционирования», а так, будто «функционирование» есть атрибут системы, которая существует независимо от самого функционирования и может либо функционировать, либо не функционировать), как «способы функционирования», «динамика» системы и т. п., но затем подавляющее большинство исследователей сводит процессы либо к структурным, либо к параметрическим характеристикам.[110]
Эти обстоятельства заставляют нас сделать вывод, что современный системный подход, т. е. подход, соответствующий современным инженерным и научным задачам, не может уже основываться только на указанных выше процедурах измерения свойств, разложения объекта на части и погружения частей внутрь целого, что ему, следовательно, недостаточно той плоской онтологической картины, которая выражала эти процедуры, и обслуживающих ее категорий элемента и структуры. Современный системный подход предполагает совсем иную процедурную базу (включающую движения по всем замещающим друг друга плоскостям научного предмета, в том числе по плоскостям конструирования и псевдогенетического развертывания системных моделей), а следовательно, также и иную онтологическую картину системы, в которой фиксируются иные стороны ее как предмета и объекта и в иных соотношениях. Соответственно этому будут другими основные категории системного подхода и исследовательские проблемы, которые встанут перед нами.
Огромное влияние на онтологию и категории системного подхода, как мы уже не раз отмечали, оказывает проектирование технических и смешанных систем. Наверное, можно даже сказать, что именно оно задает основу в современных системных представлениях, во многом определяя развивающиеся сейчас естественнонаучные представления.
В основании нового представления о системе лежат не структура и не материальные элементы, а процесс, определяющий лицо объекта и задающий его целостность; в одних случаях это будет процесс функционирования, в других — процесс развития, в третьих — их единство.
Вместе с тем «процесс» выступает как первая, исходная категория системного анализа; она определяет первый слой системного представления какого-либо объекта [Гущин и др., 1969; Дубровский, 1969]. В этом слое процесс предстает независимо от материала, на котором он может реализоваться, безотносительно к каким-либо структурам. Если речь идет о функционировании, то оно само предстает как система; и эта система «чистого», если можно так сказать, функционирования на этом этапе и есть объект изучения, он тождествен ему и совпадает с рассматриваемым объектом.[111]
Являясь первым и основополагающим в системном подходе, представление объекта в виде чистого процесса или процессуальной системы недостаточно для полного и практически значимого описания системного объекта. Оно недостаточно прежде всего потому, что в реальности нет чисто процессуальных систем. Непременным условием существования какой-либо системы является материал. Именно процесс и материал создают то исходное противопоставление, на основе которого и вокруг которого строится затем системный анализ и создаются его основные категории. Подавляющее большинство авторов говорит об этом отношении между прочим и скороговоркой — и от этого складывается впечатление, что само это отношение является чем-то само собой разумеющимся и устанавливается легко, без всяких затруднений. Но в реальной практике научного и технического системного анализа именно это составляет главную проблему, ибо вызывает больше всего затруднений, и именно на разработку методов установления этого соответствия направлены сейчас основные усилия: как соотнести процессуальные системы с материалом — так прежде всего ставится задача в проектировании, и как отделить процессы от материала и представить их в виде самостоятельной, независимой системы — так в первую очередь ставятся задачи в естественнонаучных исследованиях.
Процессы или процессуальная система должны быть отделены от материала, чтобы мы могли выявлять и фиксировать законы и механизмы этих процессов. Но если процессы или процессуальная система уже отделены от материала и противопоставлены ему, то затем, чтобы получить достаточно полное описание объекта, нужно опять собрать, соединить их вместе, наложить процессы на материал.
Именно при решении этой задачи создаются и оформляются остальные категории системного подхода, среди которых мы хотим в первую очередь выделить, с одной стороны, структуру и организованность, с другой — форму, с третьей — механизм и конструкцию.[112] Их оппозиции представлены на схеме 6.
Перечисленные категории образуют несколько относительно независимых друг от друга «полей», которые используются совместно при описании конкретных объектов и при этом между ними устанавливается еще один ряд категориальных отношений.
О категориях «процесс — структура — организованность» мы будем более подробно говорить в следующем разделе этого приложения, а здесь сделаем несколько замечаний о категориях «форма — материал», образующих особое поле.
Свое начало эта категориальная оппозиция ведет по крайней мере от Аристотеля. Общепринятая и весьма эффективная в его время и затем на протяжении еще нескольких веков, она была затем существенно трансформирована средневековыми схоластами, получила совершенно новый смысл в дискуссиях рационализма и эмпиризма XVII и XVIII вв., выделила из себя ряд новых категорий и категориальных оппозиций, оформленных в XVIII и XIX вв. [1964 g], а сейчас вновь все больше возвращается к своему прежнему исходному смыслу благодаря исследованиям деятельности и ее специфических структур (см., например, [Генисаретский, 1965]).
Аристотелевы категории формы и материала были теснейшим образом связаны с анализом деятельности; именно это определило их характер и отличие от всех последующих употреблений и смысловых наполнений. Вводя эти категории, Аристотель, как правило, обращался к примерам деятельности, а перенос самих категорий на чисто природные явления (если такое представление было возможно во время Аристотеля) был уже вторичным актом. Рассматривая происхождение статуи, Аристотель называл медь, из которой она изготовляется, материалом, а само образование статуи трактовал как наложение на материал формы. Еще более ярким является пример с воском и печатью на перстне: перстень вдавливается в воск и создает в нем свой отпечаток, при этом форма переносится с перстня на воск.
Сейчас мы пользуемся категорией формы и материала для того, чтобы объяснить такие явления, как, например, движение букв сообщения на световом табло над зданием «Известий».[113] Лампочки, которые составляют табло, то зажигаются, то гаснут в определенном порядке; они являются материалом, а само сообщение, живущее на этом материале (можно сказать для образности, «паразитирующее на нем», ибо оно подчиняется совсем другим законам, нежели законы электрического тока), образует форму [Лефевр, 1970].
Этот пример хорошо поясняет, почему мы связываем друг с другом названные выше поля категорий: без труда можно заметить, что форма в этом беге светящихся букв представляет собой определенную структуру, объединяющую отдельные элементы — лампочки табло; и то, что они загораются и гаснут, определяется законом развертывания и движения этой структуры.
V. Схема анализа полиструктурной системы
Пока мы рассматриваем категории сами по себе, в качестве некоторых предметов мысли (будь то в рамках «нормативной логики», гносеологии или так называемого «учения о категориях»), они выступают как независимые и противопоставленные друг другу: каждой категории соответствует свое особое содержание и даже свой особый абстрактный объект. Но если мы выделим какой-либо сложный системный объект и начнем анализировать его, используя при этом разные категории, то между ними благодаря движению самого анализа устанавливаются связи и отношения совершенно иного типа — соответствующие логике анализа объекта. При этом сами категории особым образом организуются. Если мы ориентируемся на метод «восхождения» [1975d] и наши представления объекта должны развертываться в последовательности от абстрактного к конкретному, то и последовательность введения самих категорий будет обслуживать эту основную пинию, по сути дела будет определена ею. Если же у нас будет какой-либо другой принцип анализа объекта, то он, соответственно, породит иную последовательность включения категорий. Но число возможных процедур анализа, во всяком случае, весьма ограничено, и каждая процедура задает строго определенную схему движения в категориях.
Рассмотрим одну из этих схем, именно ту, которая, по предположению, является логическим и онтологическим основанием системного анализа деятельности. При этом будем иметь в виду, что на первой фазе (которой мы здесь и ограничиваемся), порядок анализа предстает в виде последовательности его этапов; эта последовательность будет трактоваться нами как логически необходимая.
1. Хотя в предыдущих разделах Приложения мы все время подчеркивали, что деятельность не может быть представлена как процесс и требует системно-структурного представления, тем не менее начинать всю работу по анализу систем надо, как уже отмечалось выше, с определения и изображения тех процессов, которые задают специфику деятельности.
Если деятельность характеризуется не одним, а рядом различных процессов — а именно к этому выводу нас подводит весь опыт проведенных исследований, — то мы должны каким-то путем, пусть даже гипотетически, выделить из их совокупности или системы тот процесс, который может считаться основным и определяющим, подчиняющим себе все остальные процессы. Именно с него мы должны начинать характеристику деятельности и временно оставить все остальные процессы в стороне.
Вопрос о том, как изображаются и могут изображаться процессы такого типа, которые мы находим в деятельности, требует специального обсуждения. Вполне допустимо, что при первом подходе процесс будет охарактеризован чисто словесно, например как «воспроизводство» некоторых систем деятельности [1966а*; 1967а; 1968а; 1970].
2. Изображение процесса в принятых сейчас канонических формах имеет ряд существенных недостатков; в частности, неизбежно возникающее представление процесса как объект оставляет в стороне сам изучаемый объект (особенно если процесс изображается в форме меняющихся характеристик). Поэтому, чтобы иметь возможность соотносить изображения процессов с объектами, к которым они относятся, прибегают к специальным структурным изображениям.
Изображение объекта в виде структуры, таким образом, должно соответствовать, с одной стороны, изображениям и описаниям процессов, а с другой стороны, изображениям и описаниям объектов как «вещей», или, в более общих терминах, — объектов как материальных образований.
Учитывая данную выше функциональную характеристику структурного изображения, можно сказать, что сама структура выступает, во всяком случае с какой-то одной стороны, как остановленное изображение процессов; говоря еще проще, структура — это статическое представление процесса.[114]
3. В приведенных выше определениях структуры уже была задана ориентировка на переход к материалу: структура выступала как промежуточное изображение, связывающее изображение процессов с изображением объектов как «сгустков» материала. Структурное изображение должно соответствовать изображению объекта изучения как материального образования, но само по себе оно не содержит никаких материальных характеристик и вообще лежит как бы совсем в другой плоскости. По сути дела, структура — это особый "знаниевый конструкт", которому мы не приписываем и не можем приписывать материального существования. Поэтому на следующем шаге анализа мы должны перейти к материалу системы, соответствующему выделенной структуре, и охарактеризовать его строение.
Здесь действует очень сложный и отнюдь не очевидный методологический принцип: на первых этапах анализа материал должен рассматриваться как бесформенный, как чистая возможность любой организации. На деле это, конечно, не так: любой материал, который мы выделяем в каком-либо объекте при снисхождении», всегда структурирован, всегда имеет определенное строение,[115] но чтобы иметь возможность построить систематическое и логически оправданное рассуждение в процессе «восхождения», мы должны полагать первоначально, что материал никак не структурирован.
Противопоставив материал структуре и представив его тем самым как чистую возможность организации, мы производим затем структурирование материала посредством уже зафиксированной нами на втором этапе структуры. Мы как бы отпечатываем структуру на материале, получаем ее отпечаток, и таким образом превращаем материал в определенную организованность. Сама структура благодаря этой процедуре выступает уже как форма.
Перечисленные выше три этапа исследования образуют один цикл. В результате него мы получаем три последовательных изображения объекта, связанных друг с другом процедурой их создания и положенными в ней соответствиями: структура соответствует процессу, организованность соответствует структуре. Благодаря этим соответствиям все три последовательно полученных нами изображения могут быть собраны вместе, как бы сплющены в одно изображение и таким образом задают троякое (трехаспектное), но вместе с тем целостное изображение объекта. Рассматривая их вместе как одно изображение, мы можем говорить об организованной структуре или об организованном процессе.
4. Вводя первую процессуальную характеристику объекта, мы предположили, что выделенный нами процесс не является единственным, что в изучаемом нами объекте существуют и должны описываться еще другие процессы. И теперь задача состоит в том, чтобы привлечь к рассмотрению и их.
В решении этого вопроса многое зависит от того, какие отношения, связи и зависимости мы будем устанавливать между процессами, выделенными нами первыми и следующими.
В принципе возможно несколько разных отношений, и в зависимости от того, каковы они, нам придется пользоваться разными дополнительными категориями.
В одном случае второй процесс может лежать как бы «внутри» первого, быть частью его, в другом случае второй процесс будет независим от первого и тогда между ними возможно отношение взаимодействия, в третьем случае второй процесс может образовывать механизм осуществления первого и т. д. В наиболее известных реализациях метода восхождения от абстрактного к конкретному рассматривают обычно такое отношение между первым и вторым процессом, когда первый является общим процессом, как бы задающим рамку для второго, и одновременно специфическим, лежащим как бы наряду со вторым. [1958 b*; Зиновьев, 1954; Zinovev, 1958].
Во всяком случае, на четвертом этапе построения изображения объекта нужно выделить и каким-то образом представить второй процесс, характеризующий изучаемый объект. Это представление, как мы уже говорили, может быть задано в разных языках, и от выбора их будут, конечно, зависеть те отношения, которые мы сможем установить между ним и представлениями первого процесса.
5. На основе изображения второго процесса строится изображение соответствующей ему структуры. В результате мы получаем два структурных изображения, по предположению относимых к одному и тому же объекту.
Если мы имеем какие-то основания предположить, что второй процесс является более развитой формой первого, то вторая структура может быть получена не просто из общего интуитивного или эмпирического представления о втором процессе, а путем специальной процедуры развертывания первого структурного представления. В этом случае вторая структура с самого начала связана с первой — первая выступает как ее элемент или подструктура. Но наряду с этим могут встретиться и такие случаи, когда второй процесс и соответственно вторая структура должны рассматриваться как независимые от первых, как существующие отдельно и самостоятельно от них. В таком случае мы должны найти какие-то формы связи структур друг с другом.
Но сама идея связи (или ее частный вариант — взаимодействия) структур друге другом противоречит понятию структуры. Ведь структура, по определению, это — целостность, не допускающая включения элементов и связей [1964 а*, {с. 171–172}]. Поэтому утверждение, что две структуры взаимодействуют или связаны друг с другом — противоречие в самом принципе. Но тем не менее структуры действительно взаимодействуют и могут быть связаны друг с другом: эмпирические примеры этого мы находим постоянно. Поэтому важно найти логическую форму изображения и фиксации этого факта, совместимую с понятием структуры.
6. Такую логическую форму мы находим в анализе и изображении отношения между структурой, соответствующей второму процессу, и организованностью материала, созданной первым процессом. С эмпирической точки зрения возможность такого отношения достаточно очевидна. Процесс действует на материал, меняя и перестраивая его организованность, и одновременно материал действует на процесс, ограничивая его определенными рамками и таким путем как бы направляя его «течение». Даже если речь идет о процессе изменения какой-либо организованности материала, то все равно мы чаще всего выделяем и рассматриваем определенные параметры, характеризующие устойчивость и инерционность этой организованности, которые как бы противодействуют и сопротивляются изменению. Таким образом, и тут устанавливается определенное отношение между факторами, характеризующими динамичность и относимыми нами непосредственно к процессу, и другими факторами, характеризующими устойчивость и относимыми нами к чему-то, лежащему вне процесса. Это что-то и есть материал, как бы зажатый определенной формой организованности. Но чтобы устанавливать отношения между процессом и организованностью материала, надо сам процесс остановить, представить его в какой-то статической форме. Именно этой цели служат понятие структуры и изображение процессов в виде структур. В общем и целом вся эта процедура выступает как «наложение» на уже существующую организованность новой структуры.
7. Взаимодействие между структурой и организованностью приводит, с одной стороны, к изменению и перестройке организованности, а с другой стороны, к изменению структуры. Однако первоначально мы не можем относить эти изменения ни к структуре, ни к организованности, ибо единственным подлинным результатом этого взаимодействия является новая организованная структура, или, что то же, по-новому структурированная организованность.
Весьма существенным здесь оказываются временные отношения между рассматриваемыми нами процессами. Если они совершенно не совпадают во времени и лишь следуют друг за другом, то говорить о каком-либо взаимодействии самих процессов как таковых не имеет смысла. В этом случае первый процесс через созданную им организованность влияет на второй — особым образом организует его; второй процесс никак не влияет на первый. Если мы то же самое отношение рассматриваем с точки зрения организованностей, то дело выглядит иначе: второй процесс влияет на организованность, созданную первым процессом, ломая и перестраивая ее. Если процессы хоть в какой-то мере совпадают друг с другом во времени, то мы можем и должны ставить вопрос о возможности слияния или суперпозиции процессов. В самом общем случае между процессами должно существовать какое-то отношение, например отношение регулирования или управления. Здесь могут складываться самые причудливые комбинации: например, два процесса могут происходить на разном материале, но при этом одновременно и параллельно отображаться на один и тот же, третий материал и таким образом соединяться или связываться в нем[116]
Результаты наложения структуры на уже существующую организованность могут фиксироваться нами путем сопоставления двух организованностей — исходной и новой. Тогда второй процесс и, соответственно, вторая структура будут выступать как то, что меняет и перестраивает исходную организованность, как механизм происходящих в ней изменений. В таком случае мы, естественно, не можем говорить об изменении самого процесса или фиксирующей его структуры; мы представляем их как реконструированные нами причины или источник зафиксированных изменений организованности. Чтобы реконструировать этот процесс или соответствующую ему структуру с учетом возможных изменений их, происходящих под влиянием той организованности материала, на которую они накладываются, нужны какие-то дополнительные представления, в частности представление о реализации рассматриваемого процесса на других организованностях материала или же — идеально мыслимый случай — вне всяких организованностей.
Реконструировав второй процесс и соответствующую ему структуру, мы можем сопоставить их с представлениями первого процесса и первой структуры. Тогда на формальном уровне мы сможем обсуждать возможные связи и отношения между разными процессами и, соответственно, разными структурами, которые, как мы знаем, накладываются или могут накладываться на один материал.
8. Получив таким образом три ряда соответствующих друг другу изображений (в первом ряду — два процесса с формально установленными связями и отношениями между ними, во втором ряду — две структуры с формальными связями и отношениями, в третьем ряду — последовательно сменяющие друг друга организованности материала), мы можем обратиться к третьему процессу, характеризующему исследуемый нами объект, и повторить все описанные выше процедуры по новому кругу.
Нужно специально отметить, что второй ряд является здесь самым сложным, так как именно он представляет уровень оперативных единиц. Он сам раскладывается как бы на два подслоя: в одном лежат структуры, фиксирующие характер и строение независимых друг от друга процессов, в другом — структуры, соответствующие организованностям и полученные из сопоставления организованностей друг с другом.
Рассматривая второй подслой в сопоставлении с первым, мы получаем обоснование метода восхождения от абстрактного к конкретному. По сути дела, этот метод выступает тогда как средство перевести анализ взаимодействий процессов в анализ изменений и развития соответствующих им структур; причем представление о развитии мы получаем на основе сопоставлений следующих друг за другом организованностей материала этого объекта.[117]
Существенным моментом здесь является также то, что структуры, представленные во втором ряду, не только соотносятся нами в сопоставлениях, но кроме того еще реально отнесены к организованностям и связаны друг с другом через них (именно эти связи часто, хотя и неосновательно, называют связями «регулирования», «управления» и т. д.). Наличие этих связей объединяет несколько разных структур в одну систему, а эту систему делает полиструктурной.
После этой общей методологической схемы мы можем обратиться уже непосредственно к деятельности и поставить вопрос, какие именно процессы, структуры и организованности задают и определяют ее существование.
VI. Воспроизводство — основной процесс, задающий целостность деятельности
Принцип воспроизводства не раз уже формулировался нами в различных работах [1966а*; 1967а, g*; 1968а; 7970]. Общие характеристики процессов воспроизводства деятельности и фиксирующие их структурные схемы описаны довольно подробно, и здесь не имеет смысла повторять все это. Поэтому мы ограничимся лишь констатацией того, что анализ и описание всех этих процессов достаточно точно соответствуют общей схеме системно-структурного анализа сложного объекта, приведенной выше. В дополнение к тому, что уже описано в этих работах, нужно отметить лишь несколько методологических моментов, важных для дальнейшего: 1) исходные структуры там носили преимущественно функциональный характер и почти не учитывали возможных материальных реализаций; 2) основными категориями, в соответствии с которыми развертывались схемы, была пара категорий «процесс — механизм»; 3) обращение к категориям процесса и механизма заставляло все время пользоваться принципом «незамкнутости системы».
Последнее положение нуждается в пояснениях. Как правило, при создании процессуальных или структурно-функциональных моделей объекта мы выделяем два или большее число «состояний», характеризующих объект в процессе, и изображаем их в виде двух или большего числа функциональных блоков системы. Блоки связаны друг с другом через процессы и организуются относительно них в пары «исходное — результирующее»; в модальности целенаправленной деятельности эти состояния трактуются как «исходный материал — продукт». Изобразив объект в виде процесса, последовательно порождающего состояния, или в виде функциональной системы блоков, через которую процесс «течет», мы тем самым замыкаем схему с точки зрения представления о процессе. Но в такой схеме, естественно, не изображен механизм, осуществляющий этот процесс порождающий последовательные состояния объекта. Поэтому схема, полная и замкнутая относительно процесса, оказывается вместе с тем неполной и незамкнутой относительно механизма.
Это заставляет нас, выделив и схематически изобразив исходный процесс, ограничив схему с этой стороны, ставить затем вопрос о тех механизмах, которые обеспечивают осуществление этого процесса, и, чтобы ответить на него, выходить за рамки уже очерченной схемы и дополнять ее новыми элементами и связями. В этом плане очень показательно последовательное развертывание схем воспроизводства; для наглядности мы собрали их вместе и представили в одном ряду (схема 7).
Относительно дополнений, вводимых на каждом новом шаге, предыдущая схема может рассматриваться двояко: 1) как изображение всей целостности объекта, взятого с одной стороны, а именно, со стороны первоначально определенного процесса; в таком случае все дополнения должны рассматриваться как лежащие как бы внутри исходной схемы и уже охваченные ею; 2) как изображение лишь одной части объекта, именно той, которая трактуется нами как превращение или преобразование исходного материала в конечный результат; в таком случае все дополнения рассматриваются как лежащие вне исходной схемы и фиксирующие другую часть объекта.
Однако развертывание схемы в соответствии с категорией «процесс — механизм» не сводится к одному лишь дополнению исходной схемы новыми элементами и связями. Такое развертывание обязательно предполагает и включает в себя перестройку исходной схемы и принципиальное изменение ее смысла и содержания. Действительно, предположив существование процесса, переводящего некоторый объект из состояния А в состояние В, а затем поставив вопрос о том, как, посредством какого механизма, т. е. за счет каких других процессов, он осуществляется, мы как бы лишаем исходный процесс объективного существования, представляем его как наше ограниченное знание об объекте, как чистую форму, а объективность приписываем уже другим процессам, тем, которые включаются нами в механизм. Наглядно эти этапы переосмысления схем можно представить в последовательности трех изображений (схема 8). Переход от изображения процесса к изображению осуществляющего его механизма весьма сложно связан также с переходом от чисто функциональных схем к схемам, фиксирующим материал и организованности материала (но этот вопрос нуждается в специальном и притом весьма детальном обсуждении).
VII. Кооперация и оформляющие ее организованности
Анализ механизмов воспроизводства деятельности очень скоро приводит нас к необходимости рассматривать акты индивидуальной деятельности (схема 7 в, г, д, е) и разнообразные формы кооперации их в сложные системы (схема 7 ж, з, и, к,).[118]
При этом (в соответствии с общими принципами анализа полиструктурной системы) структуры кооперации выступают как механизм, обеспечивающий процесс воспроизводства деятельности, потом — как самостоятельные структуры и процессы функционирования деятельности, которые должны быть воспроизведены.
Чтобы изобразить и проанализировать структуры кооперации, приходится вводить особое представление акта деятельности (схема 9), отличное от введенного выше представления его в виде «разборного ящика» (см. схему 3). Это новое представление деятельности содержит как бы два «узла». В правой нижней части изображена «объектная» часть деятельности: Пр — продукт, получающийся в результате процедуры и производимых ею преобразований; ИсМ — исходный материал, из которого и этот продукт производят; д1… дj — действия, приложенные к материалу; Ор — орудия и вообще любые внешне выраженные средства, используемые в этих действиях; из числа средств мы особо выделяем знания, фиксируемые в специальных знаковых формах. В левой верхней части схемы изображена «субъектная» часть деятельности: сам индивид, «табло» его сознания, внутренние (интериоризованные) средства и способности, необходимые для оперирования всеми средствами и осуществления действий (два связанных друг с другом прямоугольника); особое место занимает цель деятельности, которая может рассматриваться и как «объектный», и как «субъектный» элемент деятельности.
Подобные схемы актов деятельности, включающие достаточно много разнородных элементов (а в принципе каждая из них может быть еще усложнена и расширена), выступают в роли конструктивных единиц («молекул»), из которых мы затем собираем сложные системы кооперированной деятельности; при этом различным элементам приведенной схемы придаются разнообразные спецификации, благодаря чему она дает множество изображений актов деятельности разного вида и типа.
Принципы сборки схем-единиц в сложные системы весьма разнообразны (одна из исследовательских задач теории деятельности состоит в том, чтобы описать их возможно полнее), они соответствуют типам и видам кооперативных связей, которые реально существуют (или существовали) в человеческой деятельности. По сути дела, каждый внешне выраженный, или «объектный», элемент акта деятельности или даже вся его система в целом могут стать тем, что поступает в другие или из других единиц деятельности и, таким образом, конституирует ту или иную связь кооперации. Но могут быть и принципиально иные способы связи единиц деятельности, не предполагающие переноса материальных элементов.
Чем более сложными становятся акты деятельности, чем большее число разнообразных элементов включают они в свой состав, тем более разнообразными становятся связи кооперации и, соответственно, возможные линии и способы конструирования сложных систем кооперации. Чтобы как-то организовать эту работу конструктивного развертывания и вместе с тем обеспечить наибольшее правдоподобие или даже истинность создаваемых таким образом схем, вводят определенные формальные правила и содержательные принципы, группирующие шаги развертывания как бы в «направления»; для этих направлений (вместе с определяющими их принципами) находят те или иные естественные генетические основания [1967а, с. 38–37]. Разумеется, эти отношения между формальными правилами и естественными основаниями обратимы: если существующие (достаточно обоснованные) исторические и логико-генетические знания подсказывают иные группировки «шагов развертывания» в направления или иные формальные правила, то они вводятся.
В ряде специальных работ, как уже упоминалось, были намечены и достаточно подробно проанализированы несколько направлений естественного развития форм кооперации и создаваемые ими типы кооперативных связей [1966а*; 1967d, g*; 1969b; 1970а;Якобсон, Прокина, 1967].
Важно, что во всех проанализированных случаях системы кооперации развертывались не только и даже не столько «горизонтально», сколько «по вертикалям», создавая многослойные структуры: «вертикальное» структурирование было условием и предпосылкой расширения систем кооперации «по горизонтали»[119] (более подробно этот момент мы будем разбирать в следующем разделе Приложения). Среди прочего опыт этих исследований привел нас к убеждению, что вертикальное и горизонтальное развертывание структур кооперации лежит в основании всех других процессов развития деятельности. Но последние ни в коем случае не могут быть сведены к одному лишь развертыванию кооперативных структур.
Дело в том, что процессы кооперирования очень скоро делают системы деятельности слишком громоздкими и с общей точки зрения малоэффективными. Любая система деятельности, имевшая достаточно времени, чтобы развернуться, включает «инженерию», создающую программы деятельности, обучение этой деятельности и конструирование соответствующих учебных предметов, методологию, обслуживающую обучение и инженерную деятельность, научные исследования, возникающие внутри каждого направления методологических разработок, и, наконец, разные направления методологии научного исследования и обслуживающие их логические теории. По сути дела, каждая разрывная ситуация создает свой особый «пакет» деятельностей, в который входят и своя особая инженерия, и своя особая методология, и своя, непохожая на другие научная система. Но такое членение деятельности по «пакетам», каждый из которых соответствует каким-то определенным практическим затруднениям, создает массу дополнительных затруднений социального порядка, приводит к дублированию одних и тех же по сути разработок, мешает использованию результатов одной деятельности для построения других и т. п.
Если говорить конкретнее, не существует никакого способа, с помощью которого систематизированные знания могли бы оказать воздействие на производство автомобиля в целом или даже изготовление его корпуса или шасси. Они могут быть применены только тогда, когда задача разделена таким образом, что каждая ее часть укладывается в рамки определенной области научных или инженерных знаний…
…Почти все следствия применения современной техники и в значительной мере характер функционирования современной промышленности определяются прежде всего этой потребностью расчленения возникающих производственных задач. Они определяются, далее, необходимостью использования знаний для решения этих частных задач и, наконец, необходимостью свести воедино элементы задачи в виде законченного цельного продукта» [Гэлбрейт, 1969, с. 47–48].
Для преодоления неурядиц такого рода внутри всей этой системы расчлененных на «пакеты» деятельностей вводятся (или возникают сами собой) «организованности» разного типа. Они могут строиться по самым различным основаниям и объединять в одну систему однородные или разнородные элементы из разных «пакетов» деятельности. В одном случае таким основанием может стать случайно возникший обмен продуктами деятельности, который потом оформляется в постоянно действующую производственную связь. В другом случае основанием будет единство специально созданного поля из объектов, преобразуемых в одноименных деятельностях из разных «пакетов»; например, так объединяются ученые-исследователи, создавая себе общий идеальный объект изучения. В третьем случае основанием для организации будет служить искусственно созданное единство системы средств, используемых в деятельности, и т. д. Но во всех случаях суть организации деятельности заключается в том, что на уже существующую систему кооперации деятельности как бы «накладываются» новые, дополнительные отношения и связи, объединяющие уже не акты, не единицы деятельности, а те или иные материальные элементы, входящие в их состав; таким образом создаются материальные условия для изменения и дальнейшего развертывания самой деятельности.
Кроме того, большую роль в появлении и оформлении этих организованностей играет то обстоятельство, что почти всегда в лице одного реального ученого соединяются специалисты разного рода и, следовательно, происходит объединение разных средств, чаще всего синкретическое, но организованное в рамках одной субъективной системы «видения» мира и частных предметов изучения. В плане наших структурных схем это означает объединение (и организацию в рамках единой системы) средств, характерных для разных позиций и слоев деятельности.
Ко всему этому надо еще добавить, что введение обобщенных идеальных объектов или общих полей средств дает возможность перестраивать системы кооперированной деятельности и значительно упрощать их. При этом очень часто происходит как бы сплющивание расположенных «друг над другом» слоев сложно организованной деятельности, при котором системы знаний из второго или даже третьего слоя как бы накладываются на системы первого слоя деятельности. В дальнейшем уже на этой основе происходит новое развертывание систем кооперации, опять появляются слои второго и третьего порядка, которые затем организуются по такой же схеме и снова сплющиваются в одну систему на базе новых идеальных объектов и общих полей средств.
Мы не будем здесь перечислять различные виды организованностей, которые могут возникать в подобных системах деятельности, так как это заняло бы непомерно много места, и обсудим дальше только одну группу проблем из этого круга, связанную с так называемой рефлексией и рефлективными отношениями.
VIII. Рефлексия и ее проблемы
Рефлексия — один из самых интересных, сложный и в какой-то степени даже мистический процесс в деятельности; одновременно рефлексия является важнейшим моментом в механизмах развития деятельности.
В современных энциклопедиях рефлексия определяется как «форма теоретической деятельности общественно-развитого человека, направленная на осмысление всех своих собственных действий и их законов; деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека» (Рефлексия, 1967), или как «осмысление чего-либо при помощи изучения и сравнения; в узком смысле — новый поворот духа после совершения познавательного акта к «я» (как центру акта) и его микрокосму, благодаря чему становится возможным присвоение познанного» (Рефлексия, 1961).
Хотя уже у Аристотеля, Плотина и др. можно найти много глубоких рассуждений, касающихся разных сторон того, что мы сейчас относим к рефлексии, все же основной и специфический круг проблем, связываемых сегодня с этим понятием, зарождается лишь в новое время, а именно — благодаря полемике Локка и Лейбница [Локк, 1960; Лейбниц, 1936, с. 99–108, 115–116] или, еще более точно, благодаря тому, что эта полемика стимулировала размышления Канта. У Канта понятие рефлексии приобретает ту гносеологическую (и вместе с тем методологическую) форму, в которой оно сейчас обычно и репрезентируется.[120] У Фихте в дополнение к этому оно получает эпистемологический оттенок (рефлексия знания есть «наукоучение»[121] и ставится в контекст процессов развертывания или развития «жизни».[122] Гегель сделал попытку дать рефлексии имманентное определение в рамках общей картины функционирования и развития духа [Гегель, 1937, с. 466–481]. После Гегеля понятие рефлексии стало и остается до сих пор одним из важнейших в обосновании философского анализа знания.[123]
Вместе с тем, до сих пор почти не было попыток описать рефлексию или тем более построить ее модель в рамках собственно научного, а не философского анализа деятельности и мышления. Во многом это объясняется тем, что не ставилась сама задача создания собственно научных теорий деятельности и мышления. Но если мы ставим и всячески подчеркиваем эту задачу, то непосредственно сталкиваемся с проблемами системно-структурного моделирования, теоретического описания и эмпирического анализа рефлексии в рамках соответствующих научных предметов. Эта задача определяет как тот ракурс, в котором мы должны рассматривать рефлексию, так и средства, с помощью которых мы будем ее изображать.
Естественно (и это должно было вытекать из всего изложенного выше), что рефлексия интересует нас прежде всего с точки зрения метода развертывания схем деятельности, т. е. формальных правил, управляющих конструированием, или, при другой интерпретации, — изображением механизмов и закономерностей естественного развития деятельности [1967 а]. Однако в этом плане она оказывается слишком сложной. Представления, накопленные в предшествующем развитии философии, связывают рефлексию, во-первых, с процессами производства новых смыслов, во-вторых, с процессами объективации смыслов в виде знаний, предметов и объектов деятельности, в-третьих, со специфическим функционированием а) знаний, 6) предметов и в) объектов в практической деятельности. И, наверное, это еще не все. Но даже этого уже слишком много, чтобы пытаться непосредственно представить все в виде механизма или формального правила для конструирования и развертывания схем. Поэтому мы должны попытаться каким-то образом свести все эти моменты к более простым отношениям и механизмам, чтобы затем вывести их из последних и таким образом организовать все в единую систему. Таким более простым конструктивным принципом служат связи кооперации. Уже из них или на их основе мы выводим потом специфические характеристики функционирования сознания, смыслов, знаний, предметов и объектов. Значит, должна быть создана схема такой кооперативной связи, которая могла бы рассматриваться как специфическая для рефлексии.
В этой роли у нас выступает схема так называемого «рефлексивного выхода». Она была получена в связи с другими задачами,[124] но затем была использована для введения и объяснения рефлексии как таковой. И хотя, наверное, рефлексия может вводиться в контекст деятельности исходя из многих различающихся между собой эмпирических ситуаций, мы повторим здесь вкратце тот способ введения ее, который мы давали в исходных работах.
Представим себе, что какой-то индивид производит деятельность, заданную его целями (или задачей), средствами и знаниями, и предположим, что по тем или иным причинам она ему не удается: либо он получает не тот продукт, который хотел, либо не может найти нужный материал, либо вообще не может осуществить необходимые действия. В каждом из этих случаев он ставит перед собой (и перед другими) вопрос: почему у него не получилось и что нужно сделать, чтобы все-таки получилось то, что он хочет.
Но откуда и как можно получить ответ на такой вопрос?
Самым простым будет случай, когда он сам (или кто-то другой) уже осуществлял деятельность, направленную на достижение подобной цели в сходных условиях и, следовательно, уже есть образцы такой деятельности. Тогда ответ будет простым описанием соответствующих элементов, отношений и связей этой деятельности, лишь переведенным в форму указания или предписания к построению ее копии.
Более сложным будет случай, когда деятельность, которую нужно осуществить в связи с поставленными целями и данными условиями, еще никогда никем не строилась и, следовательно, нет образцов ее, которые могли бы быть описаны в методологических положениях. Но ответ все равно должен быть выдан, и он создается теперь уже не просто как описания ранее совершенной деятельности, а как проект или план предстоящей деятельности.[125]
Но сколь бы новой и отличной от всех прежних ни была проектируемая деятельность, сам проект или план ее может быть выработан только на основе анализа и осознания уже выполненных раньше деятельностей и полученных в них продуктов.
Каким должен быть этот анализ и фиксирующие его описания и каким образом проект новой деятельности будет опираться на подобные описания — все это вопросы, которые должны обсуждаться особо (и частично они будут затронуты дальше). А нам важно подчеркнуть, что во всех случаях, чтобы получить подобное описание уже произведенных деятельностей, рассматриваемый нами индивид, если мы берем его в качестве изолированного и «всеобщего индивида»,[126] должен выйти из своей прежней позиции деятеля и перейти в новую позицию, внешнюю как по отношению к прежним, уже выполненным деятельностям, так и по отношению к будущей, проектируемой деятельности (схема 10). Это и будет то, что мы называем рефлексивным выходом; новая позиция деятеля, характеризуемая относительно его прежней позиции, будет называться рефлексивной позицией, а знания, вырабатываемые в ней, будут рефлексивными знаниями, поскольку они берутся относительно знаний, выработанных в первой позиции. Приведенная схема рефлексивного выхода будет служить первой абстрактной модельной характеристикой рефлексии в целом.
Рассматривая отношения между прежними деятельностями (или вновь проектируемой деятельностью) и деятельностью индивида в рефлексивной позиции, мы можем заметить, что последняя как бы поглощает первые (в том числе и ту, которая еще только должна быть произведена); прежние деятельности выступают для нее в качестве материала анализа, а будущая деятельность — в качестве проектируемого объекта. Это отношение поглощения через знание выступает как вторая, хотя (как мы увидим чуть дальше) неспецифическая характеристика рефлексии в целом.[127]
Отношение рефлексивного поглощения, выступающее как статический эквивалент рефлексивного выхода, позволяет нам отказаться от принципа «изолированного всеобщего индивида» и рассматривать рефлексивное отношение непосредственно как вид кооперации между разными индивидами и, соответственно, как вид кооперации между разными деятельностями. Теперь суть рефлексивного отношения уже не в том, что тот или иной индивид выходит «из себя» и «за себя», а в том, что развивается деятельность, создавая все более сложные кооперативные структуры, основанные на принципе рефлексивного поглощения. Вместе с тем мы получаем возможность даже собственно рефлексивный выход отдельного изолированного индивида рассматривать единообразным способом как образование рефлексивной кооперации между двумя «деятельностными позициями» или «местами».
Но для того чтобы две деятельности — рефлектируемая и рефлектирующая — могли выступить в кооперации друг с другом как равноправные и лежащие как бы наряду, нужно, чтобы между ними установились те или иные собственно кооперативные связи деятельности и были выработаны соответствующие им организованности материала. Это могут быть собственно «практические» или инженерно-методические производственные связи передачи продуктов одной деятельности в качестве исходного материала или средств в другую деятельность; это могут быть собственно теоретические, идеальные связи объединения и интеграции средств деятельности, объектов, знаний и т. п. при обслуживании какой-либо третьей деятельности. Те или другие, но какие-то собственно кооперативные связи должны быть. И это требование сразу создает массу затруднений и парадоксов.
Дело в том, что рефлексивный выход, или, что то же самое, отношение рефлексивного поглощения, превращает исходную деятельность даже не в объект, а просто в материал для рефлектирующей деятельности. Рефлектируемая и рефлектирующая деятельности не равноправны, они лежат на разных уровнях иерархии, у них разные объекты, разные средства деятельности, они обслуживаются разными по своему типу знаниями, и чтобы теперь, преодолевая все эти различия, их можно было соединить в рамках единой кооперации практического, теоретического или инженерно-методического типа, нужны весьма сложные и изощренные организованности.
Если говорить о. науке и научных знаниях, то главными здесь становятся проблемы организации таких научных предметов, которые могли бы постоянно снимать, «сплющивать» рефлексию, т. е. объединять знания, онтологические картины, модели, средства и т. п., полученные в рефлектируемой и рефлектирующей позициях. И именно это породило специфический круг логических и методологических проблем, определявших развитие теоретической логики в XVIII в. и первой половине XIX в.
Такая постановка вопроса заставляет нас углубляться в более детальный анализ самой рефлексивной связи и объединяемых ею деятельностей. Не имея возможности проводить этот анализ систематически, мы отметим лишь несколько наиболее важных моментов.
Объединение рефлектируемой и рефлектирующей позиций может проводиться либо на уровне сознания — случай, который более всего обсуждался в философии, — либо на уровне логически нормированного знания. В обоих случаях объединение может производиться либо на основе средств рефлектируемой позиции (в этих случаях говорят о заимствовании и «заимствованной позиции» [Лефевр, 1967, с. 14–16][128]), либо же на основе специфических средств рефлектирующей позиции (тогда мы говорим о рефлексивном подъеме рефлектируемой позиции).
Когда рефлектирующая позиция вырабатывает свои специфические знания, но при этом не имеет еще своих специфических и внешне выраженных средств и методов, то мы говорим о смысловой (или допредметной) рефлексии. Если же рефлектирующая позиция выработала и зафиксировала свои особые средства и методы, нашла им подходящую онтологию и, следовательно, организовала их в особый научный предмет, то мы говорим о «предметной рефлексии».[129]
Каждое из этих направлений связи и организации знаний характеризуется своей особой логикой и методами анализа. Причем одни способы и формы связи сохраняют специфику рефлексивного отношения, т. е. отнесенность знаний к определенным способностям познания (в терминологии Канта), к определенным видам деятельности и предметам (в нашей собственной терминологии), а другие, напротив, совершенно стирают и уничтожают всякие следы рефлексивного отношения.[130] Но это все вопросы, которые нужно обсуждать в специальных работах.
Хотя все изложенное в этом разделе должно рассматриваться скорее как намек на огромную область проблем, нежели как описание или введение каких-то средств и генетических принципов анализа деятельности, этого будет достаточно, чтобы понимать использование идеи рефлексивных отношений при анализе типов знаний, их места в деятельности, а также принципов развития знаний, во многом автономного от развития деятельности.
IX. «Принцип натурализма» и «принцип деятельности» как логические и методологические принципы
Когда человек, находящийся в рефлексивной позиции, ставит перед собой задачу объединить в одно целое представления, имевшиеся у него в прежней позиции и полученные после рефлексивного выхода, преодолеть их и таким образом как бы «вернуться» назад к однородному объективному представлению, то он обнаруживает, что есть два пути и два метода решения задачи и соответственно две разные позиции, на которые он может перейти, — натуралистическая и деятельностная — и каждой из них соответствует своя особая научная и философская точка зрения.
Хотя проблема определения специфики каждой из этих позиций и их соотношения крайне сложна и имеет за собой большую литературу, мы рискнем охарактеризовать эти две точки зрения предельно коротко и вместе с тем неизбежно весьма грубо и схематично.
Натуралистическая точка зрения может быть определена прежде всего как предположение и убеждение, что человеку противостоят независимые от деятельности объекты природы; как таковые они вступают в те или иные отношения с человеком, взаимодействуют с ним, влияют на него и, благодаря этим взаимодействиям и влияниям, через них, даны человеку.
Это предположение и убеждение хорошо согласуется с распространенными обыденными представлениями нашего сознания, которое фиксирует как совершеннейшую очевидность разнообразные вещи нашего деятельностного мира и объявляет их объектами природы. Данные нашего восприятия, организованные в формы всеобщих категорий (пространства, времени, вещи и т. п.), прямо и непосредственно переводятся в утверждения о существовании объектов, причем именно в таком виде, как они нам даны. И точно так же самоочевидным считается представление, что существует и может рассматриваться в качестве элемента мирового устройства отдельный человек, взаимодействующий с вещами природы.
Многие мыслители, в том числе и К. Маркс, с помощью сложных философских рассуждений показывали и доказывали, что отдельного человека нельзя считать конституирующим элементом мира, элементом, который мог бы взаимодействовать с тем, что мы называем объектами природы [Мамардашвили, 1968 а].
Многие мыслители, в том числе и К. Маркс, называли традиционные формы человеческого сознания, связанные с категорией вещи или объекта природы, «превращенными» формами, и это выражение естественно ассоциируется с выражением «превратные формы» [Мамардашвили, 1968 b; Формы… 1970].
Несмотря на всю эту критику, натуралистический подход и натуралистическая онтология остаются основными в современной научной деятельности и лежат в основании почти всех современных наук, не только «естественных», но в значительной степени также гуманитарных и социальных.
Деятельностная точка зрения, выступающая в качестве альтернативы натуралистической, может быть определена прежде всего как предположение и убеждение, что все «вещи», или «предметы», даны человеку через деятельность, что их определенность как «предметов» обусловлена в первую очередь характером человеческой социальной деятельности, детерминирующей как формы материальной организации мира — «второй природы», так и формы человеческого сознания, что, говоря об их действительном существовании, мы должны иметь в виду прежде всего рамки и контекст человеческой социальной деятельности, ибо все то, что принято называть «вещами», «свойствами», «отношениями» и т. д. лишь временные «сгустки», создаваемые человеческой деятельностью на базе захваченного и ассимилируемого ею материала. Одна из самых резких формулировок деятельностной точки зрения, или «принципа деятельности», принадлежит К. Марксу — это первый тезис из набросков, в которых было сформулировано его отношение к работам Фейербаха: «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувствительность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самое человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность. Поэтому в «Сущности христианства» он рассматривает как истинно человеческую только теоретическую деятельность, тогда как практика берется и фиксируется только в грязно-торгашеской форме ее проявления. Он не понимает поэтому значения «революционной», «практически-критической» деятельности» [Маркс, 1955 b, с. 1].[131]
Хотя натуралистическое и деятельностное представления действительности столь сильно различаются, хотя они не только словесно, но и по существу дела противостоят друг другу, тем не менее неправильно было бы думать, что они друг друга исключают. Мы можем и должны говорить, что эти два представления, существенно различающиеся и взаимно противопоставленные, скорее дополняют друг друга. Но одновременно они неравнозначны с точки зрения общности: деятельностное представление является более широким, оно включает и объясняет натуралистическое представление, хотя вместе с тем натуралистическое представление не может быть сведено к деятельностному и стать его частью. Именно поэтому мы говорим, что натуралистическое представление дополняет деятельностное.
Но К. Маркс не случайно выдвигал на передний план именно принцип деятельности и деятельностное представление мира, ибо ничто, наверное, не оказало такого отрицательного влияния на развитие наук и философии в XIX и XX вв., как натурализм и попытки повсеместно распространить его на гуманитарные и социальные науки. В частности, он невероятно затормозил развитие языкознания и логики, на 200 лет отодвинул появление и развитие семиотики и сейчас является главным препятствием на пути создания эффективной теории проектирования и теории управления.
Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание[132]
С момента выдвижения в 1954–1957 гг. специальной программы построения теории мышления, представленного как деятельность (см. [1957 b], а также [1957 а *; 1958 b *; 1960 с *; 1962 а*; 1964 с *; 1966 е; 1967 е, f; 1968 d; 1976; Швырев, 1960]), и дополнения ее в 1959, 1962, 1963, 1967 гг. программой построения теории деятельности (см… [1965 е; 1966 а*, d; 1967 а, g*], а также [1969 b; 1970; 1971 d; 1974 d; Сазонов, 1980 а; Разработка… 1975]), основной целью и задачей методологических разработок в этих областях стало создание схем, изображающих целостные и полные теоретические единицы мышления, знания и деятельности. Это смещение сознательно фиксируемых целей и задач легко понять, если припомнить, что научное исследование (и этим оно в первую очередь отличается от всех других видов анализа) требует в качестве своего непременного условия и предпосылки выделения из общего «смыслового облака» понимающей и мыслительной работы[133] идеальных объектов масли и фиксации их в материале знаковых схем (ср. [1972 a; 1973 c; Пробл. иссл. структуры… 1967, с. 35–41]).
Из множества разнообразных схем, построенных после 1954 г. и широко используемых в современной методологии, наиболее важными, можно сказать базовыми, в настоящее время являются четыре: 1) схема многоплоскостной организации знаний; 2) схема воспроизводства деятельности; 3) схема трехслойного строения мыследеятельности (обозначается символом МД); 4) схема организационно-технического отношения и соответствующей ему организации МД, включающей в себя шаг искусственно-естественного развития систем МД. Но если по поводу первых двух схем был опубликовал ряд статей, еще в период их разработки [1957 а*, b; 1958 b*; 1960 с*; 1962 а*; 1964с*; 1965 е; 1966 а *, d; 1967а, g*], то две последние, напротив, несмотря на широкое использование их в различных прикладных работах (см., в частности, [1983а, 1983с*; Головнях, 1986]), в качестве базовых схем современной методологии нигде еще специально не рассматривались. В этой работе мы попытаемся восполнить этот пробел и рассмотреть в теоретическом плане схему МД, предпосылки ее возникновения, системно-структурное строение, а также ее смысл и содержание.
Схемы мыследеятельности — предпосылки и условия возникновения
Чтобы выяснить, почему и как появилась схема МД, нужно прежде всего отметить, что с момента появления программы построения научной теории деятельности возник совершенно очевидный разрыв между схемами мышления и знаний, с одной стороны, и схемами деятельности — с другой. С этого момента научная теория мышления и знаний и научная теория деятельности начали развиваться в совершенно разных направлениях, каждая — на базе своих особых схем и, по сути дела, не взаимодействуя друг с другом. Это создавало особенно сложную ситуацию, потому что в первой программе построения научной теории мышления 1954–1957 гг. [1957 b] объявлялось — и на этом ставился акцент, — что мышление будет рассматриваться не по содержанию движущихся в нем знаний, а именно как деятельность. В те годы считалось, что именно такой подход обеспечивает процессуально-структурное рассмотрение мышления, ортогональное к его частному объектно-предметному содержанию, позволяющее исследовать и описать, с одной стороны, процедуры и операции мышления, а с другой — типологически обобщенную и формальную структуру знаний. А через пять лет выяснилось, что анализ деятельности ведет совсем в другом направлении и сам может рассматриваться как ортогональный к анализу мышления и знаний.
И хотя закономерность и необходимость такого раздвоения были зафиксированы и прекрасно объяснены в работах Э. Г. Юдина [Юдин Э., 1976, 1978], где он разделил и противопоставил друг другу различные теоретические функции понятия деятельности (в частности, категориально-объяснительную и предметную функции), и такая возможность фиксировалась с самого начала обращения к анализу понятия деятельности [1966а *; 1967а; 1969b; 1970], тем не менее многие участвующие в этих разработках исследователи рассматривали этот разрыв[134] между представлениями мышления и представлениями деятельности и отсутствие конфигурирующих и соорганизующих их схем как весьма существенный недостаток концепции. Поэтому начиная по крайней мере с 1962 г. шли непрерывные попытки решить эту проблему и найти схемы, конфигурирующие представления о мышлении и знаниях с представлениями о деятельности.
Эти усилия стимулировались и подкреплялись, с одной стороны, удачным конфигурированием представлений о речи, языке и мышлении, осуществленном в предшествующие годы [1967 е; Генисаретский, 1970], а с другой стороны — непрерывным развитием формально-методологических представлений о конфигурировании как особом логико-методологическом приеме и успешным применением его в различных областях науки и технологии.
Весьма существенный вклад в анализ этой проблемы был сделан в начале 60-х годов О. И. Генисаретским, когда он, работая с многоплоскостными схемами знаний, показал огромную теоретическую и практическую значимость различения и разделения понятий смысла и значения не в традиционном огденовском смысле, а в ориентации на теоретико-деятельностное разделение и противопоставление синтагматических и парадигматических систем (см. [Генисаретский, 1966 b], а также [1967 а, с. 28–29]). По сути дела, таким образом за счет использования схемы деятельности О. И. Генисаретский показал на уровне работы со смыслами и значениями, как можно сохранить связь мышления с речью (ср. [1967 е]) и одновременно разделить представления о мышлении и языке, работая в сфере исторического развития языкового мышления (ср. [1967 а, е; Разработка… 1975]).
Во второй половине 60-х годов много сил в анализ этой проблемы вложили В. М. Розин и А. С. Москаева, но они пытались решить ее на уровне общих схем мышления и деятельности, а на этом уровне она, по-видимому, принципиально не имеет решения: нужно еще так трансформировать сами представления о мышлении, чтобы они удовлетворяли принципиальному разделению на синтагматическую и парадигматическую системы [1966 d; 1971 d; Пробл. иссл. структуры… 1967].
В начале 70-х годов, когда вновь вернулись к обсуждению представлений о мысли-коммуникации и о взаимоотношениях между процессами коммуникации и трансляции, в ряде работ [1971 i; 1974а*, d] мне удалось ввести и детально проанализировать схему-конфигуратор, объединяющую представления о мысли-коммуникации и представления о процессах воспроизводства деятельности, но чистое мышление на схемах и идеальных объектах оставалось при этом в стороне и никак не входило в общую схему-конфигуратор.
Сейчас, ретроспективно рассматривая развитие этих исследований, остается лишь удивляться, насколько близко было конструктивное решение проблемы и насколько тривиальным и даже само собой разумеющимся кажется оно теперь, когда решение уже найдено. И тем не менее никто из участвовавших в работе не мог сделать последних решительных шагов и зафиксировать последние штрихи, необходимые для завершения работы.
Ситуация резко изменилась в самом конце 70-х годов, когда мы стали практиковать организационно-деятельностные игры (обозначается символом ОДИ) [1983 а, с*; Зинченко А., 1983]. Новым и решающим моментом здесь оказалась необходимость обсуждать наряду с процессами и функциональными структурами МД также и их материальное распределение по отдельным участникам коллективной работы и обусловленную этим проблему соотношения между общим и различным в групповой и индивидуальной работе. Необходимость противопоставлять отдельного участника игры группе в целом по каждому интеллектуальному процессу — по мысли-коммуникации, по пониманию, по рефлексии, по мышлению и, наконец, по мыследействованию — как раз и оказалась тем важнейшим моментом, который в 1979–1980 гг. в ходе ОДИ-1, ОДИ-2 и ОДИ-3 сдвинул дело с мертвой точки. Особенно резко это выявилось в августе 1980 г. в ходе ОДИ-3: в процессе дискуссии в одной из игровых групп сложилась такая ситуация, когда один из участников общей работы в группе — М. Г. Меерович должен был во что бы то ни стало показать, что у него как молодого, или «нового», архитектора, несмотря на то что он участвует в общей коммуникации и должен участвовать в общем действии, совершенно другое содержание мышления, нежели у остальных членов группы, которых он называл «старыми» архитекторами. И, чтобы зафиксировать и сделать этот момент наглядным, М. Г. Меерович зарисовал на схеме, которая изображала расстановку позиций во время дискуссии и затем была названа организационно-деятельностной, рядом с каждым знаком позиции еще особую доску (или отдельный лист бумаги), на которой строились индивидуальные схемы содержания мышления, и наотрез отказался переносить какие-либо схемы со своей индивидуальной доски на общую доску группы и обратно — с общей доски на свою индивидуальную доску. В силу этого индивидуальное мышление, осуществляемое на индивидуальных досках (или листках бумаги), отделилось от общегруппового процесса мысли-коммуникации и получило свое собственное схематическое (и потому материализованное) обозначение и выражение (см. схему 1).
Впоследствии на базе этой схемы началось рефлексивное обсуждение вопроса о соотношении индивидуальных и общегрупповых моментов в коллективной работе: спрашивали, что именно из того, что должен развертывать в своей и общей с другими работе М. Г. Меерович, может быть индивидуальным и специфическим, а что, напротив, обязательно должно быть точно таким же, как и у остальных членов группы. Таким образом, были последовательно проанализированы мысль-коммуникация, понимание текстов, интерпретации текстов в плоскостях «мыслительных досок» и интерпретации текстов в плане индивидуального и коллективно-группового действия во время выступления группы на общем заседании (см. [1983 с*, (с. 132–141}]) и, наконец, разные формы рефлексии у разных членов группы.
Появление схемы МД можно отсчитывать от этой точки, так как в общих дискуссиях по этому вопросу было зафиксировано в коммуникативной и проблематизирующей формах все, что входит сейчас в схему МД, но сама схема еще не была нарисована. И только через месяц, в сентябре 1980 г., во время отчета игрового коллектива о происходившем на игре и в ходе общей рефлексивной дискуссии, вся ситуация была еще раз воспроизведена, мыслительно проимитирована, обговорена во вторичной коммуникации и зафиксирована в принципиальной схеме (см. схему 2); именно в этом рефлексивном обсуждении полная и целостная схема МД впервые появилась в том виде, в каком она обычно употребляется сейчас.
Интересно и, наверное, важно отметить, что по общей структуре и набору элементов эта схема во многом подобна тем схемам, которые использовались нами при обсуждении взаимоотношений организатора групповой работы с другими членами группы еще в 1964–1965 гг. (см. [Пробл. иссл. систем… с. 61–68]). Но эти последние, как легко выяснить, сличая схемы и сопровождающие их тексты, соответствовали совсем иным проблемным ситуациям и не несли того мыследеятельного смысла и тех интерпретаций, которые несла на себе схема, полученная в 1980 г. после ОДИ-3 (см. [1983c* (с. 132–141}]).
Последнее замечание подчеркивает важную роль и значение «смыслового облака» общей работы, в Котором рождается схема и которое она должна снять и выразить в себе, чтобы стать средством разрешения проблемной ситуации и продолжения безразрывного полифонического процесса МД. Сначала разные части и фрагменты общего «смыслового облака», сложившиеся в ситуации коллективной коммуникации, удерживаются отдельными ее членами за счет разных пониманий самой ситуации и рождающейся в ней схемы, и все они еще должны быть выявлены в ходе продолжающейся рефлексии случившегося и рефлексивной коммуникации по поводу ситуации и уложены (или, как часто говорят, упакованы) в саму схему за счет разных, специально вводимых в нее графем (или «фигур», по терминологии Л. Ельмслева). Затем все эти графемы, или фигуры, с закрепленными на них «кусочками» ситуативного смысла должны быть отнесены в парадигматическую систему деятельности и впервые оформиться и закрепиться в ней либо в виде соответствующих значений языка (включая и язык схем), либо в виде содержания знаний и понятий, удерживающих и фиксирующих парадигматику мышления [1974 а*].
Этим заканчивается то, что принято сейчас называть схематизацией смысла мыследеятельной ситуации и идеализацией ее содержания. А если затем схеме с ее содержанием приписывается статус самостоятельного существования, то мы говорим о появлении идеального объекта, который может стать объектом исследования и соответственно этому — фокусом и ядром научного предмета (ср. [1966с*; 1981 а*, {с. 104); 1982; 1985 с; Разработка… 1975, с. 90–96]) и предметом собственно научных исследований.
Системно-структурное строение, смысл и содержание схемы мыследеятельности
Основная принципиальная схема МД содержит три относительно автономных пояса, расположенных по горизонталям один над другим: 1) пояс социально организованного и культурно закрепляемого коллективно-группового мыследействования (обозначается символом мД), 2) пояс полифонической и полипарадигматической мысли-коммуникации, выражающейся и закрепляющейся прежде всего в словесных текстах (обозначается символом М-К), и 3) пояс чистого мышления, развертывающегося в невербальных схемах, формулах, графиках, таблицах, картах, диаграммах и т. п. (обозначается символом М).
Центральным в этой трехпоясной системе является пояс М-К, так как именно он соединяет в одно целое правую и левую части схемы, а два других пояса могут рассматриваться как лежащие по разные стороны от оси М-К. Это принципиальный момент в плане определения места и функций М в системе МД и его отношений к поясу мД: каждый из названных поясов имеет свою специфическую действительность, которая может становиться тем местом, куда проецируется содержание других поясов, и, таким образом, основанием для автономизации и обособления каждого из них в редуцированную систему МД.
При таком рассмотрении действительность М оказывается вторым пределом, ограничивающим систему МД и лежащим как бы напротив действительности мД, разворачивающейся непосредственно на реально-практическом материале человеческой жизнедеятельности. И это обстоятельство точно соответствует тому, что мы можем фиксировать феноменально: плоскость доски или бумаги, на которой мы зарисовываем схемы, формулы, графики, таблицы и т. п., выражающие идеальное содержание М, противостоит, если рассматривать ее относительно оси М-К, реальному содержанию и миру мД.
Чтобы упростить схему, а вместе с тем и идеальный объект, на примере которого рассматриваются содержание и системное строение схемы МД, мы можем ввести вертикальную ось симметрии и таким образом выделить простейший случай монологического акта М-К (см. схему 3); тогда, чтобы зафиксировать и рассматривать более сложные случаи полилогической организации М-К, придется вводить более сложные схемы, точнее отражающие особенности строения М-К в различных случаях. Точно так же для упрощения процедур идеализации и словесных пояснений на схеме 3 фиксируется не двусторонний диалог, а только односторонняя передача текста сообщения и за счет этого поляризуются функции участников диалога: один выступает как мыслящий в процессе коммуникации, а второй — только как понимающий (ср. [1972 b; 1973 е*; 1974 а*]).
Для каждого пояса МД на схеме вводится свой набор позиционеров как носителей и держателей соответствующих частных процессов, составляющих полифонию МД. В нижнем поясе это будут мыследействующие позиционеры: в левой части схемы — позиционеры 1. 1, 1. 2, 1. 3 и т. д., а в правой — позиционеры 2. 1, 2. 2, 2. 3 и т. д. Само разделение и определение ситуаций мД производится здесь относительно процесса М-К, а еще точнее — относительно акта передачи текста сообщения из одной ситуации в другую. В принципе ситуации мД могут как объединяться в одну ситуацию, и тогда акт М-К теряет свое самостоятельное значение и упаковывается в саму ситуацию мД в качестве частного ее элемента или связки, или же, напротив, резко и жестко разделяться, и тогда процесс М-К становится единственным процессом, связывающим и организующим все целое МД; в последнем случае на М-К накладываются дополнительные требования большей ее выразительности и информативности.
Формы и способы детерминации и соответственно организации процессов мД в различных ситуациях являются крайне сложными и разнообразными; здесь будет и культурная нормировка, характерная для всех воспроизводящихся систем [1965 е; 1966 a*, d; 1967 а, g*], и социальная организация [Генисаретский, 1970], и целевая детерминация, характерная для всех актов мыследействия [1974 d; Сазонов, 1980 а; Разработка… 1975], и техническая или логическая детерминация средствами, методами, техниками и правилами МД [1964 а*; 1966 j; Пробл. иссл. структуры… 1967; Акофф, 1985, 1982], и детерминация так называемыми объективными законами, характерная для всех предметных Е- и ЕИ-систем [1965 е; 1966а*; 1967а, g*; Генисаретский, 1970], и т. д. Но это означает, что все системы мД будут гетерогенными, гетерохронными и гетерархированными ИЕ-полисистемами и будут требовать соответствующего многостороннего и многопланового системного описания, проектирования и программирования.
В среднем поясе соответственно нам придется ввести коммуницирующих позиционеров: слева на схеме — выражающих мысль в вербальных текстах, а справа (по условиям упрощения и идеализации) — понимающих тексты и создающих благодаря этому пониманию смысл ситуации и смысл принятого текста [1972 b; 1974 а*].
В зависимости от того, какие пояса МД замыкаются на текст М-К, в левой части схемы можно выделить три абстрактные позиции: 3. 1 — в том случае, когда в тексте М-К выражаются какие-то аспекты и моменты ситуации мД, фиксированные в рефлексии этой ситуации; 3. 2 — в том случае, когда в тексте М-К выражаются какие-то аспекты и моменты М, и 3. 3 — в том случае, когда в тексте М-К соотносятся и связываются аспекты и моменты как мД, так и М. Аналогично для правой части схемы можно выделить четыре позиции понимающих: 4. 1 — для того случая, когда текст М-К понимается за счет рефлексивного выхода в действительность мД; 4. 2 — для того случая, когда текст понимается за счет выхода в действительность М; 4. 3 — для того случая, когда при понимании текста М-К происходит сопоставление и разделение компонентов действительности М и действительности мД, и, наконец, 4. 4 — для того случая, когда текст М-К понимается и осмысляется в собственно коммуникативной действительности.
Специально надо отметить, что пояс М-К практически не подчиняется различению правильного и неправильного. Он живет по принципам полилога (т. е. многих логик), противоречий, конфликтов и проблематизаций. Это всегда поле борьбы и взаимоотрицаний, которые только и придают М-К ее особый смысл и оправдывают ее существование в качестве особого пояса МД.
В верхнем поясе МД находятся мыслящие позиционеры. В условно-символической манере предложенной схемы позиционер 5 строит свое М на базе опыта собственного мД и опыта фиксации его в текстах М-К, а позиционер 6 строит свое М прежде всего на основе понимания чужих текстов (подкрепляемого опытом собственного мД и собственной М-К).
В отличие от всех других поясов МД пояс М имеет свои строгие правила образования и преобразования единиц выражения и законы, причем достаточно ионизированные; это все то, что Аристотель называл словом «логос», — все собственно логические правила образования и преобразования знаковых форм рассуждений, все математические оперативные системы, все формальные и формализованные фрагменты научных теорий, все научно-предметные «законы» и «закономерности», все схемы идеальных объектов, детерминирующих процесс М, все онтологические схемы и картины, все категории, алгоритмы и другие формы операционализации процессов М.
В зависимости от способов понимающей интерпретации все схемы, формулы, графики, таблицы и т. п. могут прочитываться и использоваться в процессах М либо как знаковые формы, изображающие идеальные объекты и идеализированные процедуры М, либо как сами идеальные объекты, мыследеятельностные или природные, в которые «упирается» наша мысль. Как правило, в этих случаях предполагается, что между знаковой формой и содержанием, идеальным или реальным, существует прямое соответствие, или «параллелизм» [1960с; 1966 е; 1967 f; 1968 d}. Отказ от этого принципа порождает совершенно новые структуры содержательного и методологически организованного М, развертывающегося в схемах многоплоскостной организации и по принципу "многих знаний" [1964а*; 1966 с*, j].
Как уже отмечалось, у каждого пояса МД есть своя специфическая действительность и между этими тремя типами действительности в принципе неверно устанавливать отношения тождества: как правило, они отображаются друг на друга в процессах понимания, интерпретации и рефлексии, и это может делаться каждый раз только за счет переоформления одного в другое. А содержание каждой из этих форм будет появляться в результате вторичной рефлексивной фиксации уже совершенного отображения. Но в некоторых случаях организованности содержания просто переносятся, буквально «перекладываются» из одной действительности в другую, не претерпевая при этом никаких изменений, даже изменений функционального смысла и функциональных трактовок в рефлексивном метазнании.
Поэтому всякая собственно мыслительная форма по идее должна снимать и свертывать в себе длинный и сложно организованный процесс последовательных и звездообразно стыкующихся мыслительных, рефлексивных и метамыслительных фиксаций, а понимание этой мыслительной формы предполагает обратный процесс развертывания (по сути дела, декодирования) всей этой сложной последовательности мыслительных, рефлексивных и метамыслительных преобразований.
В силу этого содержание и смыслы, выявляемые в каждой мыслительной форме за счет понимания, интерпретаций и рефлексивного анализа, определяются не только последовательными цепочками и структурами ядерной МД, которые удается раскрыть и развернуть за каждой формой собственно мыслительного знания, но и цепочками и структурами вторичных мыследеятельных процессов, рефлексивно охватывающих исходную ядерную структуру МД. И это опять-таки определяется процессами понимания и интерпретации, которые должны раскрыть и реконструировать (или декодировать) весь процесс мД, М, рефлексии и мета-М, фиксируемый в знаковой форме знания. Поэтому в большинстве случаев понимание чужой мысли вызывает обычно большие затруднения, буквально мучения стремящегося понять сознания и создает многочисленные расхождения в субъективных ее истолкованиях. Именно в таком контексте возникали античные теории математического доказательства и демонстрации в процессах рассуждения и все методологические теории интерпретации, или истолкования [Аристотель, 1978, т. 2, с. 91–346].
И по этой же причине при структурной трактовке процессов интерпретации нам приходится прибегать к различным модельным описаниям анализируемой МД; в одних случаях мы помещаем базовую структуру МД в онтологическую плоскость и тогда рассматриваем составляющие ее пояса М, М-К и мД как реальные, в других случаях мы рассматриваем базовую структуру МД как объективное содержание той или иной вторичной структуры — мышления, рефлексии или понимания — и тогда называем М, М-К или мД действительными.
Три названных выше пояса МД — мД, М-К и М, — развертывающихся согласно исходному допущению по горизонтали, связываются и одновременно объединяются в одно системное целое, с одной стороны, за счет уже указанных процессов понимания, а с другой — за счет процессов рефлексии. Процессы рефлексии охватывают и пронизывают все процессы мД, М-К и М; они могут быть представлены на схеме МД вертикальными движениями и переходами и зафиксированы в виде вертикальных связей (ср. [Разработка… 1975, с. 131–143], а также [1974 d; Пробл. рефлексии… 1983; Рефлексия в… 1984]). Носители рефлексии изображаются на схеме МД зачерненными символами позиционеров, а комбинации цифр при каждом таком символе, скажем 1–3, 3–5, 6–4 и т. д., обозначают функциональное место и характер соответствующего акта рефлексии: первая цифра символизирует рефлектируемый процесс в МД, а вторая — тот процесс, в котором находят форму и место для фиксации и выражения рефлексии. Среди прочих могут быть и рефлексивные позиции типа 1–1, 3–3 и т. д., символизирующие, что форму выражения и место фиксации рефлексии ищут в том же процессе МД, который был предметом рефлексии.
Каждый из названных поясов МД, включая понимание и рефлексию, может обособляться от других и выступать в качестве относительно автономной и самостоятельной системы. М может формализоваться, а затем объективироваться и за счет этого целиком отрываться от рефлексии М-К и мД, элиминировать их и становиться особой мыслительной деятельностью по развертыванию чистых форм М, своего рода производством знаково-знаниевых форм, содержательных, но не имеющих смысловой связи с ситуациями М-К и практического мД (ср. [1957а*; 1958 b*; 1960с*; 1962а*; 1964с*; 1966 е; 1967 f; 1968d]).
Точно так же М-К может элиминировать свои рефлексивные связи и отношения с мД и М и разворачиваться имманентно только в границах действительности М-К, превращаясь в бездеятельную и безмысленную речь, в чистую игру словами, не организующую и не обеспечивающую ни М, ни мД.
И аналогично этому может сложиться и существовать изолированное мД, оторванное от М-К и чистого М и ставшее в силу этого косным, механическим воспроизводством, лишенным всякой духовности и всех механизмов осмысленного изменения и развития. В каждом из этих случаев мы будем иметь лишь редуцированную и потому вырожденную форму МД. И сколь бы рафинированной и правильной она ни была с точки зрения существующих норм М, М-К или мД, все равно она будет оставаться бездуховной и бессмысленной с точки зрения исторических интересов МД в целом.
Можно предположить, что аналогично могут выделяться внутри МД и обособляться процессы понимания и процессы рефлексии. Первое чаще всего происходит в структурах учебной деятельности, где понимание иногда целиком вытесняет мышление или полностью сливается с ним и оформляется в виде особой и автономной деятельности понимания (ср. [Генисаретский, 1970]).
Выделение и самостоятельное оформление рефлексии представляет собой уже патологический случай, когда последовательно появляются сначала рефлексия рефлексии, потом рефлексия третьего порядка, четвертого и т. д. В методологии это называется рефлексивной возгонкой, а в психологии и патопсихологии — персеверацией.
История показывает нам много примеров подобного вырождения МД и вместе с тем демонстрирует целый ряд специальных средств и методов, выработанных для того, чтобы удержать смысловую целостность МД в условиях, когда образующие ее пояса и процессы мД, М-К и М, а также понимания и рефлексии отделялись друг от друга и распадались на самостоятельные формы МД, терявшие свою осмысленность, а вместе с тем и духовность.
В частности, то, что мы называем «научным предметом» [1981 а *, {с. 104}; 1984*, (с. 648–652}; Разработка… 1975, с. 90–96]) — а он как структура и организованность МД был создан в первой половине XVII в. и наиболее ярко описан в работах Ф. Бэкона и Г. Галилея, — является не чем иным, как формой и средством соединения умозрительного философского и методологического М с реальным техническим мД, направленным на вещи окружающего нас техноприродного мира (ср. [Разработка… с. 90–96]). При этом из традиционного мД были взяты опытные факты, из философского и теологического М — онтологические схемы и картины, из М-К — проблемы, задачи, знания и понятия, к этому добавлены новые и специфические образования — модели и эксперимент, обеспечившие связь традиционных форм М и М-К с техническим мД, и все это с помощью новых схем рефлексивного взаимоотображения было перестроено и соорганизовано в новые «знаково-знаниевые машины» МД, получившие у Галилея название «новых наук». Этим было положено начало новой, предметной форме организации МД, объединившей в рамках одной организационной единицы конструктивное и оперативное М идеализированными процессами и идеальными объектами с материально ориентированным пониманием и техническим мД. Вместе с тем было положено начало профессиям (в современном смысле этого слова), инженерному делу как соединению науки с искусством и таким непредметным связкам научных предметов, технического мД и философии, какими являются «научные дисциплины» [1984і; Мирский, 1980; Пробл. иссл. структуры… 1967].
В настоящее время эти формы предметной и дисциплинарной соорганизации М, М-К и мД и рефлексии вновь вошли в противоречие с господствующими формами технической и оргуправленческой практики, которые нуждаются в полипредметном и полидисциплинарном, комплексном мыслительном обеспечении. И это поставило на очередь дня задачу создания новых, более сложных и более гибких форм соорганизации М, М-К и мД, форм, которые могли бы обеспечить быстрое распредмечивание существующих структур МД, удерживание их смысла и содержания в непредметных (или надпредметных) знаковых формах и новое опредмечивание их в структурах и организованностях М, М-К и мД, соответствующих комплексам МД [1964 h*; 1981 а*; 1982; 1983а, с*; 1985с; Мирский, 1980; Зинченко А., 1983; Комплексный… 1979].
Разработка СМД-методологии является попыткой ответить на этот запрос. Одной из созданных на ее базе форм соорганизации М, М-К и мД в целостные единицы коллективной МД являются организационно-деятельностные игры (ОДИ) [1983 с *], другой — организационно-технические системы (сокращенно ОТ-системы) [1983 а], третьей — развивающиеся во многом независимо от СМД-методологии всевозможные классификационные и типологические формы организации знаний и схем объектов. Правильно понять назначение и функции этих форм, а также их внутреннюю природу без развернутой и детально проанализированной схемы МД просто невозможно, и этим отчасти определяется смысл и направленность данной статьи. Чтобы пояснить этот тезис, мы разберем, хотя, конечно, только в самом общем и эскизном виде, назначение и способы организации и проведения ОДИ.
Организационно-деятельностная игра как средство деструктурирования предметных форм и способ выращивания новых форм соорганизации коллективной мыследеятельности
Собрав в одной рабочей ситуации представителей разных профессий и разных научных предметов, организатор ОДИ создает таким образом невероятно сложное «месиво» из фрагментов различных систем МД. И хотя участники ситуации могут изо всех сил стремиться к взаимосогласованию и общности их работ, достичь этого без предварительной подстройки их систем МД друг к другу практически невозможно. Но поскольку участники работы тем не менее стремятся к этому единству, начинается стихийный и хаотический процесс состыковки друг с другом разных слоев и слоевых процессов из различных индивидуальных систем МД. Следствием этого являются самые разнообразные противоречия, разрывы и конфликты в коллективной МД. Они вынуждают участников ситуации выходить в рефлексивные позиции и стараться разбираться в том, что же происходит между ними. При этом первоначально используются хотя и весьма слабые, но тем не менее всегда существующие, естественно сложившиеся способности к рефлексии и анализу. Затем организатор вводит для фиксации результатов рефлексии чистые листы бумаги или специально маркированные доски и тем самым создает для всех участников ситуации еще одну дополнительную плоскость в организации пространства коллективной МД. Эта плоскость может маркироваться как рефлексивная в противоположность всему остальному в МД. Но она точно так же может маркироваться и другими способами, скажем, как плоскость, в которой будет изображаться сама МД коллектива в противоположность той плоскости, в которой будет изображаться общий объект коллективной МД или различные элементы предметных структур МД, в которых работают отдельные члены коллектива.
Но какие бы плоскости организации пространства коллективной МД мы ни вводили и как бы мы их ни маркировали, задавая ту или иную организацию самого этого пространства, во всех случаях начинаются анализ и разборка сложившегося «месива» коллективной МД и новая соорганизация в целое выделяемых и фиксируемых при этом ее фрагментов и элементов.
Конечно, разложение этого «месива» на элементы в принципе должно соответствовать правилам и способам последующей сборки и соорганизации их в новое целое. Но знание этих целостностей и соответствий между их композициями и декомпозициями может прийти только много позднее, после специального изучения возможных здесь целесообразных и функционально значимых целостностей и способов организации их из более мелких элементов. А пока начинается неорганизованная разборка «месива» коллективной МД на любые возможные в этих условиях фрагменты и элементы прежних предметных и непредметных структур, привнесенных участниками ситуации из своей прошлой жизни в МД. Разбирается всегда только то, что уже было раньше, и в процессе этой разборки на столкновениях и несоответствиях элементов друг другу познается МД. Идет процесс, который в гегелевской традиции называется распредмечиванием, а в терминологии Тэвистокского института человеческих отношений [Лапин, Пригожий, 1982; Board, 1977; Exploring… 1979] — «размораживанием».
В психологическом плане этот процесс у каждого индивида происходит тем быстрее и интенсивнее, чем больше этот индивид стремится к общей работе с другими и чем острее осознает, что причина всех неурядиц и затруднений лежит прежде всего внутри него самого, в формах организации его индивидуального сознания и в освоенных им способах работы. Однако суть и подлинное содержание этого процесса совсем не в психологической сфере индивидов, а в формах организации и процессах освоенной ими МД.
Поэтому в складывающейся ситуации все системы индивидуальной МД должны быть преобразованы и перестроены таким образом, чтобы в результате удалось организовать из них эффективную коллективную МД. Но этот процесс отнюдь не сразу, а очень медленно и постепенно пробивает себе дорогу сквозь стихию неорганизованных взаимодействий различных систем МД.
Сначала, как мы уже отметили, противоречия, разрывы и конфликты в совокупной МД вынуждают участников общей работы выходить в рефлексивные позиции. Начинается сдвижка всей совокупной МД коллектива по «рефлексивным вертикалям» и одновременно — создание новых рефлексивных форм М-К, ориентированных на выявление и фиксацию причин и источников противоречий, конфликтов и разрывов в МД. На уровне М-К вся эта работа оформляется как ситуационным анализ, целеопределение и ситуативная проблематизация осуществляемых работ.
Параллельно со всем этим начинается уяснение культурного и социального смысла позиций и точек зрения оппонентов. Появляется интерес к их способам работы, и делаются попытки разобраться в общей структуре и основных составляющих общей МД. Однако это пока не продвигает коллектив в решении исходных заданий. Необходимость соорганизации работы всех в одно целое и адаптации М и мД каждого к этому целому осознается обычно уже к исходу третьего дня работы, в крайнем случае — к началу четвертого, но средства и методы для этого пока отсутствуют.
Для того чтобы начать сознательно и целенаправленно строить новую систему коллективной МД и перестраивать, исходя из интересов целого, ее отдельные составляющие, надо иметь техническое представление МД, зафиксировать в специальных технических знаниях ее структуру, социальную и культурную организацию, процедуры и операции мД и М, средства и методы работы и т. п., т. е. представить МД в виде объекта организационно-технического действия коллектива. А это, в свою очередь, можно сделать только в действительности М. Начинается новая рефлексивная сдвижка по вертикалям всей совокупной МД — теперь уже из пояса М-К в пояс чистого М. Коллектив ищет новые схематизмы, новые знаковые формы для того, чтобы представить теперь уже в объективно ориентированной форме ситуацию коллективной МД. Сначала не очень понятно, какую — игровую или социокультурную; в действительности М различие между ними на первых порах стирается, и, чтобы удержать его, нужна специальная техника понимания схем и работы с ними. Как только появляются первые схемы для фиксации и представления ситуаций, ситуационный анализ переходит в анализ ситуаций (теперь уже как искусственных или естественных объектов, а не как рамок и условий коллективной МД).
Вместе с тем появляется характерная для методологического М возможность двойной работы со схемами — объектно-онтологической и оргдеятельной (см. [Комплексный… 1979, ч. II, с. 121–126]). Плоскости листа бумаги или доски становится уже недостаточно, чтобы в действительности М зафиксировать и отобразить это многообразие способов работы с одной схемой. Приходится вводить многомерную пространственную форму для разделения и соорганизации разных действительностей в едином процессе М и в сложной полилогической М-К, обеспечивающей его.
Попытки собственно мыслительного анализа и представления МД различных участников общей работы, начавшиеся еще в фазе конфликтов и противоречий на уровне М-К, заставляют вводить все новые и новые планы представления МД и размещать их в разных плоскостях пространственно организованной действительности М о МД; так в схемах МД появляются отдельные плоскости ценностей, целей, средств и методов работы, процедур и технологий, предметного и объектно-онтологического содержания и т. д. и т. п. Многие из этих плоскостей оказываются ортогональными друг к другу, и это дает возможность чисто композиционно и конструктивно развертывать новые комплексированные системы МД.
Таким образом, выйдя в действительность М о МД, участники коллективной работы начинают проектировать и программировать свою будущую МД, изменять и трансформировать самих себя как мыслящих, коммуницирующих и мыследействующих. Двигаясь в различных плоскостях пространственно организованных представлений о МД, они определяют различные аспекты и планы своей МД и соотносят их друг с другом, выбирая допустимые и эффективные в данных условиях комбинации.
Вся эта работа осуществляется в распредмеченных формах М — ситуационных, таблично-типологических, структурно-функциональных и т. п. — и принадлежит сфере не научного, а собственно методологического М, развивающегося в своем формальном содержании над предметами и проходящего как бы сквозь них (ср. [1981 а *; 1982 с; 1985 с]). На этом этапе и в этом процессе участники ОДИ осваивают, с одной стороны, уже существующие средства, методы и технологии методологического М, а с другой — создают новые его средства, методы и технологии или, во всяком случае, демонстрируют те лакуны и «дыры», для которых эти средства, методы и технологии необходимо создавать. За счет этого методологи-исследователи в каждой ОДИ неизменно получают свой опытно-практический и экспериментальный материал в отношении современных, наиболее развитых форм исследовательского и прожективного М.
Однако в ОДИ дело не заканчивается этим. Все программы МД, созданные в поясе чистого распредмеченного М, все вновь спроектированные структуры М-К и мД должны быть тут же реализованы; участники игры как бы «примеривают» их в своей коллективной работе и начинают создавать новый практический опыт мД. Благодаря этому оргпроекты и программы новых комплексных систем МД получают экспериментальную проверку (в условиях игровой имитации) на взаимосогласованность, эффективность, надежность и устойчивость в различных социокультурных окружениях. Системы мД, оправдавшие себя, закрепляются в виде образцов и нормируются, а не оправдавшие — либо отбрасываются, либо же распредмечиваются и развиваются дальше в тех же самых рефлексивных циклах на последующих фазах работы.
Таким образом, ОДИ оказывается не просто еще одной частной формой организации чистого методологического М или М-К, а новой формой организации МД в целом, особой единицей практической системы МД, органически связывающей М, М-К и мД в структурах такого рода, которые обеспечивают постоянное и непрерывное развитие систем МД, а вместе с тем изменение и трансформацию всего используемого в данном случае техноприродного или антропологического и социокультурного материала.
В формах ОДИ может быть организована и осуществлена разнообразная по характеру и сложности коллективная МД. Иначе говоря, ОДИ — это такая форма организации коллективной МД, в которой может быть воплощено (представлено, оформлено, проимитировано) различное МД-содержание. При этом, конечно, оно будет лишь проигрываемым содержанием, слабо нормированным, пластичным и лабильным. Но это как раз и есть то, ради чего мы обращаемся к самой игре как особому типу и особой форме организации МД.
Заключение
По нашему мнению, схема МД несет в себе совокупность принципов, определяющих правильный подход в исследовании всех явлений, связанных с мышлением и деятельностью.
Прежде всего она утверждает органическую, неразрывную связь всякого действия и всякой деятельности с подготавливающими их мыслительными и коммуникативно-смысловыми процессами. С этой точки зрения сами выражения «деятельность» и «действие», если оставить в стороне определение их через схемы воспроизводства, выступают как выражения чрезвычайно сильных идеализации, чрезмерных редукций и упрощений, которым в реальности могут соответствовать только крайне редкие искусственно созданные и экзотические случаи. В реальном мире общественной жизни деятельность и действие могут и должны существовать только вместе с мышлением и коммуникацией. Отсюда и само выражение «мыследеятельность», которое больше соответствует реальности и поэтому должно заменить и вытеснить выражение «деятельность» как при исследованиях, так и в практической организации.
Вместе с тем то, что по традиции было принято называть «мышлением», разделяется на две принципиально разные составляющие — «мысль-коммуникацию» и «чистое мышление», каждая из которых живет в своем особом процессе и имеет свои особые механизмы (ср. [Разработка… с. 169–174]). Эти составляющие существуют реально, как правило, вместе и в сложных переплетениях с другими составляющими мыследеятельности — процессами понимания, рефлексии и мыследействования и в структуре целостной мыследеятельности. Поэтому любой из этих процессов должен рассматриваться прежде всего по своим функциям в мыследеятельности и относительно всех других процессов. Анализ чистых и автономных процессов мысли-коммуникации, понимания, рефлексии, мышления и мыследействования, как это делалось обычно до сих пор, не может привести к успеху. Эффективным здесь может быть только специфический системный анализ целого (ср. [Разработка… с. 72–119]), при котором все названные выше процессы рассматриваются как частичные и образующие подсистемы внутри полисистемы мыследеятельности.
Наконец, схема мыследеятельности должна рассматриваться не как схема-модель какой-либо реальной системы, а как схема идеальной сущности, предназначенная служить теоретическим основанием для выведения из нее различных других схем: с одной стороны, моделирующих различные конкретные системы мыследеятельности, а с другой — удовлетворяющих названным выше принципам.
Поэтому основной задачей теоретической работы на базе предложенной схемы МД становится построение системной типологии различных производных систем МД, получаемых из базовой схемы путем системной фокусировки и системной редукции ее, а соответствующей задачей методологии системного анализа — выявление и описание процессов и процедур подобной работы.
НАУКА. ИНЖЕНЕРИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ
Методологические замечания к проблеме происхождения языка[135]
Зачем нужно исследовать происхождение языка?
В XIX столетии необходимость и возможность такого исследования, по-видимому, не вызывала особых сомнений. Во всяком случае, Г. Штейнталь при обосновании этой проблемы счел возможным ограничиться относительно коротким указанием на то, что ею занимались по существу все крупные философы начиная с Пифагора [Steinthal, 1877, с. 1–3]. XX век настроен куда более скептически. Например Г. Ревеш — автор самого интересного из последних исследований по происхождению языка — считает, что стремление к исследованию «происхождения» различных объектов не может быть объяснено задачами познания настоящего и лежит в «глубине глубин» человеческого духа [Revesz, 1946, с. 11]. Если бы дело действительно обстояло так, то вопрос о происхождении языка (как и вопросы о происхождении всех других явлений) заслуживал бы только одного — исключения из сферы науки. Собственно, такого взгляда и придерживаются сейчас многие лингвисты, прежде всего — представители наиболее развивающихся «структуральных» направлений. В основе их отношения к этой проблеме лежит, судя по всему, то самое соображение, которое мы находим у Ревеша: исследование происхождения языка не даст ничего для познания его настоящего состояния. Поэтому именно это положение требует обсуждения.
Характерной особенностью современной науки является то, что на передний план выдвигается повсюду задача «структурного» исследования объектов и изображения их в виде сложных систем взаимосвязанных между собой элементов. Этот процесс захватывает в настоящее время и языкознание.
Последнее утверждение — особенно из-за слов «в настоящее время» — может вызвать возражения и нуждается поэтому в пояснениях, в частности по линии различения и связанного с этим уточнения понятий системности и структурности. То, что разделение этих понятий до сих пор не проведено, объясняется прежде всего тем, что в специально-научных исследованиях не различаются и не отграничиваются друг от друга характеристики знаниям объекта знания.
Научное знание всегда системно. Уже простейшие виды знания, такие как «береза — белая», «металл — электропроводен» и т. п., представляют собой «системы»: форма их состоит из элементов, связанных друг с другом, а вместе с тем и содержание выступает расчлененным и одновременно связанным в некоторое единство. И какие бы другие более сложные виды знаний мы ни брали — отдельные положения или целые теории, — они всегда будут системными. Разница заключается только в виде и сложности самих систем.
Обратимся теперь к объектам. Всякий реальный объект, если говорить о его «материальной природе», представляет собой сложное целое и имеет определенное строение. Но, в зависимости от задач исследования, он может рассматриваться и рассматривается по-разному: во-первых, как простое тело, со стороны «внешних», если можно так сказать, свойств (последние, в свою очередь, могут быть: а) атрибутивными или 6) функциями); во-вторых, как сложное тело, со стороны состава, т. е. как собрание, совокупность элементов (последние могут рассматриваться: а) как разнородные, и тогда состав характеризуется только по «качеству», или б) как однородные в определенном отношении, и тогда состав получает также и количественную характеристику); наконец, в-третьих, как «сеть» или «решетка» связанных между собой элементов. В этом последнем случае на передний план в исследовании выступают не элементы и даже не отношения между ними, а связи элементов. Нам здесь важно отметить, что это объективные связи, т. е. не связи между элементами знания об объекте — в этом случае мы опять вернулись бы к системности знания, — а связи между элементами самого объекта и в самом объекте, связи не как продукт мыслительной деятельности, а как то, что исследуется и должно быть определенным образом воспроизведено в знаковой форме знания.
Только этот подход к исследованию объекта и только такое воспроизведение его в знании мы называем «структурными» (в противоположность «системным»).
С этой точки зрения, к примеру, знания «береза — белая» и «металлы — электронроводны» не являются структурными: они не выражают никаких связей между объектами и в объектах. Не являются структурными и такие знания, как «А больше В»: они выражают отношения, а не связи.[136] Точно так же не являются структурными многие языковедческие знания и системы этих знаний (можно сказать, подавляющее большинство). Они системны, но не структурны, поскольку не отражают объективных структур.
Этих замечаний недостаточно для точного определения понятий «системности» и «структурности», но их достаточно, чтобы пояснить смысл выдвинутого выше положения: говоря, что в настоящее время все науки, включая и языкознание, все больше вовлекаются в структурное исследование, мы имеем в виду именно то, что они все чаще и чаще начинают рассматривать свой объект как структуру. А это действительно датируется самым последним временем.
Более того, мы не говорим, что в этих науках осуществляется структурное исследование, а только то, что они вовлекаются в него. Тем самым мы стремимся подчеркнуть, что успехи структурного исследования еще крайне незначительны. Объясняется это прежде всего тем, что эмпирическое структурное исследование сложных объектов (какого бы частного вида они ни были) наталкивается на весьма серьезные затруднения, которые, в общем и целом, остаются пока что непреодолимыми.
Характер этих трудностей был довольно подробно описан в целом ряде книг и статей,[137] и мы поэтому не будем здесь на них останавливаться. Важно подчеркнуть только один момент: затруднения, Возникающие на пути эмпирического анализа структуры сложных объектов, приводят к подмене, можно даже сказать, к «перевертыванию» самой задачи — вместо того чтобы анализировать, расчленять в абстракциях заданный объект, начинают строить, конструировать другой объект, структурный, и рассматривают его в качестве заместителя или модели исследуемого объекта. Поскольку структура модели создается, строится самим исследователем, она известна, а поскольку она рассматривается как модель исследуемого объекта, то считается познанной и структура последнего.
Такими были уже самые первые исследования структур в механике (И. Бернулли, Ж. Д'Аламбер). Их метод был перенесен затем в исследования строения вещества (так называемые «молекулярно-кинетические», «электронные» теории и т. п.), а в последнее время получил распространение и во всех других науках. В частности, не так давно специально обсуждались возможности применения этого метода при анализе языка [Bar-Hillel, 1954; Chomsky, 1955]. По существу, такое переворачивание задачи является, по-видимому, единственным известным нам сейчас продуктивным средством и способом исследования и воспроизведения в мысли структур объектов.
Но вместе с тем — и эта сторона дела должна быть отчетливо осознана — то обстоятельство, что структуры объектов-моделей строятся, конструируются, не снимает задачи эмпирического анализа структуры исходных исследуемых объектов. В господствующих течениях современной позитивистской методологии или «логики науки» проблема построения систем моделей получила специфически математическую окраску и берется крайне односторонне. Вопрос о соответствии модели исходному объекту, или, иначе, вопрос об «адекватности» модели (конечно, относительно определенной задачи), отодвигается на задний план или совсем отбрасывается. Это достигается благодаря отделению вопроса о построении модели от вопроса о так называемой интерпретации ее. Получается, что сначала мы должны построить структуру («формальную», как часто говорят), а затем уже решать вопрос, может она рассматриваться как модель исследуемого объекта или не может. Все, что относится к решению первой задачи, есть фактически чистая «математика», т. е. «формальная» дисциплина, занимающаяся построением (в пределе — любых) возможных структур; и это построение, по существу, независимо от задачи исследования того или иного частного объекта. Но таких структур, очевидно, может быть бесконечно много, а в эмпирическом исследовании нас интересует всегда только одна определенная структура, дающая «правильное» изображение заданного объекта. Поэтому в эмпирическом исследовании нас всегда интересует не просто построение какой-либо формальной структуры и не принципы построения формальных структур вообще, а такое построение, которое было бы оправданно с точки зрения задачи отражения или изображения одного определенного объекта, которое, если и не в каждом шаге, то уж, во всяком случае, в основных принципах, апеллировало бы к объекту, доказывало бы свою «эмпирическую истинность». Очевидно, что теория формального построения системы, т. е. построения, отделенного от процессов интерпретации, не может дать такого обоснования и оправдания. Но это значит, что «математическая» теория построения структур, хоть она и является как идея весьма естественной, а как теория — весьма плодотворной в определенных отношениях, тем не менее ни в коем случае не может заменить или полностью вытеснить задачу эмпирического исследования определенных структурных объектов. Она лишь становится рядом с этой последней и дает ей определенные формальные средства. Но, чтобы стать логикой эмпирического исследования, они должны быть дополнены приемами эмпирического анализа. А эти приемы, как мы уже говорили, остаются до сих пор в общем и целом неисследованными.
Когда в сферу изучения попадают исторически развивающиеся, или, как их называл К. Маркс, «органические», объекты, то дело, с одной стороны, еще более усложняется, а с другой — несколько облегчается В определенных отношениях.
Усложняется потому, что в объектах такого типа существуют фактически две системы связей — функционирования и генезиса,[138] причем эти системы, с одной стороны, существенно различны и должны быть различены, а с другой — не могут быть отделены друг от друга. Если мы, предположим, ставим перед собой задачу исследовать и воспроизвести в знании связи функционирования органического объекта отдельно от связей генезиса, то очень часто это просто невозможно сделать: в каждый момент времени, в каждом «синхронном» срезе объекта генетические связи продолжают действовать, продолжают оказывать влияние на связи функционирования и даже, более того, определяют характер и строение последних. Поэтому связи функционирования, если пытаться брать их отдельно, либо вообще не могут быть выделены, либо, если их все же удается фиксировать, не могут быть объяснены; они кажутся неправдоподобными, мистическими.
Этот факт был обнаружен уже давно, а в работах Гегеля и Маркса было показано, что решение проблемы лежит в разработке «исторических теорий» подобных объектов.[139] Но принять этот тезис — значит согласиться с такой постановкой вопроса: для того чтобы исследовать и воспроизвести в знании структуру функционирования объекта, надо предварительно исследовать и воспроизвести в знании его генетическую структуру (может быть, не всю, но, во всяком случае, в тех ее частях, от которых зависит характер структуры функционирования). Чтобы проанализировать одну структуру — функционарную, надо предварительно проанализировать еще другую — генетическую. При этом встает старый парадокс. Понимание структуры функционирования зависит от понимания структуры генезиса. Но и наоборот: степень понимания структуры генезиса зависит от того, насколько глубоко и детально мы проанализировали структуру уже «ставшего», развитого состояния рассматриваемого объекта. К. Маркс указывал на необходимость исследовать развитые состояния органических объектов с точки зрения истории их развития, но ему же принадлежат знаменитые слова о том, что ключ к пониманию анатомии обезьяны лежит в анатомии человека. Преодоление этой антиномии заключается в разработке такого способа исследования, который сочетал бы в себе приемы как функционарного, так и генетического анализа, в котором бы исследование «ставшего» состояния объекта было средством для воспроизведения его генезиса, а знание законов генезиса служило бы средством для анализа и более глубокого понимания структуры функционирования в самом развитом состоянии. По богатству и разнообразию своих приемов, по разнообразию связей между ними такой способ исследования, естественно, значительно сложнее, нежели способ исследования только функционирования или только генезиса. И выявление этих приемов и связей между ними представляет значительно более трудоемкую работу. В этом — усложнение методологической задачи при переходе к исследованию органических объектов.
Но в этом же заключено и то, что облегчает ее. Анализ генетической структуры развивающегося объекта в подобном способе исследования, как мы уже сказали, должен быть одновременно этапом в воспроизведении структуры функционирования этого объекта. Но если подходить к вопросу в этом плане, то нетрудно заметить, что знания о закономерностях генезиса можно использовать таким образом, чтобы они давали дополнительные, весьма важные данные о способе и порядке построения структуры функционирования заданного объекта, данные, которых не может быть при воспроизведении структуры обычного, неорганического объекта. Именно можно положить, что это построение должно воспроизводить историю развития рассматриваемого объекта от его первого, простейшего структурного состояния до последнего, наиболее сложного. Иначе, в более общей форме, это выражается так: можно положить, что способ и порядок построения функционарной структуры органического объекта должен соответствовать закономерностям развития этого объекта.
Тогда задача отыскания структуры рассматриваемого органического объекта сведется к трем более частным задачам: 1) произвести эмпирический «неструктурный» (хотя и ориентированный на выявление определенных структурных моментов) анализ «ставшего» наиболее развитого его состояния; 2) выявить, найти каким-то способом структуру, которую можно было бы рассматривать как простейшую для него, генетически исходную; Гегель, а вслед за ним и Маркс называли эту структуру «клеточкой» исследуемого предмета; 3) найти закономерности развития этой структуры в более сложные, такие, чтобы в конечном счете они привели к структуре, характеризующейся всеми теми проявлениями, которые были выделены при эмпирическом «неструктурном» анализе ставшего состояния объекта. Решение этих трех задач и будет решением основной исходной задачи: выявить структуру функционирования заданного объекта.
В контексте настоящей статьи нас интересует прежде всего вторая задача: выявление «клеточки» рассматриваемого объекта. Это дело крайне сложное, требующее точно так же своих изощренных приемов и способов исследования. А. А. Зиновьевым [Зиновьев, 1954] был описан ряд общих признаков «клеточки», знание которых дает возможность ответить, является та или иная структура «клеточкой» заданного объекта или нет. Но этих признаков еще недостаточно для построения самой структуры «клеточки». Они говорят, какой должна быть конструируемая структура в отношении к эмпирически описанному объекту того или иного типа, но не говорят (и не могут сказать), что она есть в каждом конкретном случае. Чтобы сконструировать «клеточку», нужна еще какая-то дополнительная процедура.
Если мы подойдем к описанию этой процедуры с исторической точки зрения, то без труда сможем заметить, что она очень похожа на описание того, что обычно называется происхождением того или иного объекта. К примеру, если мы пытаемся найти «клеточку» объекта, называемого языком, то описание этой процедуры с исторической точки зрения будет описанием «происхождения» языка.
Таков, собственно, в общем виде ответ на поставленный в начале статьи вопрос. Если мы признаем задачу структурного (а не просто системного) исследования языка, то мы вынуждены встать на позиции генетического структурного исследования. А если мы поставили задачу генетического структурного исследования, то мы должны принять также и задачу исследовать происхождение языка. Решение последней задачи есть, по существу, первый приближенный ответ на вопрос, что такое ставший, развитый язык как структура.
Когда можно ставить вопрос о происхождении
Определив таким образом задачу исследования происхождения языка, мы должны теперь рассмотреть само «происхождение» как категорию метода в системе структурного анализа. И прежде всего необходимо выяснить, когда и где мы можем и должны ставить вопрос о происхождении чего-либо, в каких условиях можно и нужно применять специфический для этой категории способ подхода.
Если предметом исследования является развивающееся сложное целое, если мы рассмотрели и воспроизвели в мысли его определенное историческое состояние, а затем направляем исследование на процесс дальнейшего развития, то всякое структурное изменение в этом целом, вообще говоря, можно рассмотреть как акт происхождения какого-то нового предмета. Тогда рассматриваемый процесс развития представится как непрерывная последовательность «происхождения» все новых и новых предметов. Но при таком подходе проблема происхождения перестает быть самостоятельной и специфической, она поглощается более общей проблемой — проблемой развития. Другими словами, в условиях, когда нам задано какое-то исторически предшествующее состояние исследуемого предмета и мы должны исследовать и воспроизвести в мысли его последующие состояния, вопрос о «происхождении» не встает и мы должны исследовать не происхождение, а развитие заданного целого.
Но если мы рассмотрим этот же объективный процесс развития с иной точки зрения, если мы возьмем его так, как он представляется исследователю, имеющему перед собой развитый, или, как мы говорим, «ставший» предмет, и задачу исследовать и воспроизвести в мысли становление этого предмета, данного и в определенных отношениях познанного в его «последнем состоянии», то в таких условиях задача исследовать и воспроизвести в мысли происхождение этого предмета оказывается вполне определенной и правильно поставленной. Другими словами, исследовать происхождение чего-либо можно только тогда, когда мы знаем, происхождение чего мы собираемся исследовать, только тогда, когда мы знаем рассматриваемый предмет в его «последнем» состоянии.[140]
Такая постановка вопроса — о происхождении — будет единственно правильной, если мы знаем только последнее, «ставшее» состояние рассматриваемого предмета и не знаем его предшествующих исторических состояний.
Зависимость схемы происхождения от типа структуры предмета. Языковое мышление и язык
Чтобы охарактеризовать дальше категорию происхождения, мы должны описать схемы тех объективных процессов, которые мы называем «происхождением», и те приемы, посредством которых мы исследуем эти процессы и воспроизводим их в схемах. Но сделать это в общем виде оказывается невозможным, так как план исследования происхождения какого-либо предмета (а вместе с тем и сама схема происхождения этого предмета) зависит от типа структуры предмета. Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью специфицировать нашу задачу и анализировать происхождение в его частных формах как происхождение предметов определенного структурного типа. Основная методологическая задача сводится тогда к тому, чтобы выяснить, какие условия накладывает структурность выделенного предмета на ход исследования его происхождения.
Но, прежде чем приступить к решению непосредственно этой задачи, мы должны обсудить еще один вопрос: именно о различии объекта и предмета исследования, или, соответственно, объекта и предмета науки.
Объект науки существует независимо от науки и до ее появления. Предмет науки, напротив, формируется самой наукой. Приступая к изучению какого-либо объекта, мы берем его с одной или нескольких сторон. Эти выделенные стороны становятся «заместителем» или «представителем» всего многостороннего объекта. Поскольку это — знание об объективно существующем, оно всегда объективируется нами и как таковое образует предмет науки. Мы всегда рассматриваем его как адекватный объекту. И это правильно. Но надо всегда помнить — а в методологическом (или логическом) исследовании это положение становится главным, — что предмет науки не тождествен объекту науки: он представляет собой результат определенной анализирующей и синтезирующей деятельности человеческого мышления, и как особое создание человека, как образ или модель, он подчинен особым закономерностям, не совпадающим с закономерностями самого объекта.
Одному и тому же объекту может соответствовать несколько различных предметов науки (или исследования). Это объясняется тем, что характер предмета зависит не только от того, какой объект он отражает, но и от того, зачем это! предмет сформирован, для решения какой задачи. Задача исследования и объект являются теми двумя факторами, которые определяют, как, с помощью каких приемов и способов исследования будет сформирован необходимый для решения данной задачи предмет науки (ср. [О соотношении… 1960, с. 75–77]).
Эти замечания имеют прямое отношение к рассматриваемому вопросу. Дело в том, что схема исследования происхождения зависит не только и не столько от самого объекта, сколько от вида, в каком мы его представляем, т. е. от характера «предмета». А предмет, называемый \ «языком», является отнюдь не единственным способом представления соответствующего объекта.
В статье [1957а*] мы стремились показать, что в случае целого ряда задач этот объект нужно представлять в виде особого предмета — «языкового мышления», общая структура (или «каркас») которого может быть изображена схемой 1:
При этом мы подчеркивали, что тот же самый объект может рассматриваться и в других аспектах. Например, если рассматривать его со стороны знаковой формы и учитывать остальные элементы в виде функций, т. е. в виде свойств, возникающих у знаковой формы и ее элементов благодаря связи с объективным содержанием и между собой, то этот объект выступает не как «языковое мышление», а как «язык», не как взаимосвязь, а как материал, несущий на себе определенные функции [1957 а*, {с. 458–465}].
Важно специально подчеркнуть, что как язык при таком понимании не является частью языкового мышления, так и языковое мышление не является частью или стороной языка. «Язык» и «языковое мышление» — это разные названия для одного и того же целого, рассматриваемого именно как целое, но только с разных сторон, с разных ограниченных точек зрения, в связи с различными задачами исследования. Предмет «язык» возникает не в результате выделения какой-то части из «языкового мышления», а в результате абстракции при рассмотрении этого целого в определенном ракурсе. С этой точки зрения понятия «языка» и «языкового мышления» являются абсолютно равноправными: и то, и другое есть абстракции, складывающиеся при рассмотрении исследуемого целого в различных ракурсах.
Но помимо этих способов изображения могут быть и другие. Тот же самый объект может выступить перед нами как «мыслительный процесс», если мы будем рассматривать его со стороны деятельности, порождающей взаимосвязи представленного на схеме 1 вида, и введем характеристики объективного содержания и знаковой формы относительно этой деятельности. В этом случае она тоже уже не будет взаимосвязью такого вида, а будет представлять собой особые системы действий [1957 b; 1960 а*].
Рассматривая заданный объект в одном случае как взаимосвязь «языкового мышления», в другом — как «язык» и в третьем — как собственно «мыслительный процесс», мы будем формировать фактически различные предметы исследования, причем различные также и в отношении типов их структуры, а поэтому анализ их происхождения будет проходить по-разному.
Это утверждение нисколько не противоречит тому, что объект у всех этих предметов один, а следовательно, единым является и реальный процесс его происхождения. Исследование и изображение этого объекта носит различный характер в зависимости от того, какую его сторону мы делаем главным и непосредственным предметом нашего рассмотрения: если «язык», то исследование выступает как анализ происхождения материала, несущего на себе определенные функции; если «мыслительный процесс», то — как анализ происхождения определенной познавательной деятельности; наконец, если «языковое мышление», как оно изображено на схеме 1, то это будет анализом происхождения прежде всего специфически мыслительного объективного содержания, знаковой формы и связи значения, объединяющей их в одно целое. Но и первое, и второе, и третье не являются изображениями различных процессов происхождения, а представляют собой лишь разные аспекты исследования одного и того же объективного процесса — процесса происхождения заданного объекта в целом. Как аспекты рассмотрения одного и того же процесса эти три плана исследования должны быть взаимно координированы и объединяться в одну целостную картину. Но условием этого объединения должно быть предварительное четкое и осознанное разделение.
Здесь тотчас же возникает исключительно важный вопрос: в какой последовательности нужно рассматривать происхождение этих трех предметов? Они не стоят друг к другу ни в отношении абстрактного и конкретного, ни в отношении целого и части. Поэтому методологические правила, связанные с этими категориями, не могут помочь в решении данного вопроса. Взаимосвязь языкового мышления, если ее интерпретировать как изображение знаний, может рассматриваться как продукт мыслительной деятельности. Но что нужно рассматривать сначала при исследовании происхождения: продукт или порождающую его деятельность — этот вопрос остается пока невыясненным. Отношение «языка» как особого предмета исследования к «языковому мышлению» напоминает отношение формы к целостной взаимосвязи «форма — содержание». Но именно напоминает, а не тождественно ему, ибо здесь сквозь призму формы рассматривается фактически вся взаимосвязь в целом. Вопрос о том, с чего начинать анализ происхождения, является здесь столь же неясным, как и в первом случае. Таким образом, задача состоит в том, чтобы проанализировать все варианты с точки зрения тех возможностей, которые они представляют для наиболее полного исследования происхождения объекта, рассматриваемого сквозь призму всех этих предметов.
Необходимо также специально оговориться, что ни структура «языкового мышления», изображенная на схеме 1, ни структурное представление «языка» в виде материала и функций не являются клеточками этих предметов, необходимыми для структурного моделирования их развитых состояний. Для выявления таких «клеточек» и предпринимается, собственно, исследование происхождения. Но в то же время знания о том, что «языковое мышление» имеет структуру, изображенную на схеме 1, или что «язык» состоит из материала и функций, позволяют сделать целый ряд выводов о схемах исследования происхождения этих предметов и таким образом решить методологическую задачу, поставленную выше: определить, какие условия накладывает вид этих структур на ход исследования происхождения.
Схема сведения при исследовании происхождения языка
Начнем с анализа происхождения того предмета, который мы назвали «языком». Он выступает перед нами как определенный «материал», несущий на себе «функции», и, следовательно, представляет собой сложное образование, содержащее, по меньшей мере, две существенно различные по своей природе «стороны». Но если мы имеем сложный предмет и хотим исследовать его происхождение, то вполне естественной кажется мысль: попробовать «разложить» эту задачу и свести ее к исследованию происхождения различных «сторон» выделенного предмета. Для такого предмета, как «язык», это означает, что исследование его происхождения должно распасться на две части: исследование происхождения «материала» языка и исследование происхождения его функции. (Заметим, что мы сейчас не обсуждаем вопрос, что представляет собой эта функция, скажем, «отражение», «замещение» или «обозначение»; для нас существенным является только одно, что это какая-то функция.)
Чтобы представить себе, как должно быть произведено это расчленение и, что еще важнее, как затем нужно было бы соединить обе части исследования воедино, предположим, что мы знаем и можем привлечь к рассмотрению историю интересующего нас предмета (эмпирическую или уже обработанную какими-либо логическими методами, — в данном случае это безразлично). Тогда, «двигаясь» по этому историческому материалу от более развитых форм исследуемого предмета к формам все более простым и неразвитым, мы дойдем до такого момента, когда интересующая нас функция данного материала уже исчезла, а материал предмета еще остается, т. е. остается его субстанция, несущая на себе другие функции. Мы фиксируем этот момент и тем самым разбиваем историю рассматриваемого предмета на собственно историю и доисторию.
Дальше, в зависимости от природы предмета, происхождение которого мы исследуем, возможны два варианта. В первом — исчезновение выделенной функции у материала рассматриваемого предмета означает исчезновение этой функции вообще. И тогда доистория рассматриваемого предмета представляет собой историю материала предмета до того, как он «принял на себя» интересующую нас функцию. Этот случай можно изобразить схемой 2.
Во втором случае исчезновение выделенной нами функции у материала рассматриваемого предмета не означает, что этой функции вообще больше нет в том сложном исторически развивающемся целом, с которым мы имеем дело и «стороны» которого являются предметом нашего исследования. Чаще всего эта функция остается, но ее несет на себе другой материал. В этом случае мы должны разбить доисторию рассматриваемого предмета как бы на две ветви: историю выделенной функции до того, как она была «принята» интересующим нас материалом, или праисторию, и историю материала исследуемого предмета до того, как он приобрел эту функцию, или предысторию. Таким образом, вся история рассматриваемого предмета разбивается на три части, или ветви: праисторию, предысторию и собственно историю. Их связывает в единое целое процесс или акт "возникновения" рассматриваемого предмета как такового, т. е. «появление» исследуемой функции у данного материала, «соединение» материала с функцией. Исследование этих трех моментов, именно праистории, предыстории и возникновения, и составляет в целом исследование происхождения рассматриваемого нами предмета, состоящего из материала и функции (ср. [Revesz, 1946, с. 21–27]). Все эти моменты можно изобразить схемой 3.
Здесь очень важно заметить, что ни в праистории, ни в предыстории исследуемого предмета не может быть сторон, специфических для его первоначально выделенного или, как мы его назвали, «последнего состояния», иначе мы не могли бы говорить о возникновении этого предмета. В предыстории мы рассматриваем материал исследуемого предмета, но этот материал существует и дан нам без того свойства, которое только и делает его материалом первоначально выделенного целого. В праистории мы рассматриваем функцию исследуемого предмета, но эта функция дана нам без того свойства, которое только и делает ее функцией первоначально выделенного целого. Их специфика, или свойство, превращающее одно в материал, а другое в функцию, появляется на этапе «возникновение» в результате соединения того и другого и представляет собой связь особого рода.
Отсюда следует, что, имея своей задачей исследование происхождения сложного целого такого типа, мы должны расчленить его так и выделить в нем такие стороны, которые уже не содержат его специфических черт как целого. Соответственно если мы осуществляем это расчленение в форме «обратного движения» по истории исследуемого предмета, то должны искать в этой предшествующей истории в качестве пра- и предформ именно такие явления, которые не содержат его специфических черт.
Это исключительно важный вывод, определяющий весь план дальнейшего анализа процесса происхождения.
Заметим также, что к материалу многих сложных предметов, в том числе и к материалу языка, может быть вторично применено разложение на функцию и материал. Тогда предыстория рассматриваемого предмета, а соответственно и процесс исследования ее, в свою очередь, распадутся на три части, относящиеся друг к другу точно так же, как и в разобранном выше случае. Продолжая это расчленение, мы в конце концов разобьем процесс происхождения сложного предмета, содержащего в себе ряд функций, на несколько относительно отграниченных друг от друга «кусков» и сведем первую часть исследования происхождения такого целого к ряду более частных и относительно независимых друг от друга исследований. Это будут: 1) исследование происхождения «чистого материала», или «субстанции», исходного предмета, 2) исследование происхождения его функций, 3) исследование процессов «соединения» этой субстанции с выделенными функциями, т. е. ряд процессов «возникновения». Только система этих частных исследований, проведенных в определенной последовательности и в определенной взаимосвязи друг с другом, позволяет исследовать происхождение такого сложного целого, каким является «язык», целого, состоящего из субстанции и нескольких функций.
Если теперь мы попробуем взглянуть на изложенное выше рассуждение в рефлективном плане и оценить характер его с точки зрения процесса построения структурной модели, то без труда заметим, что по направленности и способу своему оно относится не к собственно построению, не к «синтезу» структуры, а, наоборот, к процессу разложения ее, к анализу. На первый взгляд это может показаться необоснованной подменой темы и уходом от непосредственной задачи. Но по существу это не должно смущать нас, так как выше мы уже выяснили, что в системе эмпирического исследования «дедуктивное» построение структуры не может быть оторвано от противоположно направленного процесса разложения целого на элементы, от анализа. В контексте эмпирического структурного исследования анализ и синтез составляют лишь стороны или моменты единого движения.
Особенностью этого движения в данном случае является то, что анализ совершается в виде генетического сведения исторически более развитого образования к его пред- и праформам, а синтез соответственно должен будет принять вид генетического выведения заданного образования из этих пред- и праформ. Сведение и выведение точно так же неразрывно связаны друг с другом и составляют лишь стороны и моменты единого генетического структурного исследования. Поэтому, имея задачей генетическое выведение, мы прежде всего осуществляем генетическое сведение, и без него фактически невозможен ни один шаг выведения.
Итак, приведенные выше рассуждения относятся к генетическому сведению; оно является необходимой стороной и элементом исследования происхождения языка в контексте генетического выведения, но одним им — и это нужно отчетливо сознавать — исследование происхождения предмета отнюдь не ограничивается. Вторую и, мы бы сказали, более важную часть в исследовании происхождения составляет процесс собственно «генетического выведения». Его задача состоит в том, чтобы показать, каким образом и при каких условиях происходит «соединение» материала с функцией и, соответственно, появление специфических свойств первоначально выделенного целого. Только тогда, когда мы покажем, как это происходит, мы объясним само «происхождение».
Проблемы выведения. «Язык» (как особый предмет исследования) не имеет происхождения
Теперь, следуя общему плану анализа, мы должны рассмотреть переходит процессов сведения к процессам выведения и оценить «язык» (как особый предмет исследования) с точки зрения последних.
В начале нашего рассуждения о сведении мы предположили, что знаем и можем привлечь к рассмотрению эмпирическую или логически уже обработанную историю интересующего нас предмета. Исходя из этого знания — так мы полагали можно было определить, какие из функций рассматриваемого предмета появляются позже, а какие — раньше, и в соответствии с этим построить все исследование. Предполагалось также, что как функции (отдельно от выделенного материала), так и материал (отдельно от интересующих нас функций) даны объективно в качестве самостоятельных явлений и могут быть исследованы и воспроизведены в мысли. Однако вместе с тем мы подчеркивали, что задача исследовать происхождение какого-либо сложного предмета (как особая задача, отличная от задачи исследовать развитие какой-либо пред- или праформы этого предмета) ставится, как правило, только тогда, когда нам дан и известен один лишь «ставший» предмет, а его предшествующие стадии, в том числе эмпирическая история его происхождения, неизвестны и их нужно еще только выявить и как-то воспроизвести в знании. Поэтому наше положение о наличии знаний по истории рассматриваемого предмета было особым методическим приемом, позволившим сделать ряд предположений и на их основе несколько продвинуться вперед в исследовании.
Совершенно очевидно, что отсутствие каких-либо знаний по истории рассматриваемого предмета значительно осложняет все исследование. В частности, мы не знаем, в каком порядке и в какой последовательности возникали различные его «стороны». Но мы знаем — безотносительно к знанию конкретной истории, — что такая последовательность и определенная объективная зависимость появления одних «сторон» от наличия и функционирования других существовала, а поэтому должна существовать определенная последовательность рассмотрения процессов происхождения этих «сторон». Но даже и в том случае, если бы все эти «стороны» возникли и сложились одновременно, исследователь может рассмотреть их возникновение только по отдельности и в определенной последовательности, которая определяется отношением и связью этих сторон внутри «ставшего» целого.[141] Иначе говоря, перед исследователем, желающим осуществить выведение, возникает особая и сложная логическая задача: он должен выяснить последовательность рассмотрения происхождения различных «сторон» сложного целого, имея перед собой и зная лишь последнее, «ставшее» состояние этого целого.
Однако именно в этих условиях описанный выше способ расчленения истории происхождения рассматриваемого предмета и, соответственно, способ расчленения самого исследования оказывается весьма полезным и плодотворным. Он дает нам возможность, помимо всяких эмпирических знаний об истории рассматриваемого предмета, только на основании знания о его последней стадии перейти от общей задачи исследования происхождения этого предмета к ряду более частных задач: во-первых, к исследованию происхождения выделенной нами субстанции рассматриваемого предмета, во-вторых, к исследованию происхождения выделенных функций, в-третьих, к исследованию «соединения» субстанции с функциями, т. е. к исследованию процессов «возникновения». Одновременно это расчленение оказывается определенным этапом в реконструкции исторического процесса происхождения рассматриваемого предмета. Оно как бы «оборачивается» в генетический план и дает нам знание, во-первых, об исходных пунктах процесса — это субстанция рассматриваемого предмета и его функции, во-вторых, о всех «кусках» исследуемого исторического процесса. Правда, вопрос о последовательности рассмотрения происхождения выделенных в предмете функций, или, другими словами, о генетическом упорядочении всех этих «кусков» реконструируемого исторического процесса, все еще остается нерешенным, однако определенная часть работы по реконструкции происхождения рассматриваемого предмета уже проделана, и проделана с помощью описанного выше чисто структурного расчленения. Но, получив благодаря такой реконструкции знание об исходных пунктах процесса происхождения и его «кусках», мы можем тотчас же сделать следующий шаг в исследовании — «перевернуть» задачу и рассмотреть происхождение интересующего нас предмета как процесс развития его субстанции или функций и, в частности, рассмотреть в качестве процессов развития этой субстанции или этих функций процессы их соединения, т. е. то, что мы выше назвали процессами «возникновения». Мы можем сделать это, так как в ходе сведения получили новые дополнительные данные об исследуемом предмете — гипотетически вводимые пред- и преформы его — и теперь знаем не только последнее «заключительное» состояние этого предмета, но и определенные исходные состояния, которые могут рассматриваться как начало определенного исторического процесса — процесса развития. Благодаря этому анализ происхождения определенного «ставшего» предмета выступает в форме анализа развития другого определенного предмета, «происхождение» выступает уже не как противопоставленное развитию, а как включенное в него, как его вид, категория происхождения — как подчиненная категории развития. Но, чтобы осуществить исследование в связи с этим новым планом, нужно знать логическую структуру категории развития, ее специфические приемы и средства. А это остается до сих пор почти неизвестным и мало исследуемым. Таково первое затруднение, с которым сталкивались исследователи, пытаясь осуществить выведение при исследовании происхождения языка.
* * *
Но есть еще другой фактор, другая трудность, более значительная. Она отчетливо выступила во многих исследованиях по происхождению языка, но до сих пор остается недостаточно осознанной. Речь идет о том, что «язык», если рассматривать его сам по себе, как особый «предмет», по-видимому, вообще не имеет и не может иметь происхождения в точном смысле этого слова.
Действительно. Мы рассматриваем язык как материал, несущий на себе определенные функции. Символически — как предмет вида βА, где β изображает функцию, а А — материал. Осуществить выведение при исследовании происхождения такого предмета — это значит показать механизм появления функции β. Но поставим вопрос: как появляется функция? Ответ может быть только один: благодаря появлению связи рассматриваемого материала с чем-либо другим. И таким образом исследование происхождения предмета вида «βА» превращается в исследование происхождения предмета «—А», где А изображает тот же самый материал, но выступающий теперь в качестве элемента, а черта «—» — саму «связь». И такое превращение вполне естественно, ибо функция не имеет собственной объективной жизни: она есть лишь форма проявления связи; соответственно, чтобы исследовать и понять какую-либо функцию, фиксированную первоначально в виде свойства предмета, нужно перейти от этого предмета к более сложному целому, элементом которого этот предмет является; иначе говоря, исследовать определенную функцию какого-либо предмета — значит исследовать определенные связи, в которых этот предмет существует внутри более сложного целого (ср. это с положениями, выдвинутыми нами в [1957а*, {с. 459–460}]).
Но исследовать какую-либо связь, в частности ее происхождение, — это значит исследовать определенную взаимосвязь, структуру, ее происхождение, ибо при эмпирическом (интерпретированном) подходе всякая реальная связь, ее характеристика определяется прежде всего тем, что она связывает, какие элементы; иначе говоря, анализ отношений или связей «внешних» для исходного предмета А может быть осуществлен только в форме анализа «внутренних» связей какого-либо более сложного целого. Таким образом, исследование происхождения «языка», т. е. предмета вида βА, с необходимостью превращается в исследование происхождения «языкового мышления» — предмета вида X — А (А изображает материал предмета βА, выступающий здесь как элемент взаимосвязи, черта изображает связь, создающую функцию β, а X — то явление, с которым А связано).
Может показаться, что ответ: «функция р возникает благодаря появлению определенной связи», дает реальное движение в исследовании происхождения и объясняет действительный исторический процесс. Но это будет только иллюзией. Ведь βА и X — А — лишь разные изображения одного и того же. Поэтому приведенный ответ является фактически тавтологией и не может раскрыть какие-либо действительные механизмы происхождения. Но вместе с тем он сам и связанное с ним изменение предмета исследования являются необходимым движением в исследовании происхождения функции, поскольку последняя не имеет собственной объективной жизни и собственной истории.
Итак, язык как особый предмет исследования не имеет происхождения в точном смысле этого слова. Исследовать тот объективный процесс, который мы имеем в виду обычно, когда говорим о происхождении языка, — это значит исследовать происхождение иного структурного предмета, например «языкового мышления» или «мыслительных процессов».
Методологическая картина дизайна[142]
Анализ общественной природы дизайна и построение его теории не могут быть осуществлены без опоры на широкий круг философских, социальных, гуманитарных и технических наук. Практика дизайнерской работы объединяет самые разнообразные элементы социальной действительности и должна учитывать весьма разнородные требования, идущие от человека, его культурных ценностей и эстетических отношений, от деятельности потребления вещей, ее временных и прочих рамок, от производства с его техническими и технологическими требованиями, от особенностей организации проектировочной работы и т. д. и т. п. Соответственно этому и общая теория дизайна должна содержать и объединять знания о самых различных и разнородных явлениях этой области. Многие из них уже давно стали объектами изучения, но они рассматривались отдельно и изолированно друг от друга в разных науках, разными средствами и методами. Поэтому на первых этапах своего развития анализ дизайна исходит из многих, весьма разнородных наук и объединяет входящие в них весьма различные знания — философии и методологии, социологии и эстетики, инженерной психологии и экономики, общей технологии и системотехники, кибернетики и теории организации производства. Знания всех этих наук используются при формулировании специфических проблем дизайна и при решении их. Однако этих знаний, берем ли мы их по отдельности или все вместе, недостаточно еще для решения специфических проблем дизайна и для развертывания полноценной науки о дизайне. Поэтому встает задача особым образом перестроить и переорганизовать существующие знания из разных наук, получить много новых знаний и «переплавить» все это в единую и целостную теорию дизайна. Этим определяется необходимость специальных методологических исследований.
В настоящее время, когда уже достаточно разработаны логика и методология науки, нельзя строить научную теорию стихийно и вслепую, не зная, какой должна быть и будет создаваемая наука, какие части она будет содержать и как они будут связаны друг с другом. Методологический анализ в контексте общих исследований по теории дизайна призван решить прежде всего эту проблему — построить предварительную планкарту науки о дизайне. А одним из условий и предпосылок его является общий философский анализ социальной природы дизайна, его истории и функций в современном обществе.
1. Как область научных разработок и исследований дизайн выделяется прежде всего в связи с вычленением и обособлением деятельности проектирования. Пока проектирование еще не выделилось в особую социальную деятельность, а входит отдельными небольшими элементами в само производство, оно непосредственно определяется потребностями этого производства, копирует уже существующие вещи и процедуры их изготовления. Но после того как проектирование выделяется в особый вид и в особую область социальной деятельности, оно перестает подчиняться производству и, наоборот, становится первой и господствующей деятельностью, само начинает подчинять себе производство. Вместе с этим появляется необходимость в особых регулятивах и нормах, которые будут определять деятельность проектирования, задавать ей цели и законы. Именно тогда появляется необходимость в особых знаниях о вещах человеческого мира, их жизни в этом мире, о механизмах их употребления, определяющих свойства самих вещей, об их отношении к людям и людей к ним. Так складывается первая область научной разработки дизайна. Вместе с тем проектирование вещей должно учесть не только деятельность их потребления, но также закономерности и механизмы их производства, создания, а для этого нужно исследовать существующие производства, структуры разделения труда, возможные изменения этих структур, обособление самого проектирования и т. п. Так складывается вторая область научной разработки дизайна.
2. Проектирование (и производство) вещей составляет особую область человеческой социальной деятельности. Как очень большое, глобальное подразделение человеческой деятельности, оно находится в одном ряду с наукой — как производством идеальных предметов, научных знаний и систем знаний, обучением и воспитанием — как производством и «изготовлением» людей, искусством — как производством художественных ценностей.
Выделение и формирование практики и теории дизайна является, таким образом, некоторым новым этапом в развитии большого подразделения человеческой социальной деятельности. Оно связано с принципиальными преобразованиями в социально-экономической и социально-технологической структуре современного общества и представляет собой становление и идеальное завершение новых этажей в традиционно существующих подразделениях деятельности.
3. Проектирование вещей как область человеческой социальной деятельности — исключительно сложное и иерархированное образование с массой элементов разного рода и с массой связей. Деятельность дизайнера предполагает для своего осуществления массу различных знаний. Тем более это касается деятельности управления и планирования проектирования и производства вещей.
Чтобы сделать эту область деятельностью, управляемой и планируемой действительно на научных основах, и дать дизайнеру необходимые ему знания, нужно провести исследования по многим различным направлениям и рассмотреть весьма различные, разнородные системы связей, взять их один раз с точки зрения функционирования социального организма и механизмов уравновешивания в нем, другой раз — с точки зрения наиболее рационального развертывания и развития социального организма. Все это предполагает не один, а целый ряд различных предметов научного исследования. Чтобы получить все необходимые знания, надо построить не одну, а много разных наук. Этим обусловлено и то разнообразие средств научного исследования, которые должны быть применены, а во многом и разработаны совершенно заново в ходе создания теории дизайна.
4. В работах такого масштаба важнейшим условием их организации и эффективного ведения является план-карта предстоящих разработок. Поскольку в данном случае речь идет о разработке группы наук, связанных друг с другом единством применения в определенной практической деятельности, план-карта должна содержать не только указания на характер и порядок работы, которую нужно выполнить, но также структурное представление (одно или несколько) той объективной области, которая будет исследоваться, и, кроме того, перечень тех отношений, в которые будут вступать исследователи по поводу этой объективной области. Структурные представления или модели объективной области будут затем раскладываться в план-карты, изображающие число и связь предметов исследования, которые должны быть построены.
Каждый из этих предметов исследования предполагает свои особые средства и методы анализа. Лишь в очень немногих случаях здесь можно воспользоваться уже существующими средствами и методами, в частности социологии, логики, психологии, эстетики и инженерии. Значительно чаще и больше придется разрабатывать эти средства и методы заново, исходя из задач разработки теории дизайна. Таким образом, необходимость развертывания теории дизайна дает огромный стимул и толчок для развития теорий социологии, логики, психологии, эстетики и инженерии. Вместе с тем разработка теории дизайна предполагает разработку и развертывание теории деятельности, на которую она в конечном счете и будет опираться, так же как теория логики, социологии, эстетики и инженерии.
5. Вопрос о необходимости разработки теории деятельности очень остро встал лишь в последние 20–25 лет. Первые попытки такого рода были стимулированы прежде всего экономическими и военными потребностями в период Второй мировой войны. В целях решения стратегических задач организации перевозок через Атлантику была создана теория операций. Для наилучшей и наиболее эффективной организации промышленного производства создавалась система PERT. В настоящее время в США сделана попытка объединить всю совокупность возникших отдельно и разрозненно дисциплин и направлений, связанных с анализом деятельности, в единую систему так называемых бихевиоральных наук.
Сюда входят: один полюс — инженерные разработки такого типа, как системотехника, другой полюс — математические разработки, например теория операций, и наряду с ними третий полюс — такие традиционно гуманитарные науки, как этнопсихология, этнолингвистика и антропология. Речь идет, таким образом, о создании принципиально новых обобщений, о переструктурировании и перестройке многих традиционных и новых наук, о наведении новых мостов и установлении связей между наукой и инженерией, превращении многих областей технического искусства в области науки о научном обосновании практической деятельности проектирования и планирования. Наверное, можно сказать больше: теория деятельности ставит вопрос о глобальном, или тотальном, проектировании и планировании всего социума, об управлении им на научных основах.
В Советском Союзе общая теория деятельности как в своих глобальных, так и во фрагментарных видах разрабатывается Комиссией по психологии мышления и логике Общества психологов и семинаром «Структуры и системы в науке» философской секции Совета по кибернетике АН СССР.
6. Предварительным условием наиболее рациональной организации работ, направленных на построение теории дизайна, является специальное методологическое исследование, продуктом которого должна быть план-карта будущей науки. В нее войдут все те теоретические системы, которые нужно построить, взятые в зависимости друг от друга с точки зрения процесса построения самой науки и в связи с уже готовой, построенной наукой. В этой же план-карте должны быть учтены средства, которые могут и должны быть использованы при построении теоретических систем, и отношения знаний из этих теоретических систем к той практической деятельности (дизайнеров или управления проектированием), в которой они будут использоваться.
В этом методологическом движении вычленяются два основных момента: разработка формы будущей теории, разработка плана ее содержания.
7. Разработка формы теории дизайна предполагает учет всех тех сведений, которые мы имеем в настоящее время о строении и элементах различных научных теорий, о путях и процедурах их построения и развертывания, о способах их оформления в литературе. Здесь неизбежно встанут вопросы о возможностях применения математики в теории дизайна, о границах эффективности такого применения. Большую роль здесь будет играть вопрос о применении моделей и других видов абстрактных знаковых объектов. Здесь же возникнут вопросы об особенностях функциональных и генетических теорий, об особенностях теорий так называемых «множественных», или «массовых», объектов, о специфических особенностях теории деятельности. Все эти вопросы разработаны в настоящее время лишь в самых общих и грубых чертах и требуют много сил и времени для дальнейшей своей разработки и приведения к такому виду, в каком они могут быть практически использованы при построении теории дизайна.
8. Построение плана содержания теории дизайна, в свою очередь, распадается на две линии.
Одна из них — разработка общелогических средств структурно-системного исследования ставших и развивающихся объектов. Методы структурно-системного исследования стали предметом пристального внимания лишь в последние 15–20 лет. До сих пор не разработаны в достаточной мере даже самые важные и исходные понятия: «система», «структура», «элементы», «связь» и др. Отсутствует какая-либо типология связей и структур. Совершенно не разработаны методы функционального и функционально-морфологического анализа. Хотя одним из важнейших понятий всяких социологических исследований является понятие «организм», оно до сих пор не получило необходимой четкости и не отделено в достаточной мере от понятий «машина» и «популяция». Точно так же, несмотря на то, что во всех социологических разработках важная роль принадлежит понятию «управление», феномен самого управления остается до сих пор фактически неисследованным. Мало разрабатываются методы генетического развертывания исходных структур теорий.
Другую линию разработки плана содержания составит введение специфических структур теории дизайна. Эта работа является совершенно новой, так как до сих пор дизайн был лишь областью практического искусства. На границе практических разработок и дизайнерского искусства ставились в лучшем случае лишь проблемы для предстоящей научной разработки этой области. Поэтому речь будет идти о введении новых схем и нового аппарата понятий. Ведь предмет научного исследования никогда не совпадает и не может совпасть с областью практики и практического искусства.
9. Чтобы ввести исходную рабочую схему дизайнерских областей, предметов исследования, мы воспользуемся особыми средствами, основанными на описании процедур деятельности и тех средств, которые необходимы для их осуществления. Такое движение должно будет дать нам в качестве конечного продукта блок-схемное представление некоторого организма, «работа» которого обеспечивает нормальное производство и жизнь вещей в современном обществе. Эта схема даст нам основной набор блоков-органов социального организма и некоторые связи между ними. Вторичный анализ схемы, взятой в отношении к тем или иным задачам исследования, позволит нам затем сформировать различные предметы исследования и сделать каждый из них областью детализированного анализа.
10. Исходный блок, который мы должны задать, — это область потребления вещей в мире человеческой социальной жизни. По сути дела, этот блок — весь человеческий социум. Для упрощения на первых порах мы можем взять его вне других подразделений человеческой жизни, например в отвлечении от производства и потребления идеальных предметов всякого рода, т. е. в отвлечении от науки и искусства; мы можем взять его также для начала в отвлечении от формирования людей, т. е. в отвлечении от обучения и воспитания. Все это — абстракции особого вида. Наука, искусство и образование не выделяются и не отбрасываются механически. Каждое из них всегда есть вместе с тем и потребление вещей. Как таковые, они точно так же берутся в нашей исходной абстракции и входят в материальный состав первого блока. Мы отвлекаемся лишь от их специфических признаков и механизмов — как науки, искусства и образования. В дальнейшем это тоже будет учтено при более сложном и дифференцированном задании социального целого, но на первых порах все это должно быть отброшено.
Вещи поступают в блок потребления из блока производства. И хотя производство есть вместе с тем всегда и потребление, здесь, в функциональной схеме, производство противопоставляется потреблению. По сути дела, в этих блоках расчленяются, отделяются друг от друга и противопоставляются друг другу не деятельности как таковые, а их функции и функциональные характеристики.
Над блоком производства надстраивается блок проектирования, как того, что обусловливает и определяет само производство (схема 1).
11. Деятельность проектирования вещей предполагает массу различных знаний, а каждый вид знаний вырабатывается особой службой. Таким образом, проектирование оказывается зависимым от целого ряда служб, образующих особые органы социального организма. Среди них будут: а) служба выработки знаний о деятельности проектирования; 6) служба задания номенклатуры и моделей вещей — «живущих» в социуме и уже «умерших», не вошедших в жизнь и невозможных; в) служба описания жизни вещей в социуме, их отношений к деятельности потребления, к отдельным людям, к группам, коллективам и социальным стратам; г) служба задания номенклатуры и моделей людей (индивидов и личностей); д) служба описания жизни людей, человеческих групп, коллективов и стратов.
Кроме того, в описываемый организм войдут особые блоки-органы и связи, обеспечивающие зависимость проектирования от системы того производства вещей, которую оно обслуживает и которой оно управляет. Сюда войдут по меньшей мере две службы: а) операционно-технологическое описание системы производства и б) социально-деятельностное описание системы производства в его отношении к системе социального потребления вещей. Таким образом, если совершенно отвлечься от механизмов развертывания и развития социума, а следовательно, от всех органов, обеспечивающих искусственное управление этим развитием, то мы получим вторую, более сложную структуру, изображенную на схеме 2.
12. Схема 2 является самой грубой, если можно так выразиться — «крупноблочной». Характеризуя далее связи между блоками и механизм их осуществления, а также строение деятельности внутри каждого блока, мы получим более детализированные и разветвленные схемы. Детализация может продолжаться практически бесконечно и будет останавливаться на том уровне, какой задан целями исследования.
13. Описанная таким образом, в самых общих и грубых чертах, структура организации социальной деятельности должна обеспечить функционирование вещей в условиях ставшего социального целого, уравновешенность социального производства и потребления. Но такая уравновешенность совершенно не предполагает возможного развития различных элементов социального целого. В этих условиях становится, по сути дела, излишним, ненужным и само проектирование, ибо когда равновесие достигнуто, то производство вещей определяется уже имеющимися образами и жестко закрепленными нормами самой деятельности. Для того чтобы учесть механизм изменения и развития социального целого и построить проектирование в соответствии с перспективами, необходимо усложнить описанную выше «машину» и внести в нее дополнительные блоки-органы, производящие соответствующие знания о развитии социального целого. Эти блоки будут связаны, по сути дела, со всеми блоками нарисованной выше схемы и будут задавать и детерминировать определенные изменения в характере деятельности, осуществляемой внутри каждого блока.
14. Учет возможных механизмов развития социального целого осуществляется по общей схеме соотношений «естественного» и «искусственного» в социальных структурах. Разработка знаний, с одной стороны, прогнозирующих возможные линии развития, а с другой — выбирающих и определяющих одну определенную линию для целенаправленного проектирования и планирования, осуществляется особым методом типологических исследований структур и систем. Собственно генетические и исторические исследования оказываются здесь лишь одним — весьма незначительным и вспомогательным — моментом.
15. Разработка знаний, определяющих планирование и проектирование развития, может быть различной по своей конкретности. На первом этапе анализа мы можем ограничиться одним лишь первым блоком социума — областью потребления вещей — и рассмотреть возможные линии и тенденции ее развития. При этом мы полностью отвлекаемся от возможных изменений других блоков системы, их влияния на исходный блок или учитываем все это опосредованно методом фиктивных граничных условий. На следующем этапе анализа мы можем рассмотреть область потребления вещей в связи с областью производства и сформулировать некоторые принципы, определяющие развитие всей выделенной таким образом двухблочной системы. На третьем этапе мы должны будем взять также систему проектирования, ее внутренние механизмы и закономерности, рассмотреть организм, включающий уже три блока, и определить тенденции развития этой еще более сложной трехблочной системы. Точно таким же методом мы должны будем в дальнейшем учесть влияние всех других блоков выделенной нами системы, включая даже наши собственные возможности по построению теории дизайна и управляющее влияние этой теории на весь социальный организм.
Осуществляя это восхождение, мы должны все время помнить об основном законе организмического развития систем: каждый новый слой системы возникает на основе предшествующих как вторичный и вспомогательный, но затем становится главным, управляющим и подчиняет себе жизнь, функционирование и развитие всех других слоев системы.
Таким образом, основным методом исследования дизайна и разработки его теоретической картины является метод восхождения от абстрактного к конкретному, введенный в науку К. Марксом: сначала мы строим простейшие модели, учитывающие только часть связей, глубинных и лежащих как бы в генетическом основании всего социального организма, а затем, на базе этого, развертываем более сложную модель, сначала включающую в себя первую модель как часть, а затем перестраивающую ее как элемент более сложной системы организма.
16. Другим важным аспектом научной разработки дизайна будет анализ организации проектировочной деятельности, определение основных нормативов и правил организации проектных групп, определение точного места и функций дизайнера как члена такой группы. В этом пункте теория дизайна непосредственно смыкается с современными системотехническими разработками и дополняет их еще одним очень важным пунктом, который, по сути дела, совсем не был учтен в американских разработках. Здесь логико-методологические и социологические исследования теснейшим образом смыкаются с инженерно-психологическими (эргономическими). Ошибка традиционной психологии и инженерной психологии состоит прежде всего в том, что человек в них рассматривался как обладающий определенной и раз и навсегда фиксированной суммой психических способностей, выделенных по отношению к традиционным видам деятельности. Инженерно-психологические разработки такого рода не опирались на нормативный логический и логико-социологический анализ деятельности. Поэтому так называемые «научные рекомендации» по эргономике в большинстве случаев оказывались критикой новых видов и форм деятельности с точки зрения возможностей человека, выработанных и детерминированных прежними деятельностями. Действительно, научные разработки в этой области должны идти по совершенно иной линии: они должны опираться на предварительно разработанные нормативные представления деятельности и должны задавать и определять новую систему разделения труда и явную систему связей между людьми и машинами, расширяющую возможности человека.
17. Группы проектирования сами должны быть рассмотрены как сложные системы с различными видами организации деятельности (рациональными и иррациональными), с определенной системой управления внутри группы и особым видом разделения труда. Важнейший вопрос в этом контексте — основания и принципы, по которым строятся современная кооперация и разделение деятельности. Как правило, основными факторами, задающими разделение труда в группах, являются: а) время и темпы изготовления продукта, т. е. максимальная производительность, и б) возможности усвоения разных знаний одним человеком.
18. Схема 2, несмотря на то, что она является предельно упрощенной и грубой, дает достаточно отчетливое представление об объективной сложности тех явлений, которые вовлечены в сферу дизайна, а вместе с тем и о сложности той науки, которую предстоит построить.
Эта схема организма социальной деятельности дает возможность определить и описать основные линии и направления научного исследования деятельности проектирования и дизайна. Каждый из изображенных на схеме блоков может стать предметом специального научного анализа и выделиться в особое подразделение науки. На следующем этапе предметами научного исследования должны стать связи между блоками. Таким путем мы получим более сложные предметы изучения, объединяющие в себе предметы первого уровня анализа, соответствующие отдельным блокам схемы. Наконец, далее мы можем переходить к выделению любых подсистем из структуры, изображенной на схеме, и, соответственно, каждый раз будем получать все более сложные и все более расширяющиеся предметы изучения, организуемые в одно целое общей структурой схемы.
Двигаясь таким путем, мы сможем объяснить уже сложившиеся научные дисциплины, выделить их объективное содержание и установить между ними связи. Это в полной мере относится к таким дисциплинам, как системотехника, эргономика, исследование операций, организация производства и др. Мы сможем также, отправляясь от этой схемы, поставить много новых научных проблем, определить назначение и значимость их исследования, наметить возможные средства и методы анализа. Поскольку как уже существующие, так и вновь создаваемые научные дисциплины будут определяться по отношению к единой структурной схеме объекта, мы сможем с самого начала установить координацию и субординацию между ними, наметить порядок их разработки и возможности использования одних знаний при построении других.
19. Каждый из блоков схемы представляет собой особый вид деятельности. Поэтому одно из важнейших направлений дальнейшего анализа будет заключаться в изучении и описании структур и механизмов этой деятельности. При этом каждый блок будет рассматриваться прежде всего со стороны того продукта, который он должен выдать для использования в других связанных с ним блоках. Например, если мы рассматриваем блок проектирования, то его продукт должен оцениваться прежде всего с точки зрения того, как он используется в блоке производства и насколько он пригоден для такого использования. Если мы рассматриваем блок службы описания производства, то и его продукт точно так же мы должны оценивать прежде всего с точки зрения возможного использования его в блоке проектирования. Таким путем мы получаем систему функциональных требований к продуктам любой деятельности, изображенной в одном из блоков общей схемы. Вместе с тем таким путем мы фиксируем связи и зависимости, существующие между различными блоками представленного на схеме организма деятельности.
Следующий шаг — рассмотрение объектов или материала, обрабатываемого в данной деятельности.
Отношение между функциональными требованиями к продукту и имеющимся материалом обработки определяет вид и характер тех средств, которые могут быть при этом использованы и которые, следовательно, необходимы для намеченного преобразования материала в продукты. Определение средств деятельности является третьим шагом в ее анализе.
Сопоставление и соотнесение друг с другом схем преобразований «объект — продукт» и средств деятельности дает возможность построить представление о процессах и процедурах деятельности. Это — четвертый шаг в характеристике деятельности.
Наконец, вся система отношений между объектами, продуктами, средствами и процедурами фиксируется в так называемых задачах деятельности, а затем формализуется в особых оперативных системах, которые мы используем для почти механического и автоматизированного решения задач.
Одним из важнейших видов средств деятельности являются научные знания. Анализируя описанным выше путем строение видов деятельности в различных блоках схемы, в том числе в блоке проектирования (дизайна), мы можем выделить и описать те знания и, соответственно, те линии научных разработок, которые необходимы для осуществления анализируемой деятельности. При этом каждое знание будет характеризоваться с двух сторон: а) в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет к ним деятельность, где они будут использоваться; б) в соответствии с теми видами деятельности, которые должны быть осуществлены для получения этих знаний. Так, в частности, продолжая намеченную выше линию анализа схемы, мы получим характеристики и описания тех направлений, которые нужны и дизайнерам.
20. Анализ сложных видов деятельности, производящих дифференцированные и многосоставные продукты, предполагает несколько последовательных движений по описанной выше схеме. Это приводит к заданию цепей «объекты — продукты», цепей средств, процессов и задач. Когда подобные цепи построены, а сложные вещи деятельности разложены на свои составляющие, задачи организованы в иерархированную систему зависящих друг от друга единиц, можно ставить вопрос о видах соединения всех отрезков деятельности в комплексы и о наиболее эффективных соединениях с точки зрения различных параметров деятельности, например времени, числа занятых людей, однородности знаний, используемых каждым человеком, и т. п. Построение схем комплексов различных видов деятельности дает возможность анализировать ее на моделях и определять наиболее удачные и эффективные формы организации деятельности заранее, до осуществления и реализации самих этих комплексов на практике.
Наконец, подобный нормативный анализ комплексов деятельности позволяет ставить затем вопрос о наиболее рациональных видах разделения деятельности между отдельными людьми и о наилучших видах ее кооперации и организации самих людей в рабочие группы, бригады и производственные системы с четко выделенными абстрактными слоями деятельности.
21. Важно подчеркнуть — и это с наглядностью следует из схемы, — что одним из важнейших условий организации всей проектировочной деятельности (и дизайна в том числе) являются знания о системах «люди — вещи», т. е. о жизни людей в предметной среде и жизни вещей среди людей. Анализ этой области образует еще одно направление научных исследований, тоже входящих в общую теорию дизайна. Эти исследования охватывают проблемы социологии, социальной психологии, эстетики, семиотики, эргономики и др. и точно так же предполагают для своего развития составление специальной методологической планкарты.
Дизайн: проблемы исследований[143]
Рассмотренная выше методологическая картина дизайна может быть использована для постановки первоочередной группы проблем. Ориентируясь на практические запросы и средства существующих наук, мы разбили эти проблемы на четыре большие группы: социологические, социально-экономические, эстетические и методологические. Взятые вместе, они задают содержание предстоящих исследований, результатом которых должно явиться содержание научной основы для построения теории дизайна, ее методологической план-карты.
Социологические проблемы дизайна
1. Промышленное проектирование как специфическая область человеческой деятельности. Закономерности его исторического развития. Отношение промышленного проектирования к производству и потреблению.
2. Дизайн в системе промышленного проектирования. Проблемы тотального проектирования.
3. Структура общественных потребностей как выражение системы социальных отношений и тенденций общественного развития. Структура общественных потребностей и ее влияние на структуру потребительского спроса.
4. Социальное содержание предметной функции. Социальная функция предмета и предметной среды (социальный функционализм). Товарные и нетоварные формы удовлетворения потребностей в социалистическом обществе.
5. Социалистические проблемы труда и дизайна:
5. 1. Место дизайна в структуре современных производительных сил, его роль в разделении груза в проектных организациях, выступающих как субъективный фактор процесса труда.
5. 2. Дизайн как элемент научной организации труда. Критика современных форм тейлоризма и отождествления с ним дизайна.
5. 3. Дизайн и проблема творчества непосредственных производителей в современном промышленном производстве.
5. 4. Тенденции автоматизации и критика апологетического отношения к системе «человек — машина» и роли дизайна в ее утверждении и развитии.
6. Критика современных буржуазных социологических теорий — «единого индустриального общества», «общества всеобщего благосостояния», «человеческих отношений» — как теоретической основы дизайна в капиталистических странах Запада.
7. Социологические проблемы быта и дизайна:
7. 1. Тенденции коллективизации быта и дизайн (дизайн и домашнее хозяйство).
7. 2. Дизайн в экономике семейной жизни.
7. 3. Общественные формы быта и дизайн.
7. 4. Социальные проблемы досуга и дизайн. Культура досуга. Изучение досуга с точки зрения потребления определенных товаров и услуг.
8. Дизайн как инструмент «массовой культуры» в массовом обществе.
9. Вещи и отношения:
9. 1. Проблема вещи в современной философии, социологии и эстетике.
9. 2. Современная система отношений и система вещей. Вещный характер современной культуры.
9. 3. Вещь как товар. Товарный фетишизм и фетишизм вещи. Нетоварные формы вещи.
9. 4. Материализм и вещизм.
9. 5. Предметная среда в условиях капитализма, социализма и коммунизма.
9. 6. Вещи и комплексы вещей, предметная среда, содействующие становлению коллективистских форм жизни.
9. 7. Связь духовного и вещного богатства человека и общества. Мещанство и культ вещи. Господство вещи над человеком и человека над вещью. Пути освобождения от плена вещей.
9. 8. Вещи и потребности. Обособленная потребность и обособленная вещь. Целостность человека и целостность предметного мира.
9. 9. Содержание, функция и форма вещи. Временная и пространственная характеристики вещи.
9. 10. Формообразование вещи. Структурная и функциональная сложность вещи. Целостность вещи.
9. 11. Основы классификации вещей.
9. 12. Вещь как связь между производителями и потребителями.
9. 13. Вещь как средство коммуникации. Коммуникативные качества вещи. Вещь как эстетический знак.
9. 14. Вещь — концентрат культуры. Вещь и стиль.
9. 15. Вещь и тираж. Технический и эстетический стандарт вещи. Вещь и мода. Мнимое и действительное разнообразие вещей.
9. 16. Ассортимент. Вещи необходимые и излишние. Общественное качество вещи. Затоваривание и его причины.
9. 17. Хаос предметов и предметных форм, его причины, пути и способы его преодоления.
10. Влияние социальных отношений на характер предметной среды, продуктов промышленного производства.
11. Общественные отношения и их пространственно-временное выражение.
12. Дизайн и проблема человека в современном обществе:
12. 1. Дизайн в системе разделения труда.
12. 2. Материально-технический прогресс и гуманизм.
12. 3. Судьбы гуманистической культуры и дизайн.
12. 4. Дизайн и конформизм.
12. 5. Дизайн и всестороннее развитие личности.
12. 6. Универсализм личности и универсализм коллектива.
12. 7. Человек, его потребности, потребительский спрос. Потребительский спрос как человеческий фактор в системе «человек — товар».
Социально-экономические проблемы дизайна
1. Дизайн как стимул торговли (влияние на внешнюю и внутреннюю торговлю).
2. Дизайн и экономика монополий.
3. Конкуренция и дизайн.
4. Влияние на дизайн тенденций развития мирового хозяйства.
5. Дизайн в системе Общего рынка.
6. Дизайн в условиях плановой экономики социалистических стран.
7. Дизайн в системе СЭВ.
8. Дизайн и экономическая экспансия США в странах Европы.
9. Дизайн и экономическое давление капиталистических стран на экономику новых стран Азии и Африки.
10. Экономическая эффективность дизайна. Способы и формулы определения экономической эффективности в различных отраслях производства.
11. Дизайн как средство оптимизации отношений сферы производства и сферы потребления.
Эстетические проблемы дизайна
1. Труд как основа эстетического творчества, эстетического чувства.
2. Трудовая сущность прекрасного.
3. Проявление эстетического начала в материальном производстве на различных ступенях общественного развития.
4. Противоречия в социальном строе труда и их влияние на эстетическое содержание материально-практической деятельности и ее продуктов.
5. Соотношение прекрасного и полезного.
6. Разрешение противоречий между материально-практической деятельностью и художественно-эстетической деятельностью, их роль и место дизайна в этом процессе.
7. Эстетическое отношение дизайна к действительности. Дизайн и эстетический идеал.
8. Многообразие форм художественного творчества в промышленности.
9. Отличие дизайна от прикладного искусства и художественной промышленности.
10. Эстетическая ценность машинной техники и дизайн.
11. Эстетическое освоение машинной техники в дизайне.
12. Техническая эстетика против эстетики техницизма.
13. Эстетизм и вещизм.
14. Красота и стандарт.
15. Взаимоотношение дизайна и искусства.
16. Художественное (эстетическое) начало дизайна. Эстетический момент в творчестве дизайнера. Художественное (эстетическое) творчество и художественное конструирование.
17. Эстетическое в продукте дизайна. Произведение дизайна и произведение искусства.
18. Сравнительная эстетическая характеристика дизайна и стайлинга.
19. Дизайн и эстетическая революция XX столетия.
20. Дизайн и художественный синтез.
21. Дизайн, архитектура, урбанизм, синтурбанизм.
22. Дизайн и проблема стиля.
23. Функционализм как метод творчества и как художественный стиль.
24. Формалистический и социальный функционализм. Статический и динамический функционализм.
25. Дизайн и конструктивизм.
26. Освоение новейших достижений живописи и скульптуры в дизайне.
27. Дизайн и другие средства массовой культуры, основанные на современной технике, в их социальном и эстетическом сопоставлении: а) дизайн и кино; б) дизайн и телевидение; в) дизайн и радио.
28. Строение дизайн-формы. Функция — конструкция — форма. Форма внутренняя и форма внешняя.
29. Красота и внешняя форма. Принципы формообразования.
30. Проблема вхождения художника в материальное производство. Художник-прикладник и дизайнер. Дизайнер как новая профессия. Специализация и универсализм дизайнера.
Методологические проблемы построения теории дизайна
1. Методологические проблемы очерчивания предмета науки о дизайне.
2. Системно-структурный подход к объекту теории дизайна.
3. Определение эмпирического материала исследований по теории дизайна.
4. Системно-структурный анализ объекта теории дизайна:
4. 1. Виды и сферы дизайна.
4. 2. Система «человек — социальная среда».
4. 3. Системно-структурные исследования общественных потребностей и их выражение в форме и функциях продуктов промышленности.
4. 4. Представление предметной среды как системы.
5. Системно-структурные исследования дизайнерской деятельности:
5. 1. Основания и принципы современной кооперации деятельности.
5. 2. Строение деятельности и организации дизайнерских коллективов.
5. 3. Средства дизайнерской деятельности. Возможности ЭВМ в решении дизайнерских задач.
5. 4. Административная организация дизайнерской деятельности и средства управления ею.
5. 5. Соотношение проектирования, планирования и управления.
6. Методы и средства построения план-карты теории дизайна.
7. Соотношение структурных и генетических методов в теории дизайна.
8. Системно-структурный подход как методология исторических исследований дизайна.
9. Методы генетического развертывания исходных структур теории. Метод восхождения от абстрактного к конкретному.
10. Вещизм как методологический принцип современного художественного конструирования. Дизайн и стайлинг.
11. Антивещизм как методологический принцип дизайна будущего.
12. Принципы определения средств будущей теории дизайна и оценка их возможностей.
13. Принципы ассимиляции средств и методов существующих наук в теории дизайна.
14. Методологические проблемы применения математики, теоретической и технической кибернетики в теории и практике дизайна.
15. Функции эксперимента в исследованиях по дизайну.
Дизайн и его наука: «художественное конструирование» — сегодня, что дальше?[144]
1. За последние пять лет художественное конструирование в нашей стране проделало большой путь. В каком-то смысле это были самые трудные годы идейного и организационного оформления его как культурного и социального движения. Нужно было поставить перед общественностью страны новые проблемы и задачи, указать в общем виде пути и средства решения их, получить представление о том, что происходит в этой области за рубежом.
Эта работа, естественно, не могла ограничиться одними литературными произведениями и публицистикой. Нужно было поднимать практику художественного конструирования, искать и собирать людей, способных вести эту работу, внедрять в промышленное конструирование и проектирование элементы технической эстетики. Надо было дать образцы художественного конструирования, не уступающие мировым стандартам, и развернуть сети СХКБ.
1966 г. принес с собой и организационное завершение этого этапа работы — объединение ВНИИТЭ и многих СХКБ в единую систему. Идеи художественного конструирования получили достаточно широкое распространение, кадры дизайнеров — практиков и теоретиков — собраны, стало возможным ставить вопрос о систематическом образовании и подготовке молодых кадров. Одним словом, художественное конструирование достигло первого большого рубежа, и теперь самое время спросить себя: а что дальше?
Но чтобы дать достаточно обоснованный ответ на этот вопрос, нужно предварительно ответить на другой: а с чем, собственно, мы имеем дело, что такое «художественное конструирование» и «техническая эстетика»?
2. Обычно, когда отвечают на этот вопрос, сопоставляют то очень сложное и большое целое, которое скрывается за этими терминами и которое лучше называть одним словом — «дизайн», последовательно с инженерией, архитектурой, искусством и наукой.
В каждом таком сопоставлении обнаруживается нечто сходное. С архитектурой дизайн роднит прежде всего общность задач и техники творческой деятельности, с инженерией — производственная сторона, с искусством — многие отношения продуктов деятельности к человеку, с наукой — строгий анализ и опора на точные знания.
Но все эти моменты сходства лишь резче подчеркивают принципиальные различия сопоставляемых явлений.
* * *
Дизайн захватывает значительно большую область объектов, нежели архитектура, его сфера — весь предметный мир человека.
Дизайн не совпадает с инженерией: его объекты и продукты — не орудия, не вещи обихода, а элементы предметного мира человека; здесь у продуктов производства является новое качество, такие стороны, которые не учитывались и не могли учитываться чистой инженерией.
Дизайн не искусство: область создаваемых им продуктов значительно шире области произведений искусства, а функции каждой созданной вещи — значительно разнообразнее.
Дизайн отличен от науки: он производит совершенно особые продукты — проекты и образцы изделий, никак не сводимые к знаниям.
Так что же такое дизайн?
3. В эмпирической реальности пока это лишь культурное и социально-технологическое движение, вырастающее из архитектуры, инженерии, искусства и, отчасти, философии и науки, движение, рекрутирующее свои кадры буквально отовсюду. Но все это — и недостаточная четкость в определении задач, и сплав разных видов деятельности, до того казавшихся несовместимыми, и объединение людей разных специальностей и профессий — обычные и совершенно общие признаки при рождении всего нового. Из них, самих по себе, ничего нельзя извлечь и понять. Поэтому, если мы хотим ответить на вопрос, что же такое дизайн, то должны интересоваться не эмпирической реальностью его современного состояния, а «идеей», т. е. необходимой формой нового, нарождающегося явления, которая диктуется современным и будущим строением всей общественной системы.
В этом плане мы оказываемся перед грандиозной перспективой. Судя по всему, дизайн — это новая сфера социальной деятельности, которая уже в ближайшем будущем займет место рядом со сферами науки и искусства.
Если скажут, что все это фантастика, то надо будет добавить: нашей реальной жизни, органически необходимая и обусловленная требованиями нормального развития производственной и конструктивно-технической деятельности на современном этапе развития общества.
4. «Естественное» и «искусственное». Как всякое естественно-историческое явление, дизайн складывается и развивается независимо от желаний и воли отдельных людей. В этом плане он представляет собой «естественную» силу, захватывающую и подчиняющую себе все, что в нее попадает, в том числе людей, работающих в самом дизайне; эта сила захватывает так и настолько, что людям остается только подчиниться и приспособиться.
Для человека, видящего дизайн в таком свете, все его изменения выступают как результат «естественного» процесса, независимого от деятельности людей и обусловленного либо внутренними факторами самого дизайна, либо внешними условиями его существования.
Но человек хочет не только приспосабливаться к этому стихийному процессу развития и изменения, выбирая наиболее выгодные для себя траектории личного поведения и жизни; человек хочет управлять этим процессом, наилучшим образом организуя сам дизайн и перестраивая его, если движение начинает идти не так, как это нужно.
Такой человек видит дизайн иначе — как объект сознательной и целенаправленной деятельности Человечества (и его агента — Человека), а изменение и развитие дизайна — как продукт этой деятельности, ее творение. Весь дизайн при таком подходе подобен изделию, которое мы можем проектировать и изготовлять, он является нашей «искусственной» конструкцией.
Иными словами, развитие и изменение дизайна выступает и должно выступать перед нами как двуликий Янус: с одной стороны, как процесс, независимый от людей, захватывающий их деятельность и подчиняющий ее своим стихийным законам развития, а с другой — как продукт сознательной и целенаправленной деятельности людей, объединенных в Человечество.
И только объединяя эти две точки зрения, можно ставить вопрос об управлении развитием дизайна.
5. Но, чтобы установка на управление не осталась чистой декларацией, чтобы ее можно было осуществить, нужны совершенно особые знания. Здесь уже мало знать ту или иную область художественного конструирования, мало представлять себе законы композиции формы тех или иных станков или общие соответствия между функцией, конструкцией и формой; здесь нужно изобразить дизайн в целом, представить себе механизм его жизни и закономерности его возможного развития.
Для этого прежде всего нужно занять особую позицию по отношению к самому дизайну — позицию внешнего наблюдателя и экспериментатора, сделавшего дизайн в целом объектом своего исследования. И, кроме того, нужны особые средства анализа, особый аппарат понятий, который позволил бы сначала описать и изобразить дизайн как целое, а затем выявить основные закономерности его функционирования и развития.
Подобное требование уже выдвигалось раньше в истории науки по отношению к другим сферам социальной деятельности: обучению и воспитанию, искусству, наконец, по отношению к самой науке. Но выполнить его было не так-то просто.
Исследователи сталкивались с двумя группами очень трудных проблем:
а) как представить и изобразить эти сферы социальной деятельности в таком виде, чтобы затем их можно было изучать собственно научными методами;
б) в чем состоят специфические признаки человеческой социальной деятельности и как их выявить.
Эти проблемы мы и должны систематически рассмотреть.
Но здесь опять, как и во многих других случаях, надо предварительно представить себе хотя бы в общих чертах план предстоящей работы. Так мы приходим к вопросам о том, какая именно наука должна быть создана и как ее нужно создавать, т. е. к вопросам методологического характера.
6. Дизайнерская практика, наука дизайна, методология. До последнего времени науки, обслуживающие разные сферы человеческой практики и инженерии, складывались, как правило, очень медленно, стихийно, путем множества проб и отбора из них тех, которые оказывались удачными. На это уходили столетия. Дизайнерская практика не может ориентироваться на такой путь постепенного становления и оформления необходимой ей науки. Науку дизайна нужно построить, и это должно быть сделано быстро, максимум в два-три десятилетия. Это значит, что теоретики дизайна уже не могут рассчитывать на естественный процесс отбора удачных понятий и удачных решений задач. Они должны построить теорию дизайна примерно так, как инженер строит или конструирует какую-либо машину или изделие. Это значит, что они должны спроектировать науку, обслуживающую дизайн, а потом создать ее части и элементы в соответствии с этим общим проектом.
Наука эта нужна не сама по себе и не ради самой себя; она должна давать знания, обслуживающие дизайнерскую практику, знания, которые будут выступать в качестве средств деятельности для самых разных дизайнеров — проектировщиков, методистов, организаторов и руководителей. Лишь для этого она должна быть создана и, следовательно, должна удовлетворять этому назначению.
Такая установка задает особую точку зрения на саму науку, обслуживающую дизайн: она должна выступить и должна быть представлена как своего рода «производящая машина», характер продуктов которой жестко определен их дальнейшим использованием.
В наглядной форме это требование может быть выражено в схеме 1.
Эта схема изображает функциональное назначение знаний, которые будут использоваться в практической и конструктивно-технической дизайнерской деятельности, а вместе с тем ту систему зависимостей, которая будет определять общее строение и характер науки дизайна, рассматриваемой как «машина».
Представление об этой системе зависимостей очень важно при сознательном проектировании и последующем построении науки дизайна. По сути дела, схема изображает тот необходимый набор связей и элементов, который должен быть проанализирован, чтобы можно было приступить к сознательному проектированию этой науки. Можно даже сказать, что эта схема изображает и задает характер и порядок того предварительного анализа, который нужно произвести, чтобы сознательно и с необходимым обоснованием приступить к составлению проекта и план-карты будущей науки дизайна.
7. Прежде всего нужно проанализировать строение той сферы социальной деятельности, которая уже сложилась и складывается и которую мы называем дизайном. Нужно проанализировать характер составляющих ее деятельностей и выяснить, в каких именно знаниях-средствах они нуждаются.
Надо специально оговорить, что, наверное, отнюдь не все знания, потребные дизайнерам, должны быть собственно научными. Многие из необходимых для их деятельности знаний-средств будут просто практическими, непосредственно обобщающими практический опыт, или конструктивно-техническими. Научные знания, как может оказаться и, наверное, окажется, будут составлять лишь небольшую часть из всего числа необходимых дизайнеру знаний. Тогда от анализа практической сферы дизайна и составляющих ее деятельностей мы двинемся не к одному набору знаний-средств, а ко многим наборам, лежащим как бы наряду друг с другом, no-разному обслуживающим дизайн и, соответственно этому, производимым разными «машинами».
В наглядной форме это можно представить схемой 2.
Рассмотрев характер и специфические особенности каждого из этих видов знаний, мы должны будем затем двинуться дальше — к анализу строения и характера тех «машин» (а фактически — определенных сфер социальной деятельности), которые могут и должны вырабатывать соответствующие знания. При этом, как следует из схемы нашего рассуждения, мы все время будем исходить из анализа строения знаний и возможных способов их употребления и в соответствии с ним проектировать устройство и механизм функционирования производящих эти знания «машин». Одной из них, как уже говорилось выше, будет «машина» дизайнерской науки.
К этому надо добавить, что в самом дизайне, в его практической сфере, окажется много различных видов деятельности. Это будут: непосредственное проектирование изделий, разработка методик проектирования, проектирование и организация социальных инструментов дизайна, непосредственное практическое руководство или теоретическое управление ими и т. д. и т. п., и каждый из этих видов деятельности будет нуждаться в своих особых знаниях-средствах. Вполне возможно, что эти разнообразные знания нельзя будет вырабатывать в рамках одной «машины», в частности в рамках одной науки. Тогда для обслуживания разных видов дизайнерской деятельности придется строить разные «машины» по производству знаний, в том числе не одну науку, а несколько разных. Следовательно, в таком случае мы будем иметь не одну схему множественных движений к производящим «машинам», как это было изображено на предыдущей схеме, а много таких множественных движений, как бы дублирующих себя для каждого вида дизайнерской практической деятельности.
8. Уже высказанные выше соображения показывают, что анализ, предваряющий проектирование науки дизайна, будет достаточно сложным и многообразным. Чтобы проделать его, нужны специальные средства и особые методы работы. Их предоставляет методология, общее назначение которой и состоит в том, чтобы разрабатывать планы предстоящей деятельности. Анализируя существующие и возможные виды дизайнерской деятельности, характер и строение обслуживающих их знаний, привлекая на помощь общие представления и понятия о строении науки, методология дизайна должна построить проект такой науки, которая могла бы обслуживать дизайн, и спланировать деятельность, необходимую для реального построения самой этой науки.
Таким образом, методологическая работа в сфере дизайна будет включать в себя как исследование (оно будет направлено на существующие или возможные виды дизайнерской деятельности и обслуживающих ее знаний), так и проектирование (предметом которого будет наука дизайна). При этом она будет использовать все существующие методологические теории, например теорию деятельности, методологию структурно-функционального анализа, общие представления о системах науки и их элементах и т. п., с одной стороны, в качестве средств исследования, а с другой — в качестве средств проектирования.
В наглядной форме все это можно выразить схемой 3.
В самом общем и грубом виде она изображает и задает весь тот набор составляющих, которые мы должны рассмотреть в методологии дизайна. 9. Средства методологического исследования и методологического проектирования разрабатываются, естественно, вне рамок самого дизайна и всех обслуживающих его исследований, они формируются при изучении уже сложившихся наук и уже разработанных средств и методов научного исследования и проектировочной деятельности. Они, таким образом, должны быть привнесены в дизайн со стороны, из теоретических дисциплин, обслуживающих общую методологию и составляющих ее ядро. Но для того чтобы всем этим можно было пользоваться при методологических разработках в системе самого дизайна, его нужно особым образом представить и изобразить. Так мы с необходимостью приходим к тем разделам методологии дизайна, где будут описываться общие средства методологии, — это теория науки, теория деятельности, методология структурно-функциональных исследований (общая и для объектов разного типа). При этом придется рассказывать о том, что такое методология вообще, как она складывается и как на разных этапах своего развития относится к практической деятельности, к конструктивно-технической деятельности и к науке. Вместе с тем придется подробно обсуждать, что может и, соответственно, чего не может дать методология в организации практической деятельности, в управлении конструктивно-технической деятельностью и в формировании специализированной научной деятельности. Но это будет лишь одна часть изложения общей системы методологии. Другие части составит изложение основных понятий и методов уже названных выше теоретических разделов методологии.
Строение и характер науки дизайна, естественно, будут зависеть от строения и особенностей дизайнерской сферы деятельности. Анализ и описание этой зависимости составят следующую часть методологических разработок в дизайне. При этом придется обсуждать вопрос о связи и взаимоотношениях различных типов знаний, обслуживающих дизайн, а значит, вопрос о связях и взаимоотношениях между «машиной» науки дизайна и другими «машинами», производящими другие виды потребных дизайнеру знаний.
Еще одну — особую — часть должно составить обсуждение вопроса о соотношении между проектированием и исследованием. Четкое понимание этой стороны дела необходимо как для собственно методологической работы, так и для теории дизайна.
Наконец, проектирование науки дизайна и конкретное построение отдельных ее блоков приведет нас к обсуждению вопроса о том, какими именно средствами и методами должна будет пользоваться наука дизайна при исследовании различных объектов и процессов, входящих в сферу самого дизайна, и при определении тех путей, по истории которых будут строиться методические системы. Это, в свою очередь, приведет нас к специальному методологическому изучению соотношения различных видов деятельности внутри практической сферы дизайна и влияния на них научных разработок и научных знаний.
Предварительному анализу и обсуждению этих вопросов посвящена наша работа.
Педагогика и социология[145]
I. Основные линии связи педагогики с социологией. Микро- и макроанализ
1. В последние 8-10 лет наши взгляды на существующую систему общего образования сильно изменились: в общественное сознание все больше проникает мысль, что как содержание, так и методы его должны быть перестроены кардинальным образом.
Было бы неправильно думать, что подобное изменение взглядов является результатом чисто теоретического развития наших представлений о природе и сущности образования. Его действительную подоплеку составляют сугубо «материальные» процессы: бурное развитие технического производства и науки в последние 40–50 лет сделало невозможным сохранение существующей системы обучения и воспитания. И этот факт теперь все больше осознается.
Но дело упирается в отсутствие плана новой системы. Сейчас нет научно обоснованных предложений новой программы обучения и воспитания, новых методов. И это естественно, так как современная педагогическая наука не дает для этого необходимых средств. Так, отправляясь от практически насущных задач перестройки системы общего образования, мы приходим к требованию: должна быть перестроена система педагогических исследований.
Основная линия этой перестройки, на наш взгляд, должна лежать на пути включения в педагогику понятий и методов социологии, логики, психологии.
Важно подчеркнуть, что речь здесь идет не просто об использовании данных социологии, логики и психологии в педагогической работе, а о включении социологического, логического и психологического анализа в единый предмет педагогики, о составлении, если можно так сказать, педагогического исследования из педагогико-социологических, педагогико-логических и педагогико-психологических исследований.
Положение перечисленных выше дисциплин в системе педагогических наук, а вместе с тем и отношение к ним широкой педагогической общественности существенно разное. Зависимость педагогики от психологических знаний обнаружилась уже давно и сейчас никем не оспаривается; больше того, психология в течение 60 последних лет все более входит в «тело» самой педагогики.
С логикой и социологией, во всяком случае в нашей стране, дело обстояло наоборот: они все более выталкивались из «тела» педагогики как малополезные и даже совсем ненужные. Но, может быть, именно эта, крайняя, позиция сделала столь ощутимым их отсутствие и помогла осознанию их действительного значения. Сейчас уже с очевидностью выяснилось, что один психологический анализ не может разрешить всех тех проблем, которые встают на пути решения собственно педагогических задач. Стало ясно, что не менее необходимыми для педагогики, да и для самой психологии являются социологический и логический анализы: они тоже должны стать органическими частями педагогической науки. Поэтому важнейшая задача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы осознать этот итог и положить его в основание исследовательской работы.
Вопросы о том, какое место в педагогических исследованиях должен занимать логический анализ и как он будет соотноситься с психологическими методами, обсуждаются в ряде специальных работ [1963 а; 1964 с*, d; Непомнящая, 1963]; в этой работе мы хотим рассмотреть другой момент — задачи и место в системе педагогики социологических методов.
2. Существует несколько различных групп педагогических проблем, для решения которых необходим социологический анализ, и соответственно этому — несколько различных линий связи педагогики с социологией.
Первую группу образуют проблемы анализа и уточнения предмета педагогических исследований.
Определение предмета какой-либо науки или группы наук — дело специального логико-методологического анализа. Но одним из моментов его — и, может быть, важнейшим — является задание структуры того более «широкого» целого, внутри которого «живет» исследуемый в данной науке объект. Для процессов обучения и воспитания — объекта педагогики — таким более широким целым является система общественного воспроизводства; обучение и воспитание подрастающих поколений является ее частью, или, еще точнее, ее элементом. Рассматривая систему воспроизводства в целом, мы получаем возможность определить «место», занимаемое в ней процессами обучения и воспитания, представить себе ту «сеть» связей, в которых они функционируют и развиваются. Такое представление является первым необходимым шагом при определении предмета исследования в случае «органических» объектов («организмов»), так как известно, что все остальное в них определяется прежде всего этой сетью внешних связей, или «функций». Охарактеризовав ее, || мы получаем путеводную нить для анализа в дальнейшем «внутренней структуры» объекта, функций входящих в него элементов, их «материала» и строения (о понятиях «функции» и «материал» см. [1957 а*, {с. 458–460}]). Таким образом, чтобы проанализировать структуру процессов обучения и воспитания, уточняя тем самым предмет педагогических исследований, мы должны прежде всего рассмотреть их в системе общественного воспроизводства. Но переход к исследованию этого целого означает выход за пределы собственно педагогики, переход в область социологии. Вместе с тем по характеру исходных задач, по своей направленности и основному предмету такое исследование остается педагогическим. Поэтому мы можем говорить здесь об особом направлении социолого-педагогического исследования.
Вторая группа проблем, выводящих педагогику в сферу социологии, связана с определением целей обучения и воспитания. Для того, чтобы строить эффективную систему образования, приспособленную к потребностям общества, нужно отчетливо представлять себе необходимый «продукт» ее, нужно хорошо знать, каким должен быть обученный и воспитанный индивид. Иначе это можно сказать так: чтобы построить «хорошую» систему обучения и воспитания, мы должны прежде всего задать конкретную «модель» человека будущего общества. Нужно выяснить, какие деятельности он должен будет осуществлять в этом обществе и в каких отношениях он должен будет находиться к другим людям и обществу.
Здесь речь идет, естественно, не о политических и социальных целях развития нашего общества, а о собственно «педагогическом» проектировании человека. <…>
Таким образом, речь идет о совершенно особом разделе педагогической науки, который должен дать конкретную многостороннюю модель индивида, творчески действующего в системе и условиях коммунистического общества. Оставаясь педагогическим по своим задачам и использованию результатов, это исследование вместе с тем, по методу и объекту, лежит целиком в сфере философии и социологии. Так мы получаем второе особое направление социолого-педагогического исследования.
Третью группу педагогических проблем, требующих специального социологического анализа, дает исследование ситуаций обучения. При отвлечении от специфических моментов самого обучения они выступают как ситуации совместной деятельности и общения нескольких индивидов. В одном случае это — «парное отношение» между взрослым и ребенком, в другом случае это — отношение между взрослыми и группой детей или детским коллективом, в третьем — отношение ребенка к нескольким взрослым, независимым друг от друга или связанным между собой определенными отношениями, в четвертом это — отношения между детьми в группе или в коллективе, в пятом — отношение отдельного ребенка к детскому коллективу и т. д. Но какой бы из этих случаев мы ни взяли, всегда будем иметь определенную группу индивидов с кооперированной деятельностью и со сложной системой разнообразных взаимоотношений, возникающих на этой основе. Складывание и динамика «жизни» таких групп подчиняются определенным закономерностям, которые должны быть выделены и проанализированы. И только после этого можно будет приступить к анализу тех специфических путей и средств обучения, которые должны быть применены в условиях каждой из них. Особенно важное значение подобное исследование групп и взаимоотношений индивидов приобретает при выделении и конструировании наилучших путей и средств общественного и нравственного воспитания детей [1964b*; Усова, 1964 а, b; Надежина, 1964 b].
Но анализ групп индивидов, механизмов и средств кооперирования их частичных деятельностей в одну общую деятельность, анализ различных видов отношений, возникающих при этом между ними, условий нормальных контактов и взаимопонимания — все это предмет, с одной стороны, собственно социологического, объективного анализа, а с другой — социолого-психологического анализа, учитывающего также особенности психического склада общающихся между собой индивидов. Но как один, так и другой анализы образуют необходимую предпосылку и элемент собственно педагогического исследования путей и методов наиболее эффективного обучения и воспитания и поэтому должны войти органическими частями в «тело» педагогики. Так мы получаем третье направление социолого-педагогических исследований.
3. Каждое из перечисленных направлений социолого-педагогического исследования требует своих особых методов и понятий.
Последнее, третье направление может опираться на схемы и знания, относящиеся к «малым» группам и называемые обычно «микросоциологическими». Это направление социологии усиленно разрабатывается сейчас в США, и считается, что именно оно в системе социологии достигло наибольших успехов. Как правило, микросоциологический анализ объединяют с психологическим и в этой связи говорят о «социальной психологии» и «социально-психологическом анализе» (см. [Беккер, Босков, 1962; Морено, 1958], а также критический разбор [Замошкин, 1958]). На наш взгляд, само выделение и расчленение предмета изучения, способы связи социологических и психологических понятий, принятые в этих работах, являются во многом неудовлетворительными. Обсуждению этого вопроса мы хотим посвятить в дальнейшем особое сообщение, а пока нам важно подчеркнуть только ту сторону дела, что в принципе анализ «малых» групп при решении социолого-педагогических проблем этого, третьего, направления вполне допустим и необходим; спор может идти о характере методов и исходных понятий, но в рамках именно микроанализа.
Иначе дело обстоит при решении социолого-педагогических проблем первых двух направлений. Здесь микроанализ независимо от того, каков он, неприменим уже в принципе. И это следует из характера самих задач, в соответствии с которыми были выделены эти направления исследования.
Чтобы ответить на вопросы, каково место обучения и воспитания в системе общества, какую структуру имеет и должен иметь педагогический процесс, дабы он удовлетворял социальным требованиям общества, и на другие вопросы, подобные им, нужно анализировать всю систему общества в целом, весь механизм общественного воспроизводства. Но это означает, что мы уже не сможем ограничиться «малыми» группами в качестве объектов и предметов исследования, а должны будем выделить и представить в каком-либо виде свойства, связи и процессы, характеризующие общество как целое, как один объект. В дескриптивно-экспериментальных направлениях современной науки широко распространено мнение, что подобные характеристики «больших» чувственно-множественных систем можно получить, опираясь только на анализ отдельных входящих в них объектов или их групп. Так, считается, что можно получить характеристики обучения как особой системы, проанализировав ряд конкретных ситуаций обучения и обобщив индуктивно-эмпирическим путем полученные данные. Но это — грубое методологическое заблуждение. Если, например, мы хотим выяснить механизмы и закономерности изменения содержания, средств и методов обучения — а это и есть то, что характеризует обучение вообще как особый предмет изучения, — то мы уже не сможем ограничиться отдельными ситуациями обучения. Даже если мы возьмем ряд ситуаций, показывающих историческое изменение указанных параметров обучения, то и тогда мы сможем, в лучшем случае, лишь констатировать само различие, определить его характер, но никогда не сможем объяснить его. И это совершенно естественно, так как изменение ситуаций обучения происходит не в силу внутренних возможностей самих этих ситуаций, не в силу логики их собственного, внутреннего развития, а в силу изменения и изменяющих воздействий более широкой системы всего общества, элементами которой они являются. Обучение осуществляется в рамках «малых» групп, но оно не является «органом» их; наоборот, это — «орган» всего общества в целом и законы его изменения могут быть поняты только как законы изменения обществе в целом. Иными словами, связи, которые нас здесь должны интересовать для ответа на поставленные вопросы, не являются связями параметров самих «малых» групп; это — связи, включающие «малые» группы в более широкое целое, и связи механизмов изменения и развития самого этого целого.
Обобщая этот вывод, мы можем сказать, что характеристики «больших» чувственно-множественных систем как некоторых целостных образований нельзя получить из анализа отдельных входящих в них объектов. Для этого нужно сделать предметом анализа и объектом исследовательских сопоставлений всю эту систему как целое. Но так как это невозможно в реальном, «вещественном» плане, то такая система именно для осуществления этой процедуры должна быть предварительно представлена в особой модели, по отношению к которой и будут вестись необходимые сопоставления.
Но такой вывод и означает, что при решении проблем, встающих в этом направлении социолого-педагогических исследований, мы не сможем уже ограничиться анализом одних «малых» групп и ситуаций обучения, а должны будем ввести целый ряд особых моделей, которые будут как-то «представлять», или «отражать», связи, механизмы и процессы, лежащие вне самих этих групп и ситуаций, но вместе с тем определяющие их функционирование и изменение; это будут связи, механизмы и процессы системы общества как некоторой целостности, и таким образом эти модели будут задавать особые предметы исследования, которые могут быть названы «макропредметами». В их исследовании и описании модели будут выступать в двоякой роли: во-первых, они будут «изображать» некоторые структуры изучаемых «больших» систем и задавать способ обработки того эмпирического материала, в котором они представлены; во-вторых, они будут объектами-заместителями (чаще всего знаковыми), с которыми мы будем непосредственно действовать, чтобы получить знания об изучаемых «больших» системах.
К точно такому же выводу мы приходим, анализируя возможные пути решения проблем, стоящих перед вторым направлением социолого-педагогических исследований. Чтобы определить, каким должен быть обученный и воспитанный обществом индивид через 20, 40 или 60 лет, недостаточно знать структуру и внутреннюю динамику «малых» групп и, более того, наверное, даже бессмысленно искать решение в изучении их. Свойства людей определяются не их индивидуальными, внутренними возможностями, а теми требованиями, которые предъявляет им общество на каждом этапе своего развития. И понять эти требования, а соответственно и свойства индивидов, можно только исходя из этого целого, его системы. Но это значит, что для ответа на вопрос, каким должен быть человек будущего общества, человек через 20,40,60 лет, нужно выяснить основные тенденции и перспективы развития общества в целом, и в частности его производства, нужно выяснить и определить те требования, которые общество будет предъявлять в это время к деятельности индивидов и к их личным качествам, нужно предусмотреть и предсказать линии изменения и развития средств человеческой деятельности — «языка», «мышления», искусства и т. п. [1966 k; Юдин Э., 1963].
Таким образом, к тем задачам анализа системы общества, которые уже были намечены выше, это направление социолого-педагогических исследований прибавляет еще задачи прогнозирования изменений или развития этой системы, причем именно системы в целом, хотя внешне речь идет о качествах отдельных индивидов. Не обсуждая сейчас вопроса о том, в какой мере современная наука может решить эту задачу и как она будет это делать, мы хотим подчеркнуть только одно: и здесь необходим анализ связей, лежащих вне «малых» групп и в то же время определяющих их строение и изменение этого строения; и здесь для выражения этих связей понадобятся особые знаковые структуры; и здесь они должны будут использоваться в качестве моделей системы общества в целом или его «больших» подсистем.
4. Итак, обязательным условием и элементом макросоциологического анализа являются структурные модели, представляющие те или иные связи (механизмы или процессы) «больших» (т. е. «чувственно-множественных») систем, взятых как целое. Но как создаются и вводятся подобные модели?
В микроанализе такой вопрос, как правило, не возникает: считается, что объекты — «малые» группы, индивиды и т. п. — даны в нем непосредственно, в своей единичной конкретности, что они могут быть исследованы «дескриптивно-экспериментальным» путем, что данные, полученные из анализа одних единичных объектов, могут быть перенесены на другие, т. е. непосредственно обобщены, и что охват достаточно большого числа таких объектов дает нам знание о всех возможных их видах. Когда в подобных исследованиях по тем или иным причинам вводят модели, то их рассматривают как непосредственное выражение свойств, выявленных в единичных объектах. В макроисследованиях все это невозможно уже хотя бы потому, что «большая» система как целое не может стать объектом непосредственного анализа. Каким же образом тогда выявляются ее связи и механизмы, выражаемые в моделях?
Подавляющее большинство современных исследователей убеждены в том, что эти связи и механизмы не могут быть получены иначе как из анализа какого-то непосредственно данного материала, и, в частности, на этот принцип опираются те социологи, которые считают, что исследование «малых» групп должно предварять построение и развертывание более широких моделей. В известном смысле этот принцип бесспорен: в конечном счете всякое знание и всякая модель могут быть получены только из анализа каких-то непосредственно данных объектов. Но вопрос, очевидно, заключается в другом. Надо решить:
1) Каким будет эмпирический анализ непосредственно данных объектов «большой» системы при исследовании и воспроизведении этой системы как целого? Будет ли он, в частности, тождествен тому анализу этих объектов, который проводится при микроисследованиях?
2) Достаточно ли одного эмпирического анализа этих объектов, чтобы построить макромодель всей системы? Не придется ли нам, в частности, вводить здесь такие средства и понятия, которые либо опираются на анализ совсем другого эмпирического материала, либо теперь уже настолько опосредованы и переработаны в теоретическом движении, что вообще практически не имеет смысла говорить об их связи с эмпирическими данными?
3) Каким путем вообще выявляются связи, характерные для «больших» систем и их моделей? Что представляет собой само понятие «связи», с какими процедурами мышления оно связано?
Все эти вопросы должны стать предметом специального анализа и обсуждения при выяснении основных линий связи педагогики с социологией.[146]
О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки[147]
1. В [1967d] мы ввели, пользуясь средствами теории деятельности, понятия о «практической деятельности» и показали, что в рамках «методологической работы» и в связи с решением ее специфических задач появляется научное исследование, превращающееся затем в институционализированную систему наук. Это было необходимо для изображения «науки» как объекта в особой онтологической картине и последующего описания возможных процедур ее анализа. Но, чтобы ответить на вопрос «Что такое наука как предмет логико-методологического исследования?», недостаточно одного онтологического изображения науки как объекта изучения; помимо этого нужно еще уточнить понятия «методологического» и «логического» в отношении к самой науке и научно-исследовательской деятельности. Это будет вторым необходимым шагом в задании науки как предмета логико-методологических исследований. Рассмотрим это более подробно.
2. «Естественнонаучное» исследование, возникающее сначала в рамках «практической методологии» для обслуживания методической работы, затем обособляется в относительно самостоятельную сферу деятельности и порождает свою собственную методологию. Чтобы исследовать эту новую структуру деятельности, можно попытаться рассмотреть научное исследование по аналогии с «предметной деятельностью» как вид «практики» [1967d]. Тогда вся развитая в связи с этим схема дифференциации деятельности просто повторится; в собственно методологической части схемы мы будем иметь: а) выработку методических предписаний для научного исследования, б) описание исторически сменяющихся «норм» научно-исследовательской деятельности и в) научное исследование, обслуживающее своими продуктами «методическую работу» в области науки. Если полагать, что «логика» является наукой, обслуживающей методическую работу в сфере научного исследования, то таким образом мы определим как специфику науки логики и ее объектов, так и место логического анализа в общей работе по методологии науки.
Вопрос заключается лишь в одном: в какой мере допустима такая аналогия? Иными словами, может ли внутри методологии науки существовать такая научная дисциплина, которая будет аналогична «естественным наукам», обслуживающим методологию предметной деятельности,[148] или же это обязательно должна быть наука о деятельности?
Отвечая на этот вопрос, мы должны двигаться двумя путями: во-первых, исследовать, какой характер имели научные дисциплины, реально обслуживающие методологию науки логика, теория познания и др., а во-вторых, построить такую модель научно-исследовательской деятельности, которая позволила бы определить, можно ли выделять в этой деятельности «естественные» объекты и какие именно. Из-за недостатка места мы не будем резко разделять их, а, наоборот, соединим и будем вести движение как бы параллельно. Сопоставление их результатов поможет нам понять, что такое «логика», какая она есть и какой должна быть.
3. Подобно тому как это было в методологии «предметной деятельности», характер методических предписаний и научных знаний в сфере методологии науки определяется прежде всего характером тех вопросов, которые выдвигает «ученый-практик». Анализируя их, мы сразу же обнаруживаем очевидную двойственность. Одни вопросы формулируются по отношению к объектам изучения: «Что нужно сделать, чтобы проанализировать и описать «этот» объект или объект «определенного» типа?», другие же — по отношению к знаниям: «Что нужно сделать, чтобы получить знание «определенного» типа о таких-то объектах?».
4. Чтобы получить научные основания для методических предписаний, исследователь, работающий в сфере методологии науки, как и все другие ученые, обращается прежде всего к анализу «опыта» научно-исследовательской деятельности. Но он находится в более затруднительном положении, потому что непосредственно ему дано лишь одно — тексты научной литературы, фиксирующие знания об объектах и способы экспериментального и теоретического решения задач. Осуществить здесь анализ по схемам «практической деятельности» не так-то просто: ведь исходный материал, орудия, средства и действия, образующие, по нашему предположению, структуру любой деятельности, в данном случае скрыты от глаз исследователя; текст, в принципе, есть чистый продукт исследовательской деятельности, а все остальные ее элементы должны еще конструироваться самим исследователем. Правда, особенности жизни текстов в социуме — их коммуникативная и транслятивная функции — накладывают на них свою печать и делают так, что тексты, если воспользоваться выражениями Л. Витгенштейна, во-первых, «показывают» другие элементы деятельности — ИсМ, Пр, Ор и действия исследователя,[149] а во-вторых, еще и «сказывают» о них. Но это, конечно, все равно не снимает задачи специального выделения и реконструкции их. А здесь встает целый ряд сложных проблем.
Перед исследователем стоит задача выделить в тексте и за текстом, а вместе с тем в деятельности и за деятельностью такие «объекты», или, иначе, такую «действительность», которой можно было бы приписать законы «естественной» жизни. Это должна быть такая «действительность», которая бы объясняла определенные моменты строения текстов как «необходимые».
К обсуждению самой этой проблемы мы тоже подходим с позиций науки о деятельности и таким образом получаем возможность не только решить ее, но и объяснить историю предшествующих попыток решения (см. [1967 d] о «замыкающем» характере науки о деятельности). Суть этого подхода состоит в том, что «текст», являющийся продуктом научного исследования, берется в системе «объемлющих» его деятельностей, и прежде всего с точки зрения дальнейших употреблений его отдельных элементов или в целом. Благодаря этому появляется возможность говорить о строении текста, обусловленном или созданном этими употреблениями [1967 а; Лефевр, Дубовская, 1965; Москаева, 1966; Розин, 1965, 1966, 1967 b]. Хотя возможные в настоящее время употребления текста или его элементов весьма разнообразны, их можно разбить на две группы, описываемые существенно различным образом.
В одном случае текст или его элементы, взятые в том виде, как они уже сложились, употребляются в качестве исходного материала или средств в последующей деятельности совершенно безотносительно к тем объектам, которые в них описываются. Когда мы складываем два числа, то нам безразлично, какое количество и каких именно объектов они выражают. Важны лишь их формальные свойства, соответствующие той системе деятельности, в которой они употребляются. При таком подходе текст или его элементы напоминают деталь машины, которая по своей «форме» и строению должна подходить к остальным деталям и соответствовать процессу работы машины. Можно сказать, что в этом случае структура текста должна как бы «вписываться» в структуру какой-то другой системы, в форме которой мы представляем употребления текста в деятельности, быть частью ее; это обстоятельство обусловливает функциональный и обязательно однородный характер соответствующих описаний структуры текста и объемлющей ее структуры деятельности.
В другом случае текст или его элементы употребляются в последующей деятельности в качестве «замещений» изучаемого объекта, в частности — как его «модели». Это заставляет рассматривать структуру текста (заданную определенным употреблением) в отношении к структуре объекта (тоже заданной определенными преобразованиями его). И хотя, по сути дела, здесь анализируются отношения между двумя деятельностями, все выглядит так, как будто анализируются две объектные структуры (это неудивительно, ибо сами структуры есть не что иное, как «отпечатки» преобразований на объектах), причем структура текста берется в ее зависимости от структуры объекта.
Таким образом, текст, являющийся продуктом научно-исследовательской деятельности, как бы проецируется на два «идеальных пространства»: в одном его структура выступает как часть или фрагмент какой-либо функциональной структуры деятельности, в другом — как замещение или копия структуры объекта (точнее — «следа» определенного движения по объекту). Эти две проекции создают две новые «действительности», каждая из которых особым образом представляет структуру текста (см. схему) и вместе с тем выступает как та «сущность», которая определяет эту структуру, или как то, с помощью чего ее объясняют [1966 f]. Изображение, расположенное на этой схеме справа, мы будем называть «формальным», а изображение, расположенное внизу, — «объектно-онтологическим». Нетрудно заметить, что их различие соответствует различию тех вопросов, которые ставит перед методологом науки «ученый-практик» (см. п. З).
5. А. Представление текста в двух проекциях открывает принципиальную возможность для поиска изображений порождающей его деятельности в трех разных направлениях.
1) Правая, «формальная» проекция берется независимо от нижней, «объектно-онтологической». Деятельность выступает как процесс, связывающий элементы и единицы той «действительности», которая выражена в проекции. Этот процесс подчиняется общим и «необходимым» законам, независимым от строения объекта, изображаемого в нижней проекции; в нем «естественным» образом репрезентируются либо преобразования ИсМ в Пр, либо же — более сложные зависимости, существующие между Ср и ИсМ, Ср и Пр, Ср и преобразованием ИсМ в Пр.
2) Нижняя, «объектно-онтологическая» проекция берется независимо от «формальной». Деятельность, порождающая текст, выступает как «необходимое» движение по объекту (точнее — по его структуре, представленной в системе имеющегося изображения), не связанное с тем, что изображено в «формальной» проекции. В зависимости от характера употреблений изображений объекта в научно-исследовательской и методологической деятельности (эти употребления сами требуют специального и подробного анализа) движение по объекту и его «необходимость» получают двоякое толкование: а) как движение по самому объекту, переходы от одних его «сторон» к другим, имеющие необходимый характер в силу «природы» самого объекта; б) как движение в особых средствах представления объекта, имеющее необходимый характер в силу «природы» материала этих средств.
3) «Формальная» и «объектно-онтологическая» проекции берутся в связи друг с другом. Это самый сложный случай, включающий ряд существенно разных вариантов. Связь между проекциями может устанавливаться: а) путем фиксации зависимости движения в одной проекции от строения «действительности» в другой проекции; б) путем эклектического соединения элементов и единиц разных проекций при описании одного движения или процесса (например, ИсМ изображается как элемент «объектно-онтологической» плоскости, а Ср и Пр — как элементы «формальной» плоскости, или же ИсМ описывается как элемент «формальной» плоскости, а Пр — одновременно по «объектно-онтологическим» и «формальным» характеристикам); в) путем объединения изображений из разных проекций в одну целостную систему, обладающую своими собственными «естественными» и необходимыми процессами.
Уже в «Органоне» Аристотеля существует отчетливое разделение «формальной» и «объектно-онтологической» систем: первая представлена в «Аналитиках», вторая — в «Метафизике»; их связи друг с другом Аристотель, по сути дела, не признавал. Подобное же противопоставление «формального» и «объектно-онтологического», хотя и при других представлениях «действительности» этих двух проекций, сохранилось до наших дней; оно резко выражено в современной символической логике и во всех исследованиях по «метафизике» и «натурфилософии». Вместе с тем со времен Аристотеля шла непрерывная критика этого противопоставления, указывалось на неадекватность его реальному положению дел (см. в этой связи [Серрюс, 1948; Ильенков, 1965; Копнин, Крымский, 1965]) и делались разнообразные попытки связать эти представления друг с другом; сюда, в частности, должны быть отнесены все попытки создания «теории категорий».
Б. Характер той «действительности», которая вводится и изображается в каждой проекции, характер составляющих ее элементов, единиц и процессов, определяется среди прочего особенностями той исследовательской деятельности, которую осуществляет «ученый-практик», и теми вопросами, которые он ставит в связи с этим методологу.
Если, к примеру, ученый решает частную задачу по поводу какого-либо достаточно определенного объекта и движется в рамках уже сложившейся науки, но при этом все равно вынужден спрашивать методолога, как это делать, то исследователь-методолог, чтобы дать научно обоснованный ответ, должен построить в «формальной» проекции такую «действительность» и такую систему в ней, чтобы решение задачи — будь оно «экспериментом», «рассуждением», «выводом» или «доказательством» — выглядело бы как «естественный» процесс, приводящий к нужному результату в силу внутренних и «необходимых» законов жизни этой системы; соответственно в нижней, «объектно-онтологической» проекции он должен построить такую структуру объекта, которая задавала бы объективные основания для определенного по своему строению эксперимента, рассуждения или вывода.
Примечательно, что начиная по крайней мере с Александра Афродизийского умозаключение рассматривалось именно как «естественный» процесс, хотя оставалось неясным, в какой именно «действительности» оно существует (см., например, [Лукасевич, 1959; Зиновьев, 1962]), и та же самая идеология «естественного» подхода сохраняется во всех современных работах по построению понятия «следования», несмотря на то что вопрос о «действительности», в которой могут существовать подобные сущности, до сих пор не решен [Зиновьев, 1962, 1965]; может быть, именно этим объясняются многие из возникающих здесь затруднений.
Если «ученый-практик» строит целую научную теорию и спрашивает, как это делать, то исследователь-методолог, чтобы ответить ему, должен представить в «формальной» проекции сначала структуру теории, а потом, в виде «естественного» процесса, ее возникновение в системе какого-либо более широкого целого (например, науки или системы наук), функционирующего по своим внутренним законам; соответственно в «объектно-онтологической» проекции он должен сконструировать объект такого типа, специфическая структура которого объясняла и оправдывала бы определенное строение теории.
И так происходит в каждом случае: изменение типа исследовательских задач, стоящих перед «ученым-практиком», меняет вид и характер той «действительности», которая строится в обслуживающих это исследование разделах методологической теории.
В. «Естественнонаучный» подход при описании исследовательской деятельности оправдан и, наверное, не только в историческом плане: ничто не дает оснований считать, что в ней вообще нельзя выделить таких конструкций, которые бы выступали в роли «естественных» объектов особого рода; но он ограничен в ряде весьма существенных для методологии пунктов и не может дать там необходимых средств.
Когда «ученый-практик» должен построить какое-то новое знание, а методологи проводят исследования и строят для него методические предписания, то они всегда принимают какую-то систему за неизменяемую, независимую от деятельности людей и подстраивают проектируемую ими деятельность (прежде всего производимые ею преобразования) под законы функционирования или развития этой системы. Так, при выработке того или иного понятия мы будем считать неизменяемыми и подчиняющимися «естественным» законам системы теории, при построении новой теории — системы данной науки или других наук и т. д.
Выбираемые таким образом системы могут быть весьма различными — более широкими, более «узкими» или просто разными. В зависимости от того, какая из систем будет выбрана, примут разный вид «естественные» законы, на которые будут ориентироваться «методисты», и изменятся те методические предписания, в соответствии с которыми будет строиться исследовательская деятельность. Но во всех случаях продукт деятельности будет выступать в роли элемента уже существующей системы и его характер и строение будут во многом и заранее определены характером и строением этой системы. Именно для фиксации этого проводятся все методологические исследования.
Но наряду с этим существует и другое. В определенных условиях такой подход и связанная с ним точка зрения могут и должны быть заменены на прямо противоположные. Нередко в процессе научного исследования появляется необходимость построить понятие, не соответствующее объемлющей его системе, или же сохранить стихийно сложившееся понятие, несмотря на то что вся остальная система теории или даже науки противоречит ему. Тогда приходится перестраивать теорию в соответствии с отдельным понятием, науку — в соответствии с новым фрагментом ее теории. В этом случае теория и наука выступают уже не как «естественные» системы, законы жизни которых мы ищем, а как искусственно создаваемые, конструируемые нами системы.
«Ученый-практик» постоянно сталкивается с такими ситуациями в ходе своих исследований и, естественно, хочет получить от методиста рекомендации, какую из названных позиций он должен занять в том или другом случае, и далее, если ему предлагают занять инженерно-конструктивную позицию, то что именно в ней и какими средствами он должен делать.
Чтобы выработать основания для подобных методических рекомендаций, нужна совершенно особая система научных знаний, отличная от всего того, что может дать система двух независимых друг от друга проекций — «формальной» и «объектно-онтологической». Такую систему знаний, как мы говорили в [1967 d], дает наука о деятельности. Она как бы замыкает извне всю систему методологической работы, в том числе и методологию науки, и является для нее последним научным основанием.
6. Изложенного достаточно, чтобы в общих чертах ответить на вопрос о природе и специфике «логического», учитывая вместе с тем историческое развитие деятельности и связанных с нею систем науки.
Как особая сфера деятельности «логика» возникла внутри методологии научно-исследовательской деятельности и развивалась от производства методических предписаний по двум линиям: с одной стороны, к выработке исторических описаний «норм» исследовательской деятельности, а с другой — к созданию собственно научных изображений связей между различными элементами ее, представленными в виде объектов особого рода; эти научные знания должны были обслуживать деятельность по созданию методических предписаний. То, что называют сейчас обычно «логикой», во все исторические периоды начиная с Аристотеля включало в себя деятельность всех трех названных выше типов, их продукты — методические предписания, описания «норм» деятельности и собственно научные знания, а также разнообразные средства, необходимые для их создания, и элементы других, метаметодологических дисциплин. Все это объединялось в самые причудливые комбинации и структуры в соответствии с тем или иным методологическим или логическим «мировоззрением» исследователей [Ветров, 1964; Бродский, Серебрянников, 1966; Зиновьев, 1962, 1965; Ильенков, 1965, 1966; Копнин, Крымский, 1965; Рузавин, 1964; Серрюс, 1948].
Как собственно наука «логика» все это время непрестанно колебалась между заданной традициями формой «естественной» науки о предметах и впервые вырабатываемой формой науки о деятельности. Вопрос о том, в каком виде должна дальше существовать и развиваться «логика» — как «естественная» наука, по отношению к которой теория деятельности стоит как бы «перпендикулярно», или же как раздел науки о деятельности является сейчас одним из основных проблемных вопросов философии и методологии. Вместе с тем это вопрос о том, останется ли логика и дальше «формальной» или же превратится в синтетическую дисциплину, объединяющую в одной системе как «формальные», так и «объектно-онтологические» характеристики научно-исследовательской деятельности.[150]
7. В предшествующих рассуждениях мы изложили, хотя и бегло, все необходимое для понимания нашего ответа на первый вопрос анкеты.
Один раз «естественнонаучное исследование» уже было изображено нами как элемент «методологической работы» с помощью схем и понятий теории деятельности [1967 d]. Двигаясь в этих схемах дальше, мы могли бы получать все более детализированные характеристики его функций и функционального строения. Но все это давало бы нам изображение научного исследования лишь как «объекта». А чтобы изобразить тот или иной «предмет изучения», нужно привлечь еще соответствующие знания об этом «объекте» и описать то содержание, которое в этих знаниях выделяется и фиксируется. В частности, чтобы изобразить науку как «предмет» логико-методологического исследования, мы должны привлечь соответствующие логико-методологические знания и задать на построенном нами «объектном» изображении науки то содержание, которое они выделяют и фиксируют. В зависимости от того, какими средствами мы воспользуемся и как именно будем изображать «предмет» — как особую связку «объекта» и «знаний» в формальной проекции или как особую структуру помысла» и содержания этих знаний в объектно-онтологической проекции, — получатся два разных понятия о науке как предмете логико-методологического исследования. И если бы можно было предположить, что наука как «объект» сложилась и развивалась независимо от логико-методологических знаний о ней, то мы так бы и поступили: развернув изображения научного исследования и науки как «объектов», просто указали бы те стороны в этом изображении, которые выделяются и описываются логикой. Но дело в том, что сама наука есть социально нормируемое, а следовательно, во многом «искусственное» образование [1967 g*] и она почти с момента своего возникновения развивалась под сильным и, можно даже сказать, определяющим воздействием философии и логики, то есть, грубо говоря, нередко просто строилась в соответствии с представлениями о том, какой она должна быть. Другими словами, научное исследование и логические знания о нем образуют (за счет механизмов «методической деятельности») одну сложную систему, развивающуюся под определяющим воздействием одного элемента ее — логических знаний, хотя и при известной самостоятельности другого элемента — самого научного исследования. Из-за этого, характеризуя науку как «предмет изучения», мы должны начинать с анализа знаний о науке и описывать не только процесс постепенного выявления и открытия «содержания», уже как бы заложенного в самом объекте, но также (и даже в еще большей степени) процесс формирования и конструирования науки как объекта в соответствии с тем смыслом и содержанием, которое выражается в знаниях о ней. Это соображение обусловило тот порядок, в каком мы, отвечая на вопрос анкеты, задаем разные характеристики науки.
Наука как предмет логико-методологического исследования это:
1) система, выражаемая в таких научных знаниях, которые позволяют строить набор методических предписаний, обслуживающих определенный класс методологических запросов «ученых-практиков»;
2) особая «действительность», появляющаяся сначала как «смысл» ряда описаний научно-исследовательской деятельности в правой, «формальной» проекции, а затем, с оформлением логики в полноценную науку, обладающая всеми необходимыми элементами внешнего выражения, в частности представленная в специальных схемах, играющих роль онтологических картин и моделей;
3) особая организация знаковых элементов научно-исследовательской деятельности, являющихся одновременно продуктами и средствами ее, проведенная в соответствии с какими-либо логико-методологическими проектами (здесь фиксируется «искусственный», т. е. нормируемый, характер научных систем [1967 g*]);
4) определенная система в созданной благодаря рефлексии «действительности», рассматриваемая, с одной стороны, как «естественное» образование, обладающее внутренними законами функционирования и развития, а с другой стороны — как система средств в деятельности.
Лингвистика, психолингвистика, теория деятельности[151]
Какой мы хотим видеть психолингвистику — самостоятельной теоретической дисциплиной со своим специфическим предметом и методами или подсобной методической дисциплиной, обеспечивающей связь знаний из разных наук при решении прикладных вопросов?
До сих пор все попытки построить самостоятельную теорию психолингвистики не привели к желаемым результатам. То, что существует под этим названием, остается лишь смесью из новых проблем и понятий разных наук — лингвистики, психологии, теории информации и отчасти логики и семиотики.
Для того чтобы оформилась новая научная дисциплина, мало одних новых проблем и новых сочетаний средств и методов: нужно еще построить специальную онтологическую картину, задающую особую «действительность» данной науки, и найти ей место в общей картине мира. Именно этого, во всяком случае до сих пор, не удалось сделать для психолингвистики.
Огромный смысл работ по психолингвистике состоял и состоит в том, что они расширяют область эмпирического материала, в отношении которого ставится задача научного анализа, «втягивают» его в науку и позволяют ставить в эмпирической форме новые научные проблемы. Именно с этой точки зрения, на наш взгляд, и нужно в первую очередь обсуждать результаты психолингвистики.
Но такое обсуждение неизбежно приведет нас к другому кругу вопросов. Существует принципиальное различие между эмпирической и теоретической постановкой проблем. Эмпирически поставленная проблема — это лишь указание за некоторую область фактов, требующих анализа и описания. Это указание дается в таком языке и в таких средствах, которые (по определению эмпирической постановки проблемы, в отличие от теоретической) не могут дать решения. Чтобы превратить проблему в научную задачу, допускающую решение, нужно предварительно переформулировать ее в соответствии с онтологической картиной той научной дисциплины, в рамках которой она будет решаться, и, соответственно, в языке и средствах этой научной дисциплины. Производя подобные переформулирования проблемы, мы одновременно выясняем, в рамках какой именно научной дисциплины может и должна решаться эта эмпирически поставленная проблема.
Таким образом, обсуждая проблемы, выдвинутые психолингвистикой, мы вынуждены будем заниматься не только их объектной сутью, но также и вопросом о том, на каких онтологических картинах и соответственно в рамках каких научных дисциплин эти проблемы должны теоретически формулироваться и решаться. Вместе с тем это будет решением вопроса о судьбе психолингвистики — ее задачах, предмете, методе — и о месте ее среди других научных дисциплин. Здесь, следовательно, намечаются две хотя и тесно связанные, но вместе с тем существенно различные линии обсуждения. Одна, методологическая, касается взаимоотношений и связей предметов разных наук; другая будет заключаться в формулировании, обсуждении и решении проблем, выдвинутых психолингвистикой, в рамках и средствами тех научных дисциплин, в которых они действительно могут быть решены. Мы говорим пока исключительно о первом круге вопросов.
К числу научных дисциплин, в предмете которых могут решаться проблемы, поднятые психолингвистикой, принадлежат: семиотика, теория деятельности, отчасти философия, логика, этнография и социология; кроме того, нужно обсудить отношение психолингвистики к ее источникам — к психологии и лингвистике. Из этого круга вопросов нами рассматриваются лишь некоторые.
Первую часть методического аппарата, необходимого для этой работы, составляют наши знания о структуре науки, ее отношении к практике и знания о механизмах развития научного предмета. Эти знания из теории науки дают возможность построить план-карту тех процедур, которые должны быть выполнены при решении данного конкретного круга вопросов.
1. Описываются практические запросы и новые факты, вызвавшие к жизни психолингвистику; они оцениваются с точки зрения их практической ценности и формулируются в эмпирическом языке в виде «тем», очерчивающих некоторые объектные области для исследования. От «тем» исследования отделяются псевдотеоретические проблемы, возникающие благодаря соотнесению друг с другом понятий разных наук (например, психологии и лингвистики) или распространению этих понятий на эмпирический материал, лежащий за границами соответствующих научных предметов.
2. Выделенная группа псевдотеоретических проблем, фиксирующая расхождение понятий с эмпирическим материалом, анализируется таким образом, чтобы можно было выявить те свойства объектов, которые приводят к расхождениям. При этом строится картина объектной области, расходящаяся с онтологическими картинами тех наук, из которых были взяты использованные понятия.
В одних случаях картина объектной области строится заново специально для данного материала. Но в большинстве случаев она берется из какой-либо другой науки или научной дисциплины. К ней предъявляются три требования: а) должна быть задана гипотетическая картина тех свойств объектов, которые привели к появлению псевдопроблем; б) фиксация этих свойств в знаниях должна давать средства для разрешения практических запросов; в) картина должна быть, возможно, более общей, чтобы задавать основание для сравнения широкой группы научных дисциплин и их онтологических картин. Первые два требования являются сугубо предметными, третье — методологическим.
Для психолингвистики, ориентированной на анализ речевой деятельности и общение людей, такой наиболее общей онтологической картиной, на наш взгляд, будет онтология теории деятельности; она образует вторую часть методического аппарата, необходимого для выяснения взаимоотношений психолингвистики с другими науками.
3. Практические вопросы, вызвавшие к жизни психолингвистику и ее псевдотеоретические проблемы, проанализированные по изложенной выше схеме, соотносятся с вновь выбранной (или построенной) онтологической картиной, и делается попытка сформулировать их как проблемы теории деятельности или других соотнесенных с нею наук. Если это удается, то производится специальная проверка (практически или путем специальных методических рассуждений), можно ли эти проблемы решить и дадут ли полученные таким образом знания средства для решения соответствующих практических вопросов. В случае положительных ответов на оба вопроса подобная процедура приводит к ликвидации психолингвистики. В случае отрицательных ответов она еще не приводит к утверждению ее в качестве самостоятельной науки.
4. Для теоретического обоснования психолингвистики как самостоятельной дисциплины необходимо: а) выделить специфическую для нее действительность на онтологической картине теории деятельности (либо в виде части или подструктуры этой области, либо же в виде проекции, снятой с нее), б) показать, что эта действительность не анализируется и не описывается в заданной степени детализации ни самой теорией деятельности как таковой, ни одной из соотнесенных с ней научных дисциплин.
Лишь после всего этого можно ставить вопрос о выявлении специфических средств и методов психолингвистики, а затем соответственно ее онтологической картины и предмета.
Специального обсуждения заслуживает вопрос о том, может ли быть вписана действительность психолингвистики в онтологию теории деятельности. Интересно провести все рассуждения, исходя из отрицательного ответа на него. Но пока это представляется нам немыслимым.
Отношение психолингвистики к современной лингвистике определяется тем, что первая выросла из попыток выйти за узкие рамки традиционного изучения языка; при этом она опиралась на гумбольдтианские представления о речи-языке как деятельности. Но отсутствие представлений о специфических чертах деятельности вообще и речевой деятельности в частности породило ориентировку ее на модные течения теории информации.
Решение вопроса об отношении психолингвистики к психологии очень затруднено тем, что сама психология до сих пор не имеет четко определенного предмета и своей онтологической картины; на наш взгляд, их также можно получить лишь на основе онтологии теории деятельности.
Так как семиотика, с нашей точки зрения, формируется на основе теории деятельности, а ее онтологическая картина является особой проекцией более общей онтологии теории деятельности, то решение вопроса об отношении между семиотикой и психолингвистикой возможно лишь на основе одновременного соотнесения их с онтологией теории деятельности.
Итак, по-видимому, очевидно, что объектом изучения психолингвистики должны быть процесс коммуникации и речевая деятельность. Но очень часто, говоря о деятельности, мы не знаем, в чем ее специфические черты и как именно ее нужно анализировать и представлять, чтобы получить адекватные и правильные знания.
Существуют два основных подхода в анализе деятельности: культурно-исторический и индивидуально-психический. При первом речевая деятельность рассматривается безотносительно к тому, что хотят и думают индивиды; они сами при таком подходе рассматриваются как элементы деятельности, включенные в ее систему и подчиненные ей. При втором подходе речевая деятельность рассматривается как принадлежащая индивиду, а индивид — как свободный деятель, творящий и производящий деятельность.
Культурно-исторический подход не исключает анализа отношения частей или фрагментов деятельности к индивиду. Но это отношение рассматривается принципиально иначе, нежели при индивидуально-психическом подходе; во-первых, на основе нормативного представления деятельности безотносительно к индивидам, а во-вторых, сами индивиды рассматриваются уже не как свободные деятели, а как агенты деятельности.
Коммуникация между индивидами точно так же может рассматриваться в индивидуально-психическом или культурно-историческом подходе. При первом исходят из ситуации общения двух или большего числа индивидов и пытаются изобразить ее в структурных моделях (А. Гординер, К. Бюлер, К. Черри и др.). Иногда такую модель рассматривают не просто как эмпирически-описательную, следовательно, требующую еще своего объяснения и анализа, а как теоретически-объяснительную. Это ошибка.
В акте общения двух индивидов проявляется или, если так можно сказать, пересекается масса различных процессов. Каждый из них имеет свои основные законы жизни. Поэтому, чтобы понять это эмпирическое и на первый взгляд простое, а на самом деле очень сложное синтетическое явление, его нужно разложить как бы по разным проекциям. Это будут разные предметы, подчиняющиеся своим однородным законам. В рамках индивидуально-психического подхода эта задача неразрешима, а все попытки решить ее неизбежно приводят нас к культурно-историческому представлению речевой деятельности. Кстати, только в рамках этого подхода удается соединить в одно целое и коммуникацию между индивидами, и деятельность индивидов.
Культурно-историческое представление деятельности есть представление ее в виде структуры, объясняющей разнородные и постоянно меняющиеся элементы.
В рамках этой структуры, охватывая то всю ее, то отдельные группы элементов, протекают различные процессы. Основным, подчиняющим себе все другие, является процесс воспроизводства структуры деятельности. Этот процесс реализуется в разнообразных механизмах деятельности. Они определяют материал и строение всех элементов и агрегатов структуры деятельности. Поэтому, чтобы понять их, нужно начинать с анализа процесса воспроизводства, выявлять его механизмы, определять функцию различных образований в них, а затем идти от функций к внутреннему строению этих образований. Эта схема в полной мере относится и к анализу речевой деятельности.
Как и для всякой другой сложной органической структуры, главная методическая проблема здесь заключается в том, чтобы определить весь набор необходимых и возможных предметов изучения и порядок их анализа. Каждый предмет будет задавать, с одной стороны, этап в изучении структуры речевой деятельности, а с другой — особое направление изучения.
В первом, самом абстрактном предмете эмпирическим материалом для анализа служат отдельные речевые тексты. «Деятельностный» подход проявляется в том, что эти тексты берутся в определенном социально-производственном окружении, которое особым образом изображается, и рассматриваются с точки зрения того или иного употребления. В этой связи выявляются объективные функции знаковых выражений в целом и отдельно входящих в них знаков. При этом с помощью особых процедур может быть выявлено объективное содержание, замещаемое знаками, которое точно так же особым образом изображается. Функции знаков, связанные с замещением объективного содержания или его формальных репрезентаций, рассматриваются как объективные значения. Позиции индивидов, их средства и содержание сознания в таком анализе совершенно не учитываются.
Указанная методика разработана достаточно детально и широко применяется сейчас в логико-семиотических и логико-педагогических исследованиях.
Во втором предмете начинается учет индивида и его возможных отношений к речевым текстам; но это пока еще такой подход, в котором индивид представлен лишь средствами, которые необходимо используются при построении речевых текстов или при понимании их, ориентированном на определенное употребление. Главным в этом предмете оказываются отношения и связи между объектами и продуктами деятельности, с одной стороны, и средствами деятельности — с другой. При этом происходит четкое разделение между средствами, необходимыми для построения текстов, и средствами, необходимыми для их понимания.
Анализ отношений связей между средствами деятельности и ее объектами и продуктами позволил объяснить основные механизмы развития речевой деятельности. Сейчас исследования такого рода проводятся на материале истории науки и учебных предметов.
В третьем предмете средства речевой деятельности анализируются с точки зрения основных процессов, обеспечивающих воспроизводство: а) трансляции, б) обучения, в) усвоения. Каждый из этих процессов так же, как и использование при решении задач, задает определенную организацию и систематизацию средств речевой деятельности. Выявляя функции средств в каждом из этих употреблений, мы получаем возможность анализировать их строение, а затем — содержание и значение.
Системы средств, взятые со стороны их строения, содержания и значений, существенно отличаются от текстов, используемых в непосредственной коммуникации. Это дает возможность различать те и другие не только относительно отдельного акта деятельности, но и в системе всего социума. Мы называем специализированные системы средств «парадигматическими», а тексты непосредственной коммуникации — «синтагматическими».
Средства деятельности, взятые в трансляции, обучении, усвоении и использовании, могут рассматриваться в отношении к индивидам. Каждый из этих процессов будет задавать особое отношение; при этом трансляция вообще исключает возможность психологического подхода, а три других допускают его, но при особом представлении предмета изучения.
В четвертом предмете речевые тексты берутся в процессе коммуникации. Здесь отношение текста к общающимся индивидам становится основным моментом, а сам текст берется всегда в определенных конкретных ситуациях общения. В известном смысле этот предмет снимает в себе все знания, полученные в предшествующих предметах: речевые выражения выступают как обладающие определенным содержанием, значениями и функциями, а индивиды — как обученные и владеющие определенными средствами. Вдобавок ко всему речевые тексты, взятые в отношении к каждому из общающихся индивидов, получают два разных «смысла», один — для говорящего, а другой — для слушающего. При этом сами индивиды наделяются сознанием и изображаются как обладающие разными «табло», на которых фиксируются не только вещные элементы ситуации, но и содержания сознания других собеседников. Характер того, что фиксируется на «табло», обязательно входит в число элементов, определяющих форму речевого сообщения.
Намеченная таким образом последовательность предметов изучения дает нам возможность подойти к структурному анализу речевой деятельности и процессов коммуникации.
«Человек» как предмет исследований[152]
Существует большое количество философских концепций «человека». В социологии и психологии есть не меньшее число разных точек зрения на «человека» и попыток более или менее детального описания разных свойств и качеств его. Все эти знания, как мы уже сказали, не могут удовлетворить педагогику и при соотнесении друг с другом не выдерживают взаимной критики. Анализ и классификация этих концепций и точек зрения, а также объяснение того, почему они не дают и не могут дать знаний, удовлетворяющих педагогику, — дело специальных и весьма обширных исследований, далеко выходящих за рамки данной статьи. Мы не можем входить в обсуждение этой темы даже в самом грубом приближении и пойдем принципиально иным путем: введем, исходя из определенных методологических оснований (они станут понятными чуть дальше), три полярных представления, по сути дела фиктивных и не соответствующих ни одной из тех реальных концепций, которые были в истории философии и наук, но весьма удобных для нужного нам описания существующей сейчас реальной научно-познавательной ситуации.
Согласно первому из этих представлений «человек» есть элемент социальной системы, «частичка» единого и целостного организма человечества, живущая и функционирующая по законам этого целого. При таком подходе «первой» предметной реальностью являются не отдельные люди, а вся система человечества, весь «левиафан»; отдельные люди могут быть выделены как объекты и могут рассматриваться только относительно этого целого, как его «частички», его органы или «винтики».
В предельном случае эта точка зрения сводит человечество к полиструктуре, воспроизводящейся, то есть сохраняющейся и развивающейся, несмотря на непрерывную смену людского материала, а отдельных людей — к местам в этой структуре, обладающим только функциональными свойствами, порожденными пересекающимися в них связями и отношениями. Правда, тогда — и это совершенно естественно — машины, знаковые системы, «вторая природа» и т. п. оказываются такими же конституирующими элементами человечества, что и сами люди; последние выступают в качестве лишь одного вида материального наполнения мест, равноправного относительно системы со всеми другими. Поэтому неудивительно, что в разное время одни и те же (или аналогичные) места социальной структуры заполняются разным материалом: то люди занимают места «животных», как это было с рабами в Древнем Риме, то на места «животных» и «людей» ставятся «машины» или, наоборот, люди на места «машин». И нетрудно заметить, что при всей своей парадоксальности это представление схватывает такие общепризнанные стороны социальной жизни, которые не описываются и не объясняются другими представлениями.
Второе представление, наоборот, считает первой предметной реальностью отдельного человека; оно наделяет его свойствами, почерпнутыми из эмпирического анализа, и рассматривает в виде очень сложного самостоятельного организма, несущего в себе все специфические свойства «человеческого». Человечество в целом тогда оказывается не чем иным, как множеством людей, вступивших во взаимодействие друг с другом. Иначе говоря, каждый отдельный человек при таком подходе — молекула, а все человечество напоминает газ, образующийся из хаотически и неорганизованно движущихся частиц. Естественно, что законы существования человечества должны рассматриваться здесь как результат совместного поведения и взаимодействия отдельных людей, в предельном случае — как та или иная суперпозиция законов их частной жизни.
Эти два представления «человека» противостоят друг другу по одному логическому основанию. Первое строится путем движения от эмпирически описанного целого к составляющим его элементам, но при этом не удается получить сами элементы — их не оказывается — и остается одна лишь функциональная структура целого, одна лишь «решетка» связей и создаваемых ими функций; в частности, на этом пути никогда не удается объяснить самого человека как личность, его активность, не подчиняющуюся законам того целого, в котором он, казалось бы, живет, его противостояние и противоборство этому целому. Второе представление строится путем движения от элементов, уже наделенных определенными «внешними» свойствами, в частности от «личности» отдельного человека, к целому, которое должно быть собрано, построено из этих элементов, но при этом никогда не удается получить такую структуру целого и такую систему организованностей, образующих ее, которые бы соответствовали эмпирически наблюдаемым явлениям социальной жизни, в частности, не удается объяснить и вывести производство, культуру, социальные организации и институты общества, а в силу этого остается необъяснимой и сама эмпирически описанная «личность».
Различаясь в указанных выше моментах, эти два представления совпадают в том, что они не описывают и не объясняют внутреннего «материального» строения отдельных людей и вместе с тем совсем не ставят вопрос о связях и отношениях между 1) «внутренним» устройством этого материала, 2) «внешними» свойствами отдельных людей как элементов социального целого и 3) характером структуры этого целого.
Так как значение биологического материала в жизни человека с эмпирической точки зрения бесспорно, а два первых теоретических представления не учитывают его, то это совершенно естественно порождает противостоящее им третье представление, которое видит в человеке прежде всего биологическое существо, «животное», хотя и социальное, но по происхождению своему все же животное, сохраняющее и сейчас свою биологическую природу, обеспечивающую его психическую жизнь и все социальные связи и отправления.
Указывая на существование третьего параметра, участвующего в определении «человека», и его бесспорное значение в объяснении всех механизмов и закономерностей человеческого существования, эта точка зрения, как и две первые, не может объяснить связей и отношений между биологическим субстратом человека, его психикой и социальными человеческими структурами; она только постулирует необходимость существования таких связей и отношений, но ничем до сих пор их не подтвердила и никак не охарактеризовала.
Итак, есть три полярных представления «человека». Одно изображает его в виде биологического существа, материала с определенным функциональным устройством, в виде «биоида», второе видит в человеке лишь элемент жестко организованной социальной системы человечества, не обладающий никакой свободой и самостоятельностью, безликого и без личностного «индивида» (в пределе — чисто «функциональное место» в системе), третье изображает человека в виде отдельной и независимой молекулы, наделенной психикой и сознанием, способностями к определенному поведению и культурой, самостоятельно развивающейся и вступающей в связи с другими такими же молекулами, в виде свободной и суверенной «личности». Каждое из этих представлений выделяет и описывает какие-то реальные свойства человека, но берет только одну сторону, вне связей и зависимостей ее с другими сторонами. Поэтому каждое из них оказывается весьма неполным и ограниченным, не может дать целостного представления о человеке. Между тем требования «целостности» и «полноты» теоретических представлений о человеке вытекают не столько даже из теоретических соображений и логических принципов, сколько из потребностей современной практики и инженерии. Так, в частности, каждого из названных выше представлений человека недостаточно для целей педагогической работы, но вместе с тем ей не может помочь и чисто механическое соединение их друг с другом, ибо суть педагогической работы в том и состоит, чтобы формировать определенные психические способности личности, которые соответствовали бы тем связям и отношениям, внутри которых эта личность должна жить в обществе, и для этого формировать определенные функциональные структуры на «биоиде», то есть на биологическом материале человека. Другими словами, педагог должен практически работать сразу на всех трех «срезах» человека, и для этого он должен иметь научные знания, в которых будут зафиксированы соответствия между параметрами, относящимися к этим трем «срезам».
Но это означает, как мы уже и говорили, что педагогика требует такого научного знания о человеке, которое бы объединяло все три описанных выше представления о человеке, синтезировало бы их в одном многостороннем и конкретном теоретическом знании. Такова задача, которую педагогика ставит перед «академическими» науками о «человеке».
Но сегодня теоретическое движение не может ее разрешить, ибо нет необходимых для этого средств и методов анализа. Задачу приходится решать сначала на методологическом уровне, вырабатывая средства для последующего теоретического движения, в частности на уровне методологии системно-структурного исследования [Генисаретский, 1965; 1965 d].
С этой позиции, охарактеризованные выше проблемы синтеза полярных теоретических представлений выступают в ином виде — как проблемы построения такой структурной модели человека, в которой были бы 1) органически связаны три группы характеристик (см. схему 1): структурные связи Sik объемлющей системы, «внешние функции» Fik элемента системы и «структурная морфология» si. элемента (пять групп характеристик, если мы представляем структурную морфологию элемента в виде системы функциональных связей spq, погруженных на материал mp) и при этом 2) удовлетворены дополнительные требования, вытекающие из специфической природы человека, в частности возможность для одного и того же элемента занимать разные «места» структуры, как это обычно бывает в социуме, возможность отделяться от системы, существовать вне ее (во всяком случае, вне ее определенных отношений и связей), противостоять ей и перестраивать ее.
Наверное, можно утверждать, что сегодня не существует общих средств и методов решения этих задач даже на методологическом уровне. Но дело усложняется еще и тем, что эмпирические и теоретические знания, исторически выработанные в науках о «человеке» и «человеческом» — в философии, социологии, логике, психологии, языкознании и др., — строились по иным категориальным схемам и не соответствуют чистым формам характеристик системно-структурного объекта; по своему объективному смыслу эти знания соответствуют тому содержанию, которое мы хотим выделить и организовать в новом синтетическом знании о человеке, но это содержание оформлено в таких категориальных схемах, которые не соответствуют новой задаче и необходимой форме синтеза прошлых знаний в одном новом знании. Поэтому при решении поставленной выше задачи, во-первых, нужно будет провести предварительную чистку и разбор всех специально-предметных знаний с тем, чтобы выявить те категории, по которым они строились, и соотнести их со всеми специфическими и неспецифическими категориями системно-структурного исследования, а во-вторых, придется считаться с наличными средствами и методами указанных наук, осуществивших разложение «человека» не в соответствии с аспектами и уровнями системно-структурного анализа, а в соответствии с историческими превратностями формирования их предметов исследования.
Историческое развитие знаний о человеке, взятых как в совокупности, так и в отдельных предметах, имеет свою необходимую логику и закономерности. Обычно их выражают в формуле: «От явления к сущности». Чтобы сделать этот принцип операциональным и работающим в конкретных исследованиях по истории науки, нужно построить изображения соответствующих знаний и предметов изучения, представить их в виде «организмов» или «машин» науки [1964 h*; Пробл. иссл. структуры… 1967] и показать, как эти организмические системы развиваются, а машинообразные перестраиваются, порождая внутри себя новые знания о человеке, новые модели и понятия [Пробл. иссл. структуры… 1967, с. 129–189]. При этом придется реконструировать и изображать в специальных схемах все элементы систем наук и научных предметов: эмпирический материал, с которым имеют дело многочисленные исследователи, проблемы и задачи, которые они ставят, средства, которыми они пользуются (включая сюда понятия, модели и оперативные системы), а также методические предписания, в соответствии с которыми они осуществляют процедуры научного анализа [Пробл. иссл. структуры… 1967, с. 105–189].
Пытаясь реализовать эту программу, мы неизбежно сталкиваемся с рядом затруднений. Прежде всего, неясен объект изучения, с которым имели дело рассматриваемые нами исследователи, ибо они отталкивались всегда от разного эмпирического материала, а это значит, имели дело отнюдь не с тождественными объектами и, главное, по-разному «видели» их и строили свои процедуры анализа в соответствии с этим видением. Поэтому исследователю-логику, описывающему развитие знаний, приходится не просто изображать все элементы познавательных ситуаций и «машин» научного знания, но — и это опять-таки главное — исходить из результатов всего процесса и воссоздавать (фактически даже создавать) на основе их особую фикцию — онтологическую схему объекта изучения.
Эта конструкция, вводимая исследователем-логиком для объяснения процессов познания, обобщает и синтезирует множество познавательных актов, проведенных разными исследователями на различном эмпирическом материале, и в его предмете выступает в роли формального эквивалента того видения объекта изучения, которое у исследователей, работу которых он описывает, существовало в виде особого содержания сознания и определялось всем строением используемой ими «машины» (хотя в первую очередь — имеющимися в ней средствами).
После того как онтологическая картина построена, исследователь-логик в своем анализе и изложении материала делает трюк, известный под именем схемы двойного знания: он утверждает, что настоящий объект изучения был именно таким, каким он представлен в онтологической схеме, и после этого начинает относить к ней и оценивать относительно нее все, что реально существовало в познавательных ситуациях, — и эмпирический материал как проявления этого объекта, и средства, которые ему соответствуют (ибо именно они задали соответствующее видение объекта), и процедуры, и знания, которые этот объект должны «отражать». Короче говоря, онтологическая схема объекта изучения становится той конструкцией в предмете логика, которая так или иначе характеризует все элементы рассматриваемых им познавательных ситуаций, и поэтому на грубом уровне сопоставительный анализ и оценка разных систем знания могут проводиться в форме сравнения и оценки соответствующих им онтологических схем.
Наметим, пользуясь этим приемом, некоторые характерные моменты развития знаний о человеке, важные для нас в этом контексте.
Первые знания, бесспорно, возникают в практике житейского общения людей друг с другом и на основе связанных с этим наблюдений. Уже здесь, без сомнения, фиксируется различие «внешне выделенных» элементов поведения, с одной стороны, и «внутренних», потаенных, неведомых другим и известных только самому себе элементов — с другой.
Для получения знаний этих двух типов используются разные методы: 1) наблюдение и анализ объективно данных проявлений своего и чужого поведения и 2) интроспективный анализ содержания собственного сознания.
Между характеристиками «внешнего» и «внутреннего» в поведении и деятельности устанавливаются соответствия и связи. Эта процедура была описана как принцип исследования у Т. Гоббса: «… В силу сходства мыслей и страстей одного человека с мыслями и страстями другого всякий, кто будет смотреть внутрь себя и соображать, что он делает, когда он мыслит, предполагает, рассуждает, надеется, боится и т. д., и по каким мотивам он это делает, будет при этом читать и знать, каковы бывают при подобных условиях мысли и страсти всех других людей… Хотя при наблюдении действий людей мы можем иногда открыть их намерения, однако делать это без сопоставления с нашими собственными намерениями и без различения всех обстоятельств, могущих внести изменения в дело, все равно что расшифровывать без ключа… Тот же, кто должен управлять целым народом, должен, читая в самом себе, познать не того или другого отдельного человека, а человеческий род. И хотя это трудно сделать, труднее, чем изучить какой-нибудь язык или отрасль знания, однако, после того, как я изложу то, что читаю в самом себе, в методической и ясной форме, другим останется лишь рассмотреть, не находят ли они то же самое также и в самих себе. Ибо этого рода объекты познания не допускают никакого другого доказательства» [Гоббс, 1965, т. 2, с. 48–49]. Так или примерно так, как это описывает Гоббс, человек когда-то очень давно был выделен в качестве эмпирического объекта наблюдений и анализа, и так на основе весьма сложной рефлективной процедуры, включающей момент интроспекции, складывались первые знания о нем. Они синкретически соединяли в себе характеристики внешних проявлений поведения (характеристики действий) с характеристиками содержаний сознания (целями, желаниями, объектно интерпретированным смыслом знаний и т. д.).
Использование подобных знаний в практике общения не вызывало затруднений и не создавало никаких проблем. Лишь много позднее, в специальных ситуациях, которые мы сейчас не анализируем, был поставлен методологический и собственно философский вопрос: «Что такое человек?», положивший начало формированию философских, а потом и научных предметов. Важно подчеркнуть, что этот вопрос ставился не в отношении к реально существующим людям, а в отношении к тем знаниям о них, которые в это время существовали, и требовал создания такого общего представления о человеке или такой модели его, которые бы объясняли характер существующих знаний и снимали возникшие в них противоречия (ср. это с нашими рассуждениями по поводу условий появления понятий «изменение» и «развитие» в [1968 а, ч. VII].
Природа и происхождение подобных ситуаций, порождающих собственно философский, или «метафизический», вопрос о том, что представляет собой изучаемый объект, описаны уже в ряде наших работ [1964а*; 1958а *]; поэтому мы не будем здесь на этом останавливаться и подчеркнем лишь некоторые моменты, особенно важные для дальнейшего.
Чтобы по поводу уже существующих знаний был поставлен вопрос, ориентированный на новое представление объекта, эти знания обязательно должны стать объектами особого оперирования, отличного от простого отнесения их к объекту. Если это произойдет и новые формы оперирования появятся, то в знаниях благодаря этому должны будут выделиться «формы», противопоставляемые «содержанию», и несколько разных форм, положенных рядом и трактуемых как формы знания об одном объекте, должны будут сопоставляться друг с другом и оцениваться с точки зрения адекватности их объекту, гипотетически полагаемому в этом сопоставлении. В результате либо одна из уже имеющихся форм, либо какая-то вновь созданная форма знания должна будет получить индекс реальности, или, другими словами, выступить в роли изображения самого объекта — человека. Как правило, это бывают новые формы, ибо они должны объединить и снять в себе все выявленные к этому времени свойства человека (ср. это с нашими рассуждениями о модели-конфигураторе в [1968 а, ч. IV]).
Это условие накладывало очень жесткие требования на характер и строение подобных изображений человека. Трудность состояла, прежде всего, в том, что в одном изображении, как мы уже говорили, нужно было сочетать характеристики двух типов — внешние и внутренние. Кроме того, сами внешние характеристики устанавливались и могли быть установлены лишь в отношениях человека к чему-то другому (к среде, объектам, другим людям), но при этом их нужно было вводить как особые сущности, характеризующие не отношения как таковые, а лишь самого человека как элемент этого отношения; точно так же и внутренние характеристики нужно было вводить как особые и независимые сущности, но таким образом, чтобы они объясняли природу и свойства внешних характеристик. Поэтому все модели человека, несмотря на многие различия между ними, должны были фиксировать в своем строении факт и необходимость двух переходов: 1) перехода от изменений, произведенных человеком в окружающих его объектах, к самим действиям, деятельности, поведению или взаимоотношениям человека и 2) перехода от действий, деятельности, поведения, взаимоотношений человека к его «внутреннему устройству и потенциям», которые получили название «способностей» и «отношений». Это значит, что все модели должны были изображать человека в его поведении и деятельности, в его отношениях и связях с окружающим, взятых с точки зрения тех изменений, которые человек производит в окружающем благодаря этим отношениям и связям.
Важно обратить внимание на то, что как первая группа сущностей («действия», «взаимоотношения», «поведение»), так и вторая («способности» и «отношения») с точки зрения непосредственно фиксируемых эмпирических проявлений человека являются фикциями: первые сущности вводятся на базе непосредственно зафиксированных изменений в преобразуемых деятельностью объектах, но должны принципиально отличаться от самих этих изменений как совершенно особые сущности, а вторые вводятся на еще большем опосредовании, исходя из набора действий, взаимоотношений и т. п., но должны принципиально отличаться от них как характеристики совсем иных свойств и сторон объекта. При этом, чем больше имеется опосредовании и чем дальше мы уходим от непосредственной реальности эмпирических проявлений, тем более глубокие и точные характеристики человека мы получаем.
Сейчас, если ограничиваться самым грубым приближением, можно выделить пять основных схем, по которым строились и строятся в науке модели «человека» (схема 2).
(1) Взаимодействие субъекта с окружающими его объектами. Здесь субъекты и объекты вводятся сначала независимо друг от друга и характеризуются либо по атрибутивным, либо по функциональным свойствам, но всегда безотносительно к тому взаимодействию, в которое их потом поставят. По сути дела, при таком подходе субъекты и объекты с точки зрения будущего отношения совершенно равноправны; субъект есть лишь объект особого типа.
Эта схема использовалась в объяснении «человека» многими авторами, но, наверное, наиболее детально и подробно она развита Ж. Пиаже. К каким парадоксам и затруднениям приводит последовательное развертывание этой схемы в объяснении поведения и развития человека, показано в специальных работах Н. И. Непомнящей [Непомнящая, 1964 с, 1965, 1966 с]).
(2) Взаимоотношение организма со средой. Здесь два члена отношения уже неравноправны; субъект является первичным и исходным, среда задается по отношению к нему как нечто имеющее ту или иную значимость для организма. В предельном случае можно сказать, что здесь даже нет отношения, а есть одно целое и один объект — организм в среде; по сути дела, это означает, что среда как бы входит в структуру самого организма.
По-настоящему для объяснения человека эта схема не использовалась, ибо с методической точки зрения она очень сложна и до сих пор в достаточной мере не разработана; эта методическая сложность, по сути дела, приостановила использование этой схемы и в биологии, где она, бесспорно, должна быть одной из основных.
(3) Действия субъекта-деятеля по отношению к окружающим его объектам. Здесь тоже, по сути дела, нет отношения в точном смысле этого слова, а есть один сложный объект — действующий субъект; объекты, если они задаются, включаются в схемы и структуры самих действий, оказываются элементами этих структур. Отдельно эта схема применяется очень редко, но часто используется в соединении с другими схемами как их компонент. Именно от этой схемы чаще всего переходят к описаниям преобразований объектов, совершаемых посредством действий, или к описанию операций с объектами, и, наоборот, — от описаний преобразований объектов и операций к описаниям действий субъекта.
(4) Взаимоотношения свободного партнерства одного субъекта-личности с другими. Это — вариант взаимодействия субъекта с объектами для тех случаев, когда объекты являются одновременно и субъектами действия. Каждый из них вводится сначала независимо от других и характеризуется какими-либо атрибутивными или функциональными свойствами независимо от той системы взаимоотношений, в которую они потом будут поставлены и которая будет рассматриваться.
Такое представление «человека» наиболее широко используется сейчас в социологической теории групп и коллективов.
(5) Участие «человека» в качестве «органа» в функционировании системы, элементом которой он является. Здесь единственным объектом будет структура системы, включающей рассматриваемый нами элемент; сам элемент вводится уже вторичным образом на основе отношений его к целому и к другим элементам системы; эти отношения задаются путем функционального противопоставления на уже введенной структуре целого. Элемент системы по определению не может существовать отдельно от системы и точно так же не может характеризоваться безотносительно к ней.
Каждая из этих схем требует для своего развертывания особого методического аппарата системно-структурного анализа. Различие между ними распространяется буквально на все — на принципы анализа и обработки эмпирических данных, на порядок рассмотрения частей модели и относящихся к ним свойств, на схемы конструирования разных «сущностей», превращающих эти схемы в идеальные объекты, на схемы связи и объединения свойств, относящихся к разным слоям описания объекта, и т. п.
Особое место среди всех возникающих здесь методологических проблем занимают проблемы определения границ предмета изучения и включенного в него идеального объекта. Они содержат два аспекта: 1) определение структурных границ объекта на самой графически представленной схеме и 2) задание того набора свойств, который превращает эту схему в форму выражения идеального объекта и конституирует ту действительность изучения, законы которой мы ищем. Нетрудно заметить, что в зависимости от того, как мы будем решать эти проблемы, у нас совершенно no-разному будет определяться и задаваться «человек».
Так, например, если мы выберем первую модель, в которой человек рассматривается как субъект, взаимодействующий с окружающими его объектами, то, хотим ли мы этого сознательно или нет, нам придется ограничить человека тем, что изображено заштрихованным кружком на соответствующей схеме взаимодействия, а это значит — лишь внутренними свойствами этого элемента. Само отношение взаимодействия и изменения, производимые субъектом в объектах, неизбежно будут рассматриваться лишь как внешние проявления человека, во многом случайные, зависящие от ситуации и уж во всяком случае не являющиеся его конституирующими компонентами. Представление о свойствах, характеризующих человека, и порядок их анализа будут совершенно иными, если мы выберем пятую модель. Здесь главным и исходным будет процесс функционирования системы, элементом которой является человек, определяющими станут внешние функциональные характеристики этого элемента — его необходимое поведение или деятельность, а внутренние свойства, как функциональные, так и материальные, будут выводиться из внешних.
Если мы выберем модель взаимоотношения организма со средой, то трактовка «человека», характер определяющих его свойств и порядок их анализа будут отличаться от обоих указанных уже нами вариантов. Задать взаимоотношения организма со средой — это значит охарактеризовать способ жизни и функционирования внутреннего, заштрихованного элемента по отношению к внешней структуре, выступающей в роли среды его существования. Здесь внутренний элемент так же не существует без внешнего, как внешний без внутреннего. Суть их взаимоотношения в том, что внутренний элемент, организм, «пожирает» и перерабатывает структуру и материю внешнего элемента, среды; можно сказать, что организм паразитирует на среде, что ее структурные и материальные особенности являются необходимым условием существования его как организма с определенной структурой. Здесь нельзя говорить, что источником и носителем этого способа жизни и функционирования является один лишь внутренний элемент; на деле этот способ жизни и функционирования существует в равной мере и на том, и на другом, на структуре и материи как организма, так и среды. Но из этого следует, что если мы захотим представить человека в модели взаимоотношения организма со средой, то главным свойством, задающим и определяющим самого человека, будет его функционирование, или «поведение», а все остальные свойства будут выводиться уже из него.
Мы привели эти беглые соображения только для того, чтобы пояснить и сделать более зримым тезис, что каждая из перечисленных выше моделей, с одной стороны, предполагает свой особый методический аппарат анализа, который еще нужно разрабатывать, а с другой стороны, задает совершенно особое идеальное представление «человека». Каждая из них имеет свои эмпирические и теоретические основания, каждая схватывает какую-то сторону реального человеческого существования. Ориентировка на все эти схемы, а не на одну какую-либо из них имеет свое оправдание не только в «принципе терпимости» по отношению к разным моделям и онтологическим схемам, но также и в том, что реальный человек имеет массу различных отношений к своему окружению и к человечеству в целом.
Такой вывод не снимает необходимости конфигурировать все эти представления и модели. Но сделать это в одной теоретической модели сейчас, как мы уже говорили, практически невозможно. Поэтому, чтобы избежать эклектизма, нам остается один путь: выработать в рамках методологии схемы, определяющие закономерную и необходимую последовательность привлечения этих моделей при решении разнообразных практических и инженерных задач, в частности задач педагогического проектирования. Строя эти схемы, мы должны сообразоваться с тремя непосредственно данными и одним скрытым основаниями: во-первых, с общими методологическими и логическими принципами анализа системных иерархированных объектов; во-вторых, с той картиной видения объекта, которая задается выбранной нами практической или инженерной работой; в-третьих, с отношениями между предметными содержаниями объединяемых нами моделей и, наконец, — четвертое, скрытое основание — с возможностью содержательно истолковать методологическую схему всей области объекта, создаваемую нами при движении от одних моделей к другим (схема 3).
Перечисленных оснований достаточно для того, чтобы наметить вполне строгую последовательность рассмотрения разных аспектов и сторон объекта.
Так, в общей методологии системно-структурных исследований существует принцип, что при описании процессов функционирования организмически или машинно представленных объектов начинать анализ нужно с описания строения системы, объемлющей выделенный объект, от сети ее связей идти к описанию функций каждого отдельного элемента (одним из них или несколькими по условиям задачи является изучаемый нами объект), а затем уже определять «внутреннее» (функциональное или морфологическое) строение элементов так, чтобы оно соответствовало их функциям и «внешним» связям (см. схему 1; более подробно и более точно действующие в этой области методологические принципы изложены в [1965 d; Генисаретский, 1965]).
Если бы существовало всего одно структурное представление «человека», то мы действовали бы в соответствии с изложенным принципом, «накладывали» имеющуюся структурную схему на эмпирический материал, накопленный разными науками, и таким путем связали его в рамках одной схемы.
Но существующие сейчас науки, так или иначе описывающие «человека», строились, как мы уже говорили, на основе разных системных представлений объекта (схема 2), причем все эти представления справедливы и законны в том смысле, что они правильно схватывают какие-то «стороны» объекта. Поэтому одного приведенного выше принципа недостаточно для построения методологической схемы, которая могла бы объединить эмпирический материал всех причастных к делу наук. Дополняя его, мы должны провести специальное сопоставление всех этих системных представлений, учитывающее их предметное содержание. При этом используются (если они уже есть) или вырабатываются в ходе самого сопоставления, с одной стороны, специальные обобщающие предметные представления, а с другой — методологические и логические принципы, характеризующие возможные отношения между структурными моделями такого типа.
В данном случае приходится делать и то и другое. В качестве исходных обобщающих предметных представлений мы используем схемы и онтологические картины теории деятельности (см. вторую часть статьи, а также [1964 b*; 1966 i*; 1967 а, g*; Лефевр, 1965; Человек… 1966]) и развитые на их основе фрагменты социологических представлений. Но их явно недостаточно для обоснованного решения поставленной задачи, и поэтому одновременно приходится вводить много чисто «рабочих» и локальных предположений, касающихся предметных и логических зависимостей между сопоставляемыми схемами.
Не излагая сейчас конкретных шагов такого сопоставления — Для этого понадобилось бы очень много места, — мы приведем его результаты в том виде, как они выступают после первого и предельно грубого анализа. Это будет перечисление основных систем, образующих разные предметы исследования и связанных друг с другом, во-первых, отношениями «абстрактное — конкретное» [Зиновьев, 1954], во-вторых, отношениями «целое — части», в-третьих, отношениями «конфигурирующая модель — проекция» и «проекция — проекция» [1968 а, ч. IV]); организация систем в рамках одной схемы будет задаваться структурой их нумерации и дополнительными указаниями на зависимость развертывания одних систем от наличия и развернутости других:[153]
(1) Система, описывающая основные схемы и закономерности социального воспроизводства.
(1. 1) Система, описывающая абстрактные закономерности развития структур воспроизводства.
(2) Система, описывающая социальное целое как «массовую» деятельность с включенными в нее разнообразными элементами, в том числе индивидами (зависит от (1)).
(2. 1) Функционирование «массовой» деятельности.
(2. 2) Развитие «массовой» деятельности.
(3) Система, описывающая социальное целое как взаимодействие множества индивидов (установить связь с (1) не удается).
(4) Системы, описывающие отдельные единицы деятельности, их координацию и субординацию в различных сферах «массовой» деятельности (зависит от (2), (5), (6), (8), (9), (10), (11)).
(5) Системы, описывающие разные формы социальной организованности «массовой» деятельности, т. е. «социальные институты».
(6) Системы, описывающие разные формы культуры, нормирующие деятельность и ее социальную организацию (зависит от (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10)).
(6. 1) Структурно-семиотическое описание.
(6. 2) Феноменологическое описание.
(7) Системы, описывающие разные формы «поведения» отдельных индивидов (зависит от (3), (8), (9), (10), (11), (12); неявно определяется (4), (5), (6)).
(8) Системы, описывающие объединение индивидов в группы, коллективы и т. п. (зависит от (7), (9), (10), (11), (12); неявно определяется (4), (5), (6).
(9) Системы, описывающие организацию индивидов в страты, классы и т. п. (зависит от (4), (5), (6), (8), (10), (11)).
(10) Системы, описывающие «личность» человека и разные типы «личности» (зависит от (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12)).
(11) Системы, описывающие структуру «сознания» и его основные компоненты, а также разные типы «сознания» (зависит от (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)).
(12) Системы, описывающие психику человека (зависит от (4), (6), (7), (10), (11)).[154]
Намеченные в этом перечне предметы изучения не соответствуют ни абстрактным моделям, представленным на схеме 2, ни предметам существующих сейчас наук. Это примерный проект основных теоретических систем, которые могут быть построены, если исходить из представлений теории деятельности и общей методологии системно-структурных исследований, и должны быть построены, если мы хотим иметь достаточно полное системное описание «человека».
После того как этот набор предметов изучения (или другой, но аналогичный ему по функции) задан, мы можем рассмотреть и оценить относительно него онтологические схемы и знания всех уже существующих наук.
Так, например, рассматривая в этом плане социологию, мы можем выяснить, что с момента своего зарождения она ориентировалась на анализ и изображение взаимоотношений и форм поведения людей внутри социальных систем и составляющих их коллективов, но реально смогла выделить и как-то описать лишь социальные организации и нормы культуры, детерминирующие поведение людей, и изменение тех и других в ходе истории.
Лишь в самое последнее время удалось выделить в качестве особых предметов изучения малые группы и структуру личности и тем самым положить начало исследованиям в области так называемой социальной психологии. Рассматривая, таким образом, логику, мы можем выяснить, что в своих истоках она исходила из схемы деятельности человека с окружающими его объектами, но остановилась, по сути дела, на описании преобразований знаков, производимых в процессе мыслительной деятельности, и хотя в дальнейшем постоянно ставила вопрос об операциях и действиях человека, посредством которых эти преобразования производились, но по-настоящему интересовалась лишь правилами, нормирующими эти преобразования, и никогда не шла дальше этого.
Этика в отличие от логики исходила из схемы свободного партнерства человека с другими людьми, но оставалась, по сути дела, в том же слое «внешних» проявлений, что и логика, хотя и представляла их уже не как операции или действия, а как взаимоотношения с другими людьми и всегда выявляла и описывала лишь то, что нормировало эти взаимоотношения и поведение людей при установлении их.
Психология в противоположность логике и этике с самого начала исходила из представления об изолированном индивиде и его поведении; связанная феноменологическим анализом содержаний сознания, она, тем не менее, как наука формировалась на вопросах следующего слоя: какие «внутренние» факторы — «силы», «способности», «отношения» и т. п. — определяют и обусловливают те акты поведения и деятельности людей, которые мы наблюдаем. Лишь в начале нашего века впервые был по-настоящему поставлен вопрос об описании «поведения» индивидов (бихевиоризм и реактология), а с 20-х годов — об описании действий и деятельности индивида (советская и французская психология). <…>
Мы назвали лишь некоторые из существующих наук и характеризовали их в предельно грубой форме. Но можно было бы взять любую другую и, вырабатывая соответствующие процедуры соотнесения, а если нужно, то и перестраивая намеченный перечень, установить соответствия между ним и всеми науками, так или иначе касающимися «человека». В результате у нас получится достаточно богатая система, объединяющая в себе все существующие знания о выделенном нами объекте.
После того как такая система построена, пусть в самом схематическом и недетализированном виде, нужно осуществить следующий шаг и рассмотреть ее с точки зрения задач педагогического проектирования. При этом мы должны будем как бы «вырезать» в этой системе ту последовательность знаний, как существующих, так и вырабатываемых заново, которая могла бы обеспечить научное обоснование педагогического проектирования человека.
Не нужно специально доказывать, что осуществление изложенной программы исследований — очень сложное дело, предполагающее массу специальных методологических и теоретических исследований. Пока они не проведены и намеченные выше предметы изучения не построены, нам остается только одно — использовать уже существующие научные знания о «человеке» при решении собственно педагогических задач, а там, где их нет, использовать методы существующих наук для получения новых знаний и в ходе этой работы (педагогической по своим задачам и смыслу) осуществлять критику существующих научных представлений и формулировать задания на усовершенствование и перестройку их.
Если к тому же иметь в виду задачу создания новой системы предметов и исходить из уже намеченного плана ее, то, по сути дела, эти исследования и дадут нам конкретное эмпирическое воплощение той работы по перестройке системы наук о «человеке», которая нужна педагогике.
Рассмотрим с этой точки зрения структурные представления о «человеке» и «человеческом», задаваемые сейчас основными в этой области науками — социологией, логикой, психологией, и оценим их возможности в обосновании педагогического проектирования. При этом мы не будем стремиться к полноте и систематичности описания — такой анализ вышел бы далеко за рамки настоящей работы, — а изложим все в плане возможных методологических иллюстраций для пояснения основного положения об объединении знаний и методов из разных наук в системе педагогической инженерии и педагогических исследований.
Социологический слой исследований
Социологический анализ «человека» должен быть первым в ряду всех, ибо он дает знания о той системе, внутри которой в качестве элементов существуют люди — в этом плане он полностью удовлетворяет основному принципу системно-структурной методологии. Вместе с тем из этого же принципа следует, что социологические знания должны существовать по меньшей мере в двух разных формах: один раз — как знания о социальной системе в целом, ее структуре и протекающих в ней процессах, другой раз — как знания о функциях отдельных элементов этой системы, созданных процессами и связями структуры [1965 d; Генисаретский, 1965].
Так как «человек» является одним из элементов социальной системы, то, соответственно, и он должен описываться в двух разных формах социологических знаний: один раз — как частица социальной материи или социальной структуры, через которую «текут» социальные процессы, другой раз — как замкнутый и относительно целостный объект, который имеет определенное назначение в социальной системе и несет на себе определенные функции.
Очевидно, чтобы определить «человека» достаточно полно, нужно построить полную модель социальной системы. Сначала формулирование такой задачи может показаться фантастическим делом, ибо известно, насколько трудно и практически невозможно дать достаточно полные описания реальных социальных систем. Но в нашей формулировке речь идет о другом. Ведь педагогику интересует не социальная система сама по себе, а лишь «человек» как элемент социальной системы. Значит, ей нужно такое изображение социальной системы, которое обеспечивало бы полноту описания функций человека, а каким будет это изображение относительно самих социальных систем, для педагогики это уже совершенно неважно. Иначе говоря, модель социальной системы, интересующая педагогику, может быть фиктивной и сколь угодно неадекватной реальным социальным системам, лишь бы она обеспечивала принципиальную полноту описания функций человека.
Чтобы пояснить эту мысль, рассмотрим схему, которая может служить изображением идеального объекта для понятия «общество». Чтобы ввести это изображение, проведем схематизацию смысла понятия.
Спросим себя: является ли «обществом» завод или фабрика? Конечно, ответ может быть только один: нет. Но почему так? Ведь любой современный завод и по количеству людей и по разнообразию отношений между ними значительно сложнее, чем маленькие деревенские поселения, которые мы называем «обществами». В чем различие?
На этот вопрос можно ответить, построив довольно простую структурную модель. Представим себе какую-то производственную структуру — мастерскую, фабрику или завод — с определенными средствами труда, материалом, с известным числом «мест» для людей, с какими-то правилами их деятельности. Эта структура, очевидно, требует и определенных отношений между людьми в процессе производства: там должен быть один общий руководитель, должны быть руководители групп и исполнители; между исполнителями тоже будут определенные отношения, так как все они участвуют в производстве общего продукта. Пусть на схеме 4 производственная структура со всеми своими вещественными элементами, местами для людей, связями и отношениями будет изображаться одним блоком.
Но эта система не будет полной относительно процессов жизнедеятельности людей. Поэтому мы должны представить себе далее, что кроме блока производства есть еще блок «быта и потребления» с определенной совокупностью условий, вещей, продуктов питания, средств развлечения и т. п. У него также существует свое особое строение, которое определяется возможностями распределения благ между людьми.
Наконец, добавим в схему еще один блок, изображающий то, что обычно называют «культурой». Его элементами являются «нормы», определяющие всю человеческую деятельность; они осваиваются или усваиваются людьми благодаря обучению и воспитанию. По отношению к «культуре» каждый человек тоже занимает строго определенное «место», т. е. владеет тем или иным набором элементов.
Ни один из этих блоков, взятый отдельно от других, не дает «общества». Но и вместе они не образуют еще «общества»: в схеме нет людей. Возникает вопрос: куда мы должны их поместить?
В каждой из этих структур, образно говоря, есть «места» для людей; люди на какой-то промежуток времени подключаются к каждой из них, «занимают» эти места, но только на время, а затем покидают их, «переходят» в другие структуры. Значит, жизнь людей охватывает все эти структуры, но не сводится к ним, она проходит еще и вне их, во всяком случае в моменты переходов. Поэтому, отвлекаясь от пространственно-временных условий жизни людей, но точно передавая логику отношений (по крайней мере в первом приближении), мы должны поместить людей в особой сфере, лежащей как бы между этими тремя блоками. Это — особое «пространство» человеческой жизни, в котором происходит «свободное» движение людей; в нем они сталкиваются и взаимодействуют как независимые личности, в нем они относятся друг к другу по поводу производства, потребления и культуры. Это — сфера особых, личных и «личностных» отношений, это — клуб. Именно он объединяет три других блока системы в одно целое и образует область, без которой не может быть «общества». Именно отсюда три других блока «черпают» человеческий материал и сюда же они возвращают его «использованным» или обогащенным в зависимости от социально-экономической структуры сфер производства, потребления и обучения.[155]
Изображенные на схеме блоки не равнозначны, не независимы друг от друга. Отношение каждого человека к сфере потребления определяется его «местом» в сфере производства. Вместе с тем отношение к сфере производства определяется, с одной стороны, его «местом» в системе культуры (просто говоря, «уровнем» его культурного развития), а с другой стороны, часто его «местом» в системе потребления. Наконец, отношение к сфере культуры (т. е. к системе образования) нередко зависит от «места» в структурах производства и потребления. Все эти отношения накладываются друг на друга, взаимодействуют и, кроме того, преобразуются в новую сеть отношений уже непосредственно между людьми, определяющих качества личности и «личностную» позицию каждого человека. Уже на их основе строятся реальные личные отношения.
Таким образом, «обществом» может быть названа только такая организация людей, в которой кроме структур производства, потребления и культуры, существует еще сфера особых отношений между людьми — отношений, возникающих прежде всего по поводу производства, потребления и культуры и принимающих форму социально-классовых и «личностных» отношений. Выделяя любой из первых трех блоков — «производства», «потребления» или «культуры», мы можем говорить об отношениях, которые определяются только их собственной структурой (например, об организационных отношениях и нормах поведения в производстве, о производственной дисциплине или о нормах поведения в быту и при распределении, о бытовой дисциплине), но мы не можем говорить об «общественных отношениях», «общественных качествах» и «общественной дисциплине»: все это имеет место в совершенно другой сфере — «личностных» или социально-классовых отношений.
Все вышеизложенные рассуждения о понятии «общество» и попытка изобразить смысл этого понятия в виде особого структурного идеального объекта предназначались только для одного: дать достаточно наглядную иллюстрацию тезису о своеобразии социологических схем, которыми пользуется и должна пользоваться педагогика при описании человека.
Вместе с тем уже в этом простейшем анализе отчетливо выступила двойственность (или вообще многообразие) форм существования «человека». В системе производства он выступает фактически как «место», функционирование которого целиком и полностью определяется требованиями системы. Связи и взаимоотношения «людей-мест» внутри такой системы должны быть одними и теми же независимо от того, каким будет их «наполнение». Если в реальном производстве происходит не так, то это говорит либо о том, что оно плохо организовано, либо о том, что мы имеем нечисто производственное, а какое-то более сложное образование. Иначе можно сказать, что «человек-место» в системе производства целиком определяется наложенными на него связями структуры и протекающими в ней процессами (схема 5). В системе клуба, наоборот, не существует структуры, подчиняющейся своим строгим законам функционирования, нет, следовательно, «мест» в точном смысле этого слова, детерминированных структурой, а каждый «человек» выступает как изолированная целостность, как «индивид», поведение которого, так же как и связи, в которые он будет вступать с другими «индивидами», определяются его «внутренними» качествами. Естественно, что это будут принципиально иные связи и отношения, нежели связи и отношения, существующие у «мест» как элементов сложных производственных систем.
Таким образом, «человек», рассматриваемый как элемент системы производства, будет принципиально отличаться от «человека» из сферы клуба. И, очевидно, если мы хотим описать «человека» вообще, то должны будем как-то объединить эти два представления и изобразить взаимодействие и переплетение связей и функций, характеризующих каждое из них. Дело осложняется еще тем, что функциональное противопоставление системы производства и сферы клуба, с которого мы начали наш анализ, было результатом весьма сложной абстракции и только в ней они существуют отдельно и независимо друг от друга, а в реальности производство и клуб как в пространстве, так и во времени наложены друг на друга, и поэтому «человек» выступает как единство «места» и «индивида», соединяя функции первого и качества второго таким образом, что результирующая никогда, в принципе, не может быть объяснена как их сумма (схема 6).
Но весь этот анализ схемы «общества» и задаваемых им функций «человека», повторяем, был лишь методологической иллюстрацией; как таковой он не может еще дать удовлетворительных знаний о «человеке». Чтобы получить необходимые знания, надо продолжить анализ такого рода, исходя из разнообразных социологических схем, и постепенно набирать все основные функции, характеризующие социальное существование человека. В итоге мы получим социологическое знание о «человеке» в контексте педагогического исследования, или короче — социолого-педагогическое знание о «человеке».
Логический слой исследований
Являясь первым и исходным звеном в общей цепи, социолого-педагогическое исследование не задает еще всех тех знаний, которые необходимы для создания «рабочего» проекта «человека». За всеми связями и отношениями, которые описываются в социологии, всегда стоит та или иная деятельность. По сути дела именно она, как мы уже не раз показывали, создает эти связи и взаимоотношения. Поэтому познать и описать «человека» конкретно это значит — проанализировать и описать те наборы деятельностей, которые он должен осуществлять, чтобы быть «социальным человеком». А проанализировать деятельности, в свою очередь, значит — выделить в них задачи, преобразуемые объекты и знаки, средства, операции и их последовательности наконец, объединяющие все это связи и зависимости. И только такое представление каждой деятельности может обеспечить сознательную работу учителя по воспитанию и обучению. Именно в этом смысле надо понимать принцип: «чтобы учить, надо знать, чему учить» и печальную констатацию, что до сих пор в подавляющем большинстве случаев мы не знаем, чему учим.
Объясняется такое положение вещей, на наш взгляд, прежде всего тем, что продукты обучения (а вместе с тем и его содержание, заданное в программах) характеризуются до сих пор только со своей специально-предметной стороны, а не как деятельность или элементы деятельности того или иного строения. Но предметная характеристика продуктов обучения (как и содержания) по сути дела мало что дает педагогу для организации его деятельности.
Чтобы показать это, достаточно привести самые простые примеры.
Если, скажем, в программе задано, что ребенок должен научиться пользоваться понятиями «сила», «масса», «ускорение» из физики или понятием «функциональная зависимость» из математики, то этого задания недостаточно для педагога, ибо он так и не знает, что же именно нужно сформировать у ребенка. Более того, как правило, он даже не может проверить, усвоил ребенок эти понятия или нет, ибо он не знает, что представляет собой правильная и необходимая деятельность употребления этих или каких-либо других понятий.
Или вот другой, еще более простой пример. Можно спросить, почему подавляющее большинство дошкольников и учеников I класса, обученных счету, легко решают задачу: «На дереве сидело 7 птичек, 3 улетели, сколько осталось?» и не могут решить задачу: «На дереве сидели птички, 3 прилетело и стало 7. Сколько птичек сидело?». Когда педагоги и методисты отвечают, что вторая задача — косвенная и что косвенных задач дети до известной ступени не «понимают», то от такого анализа и объяснения мало пользы. Чтобы знать, почему дети одну задачу решают, а другую нет, почему они одну «понимают», а другую «не понимают», и — главное — чтобы научить их правильно и легко решать эти задачи, нужно проанализировать и описать строение той деятельности, которую они должны осуществить при решении этих задач, ее «операциональную структуру» [1962 с; 1964 с*; 1965 с]. И точно так же — в виде определенных структур деятельности — должны быть представлены употребления понятий «сила», «масса», «ускорение» в физике, понятия «функциональная зависимость» в математике и все другие.
Но такого описания не может дать ни одна специальная наука — ни математика, ни физика, ни химия. Его должна дать логика. Таким образом, мы приходим ко второму слою исследований, необходимых для создания педагогического проекта «человека», — логическому или, точнее, логико — педагогическому.
Принципы, методы и понятия логико-педагогического исследования уже описаны в ряде работ [1962 с; 1964с*; 1965 с; Лефевр, Дубовская, 1965; Пантина, 1965; Розин, 1967 b; Якобсон, Прокина, 1967] и подробно обсуждаются в других статьях настоящего сборника, поэтому здесь мы не будем на них останавливаться. Нам важно подчеркнуть только основную идею: в логическом исследовании анализируются деятельности, входящие в «культурный фонд» человечества, «нормы» деятельности, которыми индивиды должны овладевать, то, что необходимо для решения определенных задач и поэтому должно быть осуществлено любым индивидом безотносительно к его индивидуальным особенностям и средствам; индивид с его субъективными механизмами, интериоризованными средствами и возможностями в этой части исследования не затрагивается вовсе.[156]
Психологический слой исследований
Но и на том, что описано выше, не заканчивается необходимая характеристика продуктов обучения. Ведь мы воспитываем не деятельности, а индивидов, и индивиды не могут быть представлены как наборы деятельностей или хранилища их. То, чем «владеют» индивиды, осуществляющие деятельности, существенно отличается от самих деятельностей; это — «внутренние» субъективные условия и средства, позволяющие им строить разнообразные деятельности; обычно их называют «способностями».
Введение «способностей» в качестве особых сущностей было чисто словесной процедурой, по сути дела — тавтологической. Разнообразные действия, поступки, желания людей и т. п. объединялись в классы сходных между собой, и каждому классу ставилось в соответствие определенное «внутреннее качество»: если мы перевариваем пищу, то, значит, у нас есть соответствующая «пищеварительная способность», если мыслим — «мыслительная способность», а если мы особенно хорошо решаем арифметические задачи, то, следовательно, у нас есть особенно совершенная «способность к математике».
Уже Дж. Локк смеялся над этим нескладным понятием и способом его введения, но Гегелю пришлось повторять все аргументы вновь, и с тех пор еще много мыслителей упражнялось в остроумии на счет этой абстракции, но она несмотря ни на что сохранялась и продолжала широко употребляться. И это не случайно. Ибо как бы мы ни критиковали способ перехода от внешних проявлений человека к его внутренним качествам, сам переход так или иначе должен быть осуществлен. Таким образом, фактически эта абстракция выражает одну из коренных и, может быть, основную тенденцию психологии к конституированию своего специфического предмета изучения. Поэтому, как бы мы ни понимали сами «способности»: как «силы», действующие внутри человека, «формы», обеспечивающие работу сознания, «операции», производимые над внутренними объектами или содержаниями сознания, материальные «субстанции», «отношения» и даже чистые «возможности» и как бы мы их ни критиковали (на наш взгляд, все эти представления в равной мере не годятся для научного анализа), все равно мы должны предполагать в «человеке» что-то, что обеспечивает осуществление деятельностей. Это что-то должно быть элементом или моментом его внутреннего устройства. И только это имеют в виду, когда употребляют понятие «способности».
Мы не обсуждаем сейчас вопрос, как и в какой мере в настоящее время могут быть исследованы способности; это — специальная тема, связанная с широким критическим и методологическим анализом современной психологии; нам важно лишь подчеркнуть, что исследование такого рода необходимо и неизбежно, если мы хотим понять и задать продукты обучения и воспитания; а это значит, что к двум уже намеченным выше предметам и слоям педагогического исследования — социолого-педагогическому и логико-педагогическому — должен быть добавлен третий, ориентированный, во-первых, на способности как таковые, а во-вторых — на механизмы построения конкретных деятельностей на основе общих способностей. Этот предмет может быть назван психолого-педагогическим, так как в изучении его нам понадобятся из уже развитых научных методов прежде всего психологические методы.
«Человек» с педагогической точки зрения
В исходных пунктах отношение педагогики к «человеку» является сугубо практическим и, добавим, только таким и может быть.
Всякое практическое отношение характеризуется тем, что, во-первых, обязательно имеется образец продукта деятельности, во-вторых, реально задан исходный материал, преобразуемый деятельностью, и, в-третьих, существуют, уже отработанные и социально зафиксированные приемы и процедуры деятельности, которые в обычных условиях (естественных и искусственных) в общем и целом успешно преобразуют исходный материал к заданному виду продукта. При этом не требуется никаких «естественнонаучных» знаний об объекте преобразований; знания, обслуживающие собственно практику, касаются исключительно связей или соответствий между продуктом, исходным материалом и необходимыми для преобразования последовательностями действий и обычно имеют вид алгоритма, а указания на продукт и исходный материал включены непосредственно в формулировку задачи.
В практической педагогике мы без труда находим все эти элементы и вместе с тем выясняем, что на первых этапах она не содержала ничего другого. Продукты обучения и воспитания задавались примерами лучше всего обученных и воспитанных людей, причем качество обучения измерялось теми деятельностями, которые они могли осуществлять, и отношениями, которые они умели устанавливать. Исходный материал всегда был задан обучению независимо от каких-либо педагогических установок. И, наконец, всегда существовали исторически выработанные средства обучения и воспитания, а также приемы и процедуры воспитательной работы. Все это сопровождалось и обслуживалось специальными знаниями, которые помогли передаче приемов и процедур педагогической работы из поколения в поколение.
Существенно отметить, что в этой системе средств, обеспечивающих трансляцию деятельности обучения и воспитания, было заложено постоянное несоответствие между разными элементами, которое должно было, в принципе, вести к непрерывному развитию системы. Действительно, приемы и процедуры обучения, какими бы они ни были, реально давали всегда «середняка», характерного для того или иного страта, класса, группы, а в качестве образца продукта выступал или, во всяком случае, мог выступать «лучший», являющийся, в принципе, продуктом особых, нестандартных, нетипичных условий обучения и воспитания. Ориентировка на лучших всегда, таким образом, давала разрыв или расхождение между тем, что хотели получить, и тем, что получалось на деле. Кроме того, свой вклад в это расхождение давали всякие различия в характере «исходного материала» обучения, т. е. различия в предварительной подготовке обучаемых и воспитываемых.
Разрывы или расхождения между тем, что ожидается в результате практической деятельности, и тем, что получается на деле, всегда, в конце концов, приводят к поиску причин, вызывающих само расхождение, к попыткам причинно объяснить неудачу деятельности (см. [1966 а*, {с. 219–224}]), а это в свою очередь — к более четкой фиксации видов объектов, к попыткам разбивать их на классы уже не относительно их самостоятельного функционирования или употребления, а относительно вырабатывающей их деятельности, и, наконец, к попыткам выделить и описать такие свойства этих объектов, от которых зависит или может зависеть, с одной стороны, успешность преобразующей их деятельности, а с другой — их возможные естественные превращения. В конце концов, все процессы такого рода приводят, во-первых, к формированию «естественнонаучных» знаний об объектах деятельности и к отделению научных предметов, а во-вторых — к формированию прикладных знаний разного типа. Достаточно подробно, во всяком случае в методологическом плане, мы рассматривали процессы такого рода в другой работе (см. [1966 а*, {с. 222–227}]) и здесь не будем на них останавливаться. Нам важно отметить только то, что с какого-то момента (по-видимому, это происходит впервые в работах Вивеса, Уарте, Ратихиуса и Коменского) в практической педагогике точно так же появляется «естественная» точка зрения на объект педагогической деятельности — на «человека»; обычно ее характеризуют как «психологическую», хотя она сильно отличалась от традиционной для того времени теории души; во всяком случае, она положила начало новому направлению исследований, по своим задачам и эмпирическому материалу прежде всего — психолого-педагогическому.
Появление естественной точки зрения на объект педагогической деятельности — «человека» — само по себе не могло ни заместить, ни отодвинуть на задний план то практическое отношение к нему, которое было свойственно педагогике с самого начала. Иногда эти два представления были резко противопоставлены друг другу — в мире психологической науки существовал «естественный» человек, который жил, действовал и развивался по своим внутренним имманентным законам, а в мире педагогической практики существовал иной человек, который искусственно формировался, делался, изготовлялся, — но чаще они просто эклектически соединялись, и тогда каждое состояние, достигнутое индивидом, рассматривалось, с одной стороны, как результат его естественного развития, а с другой — как продукт обучения и воспитания, т. е. как результат практической деятельности педагога, результат искусственно производимых им изменений. Резче всего эклектический характер соединения этих двух взглядов выступал в порожденной им проблеме обучения и развития (см. следующие части статьи, а также [1966 а*; Непомнящая, 1966 а, b, с]). Он проявлялся, во-первых, в теоретических затруднениях и парадоксах (мы обсуждаем их ниже), а во-вторых, в том, что все и любые психологические знания о «человеке» до сих пор не могли дать знаний, необходимых для целенаправленного и сознательного формирования людей, обладающих заранее заданными свойствами и качествами. Этот второй аспект проблемы должен быть обсужден здесь несколько подробнее.
Выше мы уже говорили, что если существующая система обучения и воспитания дает удовлетворительные результаты, то для обслуживания ее не нужно никаких знаний, кроме тех, которые обеспечивают трансляцию приемов педагогической работы. Если же, наоборот, продукты обучения и воспитания нас больше не устраивают и мы хотим в результате своей педагогической работы получать другие продукты, то этого можно достигнуть только перестроив существующую систему обучения и воспитания, а для этого, в свою очередь, нужно иметь весьма сложную систему знаний, описывающих отношения между характером объектов (в том числе и продуктов) деятельности и системой самой деятельности.
По своему типу эти знания могут быть разными. Так, например, если мы знаем законы изменения свойств-функций производимых нами объектов и возможное влияние наших практических воздействий на характер этих законов и если к тому же те состояния объектов, которые мы хотим получить, лежат в диапазоне этих законов и их возможных изменений, то нам, чтобы действовать и перестраивать существующую систему, не нужны никакие знания о внутреннем строении и внутренних свойствах объектов. В этом случае мы будем воздействовать на систему образования и перестраивать ее, она сама далее по одной ей ведомым законам будет производить новые объекты.
Работая, таким образом, нельзя построить новую «машину», которая бы производила новые объекты, описанные лишь по своим функциям или атрибутивным свойствам. Наоборот, чтобы спроектировать и построить такую «производящую машину» (см. часть II), нужно знать, во-первых, набор внешних свойств-функций объектов, которые нам нужно получить, во-вторых, внутренние свойства этих объектов, создаваемые «производящей машиной», и, в-третьих, зависимости и соответствия между внешними и внутренними свойствами. Лишь имея все это, мы можем приступить к проектированию и созданию соответствующей «машины», т. е. в данном случае — системы производящей деятельности.
Когда мы с точки зрения этих необходимых требований педагогической работы рассматриваем психологические знания, то обнаруживаем, что многие ведущие психологи в рамках своих теоретических систем вообще отрицают возможность практических влияний и воздействий на ход развития внутренних свойств и качеств «человека», а те, кто признает принципиальную возможность таких влияний, до сих пор не могут ответить на вопросы: 1) чем «внутри» человека обусловлены те или иные изменения в его поведении и деятельности, 2) на что «внутри» человека мы воздействуем в процессе обучения и воспитания, 3) какие именно изменения мы вызываем своими воздействиями, 4) как нужно воздействовать в процессе обучения и воспитания, чтобы получить определенные, заранее заданные изменения в поведении и деятельности человека.[157]
И дело здесь не только в том, что до сих пор в психологии не удалось и не удается выяснить природу «способностей» человека, природу того, что определяет внутреннюю сущность человека. Более важным и существенным является то, что в связи с практическими задачами педагогики нужно особым образом представить самого «человека», представить не так, как до сих пор представляла его психология в рамках своей естественнонаучной картины имманентного развития, а так, чтобы в «человеке» было заложено такое внутреннее «устройство» или такое строение, которое бы, с одной стороны, теоретически допускало воздействия такого рода, какие производит обучение и воспитание, а с другой стороны, было бы результатом и продуктом этих воздействий. Речь здесь, следовательно, идет о принципиальной гипотезе, связывающей внутреннее «устройство» человека, в том числе его «психику», с теми воздействиями на него, которые производятся обучением и воспитанием.
Познавательная ситуация, в которой ставится эта задача, исключительно сложна. Сегодня уже не может вызывать сомнений тезис, что обучение и воспитание создают в человеке то, что не могло возникнуть и появиться у него как у отдельной особи без этого, причем именно создают; знание математики и физики, истории и географии, умение решать разнообразные задачи средствами этих наук и т. п. не появляются сами собой из опыта «практической жизни». С другой стороны, появление всех этих знаний и умений не сопровождается — и это тоже можно считать выясненным и доказанным — изменениями биологического субстрата «человека». Но какие же тогда внутренние изменения в «человеке» являются результатом обучения и воспитания и что собственно «внутри» человека фиксирует знания и умения и дает им основу?
На наш взгляд, единственная гипотеза, дающая хоть какой-то намек на решение этой проблемы, заключена в известном предположении, что «психика» в основе своей является набором или системой функциональных систем и что именно они-то и складываются у «человека» в ходе обучения и воспитания. Но из этого следует, что самого «человека» надо рассматривать как двойственную (или двуплановую) иерархированную структуру, объединяющую в себе функциональные системы разного рода и «материал», причем функциональные системы не вытекают из материала и не определяются им, а как бы «погружены» в него и существуют на нем. Чтобы объяснить отношение «погружения», можно воспользоваться примером личинки комара-наездника, которая живет за счет тела гусеницы, в которую ее заложили, постепенно перерабатывая его «материал» в соответствии с изначально данной программой своей собственной системы. Это, конечно, очень грубый образ, рассчитанный только на то, чтобы противопоставить особое отношение «погружения» функциональной системы на материал другим, внешне сходным с ним отношениям, например отношению детерминации внешних свойств-функций и обеспечивающих их функциональных систем материалом и его строением.[158] Другой пример подобного же отношения, который мы заимствуем у В. А. Лефевра, — бегущие световые надписи над зданием редакции «Известия»: все структуры текста, как формальные, так и содержательные, не зависят от материала светового табло, хотя без него или другого материала, выступающего в той же роли, они не могут существовать; эти структуры погружены на материал электрических процессов и за счет этого получают свое реальное существование.
На наш взгляд, повторяем, есть достаточно оснований предполагать, что функциональные системы знаний и умений, формируемые у человека посредством обучения и воспитания, относятся к биологическому субстрату по той же схеме, что и в разобранных примерах. Сделав такое предположение, мы получаем основание для ревизии существующих сейчас психологических представлений на базе общей системно-структурной методологии и, в частности, тех ее разделов, в которых рассматривается отношение «погружения». Вместе с тем мы получаем возможность по-новому взглянуть на историю психологических представлений о «душе» и подчеркнуть исключительно глубокий смысл категорий «формы» и «материала», которыми пользовался Аристотель при объяснении психических явлений. На наш взгляд, эти категории еще отнюдь не исчерпали своего значения и могут быть с успехом использованы при построении моделей «человека»; важно только внести в них те уточнения и дополнения, которые выявились в последующем анализе, в частности принципиальное различие между «материалом», на который погружается «форма», и «содержанием», которое определяет характер самой «формы»: в случае обучения и воспитания «содержанием» являются, по-видимому, те элементы культуры человечества, которые задаются людям в системе учебных предметов и обусловливают характер и направление формирования их психики.
Представление «человека» в аспекте педагогических процессов формирования и изготовления его дает основание не только для более эффективной практической точки зрения и не только для преобразования педагогической практики в конструктивно-техническую деятельность, но и для нового естественнонаучного представления «человека», при котором он выступает как порождение системы обучения и воспитания, обладающее всеми теми свойствами и качествами, которые закладываются в него этими процессами. Более того, оказывается, что именно это представление впервые дает нам средства для того, чтобы связать воедино логико-социологические и собственно психологические картины и таким образом продвинуться в создании общей модели «человека», конфигурирующей все имеющиеся сейчас знания. И в этом состоит главное значение педагогической точки зрения на «человека», которое мы здесь хотим подчеркнуть. Вместе с тем очень важно и существенно, что естественнонаучные знания о «человеке», с какой бы точки зрения они ни вводились и сколь бы сложными и синтетическими ни были, не могут заменить педагогических проектов «человека». Поэтому наряду с исследованием живущих сейчас или живших в прошлом людей остается специальная деятельность педагогического проектирования «человека». Анализ ее представляет самостоятельную тему, которую мы надеемся в будущем развернуть в подробностях, а сейчас отметим лишь некоторые и притом самые общие моменты.
В то время как знания фиксируют и описывают уже существующие объекты, проекты изображают и представляют то, чего еще нет. Поэтому к ним нельзя подходить с критерием «истинности».
По отношению к знаниям, описывающим уже существующее, проекты выступают в роли дополнений и трансформ. В конечном счете, они направлены на то, чтобы изменить существующее положение дел; почти всегда работа по проектированию начинается с констатации недостатков в уже существующем, с анализа имеющихся в нем разрывов и рассогласований. Но само по себе никакое отрицание не может стать основанием для проекта; нужна еще положительная идея, подставляющая на место каких-то элементов и фрагментов существующего другое, отличное от них. Откуда бы ни заимствовалась форма новой идеи, она должна быть переработана в элемент критикуемого и перестраиваемого комплекса. Поэтому по содержанию проектирование всегда выступает как преобразование каких-то существующих объектов в новую форму.
Чтобы осуществлять такого рода гипотетические преобразования объектов, нужно иметь, во-первых, оперативные системы или оперативные поля, специально приспособленные для этого, а во-вторых, основания, в соответствии с которыми выбираются направления преобразований. Обычно эти основания называют идеалами. Кроме того, должны учитываться зависимость преобразуемых объектов от более широкой социальной системы, в рамках которой они существуют, и возможные последствия намечаемых преобразований. В человеческом обществе любые идеалы, даже если они касаются только вещей, всегда исходят из группового, стратового мировоззрения.
Это в полной мере касается и идеалов «человека». Достаточно сослаться на спор о значении и ценности человека в обществе, проходящий через всю историю философии и гуманитарных наук, насколько мы ее знаем. В этом плане очень интересны и показательны крайние точки зрения. Одна рассматривает отдельного человека как элемент и орган социальных систем и целостностей. Другая, наоборот, — как суверенное и независимое целое. С позиций первой человек существует для общества, с позиций второй — общество для человека. И хотя с научной точки зрения эти полярные формулировки являются не то что банальными и плоскими, а просто неправомерными, давным-давно опровергнутыми и высмеянными, они сохраняются и действуют, поскольку несут в себе два разных проектировочных подхода, реально действующих в современных условиях. В одном исходят из перспектив и законов развития социальной системы в целом, а элемент или «частичку» проектируют в соответствии с его атрибутивными и функциональными характеристиками, в другом, напротив, исходят из перспектив развития отдельного человека (например, из увеличения продолжительности его жизни), а всю социальную систему проектируют так, чтобы она обеспечивала достижение этого идеала.
И хотя сейчас совершенно очевидно, что подобные проектировочные установки несостоятельны, что в реалистическом проектировании нужно исходить из органической связи отдельного человека и общества, учитывая одновременно как зависимости отдельного человека от социальных институтов, так и обратные зависимости всего общества, его нормального функционирования и развития, от свободы отдельного человека, тем не менее и эта более полная и более «объективная» установка является лишь отражением одной, строго определенной мировоззренческой ценности и партийной позиции. Связь проекта со знаниями о существующем не ограничивается тем, что мы уже охарактеризовали. То или иное изображение объекта может рассматриваться в качестве проекта лишь в тех случаях, если оно, в конце концов, реализуется в виде объекта или, во всяком случае, может быть реализовано. Но это значит, что проект не только по происхождению связан с описаниями существующих объектов, но, кроме того, обязательно должен учитывать возможности практического преобразования уже существующих объектов к тому виду, который им задается. Иначе можно сказать, что проект в отличие от идеала должен изображать и задавать только то, что реально возможно. Из этого следует очень важная характеристика тех свойств объекта, которые должны фиксироваться в проекте: часть из них обязательно должна быть доступна непосредственному человеческому воздействию. И лишь в той мере, в какой в объекте существуют подобные свойства, он подлежит проектированию. Что касается всех других свойств объекта, то они будут подчиняться своим «естественным» процессам, которыми мы в лучшем случае сможем управлять через воздействия на другие свойства.
Достаточно только указать на все эти аспекты проектировочной работы, чтобы стало ясно, какое огромное количество теоретических и конструктивных проблем ставит перед нами задача конкретного педагогического проектирования человека. В цели этой статьи не входит анализ и сколько-нибудь систематический разбор этапов и процедур педагогического проектирования; как мы уже говорили, это дело специальных исследований; здесь нам было важно лишь одно — привлечь внимание исследователей к этой крайне важной области педагогической работы.
Мы рассмотрели ряд необходимых этапов и процедур педагогического анализа и конструирования. Все они объединяются одной общей задачей: дать конкретный проект «человека» как возможного и необходимого продукта современной системы обучения и воспитания, и поэтому были представлены нами как принадлежащие к одному поясу педагогических исследований. Можно сказать, что вкупе они определяют цели обучения и воспитания (в самом широком смысле этого слова). Эта сторона дела, бесспорно, является важнейшей в построении современной педагогики, но одной ее еще отнюдь не достаточно для организации педагогического процесса, и в частности для ответа на вопрос, чему и в какой последовательности обучать детей. Чтобы научно обоснованно решить эти вопросы, мы должны привлечь к рассмотрению еще одну сторону процесса — само учение, или особую деятельность детей по овладению заданными им нормами деятельности. Здесь мы сталкиваемся с широко распространенной догмой, которая требует специального обсуждения.
Проблема объекта в системном проектировании[159]
За последние 10 лет во многих областях инженерного проектирования системы «человек — машина» по сути дела вытеснили чисто технические системы. Однако этот переход не изменил ни общих представлений о системах, ни средств и методов их описания и проектирования. Объекты проектирования, независимо от того, входили в них люди или нет, изображались в виде «поточной» системы, включающей преобразователь и протекающую через него субстанцию; в роли субстанции могли выступать вещество, энергия, информация. Сложная система раскладывалась на компоненты, которые точно так же должны были быть поточными системами, связанными между собой; связь устанавливалась путем наложения входных полюсов одних элементов на выходные полюсы других. Человек, в соответствии с общими принципами этого подхода, рассматривался наряду с машинами как материальный элемент, реализующий те или иные частичные поточные системы или их фрагменты; о нем говорили как о канале связи, блоке переработки информации, передаточной функции и т. п. По сути дела никто не выходил за рамки программы, изложенной в 1945 г. Крейком: описывать человеческие функции в математических терминах и понятиях, используемых при описании функций машин, и на основе этого выбирать человека или машину для выполнения той или иной функции системы, исходя из их относительных преимуществ и недостатков (известные таблицы Фитса) [Проблема… 1970].
Однако практическая работа по проектированию смешанных систем, основанная на этих принципах, натолкнулась на многочисленные затруднения; стала совершенно очевидной непригодность «машинных» языков для описания поведения и функционирования человека в системе; была подвергнута сомнению сама задача распределения функций между человеком и машиной (Джордан, 1963; Синглтон, 1967 — см. [Проблема… 1970]). Все это заставило исследователей вновь обратиться к обсуждению вопроса о роли и месте человека в смешанных системах.
Два основных принципа можно сформулировать, исходя из специального методологического анализа ситуации: 1) включение человека в информационно-управляющую систему, независимо от того, на что рассчитывал проектировщик, превращает эту систему в объект принципиально иного типа, который уже не может быть представлен в виде «поточной» системы; этот объект — система человеческой деятельности; 2) благодаря специфическим особенностям деятельности, машины с их функционированием перестают быть компонентами системы, лежащими на одном уровне с человеком и его деятельностью, а как бы опускаются на один уровень иерархии ниже; между деятельностью человека и функционированием машины устанавливается отношение «наложения»; в силу этого не людей мы должны рассматривать в качестве элементов технических систем, а машины в качестве материала (не компонентов или элементов!) в системах человеческой деятельности.
Специально нужно отметить, что при такой постановке вопроса проектирование систем «человек — машина» становится элементом и средством социальной организации и социального проектирования.
Специфическими особенностями систем деятельности являются: 1) рефлексивные связи между разными ее элементами, возникающие за счет работы сознания, и обусловленная этим множественность существования многих единиц системы; 2) ключевая роль цели деятельности, относительно которой группируются все остальные элементы; 3) открытый характер структуры, допускающий любые расширения и дополнения как извне, так и изнутри системы.
В системах деятельности нет поточных систем, нет обратных связей в точном смысле этого слова, нет переработки информации и многих других моментов, привычных для нас; вместе с тем в них есть много такого, что не может быть изображено с помощью принятых сейчас понятий и языков. «Конструктор», которым мы владеем, не годится для моделирования систем человеческой деятельности, и поэтому главной задачей в системном проектировании стало сегодня создание нового «конструктора», из элементов которого можно было бы строить модели систем деятельности и таким образом решать задачи проектирования систем «человек — машина».
Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности[160]
Автоматизация как цель и задача
1. Хотя сама идея машинизации и автоматизации различных, видов человеческой деятельности имеет длинную историю и свои глубокие традиции как в инженерии и науке, так и в философии, тем не менее, современная постановка задач автоматизации и, главное, практика разработки автоматизированных систем являются специфическими продуктами ситуации, сложившейся в мире к середине XX столетия, и отображают все сильные и слабые стороны этой ситуации.
Среди факторов, определяющих современную идеологию автоматизации, безусловно нужно назвать: а) исключительное значение ЭВМ при разработке планов и программ массовых операций; 6) огромные затраты на разработку и совершенствование ЭВМ; в) установку на сбыт и внедрение уже существующих образцов ЭВМ во все существующие сферы деятельности, обусловленную необходимостью оправдывать и компенсировать уже произведенные затраты, распределяя их по разным сферам общественного производства; г) твердое убеждение, опирающееся на весь опыт развития техники, что оснащение какой-либо деятельности новыми техническими средствами (сколь бы несовершенными и ненадежными ни казались они в начале) в конечном счете приводит к значительному совершенствованию и развитию этой деятельности и к усилению совокупной мощи человечества; д) отсутствие в настоящее время каких-либо социально-фиксированных обобщенных противопоказаний или ограничений на применение техники.
Именно эти обстоятельства современной ситуации обусловили, как нам представляется, то, что во всех наиболее распространенных сейчас концепциях и в массовой идеологии задача машинизации и автоматизации деятельности сводится, если не исключительно, то, во всяком случае, преимущественно, к разработке и внедрению ЭВМ. Уже в связи с этим основным процессом, составляющим, по общему мнению, ядро и суть автоматизации, ставятся и обсуждаются все другие проблемы — основных направлений и эффективности проводимой работы, значения ее в развитии разных форм человеческой деятельности, социальных последствий автоматизации и т. п.
При этом одни авторы подчеркивают, что в результате применения ЭВМ человечество получило возможность решать такие задачи, которые оно не могло решать раньше,[161] другие выдвигают на передний план гуманистические идеалы: человек освобождается от рутинных и машинообразных операций,[162] третьи считают особенно важным быстродействие ЭВМ и значительный объем их памяти,[163] четвертые — универсальный характер ЭВМ в качестве средств деятельности.[164] Все это — очень важные и существенные характеристики ЭВМ и последствий применения их в деятельности, но их вряд ли можно рассматривать в качестве характеристик и показаний самого процесса автоматизации. По отношению к этому процессу они являются все же слишком внешними и случайными, за ними, как показывает более детальный анализ, нет никакой целостной концепции автоматизации, в которой были бы собраны и соотнесены друг с другом ее различные аспекты и характеристики.
2. Правда, одновременно и параллельно с идеологическим обоснованием работы по созданию и внедрению ЭВМ складывались и оформлялись элементы собственно теоретического представления о машинизации и автоматизации деятельности вообще и мыслительной деятельности в частности.[165] Но до сих пор они не превратились во что то целостное и практически действенное, влияющее на идеологию и сознание разработчиков и исследователей.[166]
В подавляющем большинстве случаев машинизация и автоматизация трактуются в этих теоретических разработках как включение в уже существующие и функционирующие единицы человеческой деятельности технических устройств, замещение ими человека в выполнении всей деятельности или ее частей (в последнем случае говорят о системах «человек — машина» [Телегина, 1972; Проблема… 1970; Дубровский, Щедровицкий Л., 1970 а], о диалоге между машиной и человеком и об их симбиозе [Licklider, 1965, 1968; Телегина, 1972]) и, наконец, осуществление той же самой исходной единицы деятельности автоматизированным способом, т. е. за счет технического устройства или системы «человек — машина».[167]
В контексте такого понимания и истолкования проблемы машинизации и автоматизации довольно легко и естественно подменяются проблемами организации систем «человек — машина», распределения функций между машиной и человеком, их взаимной адаптации друг к другу и т. д. и переводятся в план инженерной и социальной психологии.
В ряде специальных работ [1973 с; Дубровский, Щедровицкий Л., 1970 а, b; Гущин и др., 1971; Дубровский, 1971 а, b; Пископпель, 1971; Папуш, 1971] уже была показана неправомерность той двойной системы сведений, на которой строятся все эти представления, — во-первых, сведения социотехнических проблем организации и проектирования систем «человек — машина» к проблемам инженерной и социальной психологии, а во-вторых, сведения проблем описания разных систем деятельности, автоматизированных и неавтоматизированных, к проблемам описания систем «человек — машина», затрагивающих лишь морфологию систем деятельности; во всяком случае, мы будем считать все это выясненным и решенным и в своем дальнейшем движении будем рассматривать некоторые вытекающие из этого теоретические, социотехнические и идеологические следствия.
3. Самым важным и принципиальным среди них будет вывод, что в сфере человеческой деятельности нет и не может быть простого замещения каких-то немашинизированных и неавтоматизированных единиц деятельности аналогичными машинизированными и автоматизированными единицами; включение каких-то технических устройств в существующие уже и функционирующие системы деятельности всегда приводит к кардинальному изменению и перестройке этих систем деятельности, создает вокруг них новые деятельности, «ассимилирующие» функционирование технических устройств, и, кроме того, порождает ряд новых деятельностей, связанных с разработкой технических устройств и обеспечением их функционирования. Таким образом, машинизация и автоматизация любых систем деятельности, совокупной общественной деятельности — меняют существующее в ней разделение труда, порождают новые кооперации профессий и новые учреждения.[168]
Но это означает, что работа по автоматизации деятельности выступает как сложнейшее социотехническое действие, более мощное и более широкое по своим социальным последствиям, нежели это обычно осознают люди, осуществляющие автоматизацию. Их проектная и социотехническая концепция (как она обычно формулируется) явно не соответствует реальному смыслу дела: говорят и пишут о внедрении ЭВМ, а на деле изменяют и трансформируют всю систему общественной деятельности, ее социотехническую структуру.[169]
4. Все указанные выше изменения и трансформации деятельности происходят необходимым образом, безотносительно к тому, в каких формах участники работы по автоматизации осознают и фиксируют ее назначение, смысл и последствия.
Но если они будут осознавать и фиксировать реально вызываемые ими изменения только как замену частных фрагментов и подсистем деятельности, выполнявшихся без посредства ЭВМ, другими, столь же частными и локальными, но только выполняемыми теперь с помощью ЭВМ, и на этом будут строить программу своих работ по автоматизации, то это неизбежно приведет к тому, что многие изменения в системе общественной деятельности, вызванные их собственными действиями и мероприятиями, будут для них совершенно неожиданными, они не смогут предусмотреть и проконтролировать их появление и течение. Это будет означать, вместе с тем, что эффекты и последствия нашей собственной деятельности будут выступать для нас как стихийные явления, не зависимые от наших целей, планов и программ.[170]
В принципе такое отношение между целями и задачами человеческой деятельности, с одной стороны, и ее реальными последствиями, с другой, встречается довольно часто. Причины этого (если оставить в стороне социальные условия и обстоятельства) заключены в том, что знания человека о своих действиях, их возможных целях и последствиях во многих случаях не соответствуют тому, что реально происходит в процессе самой деятельности, и потому постановка целей и задач деятельности нередко бывает слишком непосредственной, слишком узкой и «корыстной», не учитывающей того, что действительно существенно для деятельности в ее тотальных социальных системах и для их развития.
Повторяем, такое встречается нередко. Но это означает лишь то, что во всех этих случаях человеческие действия не удовлетворяют основным критериям и требованиям, которые в настоящее время выдвигаются в отношении социотехнического действия: последнее должно быть построено таким образом, чтобы в нем реальные продукты и последствия, с одной стороны, и заранее сформулированные цели и задачи действия, с другой, максимально сближались или даже совпадали друг с другом.[171]
И поэтому, если мы хотим сделать работу по машинизации и автоматизации разных видов деятельности удовлетворительной в плане социотехнического действия, мы должны, прежде всего, правильно сформулировать ее цели, задачи и установки. С одной стороны, в этой формулировке должны учитываться реальные результаты и последствия самой работы по автоматизации, причем в их самых существенных социальных аспектах, а с другой стороны — те многообразные более широкие социальные установки и ценности, которые мы связываем с работой по машинизации и автоматизации и которые хотим осуществить посредством ее.[172]
5. На наш взгляд, сейчас существует всего одна цель и установка, удовлетворяющая этим двум требованиям: это — установка на такое изменение и такую реорганизацию систем деятельности, которые приводят к непрерывному совершенствованию, оптимизации и развитию их самих и всей совокупной системы общественной деятельности человечества.[173]
При этом машинизация и автоматизация теряют свое самостоятельное и самодовлеющее значение, они становятся лишь частными (хотя, бесспорно, очень важными) средствами решения более общей и более широкой задачи — развития деятельности — и, следовательно, должны подчиняться этой более общей задаче или, во всяком случае, сообразовываться с ней.
6. После такого вывода, естественно, должен последовать вопрос, какими же будут или должны быть установки на машинизацию и автоматизацию проектировочной деятельности после того, как их введут в контекст более широких задач по совершенствованию и развитию существующих систем проектирования. И как вопрос он будет нацелен, конечно, на самое существо дела. Но предполагаемое им непосредственное обращение к существу дела возможно лишь при условии, что мы уже знаем, во-первых, в чем заключается совершенствование и развитие проектирования (обеспечивающее, вдобавок, развитие всей совокупной общественной деятельности), а во-вторых, какие именно социотехнические действия по изменению и реорганизации существующих систем проектирования мы должны осуществлять, чтобы обеспечить это развитие, и как эти действия строить.
Но сложность действительной ситуации (подлинно действительной и подлинно «современной», а не тех давно отживших и ушедших в прошлое ситуаций, о которых «реалисты» разных мастей любят говорить как о реальности нашей жизни)[174] в том-то и состоит, что мы не знаем достаточно точно и с необходимой степенью детализации ни того, что мы могли бы назвать «усовершенствованными» и «развитыми» состояниями проектирования, ни основных структурных характеристик тех социотехнических действий, которые могли бы направить естественные изменения проектирования в сторону этих идеальных состояний.
И поэтому, если мы всерьез принимаем установку включить работу по машинизации и автоматизации в общее дело совершенствования и развития проектирования, первой и насущной задачей становится обсуждение именно этих вопросов: что есть «усовершенствованные» и «развитые» состояния проектирования и каким образом можно к ним прийти. И до тех пор пока мы не получим хотя бы первых рабочих ответов на них, мы не можем переходить к деловому обсуждению непосредственно интересующих нас проблем рационального осуществления автоматизации.
7. Но в обсуждении разных аспектов и разных составляющих этого нового круга проблем должен быть определенный порядок: в частности, мы могли бы начать с анализа и описания естественных исторических изменений самого проектирования, затем перейти к характеристике тех его состояний, которые мы по тем или иным основаниям будем считать идеальными, и, наконец, обратиться к анализу структуры социотехнических действий. В принципе, если считать все названные планы исследования независимыми друг от друга, то совершенно безразлично, какой именно порядок анализа будет выбран. Однако не нужно быть сверхпроницательным, чтобы понимать и осознавать, что все перечисленные моменты с точки зрения дела совершенствования и развития проектирования теснейшим образом связаны и взаимно определяют друг друга: нет чисто естественных изменений проектировочной деятельности, совершенно независимых от наших форм организации и преобразования ее, и точно так же нельзя говорить о «совершенстве» или «развитости» тех или иных форм проектирования, не учитывая их исторического окружения и характера тех социотехнических действий, которые мы должны производить, развивая эту деятельность, и, наконец, не может быть социотехнических действий, которые так или иначе не отражали бы естественные процессы изменения проектирования и характеристики выделяемых нами идеальных состояний. Таким образом, все это единая система деятельности, складывающаяся из ряда относительно независимых подсистем, и, следовательно, мы должны рассматривать и анализировать ее системно. А принципы системно-структурного анализа заставляют нас начинать анализ не с подсистем и их элементов, а наоборот — с систем, объемлющих все остальные и задающих целостность и полноту рассматриваемого объекта. Значит, в данном случае мы должны прежде всего решить, какой из названных выше планов задает объемлющую систему, конституирующую целостность интересующего нас объекта.
8. Но ответ на этот вопрос, как ни странно на первый взгляд, зависит от того, какие цели ставим мы перед своей собственной деятельностью и какую стратегию поведения при этом выбираем. Есть два полярных типа возможных стратегий: 1) приспособление к среде и включение себя в естественные процессы ее жизни и 2) преобразование среды в соответствии с собственными целями и задачами. Все другие стратегии лежат между этими двумя и представляют собой те или иные комбинации их элементов.
То же самое имеет место и в нашем отношении к проектированию. Как всякое естественноисторическое явление, проектирование возникает и складывается не по воле отдельных людей. В этом плане оно представляет собой «естественную силу», захватывающую и подчиняющую себе все, что в нее попадает, в том числе и людей, работающих в самом проектировании. Эта сила захватывает так и настолько, что людям остается только подчиниться и приспособиться.
Для человека, видящего проектирование в таком свете, все его изменения выступают как результат естественного процесса, независимого от деятельности людей и обусловленного либо внутренними факторами самого проектирования, либо внешними условиями его существования.
Но очень часто человеку (в особенности, если он отвечает за судьбу организаций и коллективов) уже недостаточно только приспосабливаться к этому стихийному процессу развития и изменения систем, выбирая наиболее выгодные для себя траектории поведения и деятельности, ему приходится изменять и трансформировать существующие системы проектирования, добиваясь того, чтобы они развивались так, как это ему нужно.
Такой человек видит и представляет себе системы проектирования иначе — как предмет сознательной и целенаправленной деятельности, а процессы их изменения и развития — как продукт и результат производимых им преобразований, как его собственное «творение». Системы проектирования при таком подходе подобны изделиям, которые мы можем проектировать и изготовлять, они выступают как создаваемые нами «искусственные» конструкции.
В первом случае объемлющей системой будет система естественно развивающегося проектирования, а человек с его деятельностью и действиями — лишь незначительным элементом этой системы. Во втором случае объемлющей системой будет человеческое действие по изменению и преобразованию проектирования, а естественное изменение систем проектирования — частичной подсистемой внутри нее.
С чисто теоретической точки зрения оба охарактеризованных системных представления проектирования одинаково возможны. Однако в практическом плане мы уже выбрали позицию и точку зрения — это установка на сознательное преобразование и развитие проектировочной деятельности. Но тем самым мы автоматически решили и вопрос об объемлющей системе: ею может быть только система нашего социотехнического действия, охватывающая естественное развитие проектирования. Поэтому мы должны начать обсуждение всего этого круга вопросов с анализа содержания и структуры возможных социотехнических действий, направленных на совершенствование и развитие проектировочной деятельности.
Совершенствование и развитие деятельности как социотехническая задача
1. Эффективность всякого действия, в особенности социотехнического, зависит от точности воспроизведения объективной структуры той ситуации, в которой осуществляется действие, и соответствия между тем, что мы делаем, добиваясь достижения наших целей, и тем, что вообще может происходить в этой ситуации. Нередко в деятельности такого соответствия, как мы уже говорили, не существует, и тогда, как правило, мы достигаем поставленных нами целей лишь частичном одновременно получаем массу побочных результатов, затрудняющих нашу дальнейшую деятельность.
Поэтому и установка на совершенствование и развитие какой-либо деятельности, в частности проектировочной, и обсуждение средств и мероприятий, с помощью которых это совершенствование и это развитие могут быть достигнуты, требуют, прежде всего, анализа ситуации, в которой появляется и реализуется сама эта установка, причем как в плане объективных социальных компонентов ситуации, так и в плане субъективных устремлений разных групп включенных в нее деятелей.
Одна из важнейших задач этого анализа состоит в выяснении того, в какой мере необходимые нам изменения деятельности могут быть результатом происходящих в ней естественных процессов и в какой мере, наоборот, для их осуществления требуется наше сознательное, целенаправленное вмешательство. Собственно говоря, соотношение и связь этих двух моментов и есть важнейшая характеристика того, что мы называем ситуацией деятельности.
Поэтому, если мы будем брать более узко ситуации совершенствования и развития каких-то систем деятельности, то, прежде всего, должны будем выяснить для каждой из них это соотношение между «естественным» и «искусственным».
2. Существует широко распространенное убеждение, что «прогресс» тех или иных систем или видов деятельности является имманентным процессом общества, что он происходит независимо от наших установок, целей и действий, а люди и организации могут своими действиями лишь замедлять или ускорять его.
Практически при таком подходе «прогресс» какой-либо деятельности понимается как количественный рост элементов этой деятельности, накопление знаний и машин, увеличение числа изобретателей и ученых. История XVII–XX столетий действительно продемонстрировала подобный рост инженерных и научных видов деятельности, сделала его бесспорным фактом нашей современной жизни.
Но подобная констатация еще никак не характеризует ситуацию деятельности и ничего не дает для обоснования наших установок на совершенствование и развитие тех или иных систем и видов деятельности. Ведь какими бы ни были исторические изменения деятельности, их характер еще ни в коей мере не определяет наших собственных действий и мероприятий; в частности, из такой констатации не следует, что мы можем объявлять то или иное историческое движение целью и задачей нашей собственной сознательной деятельности. Во всяком случае, если мы и хотим сделать это, то должны провести большую аналитическую работу: воспроизвести и описать процессы роста разных систем и видов деятельности в знаниях и понятиях, выявить их условия, факторы и механизмы, определить, на какие факторы мы можем влиять, на какие нет, рассмотреть побочные эффекты наших собственных действий и т. д. И только после этого мы сможем выдвинуть цель и задачу — делать то, что до сих пор делала сама естественная история.
3. Особенности человеческих действий существенным образом определяют способ и форму необходимой для них рациональной реконструкции и представления исторических процессов. Понятия развития и «прогресса» в применении к каким-либо социальным образованиям являются понятиями, созданными для обеспечения активной и целенаправленной деятельности. Их содержание должно существенно отличаться и отличается от того представления о росте различных элементов какого-либо целого, которое создает здравый смысл, фиксирующий происходящие вокруг естественные изменения.
Действительное содержание понятий совершенствования, развития и «прогресса», содержание, связанное с нашей активной деятельностной позицией и предполагающее ее, может быть воспроизведено и представлено в схеме 1. Первое и непременное логическое условие формирования этого содержания — выделение человека, исследователя и деятеля, из соответствующих систем деятельности (производственных, технических, научных), выделение, завершающееся (опять-таки в логическом плане) тем, что эти системы представляют в виде предметов и объектов человеческой деятельности и таким образом противопоставляют самому человеку.[175]
Второе непременное условие — изображение многих и разнонаправленных процессов, протекающих в системах совокупной общественной деятельности, их хаотических изменений и трансформаций, нередко противоречащих друг другу, в виде линейного изменения (возрастания или уменьшения) определенных характеристик, обязательно имеющего количественную меру. И только после того, как создано одно или несколько таких изображений, появляется возможность говорить о прогрессе той или иной системы деятельности, причем всегда по строго определенным показателям, тем, которые выделены и зафиксированы в соответствующем «линейном» представлении общественных изменений.
Понимаемый таким образом «прогресс» — а это понимание точно соответствует истории возникновения этого понятия и его современным научным употреблениям (см. [Vico, 1947; Кондорсэ, 1936; Bury, 1924; Энгельс, 1957, с. 16–27, 251–269]) — не может рассматриваться как натуральный и имманентный процесс, осуществляющийся за счет естественных изменений общества. Это определенная проекция всех этих естественных изменений, проекция, взятая по определенному показателю, по определенной характеристике выбранных нами систем деятельности, и представленная в виде «линии» — как возрастание или уменьшение численных значений этой характеристики.
По сути дела, именно эта «линия» задает прогресс и его течение, она его представляет и изображает; с этим представлением имеет дело человек, когда он говорит о «прогрессе» каких-либо явлений в обществе, и именно на этой линейной проекции как на модели он может ставить различные научные, инженерно-проектные и практические задачи.
4. Но, кроме того, остается реальность и сложность самой деятельности, оформленной в разнообразные социально-производственные системы, остается взаимодействие, функционирование и изменение всех этих систем — многочисленные процессы, отличающиеся от «прогресса», представленного в подобной линейной схеме, их организация, материальные условия, цели и т. п. Они явно не укладываются в схему линейного прогресса (см. [Vico, 1947; Toynbee, 1934–1961; Friedmann, 1936]), но вместе с тем их нельзя отбросить, ибо именно они образуют суть функционирования и естественной жизни рассматриваемых систем. Поэтому если мы хотим соотнести и связать представления о всех этих процессах с представлениями о прогрессе, то должны использовать какие-то более сложные категориальные схемы.
В частности, в качестве такой схемы может быть использована категориальная схема «процесс — механизм»[1975с*,d,e]. Опираясь на нее, мы можем истолковать линейное представление прогресса как представление «основного (или ядерного) процесса» (здесь несущественно, происходит ли он на деле или же только спланирован и мыслится нами), а все остальные системы деятельности с протекающими в них процессами, рассматриваемые относительно этого основного процесса, будем толковать как «механизм», обеспечивающий течение этого процесса, быстрое или, наоборот, медленное в зависимости от обстоятельств.
Но такая трактовка систем деятельности и протекающих в них процессов, повторяем, — продукт нашего активного, действенного отношения, продукт нашей практической установки на совершенствование и развитие этих систем деятельности. И как таковая она является лишь одной из возможных. Если же мы переменим точку зрения и будем рассматривать системы деятельности безотносительно к нашей практической задаче совершенствования и развития их, то само развитие, или «прогресс», этих деятельностей, трактуемое теперь объективно, выступит наряду со многими другими процессами, создающими жизнь систем деятельности, и притом отнюдь не в качестве основных и ядерных.
Более того, при таком подходе становится ясно, что значительная часть основных процессов в деятельности, процессов, определяющих нормальное функционирование, устойчивость и сохранность ее систем, не имеет ничего общего с развитием (или «прогрессом»), противостоит ему, находится с ним в постоянной борьбе, разрушается им и, в свою очередь, сама разрушает его (все эти разнообразные процессы изображены на схеме 1 справа разнонаправленными векторами).
Поэтому если мы и можем рассматривать функционирование систем деятельности как механизм их развития (или «прогресса»), то в очень широком смысле, имея в виду, что развитие (или «прогресс») деятельности выделено нами в качестве предмета непосредственных интересов, противопоставляется системам деятельности и может трактоваться как проходящее через все другие процессы в деятельности и осуществляющееся за счет них. Но при этом одни процессы в деятельности будут обеспечивать и подкреплять развитие, а другие, наоборот, — ослаблять и задерживать его.
5. Приведенная характеристика содержания понятий развития и прогресса деятельности будет неполной, если мы не учтем того, что линейное представление самого «течения» развития (или «прогресса»), поскольку оно уже сложилось, становится основанием для выдвижения сознательных целей деятельности — практической, инженерной, научной и управленческой. В этом случае увеличение каких-то показателей, зафиксированных в линейном изображении процесса, или (если исходить из подобной линейной модели, продолженной в «будущее») достижение определенных «состояний» на траектории развития становится целью нашей деятельности, целью общественных мероприятий и при определенных условиях может стать устойчивой ценностью всего общества.
Здесь важно отметить, что в буржуазном обществе, в том числе и в США, «развитие» каких-либо систем или сфер деятельности до недавнего времени не было целью и задачей деятельности каких-либо общественных организаций и тем более общественно фиксированной ценностью каких-либо классов общества или общества в целом. Развитие тех или иных систем и видов деятельности было побочным продуктом естественного экономического функционирования этого общества, стремления к наживе и необходимости удешевлять стоимость массовой продукции. Что же касается самой проблемы научно-технического развития общества и научно-технических революций, то она обсуждалась теоретиками в связи с более общими проблемами социальных конфликтов, развития человека, изменения типа культуры и т. п. И только в СССР идея непрерывного совершенствования и развития систем и сфер деятельности может стать самостоятельной ценностью общественного развития, может оформляться в виде понятия и объективироваться, может быть сформулирована в виде цели и задачи деятельности организаций, учреждений и отдельных лиц.[176]
Поэтому только перед учеными нашей страны реально встала и стоит задача определить в общем виде, что такое совершенствование, развитие и «прогресс» различных систем и видов деятельности, каковы их показатели, в каких характеристиках и моделях они описываются (см. [Федосеев, 1967; Кон, 1958; Осипов, 1959; Руткевич, 1965; Семенов, 1965; Епископосов, 1967; Волков, 1968; Мелещенко, Шухардин, 1969; Гудожник, 1970; Кутта, 1970; Марков, 1971; Современная… 1967]).
6. Бесспорно, что анализ, проведенный в последние 20 лет, существенно прояснил саму постановку проблемы и дал много новых интересных результатов. Однако — и это объясняется прежде всего сложностью самой проблемы — понятия развития и «прогресса» рассматриваются до сих пор в самом абстрактном плане, показатели прогресса разных систем и видов деятельности не выделены и не иерархированы. По сути дела, сейчас можно выдвинуть в качестве характеристик развития и «прогресса» деятельности любые изменения внутри производства, инженерии, науки, руководства и управления. Но это значит, что не могут быть поставлены цели и задачи на достижение определенных, заранее заданных и описанных состояний систем деятельности, соответственно которым можно было бы организовать те или иные социотехнические действия. Поэтому приходится говорить об ускорении каких-то процессов, которые, по предположению, существуют и сами по себе действуют в деятельности, наталкиваясь на те или иные препятствия и препоны, и эти препятствия и препоны надо устранить, чтобы дать простор этому подразумеваемому процессу.[177]
7. Но даже если были бы выработаны и сформулированы необходимые понятия развития и «прогресса» деятельности, то все равно этого было бы недостаточно для проектирования, планирования и организации мероприятий, направленных на искусственное совершенствование и развитие каких-то систем и видов деятельности. На проекцию процессов в деятельности, представленную в виде линейной «траектории» изменений, нельзя действовать. Понятия развития и «прогресса» деятельности, заданные в виде линейной или линейно-иерархической модели, определяют лишь цели нашего действия, но не объект и не средства его. Действовать можно только на реальные системы, реорганизуя и перестраивая их или достраивая новыми системами. Для этого нужно знать, как связаны показатели развития и «прогресса» деятельности, представленные в нашей линейной модели, с реальной структурой и организацией социальных систем деятельности, как зависят эти показатели от реальных социальных систем и как будут меняться с изменением последних. Только имея систему подобных знаний, мы сможем решить, какие действия нужно осуществить и какие мероприятия провести, чтобы достичь тех или иных показателей прогресса деятельности или ускорить рост тех или иных ее характеристик.
Это означает, что непременным условием и предпосылкой принятия эффективных решений, направленных на совершенствование и развитие деятельности, являются специальные исследования основных систем деятельности и конституирующих их процессов, во-первых, в плане их отношения к выделенным линиям и направлениям развития деятельности, во-вторых, в плане возможного влияния происходящих в них изменений на изменение показателей процесса развития, в-третьих, в плане возможности изменения их без ущерба для других важных процессов в деятельности, в-четвертых, в плане наших возможностей воздействия на них.
8. Не имея всех этих знаний, деятели, участвующие в обсуждении темы развития (или «прогресса») деятельности, по сути дела совершенно естественно и оправданно подменяют ее другой. Они обращают свое внимание на уже существующие в обществе системы деятельности — производственные, инженерные, научные и административно-управленческие, полагают, что все протекающие в них процессы влияют на развитие этих систем деятельности, принимают в качестве основания, что нормальное осуществление всех этих процессов способствует развитию и прогрессу деятельности (а не тормозит их), и затем, исходя из хорошо известных им «болячек» этих систем, начинают обсуждать вопрос о том, как интенсифицировать или оптимизировать существующее функционирование, создав для него лучшие условия или устранив те или иные из зафиксированных препятствий. При этом все вопросы о том, как именно связан каждый из этих процессов в системах деятельности с их развитием, каким образом функционирование этих систем влияет на их развитие, какое изменение в развитии вызовут предлагаемые изменения в функционировании данной системы и т. п., просто не обсуждаются. Причина этого, повторяем, заключается прежде всего в отсутствии самих понятий развития и прогресса деятельности, но не менее важную роль играет также отсутствие необходимых теоретико-деятельностных и социотехнических знаний о различных системах и сферах деятельности (производства, инженерии, изобретательства, науки, проектирования и т. п.) и их взаимодействии в рамках всего социального целого.
9. В связи с этим при обсуждении системы мероприятий, необходимых для совершенствования и развития деятельности, происходит разделение двух возможных подходов к задаче — теоретико-методологического и профессионально-практического.
При теоретико-методологическом подходе прежде всего указывают на недостаточность теоретических знаний, необходимых для планирования и осуществления соответствующей системы социотехнических действий,[178] и предлагают развертывать широкий цикл исследований, которые могут восполнить недостаток. Какими будут эти исследования и на что они будут направлены, зависит в первую очередь от общей стратегии организации деятельности,[179] а затем — от характера намечаемых социо-технических действий; к примеру, если задачей будет одноактная реорганизация какой-либо социально-производственной системы, то это потребует иных исследований, нежели в том случае, если задачей будет непрерывное и постоянное управление развитием этой же социально-производственной системы.
При профессионально-практическом подходе, наоборот, исходят из известных уже систем деятельности и сложившихся в них процессов, из практически выявленных затруднений и противодействующих сил, ставят во главу угла оптимизацию этих систем и процессов и соответственно этому намечают средства, методы и планы оптимизирующих воздействий.
Теоретико-методологический подход имеет тот совершенно очевидный недостаток, что он требует массы специальных научных исследований, уводящих нас далеко в сторону от решения непосредственных практических задач совершенствования деятельности, и очень часто, поэтому он просто не может быть реализован. Профессионально-практический подход, наоборот, имеет то преимущество, что он всегда реален (ибо строится, прежде всего, по признаку практической реализации), он не предполагает собственно научных исследований и удовлетворяется непосредственным практико-методическим анализом. Но профессионально-практический подход — и это только обратная сторона всех его преимуществ — всегда вместе с тем и неизбежно подменяет сформулированную выше социотехническую задачу: вместо того чтобы добиваться развития или «прогресса» деятельности, он ориентирует себя на оптимизацию функционирования уже существующих систем.[180]
10. Эта констатация ставит перед нами новую, очень сложную и многоаспектную проблему, которая в естественнотеоретическом плане может быть сформулирована как проблема взаимоотношения функционирования и развития в различных системах деятельности, а в искусственно-практическом плане — как проблема целесообразности и эффективности разделения или, наоборот, объединения задач на оптимизацию функционирования и задач на развитие тех или иных систем деятельности и форм их организации.
11. Обсуждая эту проблему, мы сталкиваемся среди прочего с трудностями согласования и увязывания представлений о «включенном» и «автономном» существовании систем.
Дело в том, что каждая достаточно развитая система деятельности (а вместе с тем и оформляющее ее учреждение, если таковое существует), с одной стороны, является самостоятельным «организмом», функционирование и развитие которого подчинено, прежде всего, принципу поддержания и сохранения себя (и, следовательно, все другие, окружающие системы выступают соответственно в качестве среды и условий ее существований), ас другой стороны, всякая система деятельности, сколь бы развитой она ни была (если только она не превращается в универсум деятельности), является лишь составной частью и «органом» всей совокупной общественной деятельности, и, следовательно, в своем функционировании и развитии она должна быть подчинена принципам и законам жизни целого, должна рассматриваться лишь как элемент целого, если и имеющий свою собственную жизнь, то только на уровне морфологических процессов и структур.
Из этого, в частности, следует, что всякой системе такого рода нужно приписывать, по крайней мере, две группы целен: 1) «собственные цели», детерминируемые автономным существованием системы и необходимостью сохранять и поддерживать себя (пусть за счет других, окружающих систем), и 2) «несобственные цели», определяемые функционированием объемлющих систем и необходимостью поддерживать и сохранять их (пусть даже за счет подавления и частичного разрушения данного органа).[181]
Нередко при анализе функционирования и возможных направлений реорганизации различных социально-производственных систем предполагают, что их «собственные» и «несобственные» цели совпадают, что любые частные системы деятельности и оформляющие их социально-производственные системы не имеют и не могут иметь «собственных» целей, отличных от тех, которые ставят перед ними руководящие и управляющие органы исходя из общих задач функционирования и развития объемлющих систем. Такое представление не соответствует реальному положению дел и может приводить только к ошибкам.[182]
Любая система-организм независимо от того, какие цели ставит перед ней объемлющая система, и независимо от того, ради каких целей она была создана, всегда имеет еще вторичную цель — сохранить себя и свое функционирование, и очень часто эта вторая цель становится первой, определяющей если не все, то очень многое в поведении и функционировании этой системы.[183]
И было бы неверно думать, что такая стратегия жизни частичных систем в общем случае является неразумной или вредной для целого: ведь создание всякой системы стоит очень дорого, требует значительного времени и в большинстве случаев было бы неоправданным расточительством жертвовать для достижения каких-либо целей целого существованием самих частичных систем. Поэтому различие между собственными и несобственными целями системы должно существовать. И если руководящие органы не учитывают его, то они лишаются возможности эффективно руководить и управлять, ибо не могут адекватно проанализировать и понять действительные механизмы и законы функционирования систем деятельности и оформляющих их социально-производственных систем.
Наоборот, понимание различия между «собственными» и «несобственными» целями систем и учет этого различия впервые дают возможность организовать эффективное управление производственными, научными и проектными учреждениями. Но для этого необходимо специальное соотнесение и взаимное согласование различных целей, существующих и действующих в социальных системах на различных уровнях их функционирования.[184]
Одной из важных задач организации социально-производственных систем становится создание таких условий, при которых «несобственные» цели могут вводиться «внутрь» частичных систем деятельности, или же таких условий и организационных отношений, при которых достижение частичными системами их «собственных» целей обеспечивает достижение целей, поставленных управляющими органами в соответствии с потребностями объемлющих систем. Важнейшим моментом здесь становится такая организация систем деятельности и оформляющих их социально-производственных систем, которая с самого начала детерминирована задачей установления определенных отношений между отличающимися друг от друга собственными и несобственными целями.[185]
В связи с этим можно сделать весьма общее утверждение, что эффективное решение комплекса проблем, связанных с развитием различных систем и сфер деятельности, требует среди прочего в теоретическом плане тщательного анализа соотношений между общими целями развития и «прогресса» универсума деятельности (выступающими для всех частных систем деятельности и оформляющих их социально-производственных систем в качестве «несобственных» целей) и «собственными» целями частичных систем, обусловленными необходимостью сохранять и поддерживать их наличную структуру и наличное функционирование, а в практическом плане — нормативного установления между ними таких отношений, когда «несобственные» цели будут учитывать сохранность и поддержание частичных систем, а достижение «собственных» целей частичными системами будет обеспечивать достижение общих целей всего универсума деятельности.[186]
12. Реализация указанных выше установок на соединение «собственных» и «несобственных» целей приводит к тому, что всякая достаточно развитая система деятельности, а вместе с тем и оформляющая ее социально-производственная система становятся многоцелевыми организмами,[187] в которых «собственные» цели отдельных систем-органов выступают также в качестве целей всего организма, а цели организма, наоборот, распределяются между разными частными подсистемами и становятся их специфическими целями, неразрывно связанными с «собственными» целями сохранения и поддержания этих систем.
В силу этого каждая достаточно сложная система деятельности и каждая социально-производственная система приобретает несколько разных линий развития, соответствующих разным целям системы, и все эти линии развертываются параллельно, иногда независимо друг от друга, но чаще за счет друг друга или при взаимном обеспечении и поддержке. И хотя в какие-то моменты времени (например, в период войны или ударного строительства) все функционирование и развитие даже таких больших систем, как целая страна, могут быть подчинены одной основной цели, подобные состояния являются исключительными и не могут обеспечить нормального и уравновешенного развития сложных систем деятельности.
Если теперь мы захотим перевернуть это знание в план нашего организационного действия, то должны будем сказать, что сложность современных систем деятельности, их многоцелевой характер и многообразие протекающих в них процессов функционирования и развития требуют всегда, какими бы задачами ни определялось наше действие, такой организации этих систем, при которой они разбиваются на ряд относительно самостоятельных и независимо действующих подсистем-организмов; уже из этих подсистем (с их «собственными» целями и специфическими возможностями функционирования) собираются или конструируются затем более сложные системы и агломерации. При этом все подсистемы организуются в «горизонтальные» ряды координации и в «вертикальные» ряды включения и подчинения (по типу «матрешки») так, чтобы существовало максимальное сближение и согласование между их «собственными» целями и целями, приписываемыми им объемлющими системами.
13. Другое следствие, вытекающее из этого же представления о системах деятельности и протекающих в них процессах, касается организации систем руководства и управления.
Несмотря на то, что всякий человек, имеющий опыт руководящей работы, наверное, достаточно хорошо чувствует разницу между руководством и управлением, в теоретическом осознании и в практике организационной работы это различие отнюдь не всегда фиксируется и учитывается.[188]
«В экономической литературе нередко встречается смешение отдельных понятий, относящихся к различным функциям управления общественным производством. Так, в ряде случаев функция планирования, на наш взгляд, совершенно необоснованно идентифицируется с функцией организации производства… Аналогичное смешение допускается и при рассмотрении категорий "хозяйственное руководство" и "управление производством". В ряде работ эти две категории соединяются в одну» (там же, с. 212–213).
«В организационных отношениях по горизонтали отношения управления не носят "властного характера" (приказание — исполнение), как в вертикальных связях, и имеют характер координации, согласования, гармонизации» (там же, с. 235).
«Различаются непосредственные и косвенные отношения управления… Непосредственные отношения имеют преимущественно характер подчинения, а косвенные — характер информации или координации» (там же, с. 251, 253).[189]
А между тем правильная организация деятельности и эффективное управление ее развитием возможны только при четком различении и организационном разделении деятельности руководства и деятельности управления.[190]
Деятельность руководства может осуществляться только в рамках и посредством административных структур. В чистом виде она возможна только в тех случаях (и в тех границах), когда подчиненные системы не имеют собственного независимого функционирования, не ставят перед собой самостоятельных целей и задач, а, наоборот, целиком и полностью принимают цели и задачи руководящих органов. Руководство предполагает, что вся руководимая система выступает как одно сложное средство в достижении целей, поставленных руководством. Соответственно этому создаются и организуются административные структуры, позволяющие непосредственно передавать цели и задачи от руководителя к руководимым.
Деятельность управления, напротив, осуществляется в тех случаях (и в тех границах), когда подчиненные системы обладают собственным функционированием (или даже развитием) и управляющий орган не связан с ними непосредственными административными связями; управляемые объекты всегда имеют собственное «естественное» функционирование, свои собственные «внутренние» цели и не могут отказаться от достижения их, не разрушив при этом самих себя. Таким образом, управляемая система всегда является относительно независимой от управляющей, и управляющая система должна достигать своих целей в отношении управляемой системы, несмотря на эту независимость и с учетом ее.
Отсутствие четкого методологического и теоретического осознания различий между руководством и управлением приводит ко многим смешениям, отрицательно сказывающимся на практике организации и управления. Нередко прямое руководство распространяется на те области, где оно уже не может действовать, а средства и методы управления, которые были бы эффективными в подобных условиях и быстро привели к достижению поставленных целей, не разрабатываются, и соответственно этому в тех областях, где нужны организационные структуры управления, создаются организационные структуры руководства, порождающие излишний бюрократизм и тормозящие естественные и прогрессивные процессы развития деятельности.
14. Одним из важных следствий этого смешения руководства и управления (во всяком случае, важным для практики) является то, что при постановке задач на оптимизацию не различаются: 1) процессы функционирования социально-производственных систем, существующие в неразрывном единстве с обслуживающим их руководством, и 2) действия управляющих систем, в частности принятие управляющих решений. Задачи оптимизации и развития могут и должны ставиться как в отношении первого, так и в отношении второго, но разрешаться они будут в этих двух случаях принципиально по-разному.
В частности, это касается использования ставшей очень популярной в последнее время схемы «цель — средства».
15. Схема «цель — средства» является эффективной и необходимой лишь при анализе и организации управляющих действий, но она не может быть использована в анализе функций и функционирования систем деятельности и оформляющих их социально-производственных систем или при принятии решений, касающихся их организации и реорганизации. Анализ функций и функционирования систем деятельности или социально-производственных систем предполагает иные схемы и модели, нежели схема «цель — средства».
Сказанное не означает, что сама схема «цель — средства» вообще неэффективна и не должна использоваться: она является очень важным и полезным средством при управлении системами разного рода.
У американских практиков и методологов менеджмента эта схема действует достаточно эффективно именно потому, что они применяют ее только при планировании и осуществлении управляющих воздействий. Другие задачи в методологии управления, по сути дела, перед ними не стоят, поскольку основным принципом организации американского производства, науки и проектных разработок является естественная замкнутость производственных, научных и проектных систем и независимость их от системы государственного управления. В США служба управления, как правило, не должна создавать и поддерживать нормальное функционирование всех этих систем: они создаются независимо от управляющей системы и столь же независимо функционируют в дальнейшем: службы управления и регулирования складываются на этой основе, в предположении, что управляющие воздействия могут изменять способ функционирования системы, но никак не создавать его.[191]
В Советском Союзе, наоборот, производственные, научные и проектные системы не только управляются и регулируются государственными органами, но также организуются и реорганизуются и их функционирование постоянно поддерживается государством, зависит от его текущих решений и руководства. Поэтому функции руководящих органов в нашей стране никогда не сводятся к одному лишь управлению (или принятию управляющих решений), которое может анализироваться в схемах «цель — средства», а постоянно требуют более сложных и разносторонних, комплексных решений, касающихся организации этих систем, поддержания их нормального функционирования путем руководства, обеспечения их ресурсами, требуют планирования и обеспечения связей между предприятиями и отраслями, реорганизации предприятий и т. д.
Поэтому эффективное решение всего комплекса проблем и задач, связанных с развитием систем деятельности и оформляющих их социально-производственных систем, требует, с одной стороны, четкого различения мер, направленных на оптимизацию управляющей деятельности, и мер, направленных на оптимизацию структуры и процессов функционирования социально-производственных систем разного масштаба и уровня, а с другой стороны — правильного соединения тех и других.
16. По сути дела, все системы деятельности и оформляющие их социально-производственные системы представляют собой неоднородные и как бы многослойные образования: ядро и сердцевину их составляет машинообразно организованное функционирование деятельности, затем идет слой руководства, обеспечивающий это функционирование и подкрепляющий его, а еще дальше — слой социотехнических действий, производимых внутренней системой управления. И именно такого рода неоднородные и многослойные системы необходимо, во-первых, оптимизировать, а во-вторых, развивать с помощью специальных социотехнических действий. И вопрос заключается в том, какими могут быть эти социотехнические действия.
Ответ на него определяется, с одной стороны, нашими целями и задачами, а с другой стороны — характером объекта, на который направлены действия. Но первое, по сути дела, уже определено — это оптимизация функционирования и развитие, причем соотнесенные так, чтобы они друг друга взаимно подкрепляли. Следовательно, для определения типа социотехнического действия нужна еще также общая категориальная характеристика объекта.
То обстоятельство, что в данном случае такими объектами являются системы деятельности, создает известные трудности: этот объект может быть как «естественным», так и «искусственным» (см. [1971 с*] и приведенную там литературу). Однако изложенные выше соображения, по сути дела, уже разрешают эту проблему: сколь бы сложными ни были системы, на которые мы направляем социотехнические действия, и сколько бы разнородных слоев деятельности они ни содержали, во всех случаях по отношению к социотехническому действию они будут выступать если и не в качестве автономных организмов, обладающих своими собственными естественными процессами (своим функционированием и своим историческим изменением), то, во всяком случае, в качестве объектов, обладающих весьма мощной естественной компонентой, независимой от социотехнического действия, причем эта компонента, вероятнее всего, будет включать как функционирование, так и развитие.
В силу этого социотехническое действие, осуществляемое в отношении этих систем, не может быть простым преобразованием (или простой реорганизацией), не может быть простым изготовлением или конструированием и точно так же не может быть простым проектированием с последующей реализацией проекта (подобным тому проектированию, которое мы осуществляем в отношении технических систем); это должно быть значительно более сложное социотехническое действие — управление развитием деятельности.[192]
17. Управление развитием деятельности (наряду с тем, что принято называть «научно-технической политикой») является современной формой осуществления социотехнических действий. Оно призвано связать и согласовать производимые нами действия по реорганизации и искусственному развертыванию систем деятельности со всеми протекающими в этих системах естественными процессами, в том числе с процессами их функционирования и исторического изменения.
Поэтому управление неизбежно является многоцелевой и по внутреннему строению очень сложной деятельностью, включающей ряд относительно независимых компонентов.
17. 1. Управление должно предусмотреть возможные естественные изменения управляемой системы и предсказать ее будущие состояния. Поэтому оно включает в себя прогнозирование [Гвишиани, Лисичкин, 1969; Янч, 1970; Григорьев, 1972; Раппапорт, 1972; Розин, 1972; Сидоренко, 1972].
17. 2. Управление должно выработать и описать в необходимых деталях желаемые состояния системы. Поэтому оно включает службу проектирования идеалов [Янч, 1970; Розин, 1972; Сидоренко, 1972; Григорьев, 1972].
17. 3. Управление должно учесть все существенные последствия наших воздействий на систему, устранить разрушающие влияния искусственных и естественных процессов друг на друга, объединить естественные превращения и искусственные преобразования в едином плане развития, учитывающем течение времени. Поэтому оно включает планирование [Ansoff, 1960, 1965; Branch, 1966; Dale, 1967; Акофф, 1972].
17. 4. Управление должно сделать планируемое развитие органическим аспектом и моментом функционирования систем деятельности, а для этого специфическим образом организовать эти системы. Поэтому управление включает в себя организацию и подчиняет ее своим специфическим целям, в которых функционирование и развитие объединены [New… 1964; March, Simon, 1965; Организация… 1968; Афанасьев, 1969; Акофф, 1972; Янг, 1972].
Из этого, в частности, следует, что системы управления ассимилируют и подчиняют себе технологические системы производства (включая системы науки и проектирования), которые в системах управления строятся и функционируют иначе, чем вне этих систем.
17. 5. Управление должно подчинить процессы естественного изменения управляемых систем своим специфическим целям и сделать их условиями и средствами достижения своих целей. Это моменты, специфические для управления. В случаях, когда управление имеет дело с человеческими системами, в свою очередь претендующими на управление всеми другими системами, оно превращается в политику [Лефевр, 1967].
17. 6. Управление должно соединить проектирование с реализацией проектов и достигает этого путем дальнейшего развития и совершенствования проектирования, учитывающего теперь стадии внедрения и эксплуатации [Дубровский, Щедровицкий Л., 1970 b,1971 а].
17. 7. На всех этапах и стадиях своего развертывания управление включает научные исследования, которые в его контексте приобретают иной характер и содержание. Управление развивает науку, создавая новые области и новые методы исследований [Ansoff, Brandenburg, 1967; Systems… 1969; Дубровский, Щедровицкий Л., 1971 а; Дубровский, 1971 b; Сазонов, 1972].
18. Таким образом, развиваясь и оформляясь в качестве социотехнического действия и социотехнической деятельности, управление вступает в двойную систему связей с проектированием.
С одной стороны, управление, как это уже было отмечено, включает в себя проектирование в качестве элемента и составной части и благодаря этому делает возможным применение проектирования к системам деятельности; при этом происходит весьма своеобразная трансформация самого проектирования и ассимиляция его компонентов деятельностью управления.
С другой стороны, управление как бы захватывает и объем лет системы проектировочной деятельности, но при этом не перерабатывает и не ассимилирует их, а оставляет относительно автономными и независимыми и, более того, начинает выполнять по отношению к ним служебные функции, обеспечивая оптимизацию их функционирования и их дальнейшее развитие. При этом управление, соответственно его специфическим целям и задачам, как бы приспосабливается к естественным процессам функционирования и развития проектирования, сообразуется с ними и лишь вносит в этот процесс искусственные коррективы исходя из интересов всего универсума деятельности. В этом случае нельзя говорить, что проектирование зависит от управления; скорее управление, оставаясь особым и специфическим типом деятельности, зависит как в своих целях и задачах, так и в своих непосредственных проявлениях от проектирования, хотя оно и «поворачивает» последнее в ту или другую «сторону»; наверное, самым правильным было бы утверждение, что управление и проектирование вступают здесь в сложное взаимодействие и взаимозависимость друг от друга, причем управление, реализуя свою специфику, прежде всего «отражает» и «познает» проектирование в его «естественных» и автономных процессах, а затем уже действует на проектирование, но обязательно — соответственно этому отражению и знанию.[193]
Резюме, переходящее в план дальнейших обсуждений
Выводы, к которым мы пришли в результате всего проделанного движения, в новом свете представляют ту ситуацию, в которой мы реально находимся и должны действовать, когда говорим об автоматизации проектирования.
Мы начали с самого простого и поверхностного представления об автоматизации, выдвинув на передний план внедрение в деятельность машинных и автоматизированных средств. Анализируя последствия такого внедрения, мы выяснили, что они намного превосходят исходные цели и установки, зафиксированные в существующих концепциях автоматизации. И это заставило нас обобщать и трансформировать формулировки целей, чтобы привести их в соответствие с реальными последствиями проводимой работы. Автоматизация проектирования предстала перед нами как сложное социотехническое действие, вызывающее (или осуществляющее) широкие преобразования проектировочной деятельности, и мы стали рассматривать и оценивать ее именно с этой стороны, в контексте других преобразований и с точки зрения возможных целей и задач подобной работы. Но это означало, что предметом анализа стала (или должна была стать) вся совокупная деятельность совершенствования и развития проектирования, а работа по автоматизации выступила как один из ее частных моментов, смысл, значение и ценность которого определяются, прежде всего, его местом в системе целого.
Такой результат, как легко понять, сдвинул и существенно преобразовал рабочую ситуацию: мы оказались вынужденными анализировать и обсуждать саму задачу совершенствования и развитии проектировочной деятельности, ее смысл, а также структуру и условия осуществления социотехнического действия, детерминированного подобной задачей.
Проведя обсуждение этой темы в нескольких планах (достаточно известных и уже не раз рассматривавшихся в литературе), мы пришли к выводу (опять-таки, отнюдь не новому, но имеющему для нас принципиальное и первостепенное значение), что в современных условиях социотехническое действие, детерминированное подобной задачей, может быть только управлением развитием проектировочной деятельности. Таким образом, мы определили характер и форму нужного нам социотехнического действия. И это была новая сдвижка и трансформация нашей рабочей ситуации: теперь, естественно, мы должны обратиться к понятию управления, рассмотреть его логическую структуру и содержание, а затем проанализировать структуру ситуаций управления развитием деятельности.
Главное внимание при этом будет обращено на описание основных типов знаний, обслуживающих деятельность управления. Этому будет посвящена следующая, вторая часть нашей работы.
Но то, что мы уже знаем в отношении самой управляющей деятельности и ее взаимоотношений с управляемыми системами деятельности, позволяет нам, опережая систематическое изложение материала второй части, наметить содержание и порядок последующих частей работы.
Какими бы ни были наши выводы в отношении деталей структуры и технологии управления, нам во всех случаях придется затем, соответственно исходному представлению об управлении, рассматривать структуру проектировочной деятельности и основные процессы и механизмы ее исторического изменения; иначе говоря, мы должны будем затем построить общее онтологическое представление проектирования как развивающейся деятельности. Этому будет посвящена третья часть работы.
Соотнесение онтологического представления проектирования с типологическим перечнем знаний, обслуживающих деятельность управления, позволит нам затем наметить основные направления научно-теоретических и инженерных исследований проектировочной деятельности. Характеристика этих направлений составит основное содержание четвертой части работы.
Следующая, пятая часть работы будет посвящена анализу и обсуждению возможных идеалов развития проектировочной деятельности и условиям формирования на базе этих идеалов определенных целей и задач социотехнического действия. В нее войдет также анализ некоторых условий планирования и осуществления социотехнических действий, направленных на достижение этих целей.
Наконец, в шестой части работы — мы надеемся, что она будет завершающей, — вводятся основные задания на машинизацию и автоматизацию проектирования исходя из намеченных в предшествующей части целей и задач совершенствования и развития проектировочной деятельности.
К сожалению, в этой работе мы не сможем в достаточной мере обсудить проблемы социально-производственной и культурной организации проектирования, ибо эта тема не может быть вложена в рамки какого-либо одного исследования, пусть даже самого широкого, но мы надеемся, что этот пробел будет восполнен другими статьями в намечаемых нами к публикации сборниках.
«Естественное» и «искусственное» в социотехнических системах[194]
Цель моего сообщения — выделить основные группы проблем, объединяемых этой темой, и соотнести их друг с другом. Сообщение содержит три части. Прежде всего, я попытаюсь охарактеризовать современную научно-техническую ситуацию, естественно, в плане тех задач, которые мне близки.
1. Первый момент, на который я хочу обратить ваше внимание, — это выдвижение на передний план организационно-управленческих задач. Безусловно, управление, в том числе и социальное, осуществляется с тех пор, как возникло человеческое общество. Но сейчас, говоря о выдвижении на передний план организационно-управленческих задач, мы осмысливаем ситуацию в плане научного знания. Дело не в том, что мы начали организовывать и управлять, а в том, что начали осмысливать саму эту работу, рационализировать ее. И уже в связи с этим появляются собственно организационно-управленческие проблемы и задачи.
Второй момент: к этим задачам первыми вышли отнюдь не социологи и гуманитарии, а инженеры. Создавая различного рода информационно-управляющие системы, они в первой четверти XX в. зафиксировали парадоксальную ситуацию: проектирует инженер некую техническую систему, а создает определенные системы деятельности. Инструменты и станки, которые создавались раньше, вписывались, как правило, в естественный, т. е. традиционно освоенный, контекст деятельности. И поэтому, когда инженер, проектируя, имитировал будущее употребление создаваемой им машины или средства, он прилаживал ее прежде всего к себе, сам был мерилом оценки функций или соответственно эффективности своей конструкции. Изобретая нечто, проектируя, конструируя мысленно или практически, он смотрел, что из этого будет получаться. И потому то, что он проектировал, — машины, орудия, средства, и то, что он создавал, — системы деятельности, было увязано и соединено друг с другом в итогах его работы, а мыслительно — по ходу его имитационных процедур.
Но когда начали создавать сложнейшие системы, организующие общественную жизнь, — я имею в виду такие банальные и простые вещи, как создание сети магазинов в городе, или большой поточной линии, или системы машин с операторами, — то все отработанные способы имитаций перестали быть эффективными. Инженер проектировал некое техническое устройство либо систему материальных условий жизни, но при этом создавал или организовывал системы деятельности. Однако эти системы деятельности уже не охватывались знанием. И потому на передний план стала выдвигаться и формулироваться задача: как проектировать сами системы деятельности или как вписать эти технические устройства, создаваемые и реализуемые по проекту, в те системы деятельности, которые возникали в результате работы этих технических устройств.
По сути дела, у инженера-проектировщика было два совершенно разных объекта. Точнее, объект был разнороден: с одной стороны — техническое устройство, которое он проектировал, а с другой — система деятельности, которую он явно или неявно организовывал. В его работу входили два компонента, которые резко расходились между собой, приводя к разным иллюзиям и коллизиям. В связи с этим возникла задача их объединения, а вместе с тем организации своей собственной деятельности, причем таким образом, чтобы она дала тот результат, который был замыслен.
Такова была ситуация, с которой столкнулись проектировщики в первой четверти XX в. и которая стала кричащей к моменту Второй мировой войны. Если вы начнете анализировать работы Н. Винера и тех исследователей, с которыми он создавал системы автоматизированного управления, а затем работы К. Шеннона с этой точки зрения, то указанный момент станет очевидным и для вас.
Однако инженер, который поставил эти проблемы, был ограничен, прежде всего, своими средствами. Получилось так, что в ходе своей работы он вышел на явления, которые до сих пор традиционно изучались гуманитариями, а именно: человек с его поведением и деятельностью, коллективы действующих людей, сложные социальные системы и т. д. Но средств охватить их своей технической деятельностью у него не было, и, естественно, он мог решать и решал эти проблемы только теми средствами, которые у него имелись. Как мне представляется, кибернетика была попыткой ответить на эти вопросы, иначе говоря, ассимилировать предметы нетехнические — социальные, гуманитарные и т. п. — с помощью традиционных технических средств.
По сути дела, в настоящее время мы вышли на социотехнику в широком смысле. Это задача в первую очередь инженерная: социальные, человеческие факторы являются сегодня важнейшими и решающими в сфере собственно инженерии. Продолжать говорить теперь о «чистой» инженерии вообще-то можно, но это уже вчерашний день. Еще сколь угодно долго можно продолжать такого рода инженерную практику, но она уже неуместна: это лишь накопление отсталости. С другой стороны, область действия человеческих и социальных факторов является для инженера областью неведомой, его к ней не готовили и, более того, всячески от нее ограждали, ибо она не имела отношения к его профессиональной деятельности.
Отсюда возникла — и это третий момент — задача объединения инженерии с гуманитарными и социальными науками, потому что только там можно было почерпнуть соответствующие сведения, знания, методы разработки этого материала. Последний момент представляется мне крайне важным. Научно-техническая революция (или научно-технический прогресс, или то, что мы, таким образом, называем) поставила сейчас, в начале 70-х годов нашего века, задачу синтеза в инженерии технических, естественных и социально-гуманитарных знаний, а вместе с тем — этих наук. Дальнейшее развитие всех этих областей, и в первую очередь самой инженерии, без ориентации на гуманитарные науки, на мой взгляд, просто невозможно. Но синтез такого рода сегодня упирается, как мне кажется, в неадекватность самих гуманитарных знаний. И это следующий пункт, который я хочу выделить.
Традиционная социология и современная психология по крайней мере последние сто лет развивались в жестком противопоставлении объективных методов анализа, или естественнонаучной точки зрения, и того, что, скажем, в психологии называлось «интроспекционизм». В социологии и психологии сложилась и была отработана заимствованная из естественных наук естественнонаучная позиция. Исследователь предполагает, что объект его изучения — человеческие или социальные структуры — противопоставлен ему как исследователю: эти структуры подчиняются некоторым естественным законам, не зависящим от его, исследователя, деятельности. Он может их найти и описать, а потом, ориентируясь на них и сообразуясь с ними, строить научно обоснованную практику. Такова принципиальная установка современной научной психологии и научной социологии.
Однако такого рода подход в принципе неприемлем для инженера, и, хотя, как я только что сказал, синтез гуманитарных наук, современной инженерии и естественных наук есть необходимое и назревшее дело, с такой психологией и с такой социологией инженер эффективно ничего делать не сможет. Ведь инженер относится к своему объекту как к искусственному, им творимому, создаваемому. Это принцип инженерного подхода. Инженер предполагает, что может создавать объекты, используя в процессе создания естественные законы — законы жизни «кусков» материала в этом объекте. Но при этом он творит нечто такое, что сама природа не создавала. Например, бессмысленно спрашивать, каковы естественные законы радиоприемника или магнитофона, ибо ни одно, ни другое устройство не живет по естественным законам: это некие элементы деятельности или средства деятельности и т. д. И хотя каждый процесс, который мы можем выделить при работе магнитофона речь, колебания мембраны, усиление их как электрических колебаний, электромагнитные колебания, запись на ферромагнитные пленки, следы напряженности, остающиеся там, — подчиняется естественным законам, тем не менее естественного закона функционирования магнитофона или радиоприемника просто не существует. И поэтому, сколько бы мы ни пытались механически соединять современные инженерный и социотехнический подходы с традиционными знаниями естественнонаучного типа, получаемыми в социологии, ничего путного из этого не выйдет. Здесь нужен принципиально иной подход.
2. Теперь я перехожу ко второй части доклада. Возникновение организационно-управленческой тенденции или движения, во-первых, и постановка задачи на объединение социально-гуманитарных и естественных наук с инженерией, во-вторых, создают новую систему требований к самим социальным и гуманитарным наукам.
Более жестко надо сказать так: современное организационно-управленческое движение, социотехника требуют создания новой психологии, новой социологии, нового учения о человеке, которые с самого начала учитывали бы эти два принципиальных момента, а именно: все объекты нашей практики и нашей деятельности представляют собой не естественные и не искусственные объекты, а кентавр-объекты, соединяющие естественный и искусственный компоненты. Но сами эти понятия — «естественное» и «искусственное» — требуют соответствующего пояснения и исторического экскурса.
Наверное, многие знают, что эта проблема впервые была поставлена Платоном в его диалоге «Кратил». Там обсуждалось, как происходят знания и какой жизнью они живут: являются ли они естественными образованиями, соответствующими природе, или же они порождаются человеком и в этом плане условны. Я, конечно, огрубляю тему, поскольку детальный анализ диалога «Кратил» требует значительно более тонких расчленений, но мне сейчас не это важно. Мне нужна предельно грубая мысль: мы выделяем знак как некоторый объект, рассматриваем вектор его возможных изменений как вектор развития или, скажем, как вектор происхождения, что опять-таки несущественно. Важно лишь то, что этот объект, или представляющая его организованность, берется вместе с процессами его порождения и дальнейшего изменения. У такого объекта, как знак, взятого, повторяю, вместе с процессами деятельности и рассматриваемого с точки зрения этих процессов, оказывается два принципиально разных механизма жизни. Один — тот, который определяется человеческой деятельностью, поскольку знак есть объект деятельности и можно было бы, рассматривая его с этой стороны, сказать, что он вообще не имеет собственных законов жизни, никакой собственной природы; иначе говоря, он живет и изменяется так, как им распоряжается деятельность, как она его заставляет двигаться, и это и есть искусственный механизм его порождения или его жизни. Второй механизм — естественный компонент, который определяет изменения в материале знака, и без учета свойств этого материала ни порождение этого объекта, ни воздействие на него в принципе невозможны.
Мне здесь важно подчеркнуть, что, говоря о естественном и искусственном, или природном и деятельностном, я характеризую не всю систему, очерченную через механизмы жизни знака как объекта, взятого в его процессах. Он одновременно выступает и как объект нашей деятельности, и как нечто живущее само по себе вне этой деятельности. Если, скажем, это будет другая деятельность, она точно так же будет выступать по отношению к этой деятельности изготовления, т. е. искусственной трансформации, как некий естественный процесс. Именно это я имею в виду, когда говорю о кентавр-объектах, или Е/И-объектах. Но это — онтологическое утверждение. А мы, скажем, находясь в какой-то исследовательской позиции, в зависимости от того, какие задачи мы должны решать, можем рассматривать какой-либо объект как естественный и, следовательно, очерчивать границу объекта, включая естественный механизм жизни, как искусственный, т. е. производимый деятельностью, или как технический объект в традиционном смысле этого слова. А можем анализировать его как объект, содержащий тот и другой компоненты, т. е. как кентавр-объект.
Обобщая все сказанное выше, я теперь утверждаю: в современной ситуации сложились новые системы деятельности, которые мною будут называться социотехническими.
Социотехническая система может быть изображена схематически в виде «желудя», состоящего из двух частей. Имеется одна деятельность (а), например какого-то рода практические воздействия и соответствующие им исследования. При этом проектируются некие организованности, скажем знаковые, материально-машинные или какие-то другие, которые затем реализуются; знаковые и материально-машинные организованности включаются в другую деятельность, которую они таким же образом организуют (b). Этот второй компонент социотехнической системы — проектируемая система деятельности, т. е. та, которой мы стараемся управлять. Таким образом, в деятельности, изображенной в «верхней» части «желудя», мы создаем определенные организованности и включаем их в «нижнюю» деятельность, т. е. накладываем ее как определенную форму. Иначе говоря, мы постоянно осуществляем фактически некую деятельность над деятельностью, и это, на мой взгляд, и есть та ситуация, которая, в конечном счете, порождает задачу управления в ее рафинированном виде.
То, что сегодня обсуждается как управление, не имеет к нему ровно никакого отношения, с моей точки зрения. Эти представления перенесены из теории регулирования и теории автоматического регулирования, зафиксированы в кибернетических схемах, в понятиях прямой — обратной связи и т. д., но они принципиально не дают нам понятия «управления» в том смысле, как я его сейчас пытаюсь представить, а именно: наши объекты — это Е/И-системы, поскольку они имеют, во-первых, естественный компонент жизни, во-вторых, искусственный компонент в результате того, что они всегда охвачены и ассимилированы другими системами деятельности, и, в-третьих, некую равнодействующую, по которой, собственно, идет и должно идти движение.
(Вопрос докладчику: не можете ли вы пояснить, что такое объект деятельности?)
Что такое вообще объект деятельности? Вы спрашиваете серьезно? Тогда вернемся к схеме. Но это заставляет меня вести разговор в другой манере. Объект деятельности — сегодня одна из важнейших проблем методологического мышления. Если деятельность берется как автономная, скажем как деятельность Иванова, Петрова или Сидорова, тогда все понятно: это то, с чем они «действовали». Если же мы имеем кооперированные структуры, то все уже не так просто, потому что у кооперированной структуры деятельности нет объекта, есть только сами кооперированные структуры деятельности. Если, например, у вас внизу, в каземате, сидит оператор, который знает, что по звонку сирены он должен нажать кнопку, а потом взлетит ракета и уничтожит город, и вы его спросите, кто же все это сделал, оператор ответит: «Я нажал кнопку и все». А тот, кто спроектировал этот комплекс, ответит, что он только проектировал и ничего более не делал. Объекта в этой деятельности нет в принципе.
Объект задается только с некоторой внешней точки зрения в том случае, когда мы представляем все это как квазинаучный объект. Затем, начав его описывать, мы сталкиваемся со следующим интересным моментом: Е/И-объект — это фактически всегда организованности деятельности! Знаки, машины, вещи, другие люди… Поскольку они, таким образом, на это место поставлены, они являются Е/И-объектами. При этом, обратите внимание, мы всегда образуем такую странную «склейку», а именно: имея определенные организованности как объект, мы рассматриваем их относительно процессов их происхождения и дальнейших трансформаций, зафиксировав их как организованности, кроме того, смотрим, являются ли механизмы жизни этого объекта естественными или искусственными. А после того, как мы вышли во внешнюю позицию и хотим знать, с чем же имеем дело, мы переходим к схемам социотехнических систем, где единицами организованной деятельности становятся такие образования, которые подобно монадам Лейбница наполняют мир, определенным образом взаимодействуя: они, скажем, могут пожирать друг друга, ассимилировать одна другую, рефлексировать, отображать, вести между собой сложную полемику и т. д. Находясь во внешней позиции, я опять-таки должен выделить этот объект, который я или проектирую, или конструирую, или организую. Причем неважно, что это такое: это может быть утверждение, особым образом организованные бригады и т. п. Мы же по-прежнему находимся в той же позиции, о которой я говорил как о парадоксальной: проектировать можно только организованности, проектировать системы деятельности нельзя, так как всякая деятельность всегда дефициентна по отношению к системам деятельности, а системами деятельности можно только управлять; иначе говоря, мы как бы отрываем «верхнюю» часть деятельности от «нижней».
Итак, я описываю все это с внешней позиции, что означает: если я представил «нижнюю» часть деятельности — причем я могу представить эту деятельность либо с включенными в нее организованностями, либо без них, — то могу рассматривать ее как подчиняющуюся некоторым законам, именно законам, и не зависящую от той деятельности, которая осуществляется над ней, т. е. независимо от социотехнического действия. И тогда это будет Е-система. Почему? Только не поймите меня в онтологическом плане! Сами по себе объекты ничем не являются, но эта система будет именно Е-системой постольку, поскольку она, таким образом, представлена в социотехнической позиции. Все зависит от того, что я делаю!.
Для того чтобы организовать управление, оказывается необходима сложнейшая комбинация такого рода знаний, где мы рассматриваем сначала нижележащую систему как Е-систему, осуществляем прогнозирование и находим линию ее естественного развития, потом, переходя в социотехническую позицию, начинаем вырабатывать некоторые идеалы в отношении этих систем — мы их проектируем и конструируем. Затем мы строим соответствующие средства в виде организованноcтей, а дальше начинается типологическая игра на «воронках» возможного развития.
Когда мы включаем те или иные организованности в исходную Е-систему, то определенным образом изменяем, сдвигаем траекторию ее возможного естественного развития. При этом мы можем осуществлять управление в виде либо одноактного направленного действия, либо системы воздействий, которые распределяются в определенном времени управления.
Однако все это мы должны рассматривать как Е-процессы уже сложной системы с включенными в нее организованностями, планируя какие-то точки изменения закона жизни этих систем только в тех случаях, когда дополнительно вводим И-компонент.
Теперь, возвращаясь к тому тезису, на котором мы прервались, я должен сказать, что традиционное управление потому не имеет ничего общего с управлением, соответствующим современной социотехнической практике, что сведено к непосредственным практическим воздействиям, а тайна управления, как и всякого вида современной деятельности — проектирования, конструирования, прогнозирования, — заключена в определенной организации и комбинации знаний, которые при этом получаются. Для того чтобы управлять, нужно в самом простом варианте получить одиннадцать типов знаний об объекте, благодаря которым можно осуществлять деятельность управления по отношению к данному объекту, особым образом их соорганизуя.
Есть еще два момента современной научно-технической ситуации, на которые я хочу обратить ваше внимание. Социотехническая деятельность и управление как современная форма социотехнического действия не могут уже осуществляться средствами традиционного научного мышления: они слишком бедны для этого. Как управление, так и социотехническое действие требуют создания совершенно новых типов мышления, которые мы называем методологическими. Это — мышление, свободное относительно границ научных предметов и вообще в отношении границ науки, истории, техники, практики. Дело в том, что в середине XX в. сложилась такая ситуация, когда в ходе развития наук, в ходе их дифференциации и резкого разграничения одних от других сформировались особые монадные организмы — научные предметы: социология, психология, физика, химия и т. д. И вся работа сегодня осмыслена и нормирована только в рамках этих предметов, где мы можем двигаться по блокам научного знания, организующих научный предмет, но никогда не можем выйти за их рамки. В то же время инженеру сегодня требуется синтез многих знаний, потому что объекты, с которыми он действует, не являются ни физическими, ни химическими, ни социологическими. Они просто объекты нашей практики. Но когда инженер пытается воспользоваться данными разных наук, то оказывается, что объединить эти знания невозможно. Сегодня это — проклятие практической работы, проклятие связи науки с практикой.
В результате наука выступает как фактор ограничения технических и инженерных возможностей, поскольку она направляет развитие по линии создания односторонней техники, или односторонних технических организованностей деятельности. Мы можем иметь, скажем, социологическую технику или психологическую технику, но мы не может иметь социальной техники. И поэтому назревает такая ситуация, когда надо искать иные формы мышления, нормированные другими принципами, организованные иначе, нежели научный предмет. На наш взгляд, это и есть методологическое мышление, которое работает свободно как в научных предметах, так и в исторических, технических, а главное — оно может работать над ними.
И второй момент, на который я хотел бы указать, — необходимость перехода к историческому восприятию действительности. Мы должны все мероприятия и действия, осуществляемые нами, оценивать и с исторической точки зрения. Масштабы человеческой деятельности теперь настолько выросли, что приходится учитывать последствия ее в историческом плане. Но такое, казалось бы, тривиальное утверждение требует кардинальной перестройки самих научных представлений. Мы должны вписать всю инженерно организуемую действительность в историческую рамку.
3. Теперь я хочу для иллюстрации и конкретизации этих положений поговорить с вами о работе по автоматизации разного рода систем, в том числе и о том, чем мне приходилось заниматься, — об организации систем проектирования.
Если мы начнем анализировать саму постановку этой проблемы в свете тех представлений, которые я очень схематично обрисовал, то увидим, что задача автоматизации не ставилась как социотехническая задача. Грубо говоря, сначала ставилась задача создания и внедрения ЭВМ, а все остальные проблемы уже привязывались к этому процессу. При этом предполагалось, что изобретение любого рода машин, технических устройств увеличивает мощь человеческой деятельности, что нет никаких противопоказаний к употреблению техники в человеческом обществе. Возникают вопросы: в какой более широкий контекст должна быть вписана работа по автоматизации? когда она станет осмысленной и рациональной? Представляется, что есть единственная задача, при решении которой можно ответить на эти вопросы. Это задача развития и совершенствования систем деятельности. При этом системы деятельности должны браться не автономно, даже когда речь идет о сферах деятельности, скажем проектирования, строительства, научных исследований, а в единой системе совокупных общественных деятельностей.
Это порождает очень сложный круг проблем типологии деятельности. Ведь сегодня мы, по сути дела, не можем ответить, на вопросы, что есть проектирование и чем оно отличается от планирования. По-прежнему мы считаем, что планирование — это то, что осуществляет Госплан, а проектирование — то, что осуществляет проектный институт. Но если сравнить технику самой деятельности, задачи, которые ставятся, то разница исчезает, и лишь по традиции или по недоразумению одно называется планированием, а другое проектированием. Нет критериев различения их. То же самое относится к научной, конструктивной и проектной деятельностям, и прежде всего потому, что нет соответствующих образцов.
Следовательно, чтобы говорить о системной организации общественных систем деятельности, надо решить сначала типологическую задачу; потом системотехническую задачу: как эти деятельности могут быть реализованы технически в организации; затем специальную системоорганизационную задачу. Но это уже за пределами нашего разговора. А если вернуться к задаче системной организации деятельности, то, на мой взгляд, она осмысленна только как некое мероприятие в процессе совершенствования и развития существующих систем деятельности. Но если проанализировать в таком аспекте проводящиеся сейчас разработки, станет очевидным, что эта задача никогда не ставилась и что вообще отсутствует какое-либо представление о том, что такое развитие и совершенствование деятельности.
Теперь я перехожу ко второй иллюстрации. Понятие «научно-технический прогресс» часто понимается как некий естественный процесс развития общества. История науки и техники представлена как история роста машин, знаний, организаций, что характеризуется как прогресс, осуществляемый историей. Предполагалось, что общество автоматически осуществляет этот прогресс, а мы можем взять на себя задачу делать этот процесс целенаправленно, т. е. деятельностно. Это очень странное, хотя и глубинное заблуждение. Ведь понятие «прогресс» взято из мира социотехнических представлений. Такое понятие предполагает, во-первых, жесткое противопоставление системы и деятеля с его возможностями. До тех пор пока мы не выделили самого деятеля и не противопоставили его системе, объединяющей условия и средства деятельности, не рассмотрели его как равномощного системе, до тех пор говорить о прогрессе вообще бессмысленно. Во-вторых, это понятие предполагает задание некой линии как проекта, который, собственно, и характеризует линию прогресса, что предполагает также выделение массы других процессов, протекающих в этой системе. Дело в том, что прогресс существует на проекции того, что происходит в данной системе, но оперировать с этой проекцией нельзя, поскольку это всего лишь проекция, а можно лишь ставить задачи и вырабатывать соответствующие идеалы. Дальше необходимо рассматривать, как относятся все другие процессы, протекающие в этой системе, к линии намеченного нами прогресса. Реально они выступают как механизмы, но такие, которые работают как на прогресс, так и против него.
Поскольку такая работа с понятием «прогресс» не проделывается, и нет представления о прогрессе как о естественно-искусственном или, лучше сказать, как об искусственном прежде всего, а уже потом о естественном явлении, постольку вся задача подменяется совершенно иной: есть масса процессов, все они необходимы, все они работают на прогресс, поэтому сам прогресс предстает как оптимизация наличных процессов. В результате получается такое оптимизационное движение, которое не только не имеет, по сути дела, отношения к прогрессу, но даже очень часто ему противоречит: чем больше мы оптимизируем те или иные существующие процессы, тем больше мы затрудняем саму прогрессивную линию.
То же самое получилось и с автоматизацией: она была вписана в оптимизацию некоторых рутинных процессов, и потому само внедрение машины стало мощнейшим фактором разрушения этих процессов, что само по себе было прогрессом. Но происходит это не потому, что машины плохие, а потому, что сама задача автоматизации в принципе не вписана в более широкую социотехническую задачу: ведь мы к ней не относимся как к такой социотехнической задаче. А если, наоборот, мы все это включаем в контекст социотехнических задач, то и к работе по автоматизации проектирования или каких-либо других областей деятельности мы должны подходить принципиально иначе. Я могу выделить несколько групп задач, решающих теоретические и методологические проблемы.
Первый пункт фактически уже сформулирован: нужны определенные социотехнические критерии для ответа на вопрос, что такое совершенствование и развитие всех систем в общественной деятельности. До тех пор пока этого ответа нет, вести реальную социотехническую работу нельзя. Делать-то мы что-то будем, но получаться не будет ничего, ни прогрессивного, ни собственно социотехнического.
Второй пункт: мы имеем дело с социотехникой, т. е. с проектированием и организацией систем деятельности, и в этом уже заложен парадокс. Как я утверждал, ни проектировать, ни организовывать системы деятельности пока нельзя. Автоматически и независимо от нас эти разработки либо кончаются крахом, либо приводят к формированию более сложной системы управления системами деятельности, но реально — к управлению развитием деятельности. Для того чтобы мы могли осуществить это рационально, т. е. в структуре социотехнических систем, необходимо ответить на вопрос: что такое управление как особый тип человеческой деятельности и как разные формы управления организованы?
Это значит, что мы должны ответить на вопрос: какого рода знания нужны для управления? Видимо, понадобятся сразу два типа знаний — о жизни управляемых нами систем и о жизни управляющих структур и формах их организации, а, кроме того, еще и знания о способах объединения того и другого в ответе на вопрос, образно говоря, как склеить представленный на схеме «желудь».
Итак, вторая группа социотехнических проблем — понятие «управление», описание форм управляющих структур, форм управляющих действий, т. е. акцент на тех типах знаний, которыми мы хотим управлять. После этого можно перейти к другого рода задачам и обсуждать вопрос о том, какую цель должна преследовать автоматизация проектирования, автоматизация научных исследований, а также формулировать собственно социотехнические задачи.
И, наконец, в заключение хочу еще раз повторить свою основную мысль. Мы должны представлять все социальные процессы не как естественные, потому что если мы их представляем как естественные, то нам остается лежать на печи и считать, что история сама все сделает и что никакое управление нам в принципе не нужно. Если же мы все-таки будем пытаться их использовать, то каждый раз они будут обнаруживать свою неадекватность поставленной практической, технической задаче и мы зальемся кровью, решая все эти псевдопроблемы.
Следовательно, необходим совершенно новый заход, учитывающий, что социальные процессы и объекты имеют характер кентавр-процессов или И/Е-объектов. И хотя сама по себе эта мысль уже была в контексте социотехнических действий высказана по крайней мере лет 15 назад, реальных исследований и разработок на широком и разнообразном материале по существу она не спровоцировала. И мне представляется, что сегодня одной из важнейших методологических и научных задач должен стать поиск ответа на вопрос: в каких категориях и как мы можем описывать кентавр-систеы, и какую логику мы должны применять, объединяя искусственные и естественные представления в стремлении использовать их в нашей технической практике?
МЫШЛЕНИЕ. ПОНИМАНИЕ. РЕФЛЕКСИЯ
«Языковое мышление» и его анализ[195]
Как реальность и как объект исследования мышление составляет какую-то сторону (элемент) сложного органического целого — всей общественной деятельности человека, или, если брать уже, его психической деятельности. Мышление неразрывно связано с другими сторонами (элементами) этого целого: с процессами труда, с чувственными, волевыми, эмоциональными процессами, с процессами общения и т. п.; с одними из них — прямо и непосредственно, с другими — косвенно и опосредованно. Отделить мышление от этих других сторон общественной деятельности человека можно только в абстракции.
Кроме того, мышление является такой стороной общественной деятельности человека, которая сама по себе недоступна непосредственному восприятию. В то же время знание о мышлении, как и всякое другое знание, возникает и может возникнуть, очевидно, только из чего-то непосредственно данного, непосредственно воспринимаемого. Таким непосредственно данным материалом, на основании которого можно исследовать мышление, служат все внешне выражаемые элементы поведения людей. Но самыми удобными среди них для такого рода исследований являются речь и ее продукт — язык.
Так же как и мышление, язык составляет какую-то сторону (элемент) общественной деятельности человека и не может быть отделен от ряда других сторон этой деятельности, в частности от мышления и процессов общения: определенные звуки, письменные знаки и движения могут быть и являются знаками языка лишь тогда, когда в них выражены определенные мысли и они служат целям взаимного общения. Так же как и мышление, язык не может быть реально отделен от других сторон общественной деятельности человека, но в то же время в отличие от мышления, во всяком случае с какой-то одной стороны, как система субстанциальных знаков, как субстанциальные изменения, язык представляет собой нечто доступное непосредственному восприятию и поэтому может служить исходным материалом в исследовании.
Таким образом, мышление не является самостоятельным, непосредственно данным, непосредственно воспринимаемым объектом исследования; оно дано нам прежде всего в языке, или, вернее, нам дан язык, в котором, в частности, осуществляется мышление. Но и язык, с другой стороны, существует только в неразрывной связи с мышлением. В силу этого, приступая к исследованию мышления или языка как проявления мышления, мы не можем взять уже в исходном пункте язык и мышление отделенными друг от друга, а должны взять единое, выступающее какой-то своей стороной на поверхность и внутренне еще не расчлененное целое, содержащее в себе язык и мышление в качестве сторон. Мы будем называть это целое «языковым мышлением», подчеркивая тем самым его внутреннюю нерасчлененность. В тоже время мы можем уже в исходном пункте исследования «вырвать» языковое мышление из всех других связей и зависимостей, в которых оно реально существует, и отвлечься от них, так как нашей задачей является исследование только взаимоотношения языка и мысли.
Образуя в исходном пункте нашего исследования абстракцию «языкового мышления», мы тем самым, во-первых, очерчиваем границы нашего объекта, фиксируем их, во-вторых, накладываем определенное требование на все дальнейшие определения языка и мышления. В силу этого в качестве мышления мы будем рассматривать только те формы отражения, которые выражаются в языке, а в качестве языка — все те и только те знаковые системы, которые служат для выражения мыслей. Иначе говоря, мы будем так определять в дальнейшем язык и мышление, чтобы сохранить их органическую взаимосвязь, заданную первой абстракцией.[196]
* * *
Выделив в качестве предмета исследования единое и пока внутренне нерасчлененное «языковое мышление», мы затем, в зависимости от задач исследования, можем выделять различные его стороны и исследовать их изолированно от других. Каждая из выделенных таким образом сторон «языкового мышления» образует особый предмет исследования. В качестве такой стороны может быть выделено, например, мышление как таковое или язык как таковой. Точно так же особым предметом исследования может стать взаимоотношение языка и мышления.
Совершенно очевидно, что характер связи между этими сторонами целого — «языкового мышления» — будет зависеть от характера того первоначального расчленения, которое мы производим, выделяя и обособляя язык и мышление. Другими словами, синтез, производимый при исследовании взаимоотношения языка и мысли, зависит от исходного расчленения. Можно было бы сказать даже резче: вопрос о взаимоотношении языка и мышления есть лишь другая форма вопроса о том, как было произведено исходное расчленение «языкового мышления» на язык и мысль.
Этот факт был блестяще показан известным советским психологом Л. С. Выготским [Выготский, 1956, с. 43–55].
По его мнению, все попытки решить проблему взаимоотношения мышления и речи[197] постоянно — от самых древних времен и до наших дней — колебались между двумя крайними полюсами: между отождествлением и полным слиянием мысли и речи и между их столь же абсолютным и полным разрывом и разъединением.
Все учения, примыкавшие к первому направлению, с точки зрения Л. С. Выготского, не могли не только решить, но даже поставить правильно вопрос об отношении мысли к слову. Ведь если мысль и слово совпадают, если это одно и то же, никакое отношение между ними не может возникнуть и не может служить предметом исследования, как невозможно представить себе, что предметом исследования может явиться отношение вещи к самой себе.
Однако и второе направление, по мнению Л. С. Выготского, не дает удовлетворительного решения проблемы. Разложив речевое мышление на образующие его элементы, чужеродные по отношению друг к другу, — на мысль и слово, исследователи этого второго направления пытаются затем, изучив чистые свойства мышления независимо от речи и речь независимо от мышления, представить себе связь между тем и другим как внешнюю, механическую зависимость между двумя различными процессами. Но с ними, считает Л. С. Выготский, происходит то же, что произошло бы со всяким человеком, который в поисках научного объяснения каких-либо свойств воды (например, почему вода тушит огонь или почему к воде применим закон Архимеда) прибегнул бы к разложению воды на кислород и водород как к средству объяснения этих свойств. Он с удивлением узнал бы, что водород сам горит, а кислород поддерживает горение, и никогда не сумел бы из свойств этих элементов объяснить свойства, присущие целому. Именно в таком положении, по мнению Л. С. Выготского, оказались представители второго направления: само слово, содержащее в себе (как живая клеточка) в самом простом виде все основные свойства, присущие речевому мышлению в целом, они раздробили на две части — на знак и значение. Но знак языка, оторванный от мысли, теряет все свои специфические свойства, которые только и делают его знаком человеческого языка и выделяют из всех остальных природных процессов и явлений. Точно так же значение, оторванное от материальной, звуковой стороны слова, превращается в чистое представление, в чистый акт чувственности. Специфика мышления исчезает и здесь.
Решительным и поворотным моментом во всем учении о мышлении и речи, по мнению Л. С. Выготского, будет переход к анализу, расчленяющему сложное целое — «речевое мышление» — на «единицы». Под единицей он понимает такой продукт анализа, который в отличие от элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимой живой частью этого единства [Выготский, 1956, с. 48].
* * *
Поскольку единое «языковое мышление» может быть расчленено различным образом в зависимости от задач исследования (при изучении мышления как такового — иначе, чем при исследовании языка; при исследовании современного состояния языка и мышления — иначе, чем при исследовании их генезиса, и т. д., и т. п.), постольку и ответ на вопрос о взаимоотношении языка и мышления будет различным в зависимости от того, в какой связи мы берем это взаимоотношение, т. е. в зависимости от того, в каких целях и как производилось исходное расчленение.
Наша задача отличается от той, которая стояла перед Л. С. Выготским. Поэтому, соглашаясь в целом с произведенным им разделением всех точек зрения на два основных направления, мы хотим подчеркнуть другую сторону вопроса, а именно: существеннейшим моментом всех теорий, относящихся ко второму направлению, является не то, что представители этого направления вообще разделяли язык и мышление, и не то, что они указывали на это различие (оно, без сомнения, есть) и рассматривали язык отдельно от мышления, а то, что они и то и другое представляли как равноправные в смысле вещественного существования и рядом положенные в сознании процессы или явления. Именно это «субстанциальное», как мы будем говорить, понимание языка и мышления, слова и значения и определяет, с нашей точки зрения, их метод исследования.
Субстанциальный подход к анализу слова, казалось бы, оправдывается следующим рассуждением: любое слово, взятое само по себе, как природное явление, т. е. как движение, звук или письменный знак, не имеет ничего общего с «природой» обозначаемого им объекта. Слово становится словом, получает смысл и значение лишь тогда, когда оно связано с соответствующими восприятиями и представлениями. Значение слова, таким образом, заключено в процессах чувственности, а последние являются такими же субстанциальными, вещественными элементами, как языковые знаки, и лежат действительно наряду с последними.
Однако это рассуждение справедливо лишь в определенных, весьма узких границах. Его недостаточность, можно сказать неправомерность, становится ясной уже после самого поверхностного взгляда на современное научное мышление. Ведь очень много слов — большинство современных научных терминов — не связаны непосредственно с ощущениями, восприятиями, представлениями и не имеют никаких непосредственно им соответствующих чувственных эквивалентов (например, термины «энергия», «потенциал», «заряд» и др.). Таким образом, значение таких слов не может заключаться в чувственных субстанциальных процессах, но в тоже время лежит в рамках сознания (с точки зрения традиционного расчленения оно есть сама мысль) и должно быть там обнаружено.
Чтобы обойти это затруднение, вводится особое явление сознания — «понятие», то специфически мысленное отображение сторон объективного мира, которое и составляет значение слов языка, не имеющих непосредственных чувственных эквивалентов (см., например, [Смирницкий, 1955]). Но, как легко заметить, затруднение этим не разрешается. Тотчас же возникает вопрос: а что представляет собой это «понятие»? Может ли оно рассматриваться как субстанциальное образование? Если да, то нужно внести существенные коррективы в павловское физиологическое учение: наряду с сигналами первого и второго порядка надо ввести сигналы третьего порядка, которые и дадут нам субстрат понятия, субстрат мысли. Если нет — тогда остается в силе все тот же вопрос: а что представляет собой мысль, мышление и соответственно специфически мысленное значение слова? Если мышление и соответственно специфически мысленные значения слов языка не являются субстанциальными образованиями, лежащими наряду со знаками, то что же они представляют собой? Этот вопрос остается открытым.
Не решает его и Л. С. Выготский. Он видит специфику мышления в значении знака языка: «… именно в значении слова завязан узел того единства, которое мы называем речевым мышлением» [Выготский, 1956, с. 49]. Но это значение Л. С. Выготский понимает и рассматривает в конечном счете так же, как и представители критикуемого им второго направления, т. е. как самостоятельное, вне и помимо знака существующее субстанциальное образование. Такое понимание значения знака языка в конце концов с неизбежностью приводит Л. С. Выготского к неправильным с точки зрения его собственного метода выводам о существовании так называемой доречевой стадии в развитии мышления, о различии генетических корней мышления и речи и т. п. [Выготский, 1956, с. 119, 320]. Л. С. Выготский, таким образом, начинает с утверждения о неразрывном единстве знака и значения, в этом единстве видит специфику мышления, но, в конце концов, из-за субстанциального понимания природы значения знака приходит к выводу, что значение может и даже должно было существовать отдельно от своего знака, мышление — отдельно от языка.
И надо заметить, что ничто не меняется в способе исследования, а поэтому и в его результатах, когда некоторые ученые, по-прежнему понимая язык и мышление и, соответственно, знак и значение слова как субстанциальные элементы исследуемого целого, называют связь между ними «тесной», «органической» или даже «диалектической». Взяв в качестве исходных абстракций язык и мышление, разложив тем самым «языковое мышление» на два однородных и равноправных в отношении друг к другу элемента, исследователь не может сделать ничего другого, как установить между этими элементами чисто внешнее, механическое взаимодействие: «Язык и мышление возникли и развивались вместе. Развитие мышления помогало совершенствоваться языку, и, наоборот, совершенствование языка способствовало дальнейшему развитию мышления. Язык сыграл огромную роль в развитии человека, человеческого мышления» [Язык… 1952]. Здесь каждая фраза построена в плане понимания языка и мышления как рядом существующих субстанциальных элементов: два разных явления развиваются «вместе», развитие одного «помогает», «способствует» совершенствованию другого и т. д., и т. п.
Весьма показательны результаты, к которым приходят исследователи, исходящие из субстанциального разложения «языкового мышления». Большинство из них рассуждают примерно так. В настоящее время содержание языкового общения людей между собой состоит в обмене мыслями. Таким образом, язык уже предполагает мысль, сложившееся мышление. Но что представляет собой мышление, взятое как логически первое по отношению к языку? Ведь только язык, согласно Марксу, является непосредственной действительностью мысли. Без языка и вне языка мышления не существует. Следовательно, не только язык предполагает существование мышления, но и мышление предполагает существование языка.
Как видим, действительное отношение между языком и мышлением по-прежнему остается неясным, и тогда исследователь конструирует особое, «диалектическое», по его мнению, взаимоотношение, скрывая за этим названием от себя и других неумение решить проблему: «…Появление и развитие звукового языка теснейшим образом связано с появлением и развитием человеческого мышления. Язык… не может существовать, не являясь средством общения, средством обмена мыслями в обществе. Мышление человека, в свою очередь, не может существовать без языкового материала… где нет мысли, там также нет языка. Мышление и язык находятся в диалектическом единстве» [Кондрашов, 1950, с. 179]. Такими или подобными рассуждениями заканчиваются почти все теоретические построения о связи языка и мысли, основанные на «субстанциальном понимании» этих двух явлений. Язык предполагает мысль, мысль предполагает язык — таков результат этих построений. Исследователи утверждают единство, связь того, что сами так неудачно раздробили. Они выдают за результат исследования то, что было известно с самого начала, или, вернее, то, что они с самого начала постулировали. Никаких других результатов они не получают и не могут получить, ибо существующее понимание языка и мысли, знака и его значения как субстанциальных элементов заранее делает невозможным изучение действительных внутренних отношений «языкового мышления».
Таким образом, вопрос упирается в то, чтобы найти новый способ анализа, новую форму разложения исследуемого объекта — «языкового мышления».
* * *
Прежде всего мы должны обратить внимание на то, что исследуемый нами предмет — мышление — выступает в двух формах: 1) как образ определенных объектов, их изображение или отображение, т. е. как фиксированное знание, и 2) как процесс или деятельность, посредством которой этот образ получается, формируется; другими словами, мышление выступает, во-первых, как знание, во-вторых, как познание. Исследовать мышление необходимо в обеих формах его проявления. Однако при этом надо учесть, что сначала должно быть исследовано и зафиксировано в мысли мышление как знание, но никак не сам процесс познания, ибо всякое движение, всякий процесс сначала выявляется нами в виде последовательности состояний, являющихся каждый раз результатом процесса, а это и будут в данном случае формы знания. Особым образом направленный логический анализ этих состояний должен затем вскрыть в них форму самого процесса. Но это уже дело дальнейшего исследования, а начать можно только с фиксированных состояний процесса, т. е. с определенных, фиксированных в мысли форм знания. Таким образом, чтобы исследовать и воспроизвести в мысли мышление как процесс познания, мы должны сначала исследовать и воспроизвести в мысли мышление как совокупность различных форм знания.
Исследование знания, в свою очередь, может начаться только с того, в чем оно проявляется на поверхности, — с непосредственно созерцаемого. Таким материалом в данном случае является язык — непосредственная действительность мысли.[198]
Здесь сразу надо оговориться: этот термин — «язык» — не имеет точно установившегося значения и употребляется no-разному. Мы будем понимать под языком систему общественно-фиксированных знаков — движений, звуков, письменных изображений, — служащую для общения людей между собой и для отражения объектов природы. К языку, таким образом, надо будет отнести, наряду со словами обычного, разговорного языка, математические символы и формулы, химические формулы, формулы логики и политэкономии, графики и т. п. Даже геометрические фигуры, изображения треугольников, кругов, пирамид и т. п. в определенной связи могут быть и становятся знаками языка.[199] Под знаком языка в этой связи мы будем понимать вообще всякое движение, звучание, письменное изображение, имеющее самостоятельное значение. Мы будем называть такой знак «словом», даже если это обозначение элемента в структурной формуле химии.
Итак, приступая к исследованию мышления, мы должны начать с непосредственно созерцаемого, с языка, или, если брать отдельные единички языка, — со слова. Слово как реально данный и непосредственно созерцаемый объект есть всегда какое-то материальное явление: движение, звук, письменное изображение. Но ни движение, ни звук, ни письменное изображение, взятые как природные явления, вне всяких отношений к человеческой общественной деятельности, не являются знаками языка, словами. Далее, большинство знаков языка, взятых как природные явления, не имеют ничего общего с материальным строением объектов, которые они обозначают. И, несмотря на это, наше мышление — одна из форм отражения действительности — выражается и, можно сказать, осуществляется в языке. Значит, язык и каждая его единичка — слово — содержит, кроме знака как такового — движения, звучания, письменного изображения, — еще нечто, что, собственно, и позволяет ему быть отражением.
Мы говорим: знак языка имеет значение и поэтому он отражает или выражает. Это значение входит в состав слова, является «моментом» его структуры, таким же ингредиентом, как и сам знак (См. [Смирницкий, 1955, с. 82]). Но чем является это значение, что оно представляет собой? Как мы уже выяснили, для многих слов это значение не может быть каким-либо особым субстанциальным образованием, лежащим в сознании наряду со знаком. Но если значение не является субстанцией, то оно может быть только отношением, только связью знаков языка с чем-то другим.
Конечно, можно было бы рассмотреть слово как сложное образование, включающее в себя, во-первых, знак, во-вторых, то, к чему этот знак относится, например представление, если таковое у этого знака имеется, и, наконец, связь между ними; т. е. можно было бы рассмотреть слово как образование, включающее три ингредиента, и назвать значением знака не саму связь, а то, к чему этот знак относится, то, с чем он связан, по схеме:
Тогда структура слов, непосредственно связанных с чувственными образами, выразилась бы схемой:
Но само чувственное значение — и мы, материалисты, должны особенно подчеркивать этот момент — всегда является лишь средством связи знака с различными объектами действительности, т. е. всегда в подобного рода случаях имеет место взаимосвязь вида:
объективное содержание — чувственное значение — знак
где само чувственное значение выступает лишь как момент связи с объективным содержанием; поэтому, чтобы ограничить элементы, образующие слово, исключительно рамками сознания и не втиснуть туда весь объективный мир, придется ограничить значение слова только тем, с чем знак связан непосредственно. Однако такое решение вопроса — удовлетворительное, пока мы имеем дело со знаками, имеющими непосред-ственночувственные эквиваленты, — становится неудовлетворительным, как только мы переходим к знакам, не имеющим таких эквивалентов, например к знаку механического ускорения а, к знаку энергии Е и т. п. Эти знаки соотносятся со своим объективным содержанием через посредство ряда других знаков по схеме:
Например, значение знака «а» устанавливается путем соотнесения его с математическим отношением знаков v и t; значение знака v, в свою очередь, устанавливается путем соотнесения его с математическим отношением знаков s и t, и только последние связаны с определенным чувственно-данным материалом. Но и этот чувственный материал ни в коем случае нельзя рассматривать как значение знака n, в лучшем случае — как значение знаков s и t (т. е. в схеме — не 3-го знака, а 1-го знака).
Если мы примем положение, что значение знака языка заключено только в том, что связано с ним непосредственно, нам придется сказать, что значение ряда знаков языка заключено в других знаках. Положение явно неприемлемое, если мы хотим рассматривать знаки языка как отражение объективной действительности. И в то же время мы не можем сказать, что значение знаков языка составляют чувственные образы, например значение 3-го знака — чувственные образы, связанные с 1-м знаком. Волей-неволей, следуя трехчленной схеме
приходится относить к значению объективное содержание, реальные предметы и их стороны. Опять-таки неприемлемое положение, если мы хотим рассматривать значение слова как момент его внутренней структуры.
Итак, мы не можем ограничивать значение слова только тем, с чем непосредственно связан его знак; не можем считать значением и те чувственные образы, посредством которых знаки языка относятся к своему объективному содержанию. Мы вообще не можем принять трехчленной структуры слова, а должны принять двучленную и в качестве значения знака языка взять всю «цепь соотнесения» знака с его объективным содержанием, всю связь (или, вернее, все связи — так как их может быть несколько) знака с объективным содержанием, все моменты, все ингредиенты этой связи, сколько бы их ни было и какими бы они ни были.
Из всего этого следует, что различные знаки слов имеют различного рода связь с объективным содержанием, в зависимости от того, каково это содержание и как оно было выявлено. Задача дальнейшего исследования значения слов поэтому состоит в исследовании типов этой связи, пока же нам важно утвердить общее положение: значение слова есть сама связь, сама соотнесенность его знака с действительностью; соответствующая взаимосвязь может быть изображена схемой:
Данное соображение и определяет характер, структуру того расчленения, тот прием анализа, который мы хотим применить при исследовании «языкового мышления». В отличие от приема разложения на «субстанциальные элементы» он может быть обозначен как анализ, выделяющий в «единице» сложного «структурного» целого «материал» и «функции».
Приступая к исследованию какого-либо объекта, находящегося внутри более сложного целого, мы можем различить в нем две стороны, два момента: «функцию» и «материал». Понятия «функции» и «материала» относительны. Функция есть свойство какой-либо части целого, возникающее за счет его связей с другими частями целого. Один объект может содержать в себе ряд различных функций. Это значит, что один объект может находиться в многоразличных отношениях с другими объектами. Выделив в нем одну какую-либо функцию, одну связь, мы получаем в остатке материал. Но этот «материал» какого-либо объекта часто сам может рассматриваться как самостоятельный объект, идеальный или реальный, существовавший именно в такой форме раньше или даже существующий сейчас. Он может быть вторично подвергнут тому же анализу и, в свою очередь, разложен на функцию и материал. Последовательное применение этого приема позволяет постепенно выделить, абстрагировать различные функции исследуемых объектов и рассмотреть их по отдельности или в особых, определяемых последовательностью расчленения комбинациях. В конечном пункте расчленения исследователь получает «чистую субстанцию» анализируемого объекта с его свойствами-атрибутами и ряд свойств-функций, которые несет на себе эта субстанция в связи с другими явлениями и процессами.
С этой точки зрения язык представляет собой систему строго фиксированных звуков, движений, письменных знаков, несущих на себе ряд функций. Из всей массы выделенных различными исследователями функций языка мы берем три, на наш взгляд, основные и достаточно общие функции: коммуникативную, экспрессивную и функцию отражения. В соответствии с этим мы будем определять язык как систему строго фиксированных звуков, движений, письменных знаков, которые несут на себе эти три функции.
Каждая из указанных функций языка в определенных границах может рассматриваться независимо от других и, таким образом, образует особый предмет исследования. В частности, строя упрощенную модель языка, мы можем ограничиться двумя из основных функций: коммуникативной и функцией отражения.
Называя «отражение» функциональным свойством языка, мы тем самым подчеркиваем, что это свойство не присуще субстанции языка как таковой, т. е. движениям, звукам и письменным знакам, а возникает только в отношении к каким-то другим явлениям, только в определенной связи. Но это значит, что, имея своей задачей исследование какой-либо функции языка, мы не сможем ограничиться в качестве объекта исследования самим языком, а должны будем перейти к более сложному целому, внутри которого язык существует и несет эту функцию.
Когда в исходном пункте нам дано сложное целое и мы должны перейти к исследованию отдельного его элемента, но к такому, при котором этот элемент рассматривается не как простое изолированное целое, а именно как элемент сложного целого, понятие о функциональном свойстве этого элемента выступает как способ изолировать часть целого, вырвать ее из связи с другими частями целого, в то же время сохраняя знание об этих связях. Наоборот, чтобы исследовать и понять какую-либо функцию, фиксированную первоначально в форме свойства выделенного объекта исследования, мы должны перейти от этого объекта к более сложному целому, частью которого он является. И только так может быть понята какая-либо функция. Иначе говоря, исследовать определенную функцию какого-либо объекта — значит исследовать определенные связи, в которых этот объект существует внутри более сложного целого. Анализ отношений, внешних для этого объекта, оказывается в то же время анализом внутренних связей какого-то более сложного целого и только в этой последней форме может быть осуществлен.
Но такой вывод заставляет нас, по существу, изменить предмет исследования: чтобы исследовать функцию отражения языка, мы должны исследовать те связи, в которых существует язык и которые делают его отражением. Это будет переход от собственно языка к чему-то другому, к какому-то новому структурному предмету исследования, к связи языкового отражения. То же самое нужно сказать и относительно коммуникативной функции языка.
Таким образом, мышление оказывается не субстанциальным образованием и не атрибутивным свойством какой-либо субстанции, а взаимосвязью особого рода, элементами которой являются знаки языка.
В этой связи надо заметить, что понятие «язык» может употребляться и употребляется нами в двух различных смыслах: во-первых, язык рассматривается как сложное целое, включающее в себя мышление и коммуникацию в качестве своих сторон-функций; во-вторых, язык рассматривается как часть взаимосвязи мышления (или коммуникации). В зависимости от того, что является предметом нашего исследования — язык как таковой или взаимосвязь мышления, — мы употребляем понятие «язык» в том или другом смысле.
* * *
Как мы уже говорили, взаимосвязь может анализироваться с двух точек зрения: во-первых, как взаимосвязь, в которой мышление выступает в качестве образа определенного объективного содержания, как его изображение или отражение, т. е. в качестве фиксированного знания; во-вторых, как взаимосвязь, в которой мышление выступает в качестве процесса или деятельности, посредством которой этот образ получается, формируется. Эти два аспекта исследования мышления, несмотря на тесную взаимосвязь, различны.
Возьмем, к примеру, два предложения: «Кислота содержит водород» и «Площадь круга равна πR2». Мы можем рассмотреть каждое из этих предложений как уже установленную, твердо фиксированную и постоянно осуществляющуюся взаимосвязь определенных признаков. Тогда в отношении к единичным реальным объектам эти предложения выступают как форма общего знания, как форма понятия: если это кислота, то она содержит водород; если это круг, то его площадь равна πR2. В данном случае каждое из этих предложений берется как уже сложившееся, готовое целое и как целое относится к тем или иным реальным объектам. Но мы можем рассмотреть каждое из этих предложений и с другой точки зрения: как протекающий процесс, как акт установления связи. При таком способе рассмотрения нас прежде всего будет интересовать вопрос: как, на основании чего мы могли осуществить эту связь, как, на основании чего мы произвели сам акт связывания. С этой точки зрения оба приведенных предложения выступают как элементарные акты процесса познания, как суждения.
Необходимо заметить, что сами по себе, как группы определенных знаков, эти предложения не являются ни формами понятия, ни суждениями. Это — предложения. Чтобы рассмотреть их как формы понятия или как суждения, мы должны взять их в определенном отношении к объективному содержанию, т. е. от языка как такового, от языковых связей мы должны перейти к взаимосвязи:
В обоих случаях, рассматривая какую-либо группу знаков как знание или как процесс познания, мы будем анализировать указанную взаимосвязь, но будем анализировать ее по-разному и выражать результаты исследования в разных понятиях. В первом случае мы должны будем рассмотреть логическую структуру этой знаковой системы, ответить на вопрос, что получилось и как (после определенных процессов мышления) это «что-то» относится к своему объективному содержанию, т. е. должны будем дать общую характеристику логических категорий. Во втором случае мы должны будем ответить на вопрос, как получилась эта знаковая система, в результате каких процессов или действий мышления. В первом случае мы будем говорить о логической структуре форм знания и понятий, во втором — о логических процессах: операциях, приемах и способах исследования.
Выделение и исследование логической структуры знания как такового и процессов познания как таковых предполагает выработку особых абстракций и введение особой символики для их выражения. Это позволит исследовать мышление в его собственной специфике независимо от особенностей языковой формы его выражения. Существующие в настоящее время понятия так называемой формальной логики не могут обеспечить такого исследования, так как по своему содержанию они еще не отдифференцировались от понятий языковых форм. Смешение содержания тех и других проявляется, в частности, в традиционной параллели: слово — понятие, предложение — суждение, сложное предложение — умозаключение. И это не только параллель. Исходя из нее, в логике обычно называют понятием все то, что выражается в отдельном термине, суждением — все то, что выражено в предложении, а умозаключением — ряд связанных между собой предложений. С нашей точки зрения, понятие может быть выражено различными языковыми формами: отдельным словом (стол, энергия, желтый), предложением (кислота содержит водород), формулой зависимости (у — f[x1x2…]) или формулой состава (Н2S04), целой системой связанных между собой предложений, например три тома «Капитала» К. Маркса, дающие понятие о буржуазных производственных отношениях, и т. д., и т. п. Различие языковых форм выражения этих понятий указывает на различие их логической структуры, но, чтобы отразить эти логические различия, нужны особые, специфически логические абстракции.
* * *
Исследование логической структуры форм знания и процессов познания позволит нам отделить специфически мысленное значение слов от чувственного их значения, тем самым — понятие от представления. Дело в том, что не всякая взаимосвязь типа:
является специфически мысленной взаимосвязью. Например, взаимосвязь
не является мысленной взаимосвязью и не дает понятия о предмете. Так, ребенок в возрасте полутора лет легко запоминает названия предметов, которыми пользуются взрослые, и может просить эти предметы, более или менее отчетливо выговаривая название. Но хотя ребенок прекрасно знает, какой именно предмет он просит, хотя у ребенка существует устойчивая связь между чувственным образом этого предмета и его названием, тем не менее у него нет понятия о называемом предмете и не будет такового, пока он не усвоит назначение и способ использования этого предмета в практической жизни.
Дело в том, что мысль имеет не только свою особую форму, в которой она отражает объекты природы, но и свое особое объективное содержание, она органически связана с процессами труда и берет объекты природы с такой стороны и в такой взаимосвязи, которая, во-первых, не может возникнуть при чисто умозрительном отношении к окружающему миру, во-вторых, часто вообще недоступна чувственному отражению. Но это возможно и может быть объяснено только в предположении, что мышление представляет собой особую деятельность (с образами объектов природы), отличную от деятельности чувственного отражения. А это, в свою очередь, значит, что знаки языка, выражающие понятия, относятся к своему особому объективному содержанию особым образом, т. е. имеют особое специфически мысленное, понятийное значение.
В этой связи должно быть уточнено то положение о взаимоотношении языка и мышления, которое мы выдвинули раньше. Приступая к исследованию мышления, мы полагали, что всякая мысль выражается в языке, всякое языковое проявление есть осуществление мысли. В плане филогенеза это совершенно верно, в плане онтогенеза, а следовательно, и в плане структуры существующего — не всегда. Чтобы учесть и эти проявления, мы должны несколько видоизменить постулированное вначале положение: не всякое языковое проявление есть выражение мысленного образа, понятия; в знаках языка в ряде случаев могут выражаться и чувственные образы в чистом виде. Чтобы дать более точное определение мышления, надо охарактеризовать его со стороны составляющих специфических процессов и их результатов — понятий, т. е., как мы уже сказали, надо исследовать логическую структуру понятий и образующих их процессов. Тогда мышление будет охарактеризовано само по себе, в своей собственной специфике.
* * *
Мы рассматривали проблему взаимоотношения языка и мышления только с одной стороны. Мы совсем не касались вопроса о взаимоотношении процессов отражения и процессов коммуникации, хотя этот вопрос, без сомнения, целиком и полностью входит в рассматриваемую проблему; мы совершенно не затрагивали вопроса об отношении собственно мышления, собственно мыслительной деятельности к речевой деятельности, жестикуляции и процессам письма, точно так же как и вопроса об отношении процессов экспрессии к языку и мышлению. По существу речь шла об одном узком аспекте проблемы — о характере исходного расчленения единого, внутренне цельного, но уже отвлеченного, обработанного исследователем и в этом смысле идеального объекта — «языкового мышления» при выделении в нем мышления как такового. В этой связи, естественно, нельзя ставить во всем его объеме и решать вопрос об отношении языка как предмета языкознания к мышлению как предмету логики. Мы изложим лишь несколько общих соображений по поводу этой проблемы с точки зрения разбираемого исходного расчленения «языкового мышления».
Наше исследование начинается с особым образом направленного, особым образом построенного анализа языка. Рассматривая язык как определенный материал, несущий на себе функции, коммуникативную и «отражения», мы направляем исследование на процессы коммуникации и процессы отражения. В результате этого меняется непосредственный предмет исследования: от языка как определенной фиксированной системы знаков мы переходим к процессам, в которых эта система участвует и реализуется. Это есть одновременно и отход от изучения языка как такового, и углубление в изучение языка, так как принципы построения языковой системы, принципы ее функционирования и развития могут быть понятны только на основе исследования процессов коммуникации и отражения как таковых. В этой связи, конечно, может быть поставлен вопрос что, собственно, должно изучать языкознание: процессы коммуникации, процессы отражения, или сфера его исследования уже и ограничивается языком как фиксированной системой знаков? входит ли сюда исследование речевых особенностей? и т. д., и т. п.
Этот вопрос можно было бы поставить, но он был бы искусственным. В данном случае мы приходим к выводу, что исследование языкового отражения (мышления) и языковой коммуникации неизбежно начинается с исследования языка, что последнее на определенном этапе должно превратиться в исследование процессов отражения и коммуникации как таковых, взятых изолированно друг от друга и изолированно от языка; что затем, после того как будет построена теория логических категорий, теория процессов мышления, теория коммуникации и экспрессии и т. п., нужно будет «вернуться» и рассмотреть язык как тот материал, в котором осуществляются одновременно все эти связанные друг с другом процессы.
Таким образом, описав «внешние свойства» различных языковых систем, исследователь должен «спуститься» к тем процессам, которые лежат в основе языка, исследовать закономерности этих процессов как таковых и уже затем из них «вывести» закономерности языковой системы вообще и особенности того или иного ее частного проявления. Общая структура подобного исследования, таким образом, предполагает мысленное, абстрактно-логическое движение от результатов каких-то процессов к самим этим процессам и от процессов — опять к результатам. В итоге мы получим новое понятие о языке, который, если мы берем простейшую модель, предстает перед нами как двуединый процесс отражения — коммуникации; мы получим новую, синтезированную и обобщенную теорию «языковой деятельности», объясняющую все найденные уже в языкознании закономерности. На основе этой обобщенной теории можно будет, по-видимому, построить теорию «рациональной языковой системы», наиболее приспособленной к процессам отражения и коммуникации.
О принципах анализа объективной структуры мыслительной деятельности на основе понятий содержательно-генетической логики[200]
1. Зависимость педагогики и педагогических исследований от психологических знаний обнаружилась уже давно, и сейчас никто не оспаривает положения, что дальнейшее развитие педагогики как науки возможно только на основе психологии. Но сама по себе психология не дает еще той системы знаний, которая может служить ядром для научной разработки педагогики. Не менее важную роль в этом должны играть две другие науки — логика и социология. Более того, развитие самой психологии оказывается зависимым от разработки социологии и логики. И важнейшая задача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы осознать это и сделать практическим принципом исследовательской работы.
2. Отношение логики к психологии и педагогике менялось на протяжении истории. Последняя четверть XIX и первая четверть XX столетия характеризуются скорее обособлением этих наук, нежели их сближением и взаимосвязью. И это вполне объясняется общим ходом и тенденциями их развития. С одной стороны, психология должна была отделиться от философии и логики, отстоять свою самостоятельность — и без этого было бы невозможно ее дальнейшее нормальное развитие, с другой стороны, традиционная логика не могла удовлетворить запросов психологии и педагогики. Все это привело к разрыву и даже к конфликтам в отношениях между логикой и психологией. Но уже к 30-м годам собственное развитие психологии со всей остротой поставило вопрос о связи с логикой как самостоятельной наукой [1963 а].
3. Вряд ли можно говорить сейчас, что педагогика уже пришла к осознанию своей действительной связи с логикой. Но она идет к этому. И важнейшим обстоятельством в этом процессе является все большее осознание того факта, что специальные науки, такие, как математика, физика, химия, история и др., не могут ответить на вопрос: чему учить? Сейчас все больше выясняется, что быстрое и эффективное обучение и воспитание подрастающих поколений нуждается в операциональном представлении как целей образования, так и программного содержания его [1960 а"; Юдин Э., 1963], а специальные науки не дают его. Накопленные ими знания могут выступать лишь в качестве объектов для дальнейшей обработки.
4. Операциональное представление содержания образования может дать только одна наука — логика. Но как традиционная формальная, так и «новая» математическая логика лишь в очень малой степени могут это сделать. Для решения проблем, встающих в контексте психологических и педагогических исследований, пригодна лишь содержательно-генетическая логика. Развитая на чисто теоретической основе в связи с проблемами методологии науки, она находит сейчас все большее приложение к сфере педагогики.
Разработанные к настоящему времени понятия содержательно-генетической логики излажены в другом месте [1962 а*]; задача настоящего сообщения состоит в том, чтобы показать, какую часть из общего предмета педагогического исследования берет логика и как некоторые из ее принципов и понятий могут применяться к этому предмету.
* * *
Основным в выделении предмета логического исследования является понятие «нормы» деятельности. Говоря о «норме», мы имеем в виду тот объективный состав и ту структуру деятельности, которые только и могут обеспечить решение задачи, которые, если можно так выразиться, необходимы и достаточны для решения. В этом отношении «норма» не зависит от субъективных средств отдельных индивидов и поэтому может рассматриваться вообще безотносительно к индивидам.
«Нормы» деятельности в своей совокупности противостоят подрастающим поколениям в качестве образцов деятельности, которыми нужно «овладеть». Поскольку сама деятельность возможна лишь в связи со средствами производства и различными знаковыми системами, то те и другие выступают как формы «опредмечивания» деятельности вообще и норм деятельности в частности. Поэтому грубо, в первом приближении, можно сказать, что нормы деятельности выступают перед подрастающими поколениями в виде средств производства и знаковых систем, вплетенных в ткань строго определенной деятельности. Ребенок должен овладеть общественно-фиксированными «нормами» деятельности, а для этого - усвоить или освоите предметные и знаковые системы, которые в них входят. Механизмы овладения и усвоения, применяемые индивидами, будут определять тот «субъективный способ», каким отдельные индивиды будут в дальнейшем осуществлять личную деятельность. Последняя, очевидно, уже не может быть взята безотносительно к субъективности. Но для того чтобы изучить механизмы и закономерности процессов овладения и усвоения, нужно предварительно выяснить, чем овладевают и что усваивают, то есть нужно предварительно выделить и описать «нормы» деятельности. В этом и состоит задача логического анализа в контексте психолого-педагогических исследований, и она определяет отношение его к психологии и педагогике.
* * *
Эмпирическим материалом для логического исследования, охарактеризованного выше, служат, во-первых, зафиксированные в форме знаковых текстов процессы решения задач, во-вторых, системы знаний. Исходными являются процессы решения, а системы знаний рассматриваются уже на их основе, как вторичные образования.
В этом анализе необходимо резко различать и в каком-то смысле даже противопоставлять друг другу производственные (включая сюда и познавательные) и учебные задачи. Процесс решения познавательных производственных задач рассматривается как замещение исходной объективной ситуации (она берется всегда в каком-либо контексте деятельности) «выражениями» какой-либо знаковой системы с последующим формальным движением в этой знаковой системе.
Вот один из простых примеров подобной деятельности. Ребенку дается задание: «Принеси из «магазина» (соседняя комната) столько тарелочек, чтобы хватило всем куклам в этой и в другой комнате». Ребенок считает кукол в этой комнате, потом в другой, складывает оба числа, идет в «магазин», отсчитывает тарелочки в соответствии с этим числом и затем расставляет их перед куклами. Схематически мы изображаем этот процесс решения задачи так:
где х и у — совокупности кукол в комнатах, Δ1 и Δ2 (читается: «дельта») — операция пересчета, (А), (В) и (С) — числа,
(читается: «набла») — операция отсчета, z — все множество взятых тарелочек. Нам важно заметить, что при таком подходе процесс мыслительной деятельности ребенка (или процесс решения задачи) предстает как двухплоскостное движение: в нижней плоскости лежат реальные объекты — куклы, тарелочки, в верхней плоскости — объекты совсем другого рода, цифры, и с объектами каждой плоскости производятся свои специфические действия (подробнее об этом см. [1960 а*; 1962 с, II–III]).
Мы привели один из самых простых примеров, и поэтому нам удалось изобразить процесс решения в двухплоскостной схеме. Но подавляющее большинство производственных задач может быть решено только в том случае, если мы произведем не одно, а целый ряд как бы надстраивающихся друг над другом замещений. Тогда мы получим уже не две, а три, четыре, пять или даже еще большее число плоскостей в схеме процесса решения задачи и должны будем говорить о слоях решения, каждый из которых включает две связанные между собой плоскости [1960 а*]. Характерными примерами процессов такого вида являются производственные задачи, решаемые с помощью средств геометрии. Важно специально подчеркнуть, что на определенных этапах решения этих задач знаковые формы, замещающие исходные объекты (такими знаковыми формами могут быть, к примеру, чертежи), рассматриваются как объекты особого рода (функциональные объекты в системе слоя) и к ним применяется деятельность, внешне напоминающая содержательные преобразования самих объектов. Но по сути дела она остается знаковой деятельностью, применяемой к знакам. Непонимание этого момента приводило ко многим затруднениям и ошибкам как в истории науки, так и в обучении (подробнее эти вопросы на материале геометрического чертежа рассматриваются в [Разин, 1963]).
Процессы решения учебных задач, заданных определенным текстом условий, рассматриваются нами не как замещения объективных ситуаций знаковыми системами, а как переходы от текста условий к выражениям тех знаковых систем, в которых эти задачи могут быть решены, и еще дальше — как переходы от этих знаковых систем к объективным ситуациям [1962 с, II, IV–V]. Нам важно подчеркнуть, что и в этом случае процесс решения задачи выступает минимум как двухплоскостное движение: одну плоскость образует текст условий, а другую — привлекаемая для решения знаковая система. (Для упрощения рассуждения мы выше просто не касались тех движений в знаковых системах, которые обязательно входят в каждый процесс решения.)
Одна и та же задача может решаться с помощью разных знаковых систем и, следовательно посредством разных деятельностей. И это относится не только к «формальным» движениям внутри знаковых систем; с изменением системы меняется и характер той деятельности, посредством которой осуществляется переход от условий задачи к знаковым выражениям: для одних систем она будет простой и компактной, для других — сложной, многократно опосредованной. Это различие в деятельности перехода определяется отношением знаковой системы к задачам, ее, если можно так сказать, «возможностям» в отношении этих задач. С этой точки зрения, как выяснилось, можно говорить о «совершенстве» и «несовершенстве» знаковых систем, об их «адекватности» и «неадекватности» задачам. Покажем это на нескольких примерах.
Арифметические задачи могут решаться с помощью нескольких различных знаковых систем, и соответствующие деятельности образуют то, что называют алгебраическим способом решения, арифметическим способом или способом предметного моделирования [1962 с, II–V]. Сравним два первых способа между собой.
Начнем с алгебраического. В случае простых задач переход от их условий к выражениям знаковой системы представляет собой последовательное обозначение (или отображение) элементов текста условий в знаках системы. К примеру, текст условий задачи «На дереве сидели птички |1, потом прилетели еще |2 3 |3, и стало |4 9 |5» отображается в пятиэлементном выражении «Х+3=9». С точки зрения последовательности отображения и усваиваемого в самом начале обучения «смысла» знаков «+» и «—» структура алгебраического выражения «изоморфна» структуре текста (мы изобразили последнюю вертикальными линиями членения с индексами). Точнее, наверное, нужно сказать, что построение выражения в алгебраической системе предполагает очень простую («линейную») деятельность «чтения» (то есть расчленения и понимания) текста. Знаки «+» и «—» в алгебраических выражениях (благодаря тому же изоморфному отношению) изображают предметные преобразования совокупностей, описываемые в условиях задачи, или отношения частей к целому и целого к части, непосредственно следующие из текста условий. (Они не являются знаками операций, ибо никаких арифметических преобразований в этой знаковой системе и не нужно делать; в этом отношении они принципиально отличаются от арифметических знаков «+» и «—», имеющих чисто оперативный смысл.) После того, как выражение алгебраической системы получено, оно преобразуется (по правилам системы) к виду, который может быть отождествлен с каким-либо выражением арифметической системы. Например, алгебраическое выражение «Х+3=9» преобразуется к виду «9–3=Х», а это последнее замещается арифметическим выражением «9–3=». После перехода в арифметическую систему производятся собственно арифметические операции — замещение суммы или разности одним числом в соответствии со знаком полученного выражения: в данном примере разность 9–3 замещается числом 6. Наглядно-символически весь процесс может быть изображен в трехплоскостной схеме вида:
Таким образом, и здесь, в учебных задачах, процесс решения складывается не просто из двух плоскостей, а предполагает по меньшей мере два слоя движений (на самом деле их еще больше, так как мы пока совсем не учитывали правил, по которым строятся действия внутри самих знаковых систем).
При использовании арифметического способа решения последовательно-поэлементное отображение текста условий задачи в выражение арифметической знаковой системы в большинстве случаев невозможно. Если, например, мы имеем тот же текст условий задачи «На дереве сидели птички, потом прилетели еще 3, и стало 9», то арифметическим выражением, соответствующим ему, будет «9–3=»; как видим, текст условий и выражение различаются в последовательности элементов структур, а также в «смысле» предметных преобразований, описываемых условиями, и арифметических операций. Из существующих десяти вариантов простых арифметических задач (взятых по «смыслу» предметных преобразований и порядку задания в условиях известных и неизвестных значений) только два допускают отображение в арифметических выражениях, «изоморфных» тексту условий. Вообще можно сказать, что арифметические выражения в принципе не являются описаниями или отображениями текста условий задач (и их предметного смысла), а знаки арифметических операций не являются и не должны быть обозначениями или отображениями предметных преобразований совокупностей.
Нам здесь особенно важно подчеркнуть следующее. Если мы возьмем переход от текста условий к выражению арифметической системы как уже совершившийся, то должны будем сказать, что здесь одна система, взятая как целое, «соответствует» другой системе, тоже взятой как целое, а между их элементами, если судить по продукту, нет никаких «соответствий». Именно это обстоятельство создает массу затруднений для детей, приученных переходить из одной системы к другой на основании поэлементных соответствий.
Чтобы облегчить им «работу», существует только один прием: в процесс решения задачи включается еще одна знаковая система, которая ставится как бы между текстом условий задачи и выражениями арифметической системы; это — знаковая система, моделирующая отношение «целое — части».
Подобно всем другим знаковым системам она вводится «со стороны» и как одно целое, как один «трафарет» накладывается на текст условий (или соотносится с ним); можно, наверное, сказать, что различные элементы текста задачи относятся к этой знаковой структуре и благодаря этому получают характеристики «целого» и «частей». Но это значит, что текст условий как одно целое должен быть «понят» с точки зрения «выражения» этой новой знаковой системы; поэлементное отображение условий, подобное тому, какое мы имеем при применении алгебраической системы, здесь полностью исключено.
На первом этапе отображения текста условий в структуре «целое — части» различие известных и неизвестных величин вообще не фиксируется. Но затем сама структура рассматривается относительно текста и выясняется, какие из ее элементов численно определены, а какие нет. На третьем этапе производится чисто «содержательное» выяснение, какой из элементов структуры — целое или часть — неизвестен, и, наконец, осуществляется переход к арифметическому выражению, производимому в соответствии с правилом типа: «Если неизвестно целое, то надо складывать, а если часть, то вычитать».
Наглядно-схематически все «шаги» по установлению этой системы отношений можно изобразить так:
(введение структуры «целое — части» со стороны — нижняя плоскость, — а затем анализ и соответственно «понимание» текста условий с точки зрения этой структуры);
(рассмотрение структуры «целое — части» относительно текста условий, направленное на то, чтобы выяснить, какие элементы этой структуры численно определены, а какие нет);
(построение арифметического выражения на основе проведенного раньше отнесения численных значений из текста к элементам структуры «целое — части» и формальных правил образования арифметических выражений в соответствии с выделенным таким путем содержанием).
В итоге и здесь мы имеем дело с многослойной структурой, но иного характера, чем в алгебраическом способе решения.
Важно также подчеркнуть, что введение промежуточных знаковых систем того или иного типа есть единственное, что обеспечивает переход от одних систем к другим, неизоморфным первым. Это было подтверждено при изучении третьего способа решения простых арифметических задач — так называемого способа предметного моделирования [1962 с], при анализе процессов решения сложных арифметических задач [Москаева, 1963] и деятельности по составлению электрических схем [Лефевр, 1963]. Во всех этих случаях процессы решения выступали как многоплоскостные и многослойные движения.
Из анализа этих и других исследованных к настоящему времени случаев мы делаем общий вывод, что «нормы» не только мыслительной, но и всякой другой деятельности (а также входящие в них знания и системы знаний) являются многослойными образованиями.
Этот тезис означает очень многое для психолого-педагогических исследований. Если там постоянно ставится вопрос о значениях различных знаков и о содержании тех или иных знаний (понятий), то мы утверждаем, что бессмысленно говорить обо всем этом и пытаться разобраться в этом, не учитывая «многослойного» характера норм деятельности и включенных в них знаний. Огрубляя, можно сказать, что «послойный» анализ процессов мышления, знаний и вообще любых деятельностей и есть то, что в первую очередь должен осуществить логический анализ.
В связи с намеченным выше анализом процессов решения задач находятся еще две линии исследования, которые здесь могут быть только названы.
Расчленяя процессы решения, мы постоянно говорили о тех знаковых системах, которые привлекаются в качестве средств решения. Для того чтобы анализ объективной структуры деятельности был полным, мы должны, очевидно, проанализировать и сами эти знаковые системы — их строение, задаваемую ими формальную деятельность, механизмы их происхождения. При этом основным методом изучения становится так называемый «псевдогенетический анализ»; он позволяет выводить самые разнообразные знаковые системы из изменения условий, при которых происходит решение конкретных задач. Примеры применения этого метода были даны в ряде работ [1958 b*; Москаева, 1963; Розин, 1963]; из-за недостатка места мы не можем здесь на нем останавливаться. Нам важно только подчеркнуть, что в этом исследовании идея многослойности норм деятельности получает генетическую интерпретацию и обоснование в понятии «уровня развития деятельности» [1959].
Вторая линия исследований направлена на то, чтобы выяснить, что представляют собой так называемые «способы решения» задач [1963 d; Лефевр, 1963; Москаева, 1963]. Она значительно теснее связана с собственно психологическими проблемами овладения деятельностью и развития структур психики. При этом отчетливо обнаруживается, что выделение области логического анализа ведет также и к тому, что значительно точнее и глубже ставятся проблемы собственно психологического исследования [Непомнящая, 1963].
Заметки о мышлении по схемам двойного знания[201]
1. При решении эмпирических задач мы используем, как правило, несколько различных типов средств, включающих схемы, онтологические картины, знания и т. п., и по-разному комбинируем их, чтобы получить решение поставленной задачи и, соответственно, изображение изучаемого объекта.
Комбинирование схем и знаний как внутри одного типа, так и между разными типами происходит, с одной стороны, в соответствии с общим интуитивным представлением изучаемого объекта, а с другой стороны, по внутренней логике самих средств. Если, к примеру, в средствах заданы какие-то элементарные схемы, вычленяющие в эмпирическом материале и изучаемом эмпирическом объекте какие-то единицы и элементы, то соединение их в более сложные структурные образования происходит по логике возможного и заданного в системе средств комбинирования. При этом, чтобы добиться целостного изображения изучаемой эмпирической реальности, мы устанавливаем между этими элементарными схемами определенные связи. Кроме того, если одни средства задают функциональное расчленение объектной области, а средства другого типа, к примеру, описывают морфологическую структуру внутреннего наполнения функционально выделенных элементов или фиксируют зависимости между «наполнениями» разных функциональных мест, то в изображениях объекта и знаниях о нем могут еще фиксироваться какие-то зависимости, отношения и связи между представлениями разного типа и выраженными в них содержаниями. Все эти отношения, зависимости и связи, а также их изображения не фиксированы заранее в средствах и устанавливаются по формальной необходимости — чтобы получить целостное изображение объекта.
2. Когда изображение объекта получено, то, отвечая на вопрос, каков же объект, мы можем сослаться на него и сказать (правда, в чистом полагании), что объект именно таков, каким он изображен в сконструированной нами схеме или, более общо, в системе полученных нами знаний.
Но очень часто такого полагания просто недостаточно, ибо трудно или вообще невозможно представить себе, что в самом объекте могут существовать и иметь какой-либо смысл многие зависимости, отношения и связи, присутствующие в изображении. Это и понятно, так как они получились, как уже говорилось, по чисто формальной необходимости построить из сравнительно простых элементов и единиц довольно сложное структурное целое. Связи, по смыслу своему, были, прежде всего, формальными и поэтому в известном смысле «фиктивными».
Но вопрос все же остается, поскольку изображения получены и должны так или иначе соотноситься с эмпирической реальностью. По сути дела, это вопрос о «действительном смысле» построенных нами изображений, т. е. об их претензиях на объективность и истинность.
Поэтому, отвечая на этот вопрос, мы уже не можем ограничиться одним полаганием существования в объекте тех зависимостей, отношений и связей, которые представлены на самом изображении, или утверждениями, что эти изображения есть особые проекции действительной структуры объекта. Мы должны построить эту структуру и тем самым показать и доказать, что зависимостям, отношениям и связям, представленным в схеме, действительно соответствуют особые зависимости, отношения или связи в самом объекте, такие, что они правильно изображаются (конечно, в том или ином «повороте» объекта) теми отношениями, зависимостями и связями, которые мы получили при построении нашего изображения.
3. Но чтобы построить подобную структуру, изображающую уже сам объект, в отличие от того знания о нем, которое мы раньше имели, нужны особые средства, иногда одни, а чаще всего — весьма многочисленные и разнообразные.
Не отличаясь иногда по своему материальному оформлению от первых средств и изображений, новые средства и изображения, благодаря условиям той познавательной ситуации, в какой они получились или были введены, выступают в функции методических средств и изображений, дающих представление об объекте как таковом. Таким образом, появляется типичная ситуация двойного знания, в которой объект представлен по меньшей мере дважды, были использованы две группы средств, и как сами изображения, так и средства, на основе которых они строились, выступают в особом функциональном разграничении и противопоставлении друг другу: одни — как форма репрезентации самого объекта, как сам объект, другие — как форма репрезентации знаний об объекте, как знания.
4. Весь этот процесс приводит к значительному и принципиальному усложнению «машины» научного знания, которой мы пользуемся, а вместе с тем и той познавательной ситуации, с которой имеем дело. Получив подобное усложнение структуры, мы можем, в частности, начинать критику построенного нами изображения как несоответствующего или мало соответствующего тому объекту, который изучался. Благодаря этому появляется возможность оценивать одни зависимости, отношения и связи как сугубо формальные и фиктивные, возникшие только в силу формальной необходимости связать в единство, в одно целое исходные элементарные схемы, а другие — как правильные и истинные, изображающие реально существующие зависимости, отношения и связи. В последнем случае этим связям, отношениям и зависимостям придается особый онтологический смысл и статус, в то время как в первом случае — лишь формальный и оперативный.
5. Кроме того, получив представление об объекте как таковом, его строении, мы можем поставить новый вопрос: в каких же из использованных нами средств может быть получено их изображение, и если ответ будет положительным, то и построить само это изображение; если ответ, наоборот, будет отрицательным, то это будет означать «критику» самих использованных нами ранее средств, и в соответствии с ней нужно будет обратиться к поиску новых средств.
Очень важную и существенную роль при этом играет специальный анализ, проводимый при сопоставлении имеющегося у нас нового изображения объекта с ранее использованными средствами, их возможностями; выяснив, почему использованные нами раньше средства не могут дать правильного изображения изучаемого объекта, мы получаем известные указания и вспомогательные средства в отношении того, какими примерно должны быть новые средства.
6. Не исключено и прямо противоположное направление анализа, когда первые построенные нами изображения объекта выступают как формы репрезентации его самого, т. е. как сам объект, а вторично построенные изображения — как форма репрезентации знаний. В этом случае по той же самой схеме ведется «критика» второй группы изображений и средств.
7. Особую форму исследования дает случай, когда первая группа построенных нами изображений рассматривается не как форма репрезентации объекта, а как форма репрезентации знания, и тогда «критика» второй группы изображений и средств ведется на том основании, что они не могут дать удовлетворительного изображения самого объекта, такого, которое бы объясняло эти знания, их происхождение и вид.
8. Существует ряд случаев, когда подобное же удвоение изображений объекта задает функциональное разделение и противопоставление не изображений объекта и знаний, а онтологических картин и моделей объекта или же моделей двух разных типов.
Эти случаи отличаются от первых, разобранных нами, тем, что с каждым изображением в этих процессах сопоставления оперируют по-разному, в зависимости от придаваемого ему функционального смысла: со знаниями — по логике понятий или фрагментов оперативных систем, с онтологическими схемами — по логике методологических изображений объекта изучения, с моделями — по логике элементов теоретических систем. Поэтому для каждого из этих случаев нужно проводить особую систему логико-методологических исследований.
Системно-структурный подход в анализе и описании эволюции мышления[202]
1. На уровне непосредственного восприятия и практики общения «мышление» существует в виде бесконечного множества отдельных актов мысли и создаваемых ими организованностей — знаний, моделей, фактов, проблем, категорий и т. п. Каждый такой акт и каждая организованность представляет собой самостоятельное явление, и все они настолько отличаются друг от друга как в содержании, так и в форме, что нет и не может быть никакой среднетипической модели, которая могла бы рассматриваться как образец мышления вообще. Но что тогда позволяет нам относить все эти явления к «мышлению» и что собственно мы имеем в виду, когда говорим о «мышлении»?
Попытки ответить на этот вопрос привели, в конце концов, к специфическим схемам, объединяющим «синтагматические цепочки» и «парадигматические системы». Лингвистика проложила здесь путь, и он дался ей нелегко, но сейчас, наконец, наступило время, когда эти схемы стали использовать также при описании мышления и было понято, что таким образом устроено все, что принадлежит к человеческой деятельности.
Разрешив одну проблему, схема «синтагматика — парадигматика» породила ряд других. Как соединить эту схему устройства объекта с представлениями об историческом развитии мышления? Каждый синтагматический акт и каждая синтагматическая организованность лишь осуществляются, реализуя одну или несколько парадигматических форм; они в принципе не могут развиваться и порождать новые синтагматические и парадигматические организованности. Поэтому развитие стали искать в парадигматических системах, хотя само это допущение во многом противоречило представлениям о функциях и назначении парадигматики. Но что, с одной стороны, может быть источником и причиной развития парадигматики и по каким законам, с другой стороны, происходят сами изменения?
2. В ответах на эти два вопроса исследование пошло разными путями. Чтобы ответить на вопрос о законах развития парадигматики, сравнивали последовательные исторические состояния каких-то ее элементов и единиц, моделировали их в структурных схемах и затем искали конструктивные правила, переводящие модель из одного состояния в другое. И хотя при этом стремились, конечно, к тому, чтобы максимально имитировать исторические изменения парадигматики, подлинной целью работы всегда было лишь получение некоторых норм или проектов развития, превращавших частные варианты мышления в общий социальный стандарт.
В ответах на вопрос о причинах и источниках развития парадигматики сразу же выявились два подхода: «искусственный» и «естественный». Представители первого рассматривали систему парадигматики в качестве сознательного творения. Представители второго могли искать источники изменений либо в самой парадигматике, либо в экстрапарадигматических факторах, в частности в синтагматических цепочках и их влиянии на парадигматику. Именно в этом контексте синтагматику начали рассматривать не только как реализацию парадигматических схем, но и как источник инноваций. Однако сама апелляция к синтагматике и происходящим в ней изменениям оставалась чисто словесным трюком, пока не удавалось объяснить, каким образом новообразования, появляющиеся в синтагматике естественно и случайно, переходят затем в систему парадигматики.
3. Решение, казалось, было найдено, когда для объяснения этого перехода стали использовать схемы кооперации и механизм рефлексивного осознания. Получилась довольно стройная объяснительная картина, но она долгое время служила лишь для обоснования самой возможности исторического развития мышления, а не для выявления и описания механизмов появления инноваций и их оформления в парадигматических системах мышления. Метод описания развития парадигматических организованностей был дополнен лишь анализом синтагматических ситуаций деятельности и возникавших в них «разрывов», которые задавали функциональные требования новообразованию, а все остальное — конструирование новой парадигматической организованности и выявление формальных правил получения ее из предыдущей — делалось точно так же, как раньше, без всякого анализа и описания реального механизма кооперированной деятельности и создаваемых ею содержаний. При этом синтагматическое новообразование и оформляющая его парадигматическая организованность фактически отождествлялись, и это, с одной стороны, было залогом успешности и продуктивности нормативного конструирования модели и правил развития, а с другой — делало ненужным детальный анализ его подлинных деятельностных механизмов. В силу этого, естественно, не вставал во всей своей остроте вопрос о том, как относятся друг к другу (и в каких категориях должны быть описаны) новообразования мышления, возникающие в синтагматике, и оформляющие их парадигматические организованности.
4. Грубо говоря, вопрос заключается в том, можем ли мы называть мышлением то, что возникает впервые в синтагматике и, следовательно, еще не нормировано (а значит, и не принадлежит пока к системе мышления), но будет нормировано ближайшим шагом деятельностного механизма и, следовательно, войдет в систему мышления, станет мышлением.
С точки зрения обычных представлений это типично парадоксальная ситуация. И традиционное понятие системы (совокупность связанных между собой элементов, образующая целостность) не может здесь помочь. Поэтому приходится прибегать к новому понятию системы, сформированному специально для описания деятельности и процессов ее развития. Системное изображение объекта, с новой точки зрения, обязательно должно содержать четыре слоя представлений: процессов, функциональных структур, организованностей материала и морфологии; последний слой, в свою очередь, содержит процессы, функциональные структуры и организованности материала, но уже другого типа, нежели первые, и они тоже входят в систему, но на иных правах, в другом качестве. Между собственно системными и морфологическими показателями объекта существуют свои сложные отношения и связи, и последние точно так же должны формироваться исторически.
Используя новое понятие системы, мы можем без труда ответить на поставленный выше вопрос: то, что впервые возникает в синтагматике и проходит затем этап оформления в парадигматических организованностях, представляет собой морфологию мышления; составляющие ее процессы, структуры и организованности ассимилируются кооперативно-рефлексивным механизмом деятельности и за счет этого переводятся в собственные организованности, структуры и процессы мыслительной деятельности, транслируемой из поколения в поколение. А весь этот процесс ассимиляции морфологии и рефлексивного отображения ее в парадигматических системах является важной и типичной формой становления мыслительной деятельности.
С определенной точки зрения процесс становления можно рассматривать как компоненту процессов изменения и развития парадигматических организованностей. Но при другом подходе, наоборот, процесс изменения парадигматических организованностей выступит как компонента и средство внутри процессов становления мыслительной деятельности.
5. Последнее представление становится особенно важным и приобретает более широкий смысл, когда от исследования отдельных синтагматических актов и парадигматических организованностей мы переходим к исследованию всей сферы мышления. Она содержит достаточно много относительно автономных парадигматических систем, каждая из которых, с одной стороны, развивается по своей особой имманентной линии, а с другой стороны, непрерывно рефлексивно отображает и ассимилирует другие системы; и каждая из этих систем в любой момент может стать материалом ассимиляции и, следовательно, морфологией для какого-то нового, еще только становящегося мышления. И если мы берем сферу в целом, то основными и ведущими, захватывающими и подчиняющими себе все остальное оказываются именно эти процессы, создающие линию эволюции мышления, а не процессы развития отдельных парадигматических организованностей; последние в этом случае выступают в роли отдельных составляющих процесса эволюции мышления.
6. Особая связь и координация всех этих процессов — эволюции, развития и становления, — существующая на механизме воспроизводства деятельности и благодаря ему, создает сферу мышления как единое историческое целое, а вместе с тем задает и конституирует то, что мы называем «мышлением», мышлением вообще, в его отличии от отдельных актов мысли и отдельных организованностей мышления, как бы плывущих в едином историческом потоке внутри сферы мышления.
Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание»[203]
1. С обыденной точки зрения кажется очевидным, что «мышление» и «понимание» не совпадают друг с другом. Но когда мы пытаемся разделить их понятийно и тем более описать их связи и взаимоотношения, то это оказывается очень трудным делом.
До сих пор мышление и понимание рассматривались, как правило, изолированно, а чаще всего даже в разных предметах: понимание — преимущественно в психологии, а мышление — в философии и логике, и поэтому не было нужды разграничивать и связывать их в рамках какого-то единого объектного представления. Когда же эту задачу поставили, то оказалось, что те немногие процессы и явления, которые могли бы выступить в роли связующей системы, — процессы общения и кооперация людей в деятельности — принадлежат к третьей научной дисциплине, социологии, и это обстоятельство долгое время практически исключало всякую возможность использовать представления об этих процессах и явлениях в качестве естественного конфигуратора для объяснения связей и взаимоотношений между мышлением и пониманием.
Реальное сближение всех названных выше предметов стало возможным лишь после распространения методологического мышления, прорывающего границы устоявшихся научных предметов и работающего как бы над ними. При этом наметились две линии в решении проблемы взаимоотношения мышления и понимания: первая исходит из онтологических схем общения и представляет мышление и понимание в виде компонентов акта коммуникации, вторая — из онтологических схем деятельности (причет здесь тоже два варианта: один строится на схемах кооперации, другой — на схемах воспроизводства).
Новый подход, пытающийся реализовать основные нормы собственно научного, «модельного» исследования, (а) задает объектно-онтологические и категориальные основания для анализа взаимоотношений между мышлением и пониманием, (б) позволяет увидеть то и другое с новых сторон, (в) дает схему для оценки и синтеза уже существующих представлений и, наконец, (г) производит прогрессивную сдвижку проблем.
2. Сначала наиболее простым и перспективным кажется определение «мышления» и «понимания» в контексте акта коммуникации, основывающееся на (морфологическом по своей сути) противопоставлении того, кто строит сообщение (он мыслит), и того, кто принимает сообщение (он понимает).
Мышление в этом случае выступает как операционально-объектное выделение или созидание содержания и выражение (или фиксация) его в одновременно и параллельно создаваемой знаковой форме текста (именно такое представление, в частности, фиксировали многоплоскостные изображения мышления в содержательно-генетической логике); в качестве «побочного продукта» процесса мышления можно рассматривать смысл — связку из многих сопоставлений и соотнесений объектных и операциональных элементов ситуации друг с другом и с элементами текста, которую мы можем представить в виде статической структуры из отношений и связей между всеми этими элементами; связь между плоскостями содержания и знаковой формы, возникающая благодаря структуре смысла, рассматривается как объективное, или экстериоризованное, знание.
Понимание в этом случае выступает как определенная (смысловая) организация знаковой формы текста, осуществляющаяся в ходе соотнесения элементов текста с объектно-операциональными элементами ситуации (можно говорить, что таким образом восстанавливается структура смысла, заложенная в текст процессом мышления), и структурирование плоскости содержания соответственно смысловой структуре текста (то обстоятельство, что при этом плоскость содержания часто не только структурируется, но и непосредственно созидается, при таком подходе к мышлению и пониманию просто не может обсуждаться).
Приведенные определения являются структурно-функциональными; они задают мышление и понимание либо в виде частичных процессов внутри процесса коммуникации, либо — и это правильнее — в виде частичных структур акта коммуникации, завязанных на общей для них организованности текста.
3. Весьма интересные и перспективные во многих отношениях, эти определения вместе с тем не задают и не могут задать «мышление» и «понимание» в качестве предметов научного изучения, ибо не обладают необходимой системной полнотой и определенностью: во-первых, они не связывают мышление и понимание с другими процессами и системами, объемлющими коммуникацию, в частности с системами деятельности, и поэтому не дают мышлению и пониманию тех характеристик, которые определяются их местом внутри этих более широких систем, а во-вторых, мышление и понимание не получают в них никаких механизмических и морфологических характеристик. Поэтому необходимо дальнейшее развертывание наших представлений, и оно может идти, по меньшей мере, в трех направлениях: 1) дополнительных функциональных определений мышления и понимания относительно других объемлющих их систем, 2) выявления и описания механизмов, обеспечивающих процессы понимания и мышления, 3) включения в системные представления морфологии мышления и понимания с ее внутренними «естественными» процессами и строением.
4. Весьма важные данные для выявления этих дополнительных функций и механизмов дает критический анализ тех допущений, которые мы сделали, вводя первые определения мышления и понимания. Исходное противопоставление их строилось на том, что мышление как бы впервые создает содержание, работая только с объектами, а понимание лишь восстанавливает созданное раньше содержание, работая только с текстом. Но оба эти предположения являются слишком сильными упрощениями: они игнорируют реальные механизмы и материал мышления и понимания.
На деле восстановление содержания в процессе понимания, как правило, превращается в созидание его и, следовательно, становится особой работой с содержанием, чаще всего — преобразованием его из одного вида в другой. А это является с точки зрения данных выше определений важнейшей компонентой мышления.
Кроме того, как показывают многочисленные исследования, понимание очень редко восстанавливает именно тот смысл и то содержание, которые закладывались в текст его создателями. В зависимости от принятого «способа деятельности» (а во многих случаях этот «способ» выбирается из ряда возможных) понимание выявляет в одном и том же тексте разные смыслы и соответственно этому строит разные поля и разные структуры содержания. Таким образом, понимание оказывается зависящим не столько от текста и производящего его мышления, сколько от более широкого контекста деятельности, в которую оно включено. Но это значит, что в процесс понимания текста должна входить еще дополнительная процедура, реализующая эту зависимость и как бы «извлекающая» структуру содержания из объекта и операций практической деятельности. А это опять-таки — функция, специфическая для мышления.
Одним словом, как только мы переходим к анализу связей понимания с деятельностью и механизмов, реализующих процесс понимания, выясняется, что в большинстве случаев понимание неотделимо от мышления, что мышление выступает как процесс, включенный в понимание и подчиненный его общей структуре, мы получаем понимание, осуществляющееся через посредство мышления. Структурно-функциональные определения мышления и понимания, полученные на схеме акта коммуникации, вступают в противоречие с характеристиками, получаемыми в ходе их механизмического и морфологического анализа.
Но примерно то же самое выясняется в отношении самого мышления. Практически оно никогда не существует как оперирование с чистыми объектами, заданными вне знаний, фиксирующих их свойства, и знаков, замещающих сами эти объекты, а является всегда оперированием внутри определенных «предметов мышления» и с «предметами», а, следовательно, включает понимание в свою систему и структуру. Это будет мышление, осуществляющееся, среди прочего, через посредство понимания.
Таким образом, как только мы начинаем учитывать в анализе механизмы и морфологию, так тотчас же мышление и понимание выступают как взаимно ассимилирующие друг друга системы. Исходные структурно-функциональные противопоставления их, полученные на схеме акта коммуникации, оказываются неудовлетворительными, и мы вынуждены искать какие-то другие онтологические представления, чтобы разделить и противопоставить друг другу мышление и понимание как системы и самостоятельные предметы изучения.
5. Таким онтологическим представлением является, на наш взгляд, представление мышления и понимания в контексте воспроизводства деятельности (во всяком случае, это представление может удовлетворить всем требованиям и критериям системного подхода).
Этот тезис заставляет нас перейти от анализа отдельных актов понимания и мышления к анализу универсумальных сфер деятельности (ибо только они, как выясняется, могут специфическим образом охарактеризовать типы деятельности) и вместе с тем не разрешает больше ограничиваться анализом только синтагматических реализаций деятельности, а требует также привлечения к анализу искусственно организованных систем парадигматики. Именно последние в сочетании с целями и задачами деятельности определяют воспроизводство и осуществление актов понимания и мышления в каждом конкретном случае человеческого поведения и общения. Благодаря этому в любом акте коммуникации всякий человек, независимо от своего места относительно процесса передачи сообщения, может как мыслить, так и понимать. Организованности мыслительной деятельности и деятельности понимания, создаваемые прежде всего в целях воспроизводства, преодолевают чисто функциональное и локальное разделение участников акта коммуникации на «мыслящих» и «понимающих», и они же делают «мышление» и «понимание» двумя специфически оформленными сферами деятельности, каждая из которых характеризуется затем уже не только самими этими организованностями, но также своими особыми направлениями и механизмами культурно-исторического развития и социэтального функционирования.
Поэтому для современной теории мышления и понимания главными и решающими становятся методологические проблемы анализа и описания единицы, называемой «сфера деятельности».
Рефлексия[204]
I. Из истории философских трактовок рефлексии
В современных энциклопедиях рефлексия определяется как «форма теоретической деятельности общественно-развитого человека, направленная на осмысление всех своих собственных действий и их законов; деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира человека» [Рефлексия, 1967], или как «осмысление чего-либо при помощи изучения и сравнения; в узком смысле — новый поворот духа после совершения познавательного акта к «я» (к центру акта) и его микрокосму, благодаря чему становится возможным присвоение познанного» [Рефлексия, 1961].
Хотя уже у Аристотеля, Платона и далее, у средневековых схоластов, можно найти много глубоких рассуждений, касающихся разных сторон того, что мы сейчас относим к рефлексии, все же принято считать, что основной и специфический круг проблем, связываемых сегодня с этим понятием, зарождается лишь в новое время, а именно благодаря полемике Локка и Лейбница (см. [Локк, 1960; Лейбниц 1936, с. 99–108, с. 115–116]); как бы мы ни относились к такой трактовке истории проблемы и какую бы важную роль ни приписывали античным и средневековым мыслителям, бесспорно, что именно у Локка и Лейбница рефлексия начинает трактоваться как сознавание сознания, или самопознание, как «поворот духа к "я"» и благодаря этому приобретает отчетливо психологическую окраску.
Полемика Локка и Лейбница стимулировала размышления И. Канта, закрепившего такую трактовку рефлексии; вместе с тем понятие рефлексии приобрело у него ту гносеологическую (и вместе с тем методологическую) форму, в которой оно сейчас обычно и репрезентируется.[205] У Фихте в дополнение к этому рефлексия получила эпистемологический оттенок (рефлексия знания есть «наукоучение»)[206] и была поставлена в контекст процессов развертывания или развития «жизни».[207] Гегель сделал попытку дать рефлексии имманентное определение в рамках общей картины функционирования и развития духа (см. [Гегель, 1937, т. 5, с. 466–481]). После Гегеля понятие рефлексии стало и остается до сих пор одним из важнейших в обосновании философского анализа знания.[208]
II. Принципы возможного научно-теоретического подхода к рефлексии
Вместе с тем до сих пор почти не было попыток описать рефлексию или тем более построить ее модель в рамках собственно научного, а не философского анализа деятельности и мышления. Во многом это объясняется тем, что не ставилась сама задача создания теорий деятельности и мышления. Но если мы ставим и всячески подчеркиваем эту задачу, то, естественно, должны удовлетворить всем требованиям и критериям собственно научного воспроизведения объекта.
Это значит, что мы должны среди прочего: 1) выявить и схематизировать все те свойства рефлексии, которые были зафиксированы в предшествующих философских исследованиях, 2) выбрать или построить язык, онтологические картины и понятия — одним словом, средства, с помощью которых, по нашему предположению, можно изобразить и описать рефлексию таким образом, чтобы эти изображения или описания допускали эмпирическую проверку, 3) выявить и сформулировать наибольшее число парадоксов, возникающих из-за несоответствия между выбранными средствами и схематизированными до того свойствами рефлексии, 4) так преобразовать и развернуть выбранные средства (включая сюда конфигурирование[209] и разделение предметов), чтобы в изображениях и описаниях рефлексии, построенных на их основе, были бы сняты все отмеченные парадоксы, объяснены зафиксированные свойства рефлексии и вместе с тем сохранялась возможность эмпирической проверки всех этих изображений и описаний. И когда это будет сделано, начнется собственно научное изучение рефлексии в рамках одного или нескольких научных предметов.
Сформулированная таким образом задача определяет как тот ракурс, в котором мы должны рассматривать рефлексию, так и путь наших рассуждений.
Естественно — это вытекает уже из самой формулировки темы, — что рефлексия рассматривается нами в контексте деятельности и с точки зрения средств теории деятельности; при этом два аспекта представляются наиболее важными: 1) изображение рефлексии как процесса и особой структуры в деятельности и 2) определение рефлексии как принципа развертывания схем деятельности; последнее предполагает, с одной стороны, формулирование соответствующих формальных правил, управляющих конструированием моделей теории деятельности, а с другой — представление самой рефлексии как механизма и закономерности естественного развития самой деятельности.[210]
Но берем ли мы рефлексию в первом или втором аспекте, для каждого из них то описание и представление ее, которое было дано в предшествующих философских исследованиях, оказывается слишком сложным, многосторонним и нерасчлененным. То, что мы узнаем о рефлексии из философских представлений, связывает ее, во-первых, с процессами производства новых смыслов, во-вторых, с процессами объективации смыслов в виде знаний, предметов и объектов деятельности и, наконец, в-третьих, со специфическим функционированием этих знаний, предметов изучения и объектов в «практической деятельности». И это, наверное, еще не все. Но даже этого уже слишком много, чтобы пытаться непосредственно представить все в виде какого-то одного сравнительно простого процесса или простой структуры в деятельности или, соответственно, в виде единого механизма или формального правила для конструирования и развертывания схем деятельности. Поэтому мы должны попытаться каким-то образом свести все моменты, посредством которых сейчас характеризуют рефлексию, к более простым отношениям, связям и механизмам, чтобы затем вывести их из последних и таким образом в конце концов организовать все в единую систему, изображающую рефлексию во всей полноте ее вариантов и их признаков.
В качестве гипотезы мы принимаем тезис, что нужные нам в этом случае более простые отношения, связи и механизмы задаются идеей кооперации деятельности. Исходя из этой идеи, мы можем описать и изобразить разнообразные единицы актов деятельности, подыскать конструктивные правила развертывания их в более сложные системы и проинтерпретировать процедуры конструктивного развертывания на эмпирически фиксируемых процессах функционирования и развития деятельности.[211] Затем, используя полученные таким образом схемы в качестве моделей, мы можем попытаться вывести из них специфические характеристики функционирования и развития сознания, смыслов, знаний, предметов и объектов, а также самой рефлексии — самой по себе и в отношении ко всем перечисленным организованностям деятельности. Но это означает, что должна быть задана схема такой кооперативной связи, которая могла бы рассматриваться в качестве исходной «рамки» для задания и объяснения в дальнейшем всех специфических проявлений рефлексии.
В этой роли у нас выступает схема так называемого «рефлексивного выхода». Она была получена в связи с другими задачами,[212] но затем была использована для введения и объяснения рефлексии как таковой. И хотя, наверное, рефлексия может вводиться на основе анализа многих различающихся между собой эмпирических ситуаций, мы повторим здесь вкратце тот способ введения ее, который мы давали в исходных работах.
III. Дидактическое введение исходной «рамки» рефлексии
Представим себе, что какой-то индивид производит деятельность, заданную его целями (или задачей), средствами и знаниями, и предположим, что по тем или иным причинам она ему не удается, т. е. либо он получает не тот продукт, который хотел, либо не может найти нужный материал, либо вообще не может осуществить необходимые действия. В каждом из этих случаев он ставит перед собой (и перед другими) вопрос: почему у него не получилась деятельность и что нужно сделать, чтобы все-таки получилось то, что он хочет.
Но откуда и как можно получить ответ на такой вопрос?
Самым простым будет случай, когда он сам (или кто-то другой) уже осуществляли деятельность, направленную на достижение подобной цели в сходных условиях, и, следовательно, уже есть образцы такой деятельности. Тогда ответ будет простым описанием соответствующих элементов, отношений и связей этой деятельности, лишь переведенным в форму указания или предписания к построению ее копии.[213]
Более сложным будет случай, когда деятельность, которую нужно осуществить в связи с поставленными целями и данными условиями, еще никогда никем не строилась и, следовательно, нет образцов ее, которые могли бы быть описаны в методических положениях. Но ответ все равно должен быть выдан, и он создается, теперь уже не просто как описание ранее совершенной деятельности, а как проект или план предстоящей деятельности.[214]
Но сколь бы новой и отличной от всех прежних ни была проектируемая деятельность, сам проект или план ее может быть выработан только на основе анализа и осознания уже выполненных раньше деятельностей и полученных в них продуктов.
Каким должен быть этот анализ и фиксирующие его описания и каким образом проект новой деятельности будет опираться на подобные описания — все это вопросы, которые должны обсуждаться особо (и частично они будут затронуты дальше). А нам важно подчеркнуть, что во всех случаях, чтобы получить подобное описание уже произведенных деятельностей, рассматриваемый нами индивид, если мы берем его в качестве изолированного и «всеобщего индивида»,[215] должен выйти из своей прежней позиции деятеля и перейти в новую позицию — внешнюю, как по отношению к прежним, уже выполненным деятельностям, так и по отношению к будущей, проектируемой деятельности (см. схему 10 на с. 275). Это и будет то, что мы называем рефлексивным выходом; новая позиция деятеля, характеризуемая относительно его прежней позиции, будет называться «рефлексивной позицией», а знания, вырабатываемые в ней, будут «рефлексивными знаниями», поскольку они берутся относительно знаний, выработанных в первой позиции. Схема рефлексивного выхода будет служить первой абстрактной модельной характеристикой рефлексии в целом.
Рассматривая отношения между прежними деятельностями (или вновь проектируемой деятельностью) и деятельностью индивида в рефлексивной позиции, мы можем заметить, что последняя как бы поглощает первые (в том числе и ту, которая еще только должна быть произведена); прежние деятельности выступают для нее в качестве материала анализа, а будущая деятельность — в качестве проектируемого объекта. Это отношение поглощения через знание выступает как вторая, хотя, как мы увидим чуть дальше, неспецифическая характеристика рефлексии в целом.[216]
Отношение рефлексивного поглощения, выступающее как статический эквивалент рефлексивного выхода, позволяет нам отказаться от принципа «изолированного всеобщего индивида» и рассматривать рефлексивное отношение непосредственно как вид кооперации между разными индивидами и, соответственно, как вид кооперации между разными деятельностями. Теперь суть рефлексивного отношения уже не в том, что тот или иной индивид выходит «из себя» и «за себя», а в том, что развивается деятельность, создавая все более сложные кооперативные структуры, основанные на принципе рефлексивного поглощения. Вместе с тем мы получаем возможность даже собственно рефлексивный выход отдельного изолированного индивида рассматривать тем же самым способом как образование рефлексивной кооперации между двумя «деятельностными позициями», или «местами».
Но для того чтобы две деятельности — рефлектируемая и рефлектирующая — могли выступить в кооперации друг с другом как равноправные и лежащие как бы наряду, нужно, чтобы между ними установились те или иные собственно кооперативные связи деятельности и были выработаны соответствующие им организованности материала. Это могут быть «собственно практические» или инженерно-методические производственные связи, заключающиеся в передаче продуктов одной деятельности в качестве исходного материала или средств в другую деятельность; это могут быть собственно теоретические, идеальные связи объединения и интеграции средств деятельности, объектов, знаний и т. п. при обслуживании какой-либо третьей деятельности (см. [1969 b, с. 62–84]); какая именно из этих связей будет установлена — в данном контексте это для нас не важно, но важно то, что какая-то из этих связей должна возникнуть, ибо без этого невозможна никакая кооперация. И это требование сразу создает массу затруднений, а по сути дела даже парадоксальную ситуацию.
IV. Основной парадокс рефлексивной кооперации: невозможность взаимопонимания. Способы преодоления
В самом общем виде суть этого парадокса состоит в том, что рефлексивный выход (или, что то же самое, отношение рефлексивного поглощения) превращает исходную деятельность даже не в объект, а просто в материал, для рефлектирующей деятельности. Рефлектируемая и рефлектирующая деятельности не равноправны, они лежат на разных уровнях иерархии, у них разные объекты, разные средства деятельности, они обслуживаются разными по своему типу знаниями, и в силу всех этих различий между рефлектирующим и рефлектируемым деятелями не может быть никакого взаимопонимания и никакой коммуникации в подлинном смысле этого слова.
Действительно, представим себе, что индивид, находящийся во внешней позиции, описывает то, что происходит перед ним, в том числе различные элементы деятельности первого индивида — его объекты, действия, средства, цели и т. п., всех их обозначает соответствующими словами, а затем передает свое описание в сообщении первому индивиду. Текст сообщения прорывает границу между рефлектирующей и рефлектируемой деятельностями; созданный во второй, рефлектирующей деятельности, он оказывается теперь элементом первой, рефлектируемой. Первый индивид получает сообщение, он должен его понять и использовать «содержащиеся» в нем знания в своей деятельности. Но понять — это значит, прежде всего, восстановить смысл сообщения, выделить зафиксированные в нем объекты и «взять» их в таком ракурсе и в таких отношениях, в каких их брал второй индивид (см. по этому поводу [1972 b; 1973 b; 1974а*]). Нетрудно заметить, что в условиях, которые мы задали самой схемой рефлексивного выхода, это невозможно или, во всяком случае, очень трудно: первый индивид осуществляет иную деятельность, нежели второй, имеет иную картину всей ситуации и по-иному представляет себе все ее элементы; более того, они и реально являются для него иными, нежели для второго индивида, а поэтому все слова и все выражения полученного им сообщения он будет (и должен) понимать иначе, нежели их понимает второй, — с иным смыслом и с иным содержанием.
Единственная возможность для первого индивида точно и адекватно понять смысл, заложенный в сообщении второго индивида, — это встать на его «точку зрения», принять его деятельностную позицию. Но это, как легко догадаться, будет уже совершенно искусственная трансформация, нарушающая естественные и необходимые условия сложившейся ситуации общения: в обычных условиях, описываемых предложенной схемой, переход первого индивида на позиции второго будет означать отказ его от своей собственной деятельности и своей собственной профессиональной позиции. Кооперация как таковая опять не получится.
Изложенные простые соображения тотчас же наталкивают на вопрос: а нет ли такого пути и способа понимания, который позволил бы первому индивиду восстановить подлинный смысл, заложенный в сообщение вторым, и при этом сохранить свою собственную деятельностную позицию и свою собственную «точку зрения». Этот вопрос тем более оправдан, что в практике общения мы бесспорно сталкиваемся и с такими случаями и теперь важно найти для них теоретическую модель.
На наш взгляд, такой путь и способ понимания возможен и встречается только в тех случаях, когда первый индивид обладает совершенно особыми и специфическими средствами понимания, позволяющими ему, грубо говоря, объединять обе позиции и обе точки зрения, «видеть» и знать то, что «видит» и знает второй, и одновременно с этим то, что должен «видеть» и знать он сам; в простейших случаях первый индивид должен иметь такое представление о ситуации и всех ее объектах, которое механически соединяет представления первого и второго, но вместе с тем дает возможность разделить их; в более сложных случаях это будут представления «конфигураторного типа», объединяющие разные «проекции» (см. [1971 i; Лефевр, 1969]), но всегда это должны быть специальные средства и комплексные представления, вырабатываемые с целью объединения разных «точек зрения» и разных деятельностных позиций. А до тех пор, пока таких средств и такого представления нет, первый индивид всегда стоит перед дилеммой: он должен отказаться либо от знаний и представлений, передаваемых ему вторым, рефлектирующим индивидом, либо от своей собственной деятельностной позиции и обусловленных ею представлений.
Таким образом, рефлексия, описанная нами как рефлексивный выход или рефлексивное поглощение, оказывается чисто негативной, чисто критической и разрушительной связью; чтобы стать положительным творческим механизмом, она должна еще дополнить себя какой-то конструктивной процедурой, порождающей условия и средства, необходимые для объединения рефлектируемой и рефлектирующей деятельности в рамках подлинной кооперации. И только тогда мы получим целостный механизм, обеспечивающий создание новых организованностей деятельности и их развитие.
Не вступая сейчас в детальное обсуждение встающих здесь проблем, мы отметим лишь несколько наиболее важных моментов, задающих, как нам кажется, весьма интересные направления исследований.
Объединение рефлектируемой и рефлектирующей позиций может проводиться либо на уровне сознания — случай, который более всего обсуждался в философии, — либо на уровне логически нормированного знания. В обоих случаях объединение может производиться либо на основе средств рефлектируемой позиции — в этих случаях говорят о заимствовании и заимствованной позиции (см. [Лефевр, 1967, с. 14–16]),[217] либо же на основе специфических средств рефлектирующей позиции — тогда мы говорим о рефлексивном подъеме рефлектируемой позиции (см. [1974 а*]).
Когда рефлектирующая позиция вырабатывает свои специфические знания, но при этом не имеет еще своих специфических и внешне выраженных средств и методов, то мы говорим о смысловой (или допредметной) рефлексии, если же рефлектирующая позиция выработала и зафиксировала свои особые средства и методы, нашла им подходящую онтологию и, следовательно, организовала их в особый научный предмет, то мы говорим о «предметной рефлексии».[218]
Каждое из этих направлений связи и организации знаний характеризуется своей особой логикой и методами анализа, причем одни способы и формы связи сохраняют специфику рефлексивного отношения, т. е. отнесенность знаний к определенным «способностям» или «источникам» познания (в терминологии Канта), к определенным видам деятельности и предметам (в нашей собственной терминологии), а другие, напротив, совершенно стирают и уничтожают всякие следы рефлексивного отношения.[219]
Если теперь выделять и рассматривать в отношении к рефлексии проектные задачи развития науки, то главной проблемой, по-видимому, станет проблема организации таких научных предметов, которые могли бы за счет своего имманентного движения постоянно снимать, «сплющивать» рефлексию, т. е. объединять знания, онтологические картины, модели, языки и т. п., полученные в рефлектируемой и рефлектирующей позициях. Сама эта задача встала уже давно, но интенсивная работа по ее решению началась лишь со второй половины XVIII века (на наш взгляд, именно она породила специфический круг логических и методологических проблем, определивших основные направления развития теоретической логики XVIII и XIX столетий) и до сих пор не дала значительных результатов; что же касается осознания этой проблемы, то к нему пришли лишь в самое последнее время. Но именно это в первую очередь и является, на наш взгляд, залогом быстрого и эффективного продвижения в дальнейшем.
Проблема исторического развития мышления[220]
Вступление: пояснение темы и замысла работы
Вопрос о том, развивается ли мышление или же, наоборот, остается одним и тем же для всех времен и народов, уже не одно столетие является предметом дискуссий, столь же острых, сколь и безрезультатных. До сих пор в этих дискуссиях, как правило, представители обеих противоборствующих коалиций надеялись найти подтверждение для своих точек зрения и позиций в самом мышлении, в его реальном бытии и мало внимания обращали на гносеологические и эпистемологические аспекты проблемы, на то обстоятельство, что все их аргументы и ходы рассуждений целиком и полностью определяются их собственными представлениями о мышлении, имеют, следовательно, не объективный, а предметный характер[221] и потому должны рассматриваться не столько в качестве гипотез, требующих эмпирического и теоретического подтверждения, сколько в качестве методологических концепций и программ,[222] нуждающихся в реализации через соответствующую организацию исследований и всей науки о мышлении. Чуть утрируя, можно сказать, что те, кто утверждал, что мышление исторически развивается, прогрессирует, тем самым заявляли, что они хотят и будит исследовать мышление как развивающееся, а те, кто говорил, что мышление не развивается, остается всегда одним и тем же, тем самым заявляли, что они будут подходить к нему как к неизменному, выделять в нем «общее» для разных исторических фаз и периодов. К вопросу о том, каково же мышление «на самом деле», в реальности, эта оппозиция представлений и точек зрения не имела ровно никакого отношения; она выражала лишь различные познавательные установки и программы исследований.
Но был еще один момент, кроме методологических программ и установок, который точно так же проявлялся в этих декларативных утверждениях о природе мышления, — это зависимость наших знаний и представлений от характера используемых нами мыслительных средств и методов анализа. Если какой-то исследователь в этой дискуссии утверждал, что мышление не развивается, то это означало также (в дополнение к познавательным установкам и программам исследования), что у этого исследователя, с одной стороны, такое представление о самом мышлении, а с другой стороны — такие средства и методы анализа, которые никак не могут быть совмещены с представлением об историческом развитии мышления. И наоборот, если какой-то исследователь утверждал, что мышление исторически эволюционирует и развивается, то это означало, что он либо уже имеет такие средства анализа и такое представление о мышлении, которое соответствует идеям развития, либо же надеется их выработать. И именно эта сторона дела представляет для нас сейчас интерес и должна быть рассмотрена подробнее.
Наверное, ярче всего эта связь и зависимость между познавательными установками, с одной стороны, и средствами анализа мышления, с другой, проявляется в длительном противостоянии и сосуществовании формальнологического подхода к мышлению,[223] либо начисто отвергающего развитие мышления, либо ограничивающего его одной лишь областью содержания, и культурно-исторического подхода, исходящего из идеи развития и подчеркивающего первенствующее значение исторических процессов во всех духовных явлениях, в том числе и в мышлении. Поэтому именно на этой конфронтации представлений о мышлении и на попытках преодолеть и снять ее мы и хотим сейчас остановиться, чтобы лучше осветить существо обсуждаемой проблемы. При этом мы должны будем, во-первых, изложить наше представление о «природе» и функциях традиционных логических единиц, во-вторых, кратко очертить и охарактеризовать основные линии и этапы становления идеи исторического развития знаний и мышления, в-третьих, рассмотреть, каким образом идея развития соотносилась и связывалась с традиционными логическими схемами и представлениями. В целом, таким образом, мы должны будем получить представление об истоках проблемы исторического развития мышления, ее современном состоянии и возможных перспективах решения.
I. Основной смысл проблемы: отношение исторических описаний мышления к логическим представлениям
1. Традиционные логические схемы и понятия — формы фиксации «организованностей» формального вывода
При обсуждении вопроса о том, что представляют собой традиционные логические единицы — «умозаключения» и «суждения», нередко получается тоже самое, что мы уже отметили выше в более общей форме: наивный онтологист полагает, что мышление реально существует в виде умозаключений и суждений, описанных Аристотелем, он целиком доверяет интуиции Аристотеля и последующих перипатетиков и полагает, что в этих схемах и связанных с ними понятиях адекватно схвачены и выражены не только определенные стороны мышления (весьма частные и существующие наряду со многими другими), но что в этом всемышление и ничего другого в реальном мышлении нет и не может быть. Наивный онтологист забывает, что когда он говорит о «суждениях» и «умозаключениях», то фиксирует и объективирует прежде всего свои исторически преходящие представления о мышлении и лишь в них и через них — какую-то частную сторону реального мышления. Это — первый момент, который должен быть здесь отмечен.
После того как мы освободились от наивной онтологизации логических схем и встали на позиции диалектики, т. е. на позиции сознательного гносеологизма (ср. [1964 а*, {с. 157–170, 195–196}]), нужно поставить вопрос о том, какая же именно «сторона» мышления была схвачена и выражена в этих схемах и фиксирующих их понятиях; при этом, следуя основным принципам методологического мышления (см. [1964а*, {с. 157–170, 172–182, 187–196}; 1966с]), мы должны будем противопоставить существующие логические схемы другим представлениям о мышлении и самому мышлению как объекту изучения (см. [1964 h*; 1966с*; 1971 i]).
В принципе, ответ на поставленный выше вопрос достаточно банален — и логика уже давно пришла к нему (мы лишь меняем понятийное оформление и форму выражения хорошо известного положения): все традиционные логические схемы и связанные с ними логические понятия нормировали процесс формального умозаключения, или вывода, и расчленяли знаковый материал речи так, чтобы зафиксировать и организовать этот процесс.[224] Все эти расчленения никак не учитывали и не фиксировали других возможных процессов в мышлении, в том числе — процессов образования (или происхождения) знаний и процессов исторического развития знаний и мышления.
2. Системная трактовка проблемы
Чтобы лучше понять смысл и основания сделанных выше утверждений, нужно учесть, что мы все время исходим из определенного понятия системы [1974 с *; 1975 с*; Гущин и др., 1969] и используем его в качестве важнейшего категориального средства, организующего наши собственные рассуждения. Это понятие системы предполагает, во-первых, представление изучаемого объекта как минимум по четырем основным слоям существования: (1) процессов, (2) функциональных структур, (3) организованностей материала, (4) морфологии, а во-вторых — установление определенных соответствий между строением (или структурой) слоев; так, например, слой функциональной структуры является особой формой фиксации в нашем знании соответствующих процессов (ср. [1974 с*; 1975 с']), а слой организованностей материала — как об этом говорит само его название — представляет собой как бы «следы» течения процессов в определенном материале, совокупную «колею», проложенную предшествующими процессами и направляющую последующие (см. [1969 b, с. 68–69; 1974с*; 1975с*}).
Каждая функциональная структура и каждая организованность материала при правильном аналитическом представлении объекта должна соответствовать какому-то одному однородному процессу. Если в объекте существуют (или возникают) какие-то другие процессы, то происходит «взаимодействие» этих процессов с организованностями материала, фиксирующими первый процесс, в ходе которого изменяются, трансформируются как процессы, так и организованности материала, причем таким образом, что, в конце концов, между теми и другими устанавливаются соответствия: организованность материала становится сложной, многофункциональной, а каждому процессу (или типу процессов) соответствует свой особый фрагмент и своя особая структура организованности материала. Поэтому в сложной системе организованность материала устроена таким образом, что она соответствует сразу многим различным процессам и фиксирует их сосуществование и взаимодействие в одном объекте (см. [1974 с*; 1975 с*]).
Если теперь мы перенесем эти системные представления на традиционную логику, то получим то самое определение логических единиц, которое было дано выше; мы должны будем сказать, что основные схемы и понятия логики, с одной стороны, фиксировали те организованности речевого текста, которые соответствовали процессам формального умозаключения (или формального вывода), а с другой стороны, не учитывали никаких других процессов в мышлении и, следовательно, схватывали и отражали лишь ту сторону и тот аспект существования мышления, которые связаны с формальными выводами (силлогистическими, основанными на разных типах отношений между предметами, на связках между предложениями и т. д. и т. п.).[225] Но дальше, когда стали выявляться другие процессы в мышлении — процессы образования (или происхождения) знаний, процессы передачи знаний и мышления в обучении, процессы исторической эволюции и развития мышления и т. д. и т. п., тогда главной исследовательской проблемой, в точном соответствии с принципами изучения сложных системных объектов, стала проблема соотношения между организованностями формального вывода, фиксируемыми в схемах, представлениях и понятиях традиционной логики, и этими новыми процессами «жизни» мышления. И именно вокруг этого шли все основные «ноологические»[226] дискуссии по крайней мере с конца XVI столетия.
При этом перед исследователями стояла сразу двойная задача: с одной стороны, им нужно было таким образом ввести понятия об исторической эволюции и развитии («прогрессе»), чтобы они «накладывались» на мышление и знания, а с другой стороны, им нужно было так определить и представить само мышление и порождаемые им знания, чтобы они допускали объясняемое и воспроизводимое в моделях историческое развитие. Это была очень сложная задача. Из общих системных соображений, которые уже были вкратце изложены, мы знаем, что решение ее требовало, с одной стороны, полного отказа от традиционных логических представлений, ибо последние фиксировали организованности процессов формального рассуждения, а теперь нужно было выделить и зафиксировать организованности совсем иных процессов (может быть, и связанных с процессами формального рассуждения, но явно отличающихся от них), а с другой стороны — такой перестройки всех этих представлений, чтобы они могли быть соотнесены с новыми представлениями о мышлении, вместе с тем сохранили бы свои специфические моменты, фиксирующие особенности формального мышления, и одновременно включили бы в себя целый ряд новых моментов, отражающих другие процессы в мышлении и их организацию. Одним словом, задача состояла в том, чтобы, исходя из традиционных логических представлений и трансформируя их, получить новое более всестороннее и полное представление о мышлении и протекающих в нем процессах.[227] И именно вокруг этого, повторяем, строилась вся ноологическая работа с конца XVI века. Но задача была столь сложна, что ее не удалось решить и до сих пор, несмотря на то, что в работе принимали участие лучшие умы Европы. Такой итог придал проблеме характер «вечной» и, естественно, несколько охладил интерес к ней, но он не снял и не мог снять ее совсем. Число работ, затрагивающих ее с той или другой стороны, неуклонно растет, а осознание значимости проблемы становится все более ясным и отчетливым.
Но было бы неверным и опрометчивым, исходя из этих соображений, продолжать лобовые попытки решения проблемы в условиях, когда накоплен столь значительный и богатый опыт неудач: наверное, более правильно и более выгодно перейти на сознательно методологическую позицию (ср. [1964 а*, {с. 157–170}; 1964 h* 1965 b, в особенности с. 48–53; 1968 е; 1969 b]), проанализировать сами эти попытки и созданную ими познавательную ситуацию, постараться выявить причины и истоки столь регулярных неудач, произвести историко-критический анализ самой проблемы и на основе этого, схематизируя весь полученный материал, поставить проблему заново в такой форме, которая допускала бы простое и эффективное решение. Такой вывод указывает единственно продуктивный, на наш взгляд, путь обсуждения и решения проблемы. Правда, он заставляет нас проводить очень сложное методологическое исследование истории проблемы и всех связанных с нею идей, представлений и понятий, а это, в свою очередь, ставит перед нами и заставляет решать много новых и весьма трудных проблем методологии исторического исследования, но, как говорится, лучше медленно продвигаться в правильном направлении, нежели быстро прийти совсем не туда, куда нужно. Поэтому мы готовы примириться с перспективой длительного и трудного историко-методологического исследования проблемы и начинаем его уверенные в том, что это единственный путь, ведущий к глубоким и обоснованным результатам.
II. Идея «прогресса разума»
1. Исторические условия становления и смысл идеи
В античный период, когда формировались основные понятия методологии и логики, проблемы исторической эволюции и общественного прогресса, по-видимому, совсем не ставились и не обсуждались (см. [Bury, 1932; Кон, 1958, 1967; Ахманов, 1960; Лосев, 1967; Маковельский, 1967]); тем более не могли в этот период ставиться и обсуждаться проблемы исторической эволюции и развития таких предметов, как «ум», или «разум», «мышление», «знание» и т. п. (см. [Юркевич, 1865; Аристотель, 1937 b; Gulley, 1962; Лосев, 1967]).
По свидетельству многих авторов (см., к примеру, [Борджану, 1960; Кон, 1967]), сама идея общественного прогресса оформилась и стала обсуждаться лишь после эпохи Возрождения. С самого начала она несла в себе социальный, общественный смысл и была теснейшим образом связана с историческим взглядом на все происходящее. В самом грубом виде можно сказать, что идея прогресса связывала идею историке идеей развития, употреблявшейся в то время лишь в применении к индивиду, и таким образом положила начало формированию идеи исторического развития.
Первое подробное и обстоятельное обсуждение проблемы общественного прогресса, который связывался с накоплением знаний и совершенствованием общественного разума, мы находим у Дж. Вико (1725 г. — см. [Вико, 1940; Vico, 1947]), а затем у французских философов-просветителей — А. Р. Тюрго (1751 г. — см. [Тюрго, 1937 а, b]), Г. Т. Рейналя (1784 г. — см. [Raynal, 1784]) и Ж. А. Кондорсэ (1794 г. — см. [Кондорсэ, 1936]). Но параллельно в это же время идея прогресса применяется к отдельным социокультурным предметам, в первую очередь таким, как «язык», «мышление», «социальные учреждения», «идеи» и «идеология», к разным формам практической деятельности, наконец, к культуре в целом, и многие мыслители (Ж. Ж. Руссо, 1754 г. — см. [Rousseau, 1755], А. Смит, 1759 г. — см. [Smith, 1759], Ж. Пристли; 1762 г. — см. [Priestley, 1762; Пристли, 1934], Ш. де Бросс, 1765 г. — см. [Brosses, 1765], И. Г. Гердер, 1772 г. — см. [Herder, 1772; Herders… 1957; Гердер, 1959], Дж. Б. Монбоддо, 1773–1792 г. — см. [Monboddo, 1773–1792] и др.) обсуждают в этой связи происхождение и тенденции дальнейшего развития этих предметов; Р. Шор назвала все это «ростом исторического миросозерцания» [Шор, 1938, с. 115], но отмечала вместе с тем отсутствие в нем конкретной теоретической предметности.
Основной причиной, выдвинувшей тему прогресса на передний план, было, на наш взгляд, стремление деятелей культуры того времени найти объективные основания для своих идеалов, надежд и действий: определенная направленность исторического процесса должна была дать им объективные цели и оправдать сосредоточение усилий на достижении этих целей. Поэтому представления о прогрессе и развитии с самого начала носили комбинированный, естественно-искусственный характер: с одной стороны, они отвечали на вопрос, что происходит (как бы «само собой») в истории человечества, а с другой стороны, указывали, что именно надо делать, чтобы не войти в разлад с историей; и оба эти момента были теснейшим образом связаны, можно сказать «склеены», в исходных представлениях о прогрессе.[228] Когда затем в аналитической проработке этих представлений выделяли и фиксировали одну лишь естественную компоненту, то получалось чисто натуралистическое понимание истории с неизбежной для него механической трактовкой необходимости в историческом процессе,[229] а когда, наоборот, выделяли одну искусственную компоненту, то получалось чисто волюнтаристическое и субъективистское понимание истории (см., к примеру, [Schopenhauer, 1819; Шпенглер, 1923; Spengler, 1931]). Но все это были, как мы уже сказали, результаты и продукты последующей рефлексивной проработки представлений о прогрессе и развитии, а в исходном пункте эти представления соединяли в себе оба плана — как естественный, так и искусственный (и именно в этом заключено их неисчерпанное до сих пор практическое и теоретическое содержание).
Становление идеи общественного прогресса происходило, как мы уже отметили выше, с одной стороны, под влиянием идеи индивидуального развития человека, а с другой стороны — в контексте определенных представлений об истории человеческого общества (см. [Bury, 1932; Тюрго, 1937 а, b; Вико, 1940; Vico, 1947; Кон, 1958; Борджану, 1960]); но было бы ошибкой непосредственно связывать ее с идеей индивидуального развития или выводить из общих исторических представлений того времени и рассматривать как вариант и конкретизацию этих представлений. Скорее, наоборот, представления об общественном прогрессе формировались вне традиционных представлений об истории и вопреки им,[230] затем вносились в эти исторические представления и своей категориальной структурой разрушали и деформировали представления об истории.[231] Иначе говоря, становление идеи общественного прогресса надо рассматривать, по нашему убеждению, не в линии развития представлений об истории, а в линии формирования представлений о развитии общества и лишь в той мере, в какой второе накладывалось на первое и склеивалось с ним, этот процесс был также моментом в линии изменения представлений об истории, но не имманентным для нее, а привнесенным извне и внедренным как бы насильственно.[232] Другое дело, что после того, как такое склеивание двух разных представлений произошло и «история» стала выступать уже не как история вообще, а как история определенных предметов — народов, гражданского общества, языка, разума и т. п., после этого можно описывать весь этот процесс, ориентируясь на такую склейку и относя все, что касалось идеи прогресса и развития, к истории развития представлений об истории, но это будет уже ретроспективная история развития сложного предмета,[233] и она даст нам адекватное представление о том, что действительно происходило, только в том случае, если мы сумеем правильно нащупать те точки, в которых осуществилась склейка представлений, и на основе этого сможем правильно разделить процесс исторического развития на несколько сходящихся ветвей (ср. [1963 с*; {с. 310–313}]).
Социальный и идеологический контекст, в котором формировались первые представления об общественном прогрессе, сделал совершенно естественной связь их с изобретательством и накоплением знаний: ведь именно в этом было непосредственное содержание и смысл деятельности идеологов третьего сословия, ведь именно это нужно было обосновать и оправдать с исторической точки зрения.[234] Поэтому накопление знаний выступило, с одной стороны, как основной показатель прогресса в истории общества, а с другой стороны, — как его основной механизм и движитель.
Но основным элементом общества — это стало уже аксиомой со времен реформации и ранних гуманистов — является «человек», и поэтому знание, выступившее в роли основного показателя прогресса, нужно было связать с «человеком»;[235] в контексте этой установки сформировалось и стало важнейшим идеологическим и теоретическим понятием понятие «разума». В исходном пункте оно точно так же объединяло, или, точнее, склеивало, два разнородных момента: человечество с его специфически общественными организованностями — языком, техникой, знаниями и т. п. и отдельного человека с его сознанием, психикой, переживаниями, специфическими целями и т. п., или, если говорить языком Гегеля, — «дух» и «душу». Благодаря этому «знания», «представления» и «понятия», принадлежащие «разуму», можно было относить в зависимости от потребностей и установок то к человечеству и его истории, то к отдельному человеку и его целенаправленным, сознательным действиям. Можно сказать, что в этом, собственно, и состояло «техническое» (искусственное) назначение понятий «разум» и «знание» — связать, склеить друг с другом представления о культурно-историческом процессе и представления о действиях индивида, но сами эти понятия в исходном пункте были совершенно синкретическими, а потому в теоретическом, естественно-объективированном плане эта связь оставалась весьма проблематичной и до сих пор вызывает столкновения культурно-исторических и психологически ориентированных концепций (см., например, [1968 с; 1971 j; Выготский, 1934; Зинченко П., 1939; Kuhn, 1962; Лакатос, 1967; Мамардашвили, 1968 a; Criticism, 1970; Popper, 1970]).
Но как бы там ни было, прогресс в истории общества связывался идеологами и теоретиками с прогрессом «разума», а последний — с выработкой и накоплением «знаний». В исходных пунктах здесь, таким образом, не было идеи развития знаний и мышления: мышление осуществлялось, а знания накапливались, обеспечивая таким путем «прогресс разума», но, как это часто бывает при синкретических понятиях и недостаточно отрефлектированном мышлении, характеристики прогресса в этих условиях очень скоро были перенесены (чисто механически — обратным ходом и по сопричастности) с «разума» на «знания» и «мышление» (ср. [Мамардашвили, 1968 а]), хотя оставалось совершенно неясным, образуют ли «знания» и «мышление» какие-то объективные целостности и осмысленно ли вообще говорить об их «прогрессе» и развитии. Но независимо от того, было ли такое распространение идеи прогресса осмысленным с точки зрения существующих представлений о знании и мышлении или же, наоборот, произвольным, синкретическим и никак не оправданным, важно, что оно в какой-то момент произошло и стало оказывать сильное влияние на дальнейшее развитие всего этого круга идей и представлений. Однако к более детальному обсуждению этого поворота мы сможем подойти лишь позже, сделав еще несколько специальных шагов анализа.
2. Основное содержание идеи «прогресса разума»
Выше мы уже перечислили работы, ставшие вехами на пути формирования идеи «прогресса разума». Своеобразным завершением и наиболее концентрированным выражением их, бесспорно, стала работа Ж. А. Кондорсэ (см. [Кондорсэ, 1936]). Представления, изложенные в ней, были характерными для большинства мыслителей XVIII и XIX столетий, и даже в XX мы можем обнаружить элементы этих представлений во многих «новейших» концепциях развития знаний и мышления. Поэтому мы проведем более детальный анализ представлений Кондорсэ, считая, что они могут служить хорошей моделью для самой идеи «прогресса разума».
Пять основных положений характеризуют взгляды Кондорсэ на «прогресс человеческого разума»:
1. Способности, данные от рождения каждому человеку, в ходе его жизни развиваются под воздействием внешних вещей и общения с другими людьми; они выливаются в способность изобретать.
2. Каждый отдельный человек, развивая свои способности, создает новые сочетания идей, и постепенно они накапливаются; вместе с тем растет число изобретенных людьми «искусственных средств».
3. Эти два момента — развитие способностей и накопление знаний и средств, —рассматриваемые относительно массы индивидов, сосуществующих одновременно, и прослеженные из поколения в поколение, и образуют «прогресс человеческого разума»; этот прогресс подчинен тем же общим законам, которые действуют в развитии наших индивидуальных способностей, ибо он является результатом этого развития, наблюдаемого одновременно у большого числа индивидов, соединенных в общество.
4. Результат, обнаруживаемый в каждый момент, зависит от результатов, достигнутых в предшествующие моменты, и влияет на те, которые должны быть достигнуты в будущем.
5. По мере увеличения количества фактов человек научается классифицировать их, сводить к более общим фактам; истины, открытие которых стоило многих усилий и которые сначала были доступны пониманию только немногих людей, способных к глубоким размышлениям, вскоре затем изменяются и совершенствуются в такой мере, что их можно доказывать методами, которые способен усвоить обыкновенный ум; таким образом, хотя сила и реальный объем человеческих умов могут оставаться теми же, но инструменты, которыми они пользуются, умножаются и совершенствуются (см. [Кондорсэ, 1936 с. 3–5, 160, 235]).
В связи с дальнейшим обсуждением проблемы нам важно выделить и подчеркнуть в концепции Кондорсэ несколько узловых моментов:
(1) Хотя понятие «прогресс» по-прежнему чаще всего употребляется без отнесения к каким-либо определенным предметам и их характеристикам (и в этом плане подобно первому понятию «истории»), наряду с этим намечена и последовательно проводится предметная трактовка всех других понятий, характеризующих различные моменты «прогресса». Человеческий «разум» разбит на «способности», с одной стороны, и «искусственные средства», с другой, причем первые развиваются, а вторые накапливаются.
(2) В чем именно состоит развитие способностей, или, говоря современным языком, каковы структура и механизм этого процесса, Кондорсэ не показывает; точно так же он не ставит вопроса о том, какова должна быть структура самих способностей и как они должны быть представлены, чтобы мы могли говорить об их развитии. Поэтому, хотя «способности» и «развитие» соотнесены и связаны в его концепции, эта связь остается для них совершенно внешней.
То же самое, в принципе, можно сказать и об отношении между «искусственными средствами» и процессом их «накопления», но это имеет мало смысла, так как «накопление» не обладает структурой и потому совершенно безразлично к структуре предметов.
(3) В целом «прогресс разума» выступает как очень сложный процесс, содержащий неоднородные компоненты: развитие способностей принадлежит к индивидуально-психической сфере, а накопление искусственных средств — к культурно-исторической; накопление и совершенствование искусственных средств приводит к прогрессу разума, даже если оно не сопровождается развитием способностей; но, в общем и целом, между этими двумя сферами и соответствующими им процессами существуют сложные взаимозависимости и взаимопереходы: способности развиваются под воздействием «внешних вещей» и благодаря упражнению с «искусственными средствами», а развитие способностей в свою очередь ведет к изобретению новых искусственных средств и к созданию новых вещей. Вместе с тем, задавая столь сложную и разнородную в своих частях картину прогресса человеческого разума, Кондорсэ не ставит вопроса о его специфических законах и механизмах; по сути дела, эти механизмы сводятся им к механизмам развития способностей, а общественный прогресс выступает лишь как сумма и итог индивидуальных развитии и в силу этого подчиняется тем же законам. Поэтому, естественно, в концепции Кондорсэ не может быть вопроса о том, каким законам подчиняется процесс накопления знаний и других искусственных средств.
(4) Хотя Кондорсэ и говорит о зависимости результатов, обнаруживаемых в каждый момент общественного развития, от того, что было достигнуто раньше, эта зависимость никак им не исследуется и не используется в анализе. В частности, он не ставит вопроса, по каким именно параметрам и через какие механизмы может осуществляться эта зависимость; если говорить современным языком, его представления в этом плане являются чисто ситуативными, хотя одновременно он подкрепляет и дополняет их натуралистическим представлением о необходимом следовании одних состояний из других;[236] но последнее никак не реализуется в его исторических описаниях.
(5) Все эти представления о прогрессе разума, развитии способностей и накоплении искусственных средств никак не затрагивают логических структур мышления;[237] они, следовательно, относятся к тому, что можно было бы назвать «содержанием» знаний и мышления (хотя этот термин и несвойствен концепции самого Кондорсэ). Когда же приходится говорить о деятельной или операционной стороне мышления, о его «технике» или «технологии», то Кондорсэ пользуется термином «методы» (а отнюдь не традиционными логическими терминами «суждение» и «умозаключение»). Это позволяет предполагать, что он рассматривал и трактовал «логику» как нечто неизменное и постоянное, как особые «метафизические» структуры, которые лежат как бы перпендикулярно к историческим процессам и не могут учитываться в собственно историческом описании.[238]
* * *
Итак, мы рассмотрели некоторые из исторических условий и обстоятельств становления идеи «прогресса разума», определивших ее смысл и структуру, мы выяснили содержание этой идеи и важнейшие из отношений, связывающих ее с другими историческими идеями, представлениями и понятиями. Но сама по себе идея «прогресса разума» не есть то, что нас непосредственно интересует; наша цель и задача состоит в том, чтобы охарактеризовать проблему исторического развития мышления и для этого описать ее основные компоненты, их постепенное становление, а затем объединение в рамках единой проблемы. С точки зрения этой общей темы идея «прогресса разума» является в лучшем случае одним из компонентов или, может быть, даже одним из условий рассматриваемого нами целого. Поэтому дальше, исходя из уже полученных нами представлений об идее «прогресса разума» и используя их в качестве средств дальнейшего анализа, мы должны показать, каким образом возникает и оформляется сама проблема исторического развития мышления. При этом мы должны будем рассматривать, с одной стороны, дальнейшие изменения и трансформации идеи «прогресса разума», ее приложения в других областях материала и обусловленные этим склейки и расщепления ее содержания, а с другой стороны, становление и изменения других компонентов проблемы. И в том и в другом случае мы будем рассматривать исторические процессы становления и развития наших знаний и представлений, но принципиально по-разному, в разных исторических категориях. Естественно, что при этом перед нами встанет целый ряд специфических проблем методологии исторического исследования и мы вынуждены будем обсуждать их, чтобы получить необходимые нам средства анализа. Но все это темы и материал следующих частей нашей работы.
ЗНАК. ЗНАЧЕНИЕ. СМЫСЛ
К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании[239]
I. Задачи семиотики и предпосылки, необходимые для ее разработки
1. Вряд ли сейчас нужно специально доказывать, что проблема знака имеет исключительно важное значение для всех наук, связанных с анализом человеческой деятельности, — логики, психологии, языкознания, антропологии, педагогики и др.; понимание этого уже достаточно распространилось и скоро, очевидно, станет общим местом.
Было бы неправильным объяснять этот факт развитием одних лишь теоретических представлений; скорее он обусловлен тем, что сама производственная практика оказывается все более зависимой от понимания природы знаков.
Машинный перевод, а потребность в нем становится все более настоятельной, на сегодняшнем этапе требует перестройки знаковых текстов, преобразования их к такому виду, который «подходил» бы современным переводящим машинам; а отсюда, естественно, появляется уже собственно теоретический вопрос: в какой мере и как можно менять знаковую форму, не затрагивая нужного для перевода смысла?
Практические задачи рационального построения химической номенклатуры, легко переводимой в структурные формулы, приводят к специальным теоретическим исследованиям разнообразных языков химии.
Постоянно сталкивается с проблемой знака педагогика: ведь основной момент при обучении мышлению — это включение в деятельность ребенка определенных знаковых средств и способов деятельности с ними. Поэтому в психологии и теории педагогики совершенно закономерно ставится вопрос: какими путями и с помощью каких методов можно обеспечить наиболее быстрое и эффективное усвоение людьми знаковых систем и как должно меняться само обучение с изменением типа знаков. Но, чтобы дать решение этих проблем, нужно предварительно выяснить, что такое знак и каковы его основные типы.
И это — вопрос, к которому приходят сейчас со стороны самых различных сфер производства.
2. Но практические потребности обусловливают лишь сам факт выдвижения проблемы на передний план. А способ, каким она ставится и решается, определяется, прежде всего, ходом развития теоретических представлений в науке. То состояние проблемы знака, с которым мы имеем дело сегодня, явилось результатом взаимодействия и пересечения нескольких различных линий, наметившихся с конца XIX и начала XX столетия.
Главнейшими среди них были, по-видимому, следующие:[240]
1) Линия философско-психологического исследования знака, идущая от Г. Фреге и Э. Гуссерля через Вюрцбургскую школу психологии мышления к работе К. Бюлера «Теория языка».
2) Линия «формальной» трактовки знака, подготовленная работами школы Д. Пеано, ранними работами Б. Рассела, А. Уайтхеда и Л. Витгенштейна, получившая наиболее резкое выражение в логико-математических работах Д. Гильберта и затем развитая на более широком материале и с новыми моментами Венским кружком, Варшавско-Львовской школой и др.
3) Логико-психологическая трактовка знака у Ч. Морриса, пытавшегося синтезировать указанные выше направления.
4) Логико-философское направление, идущее от Дж. Мура, через позднего Л. Витгенштейна к современным представителям философии «лингвистического анализа».
5) Психологическое направление Л. С. Выготского, в котором знак рассматривался как средство (или «орудие»), включающееся в поведение индивида и перестраивающее его.
6) Линия структурно-лингвистического анализа знаковой функции, подготовленная работами Ф. де Соссюра и получившая наиболее резкое выражение у Л. Ельмслева и Х. Ульдалля.
7) Линия «содержательного» лингвистического исследования знака у В. Порцига и Л. Вайсгербера, для которых главным в проблеме было исследование «значения».
Уже сам факт обилия всех этих направлений говорит о том, что проблема знака еще очень далека от разрешения. И действительно, ни одной из перечисленных линий исследования не удалось построить сколько-нибудь удовлетворительной (т. е. непротиворечивой и достаточно полной) теории знака и вместе с тем обеспечить решение тех практических задач, которые сейчас стоят.
И, на наш взгляд, такой итог можно легко объяснить и обосновать характером существующих концепций; ведь все они берут знак только с какой-нибудь одной или, в крайнем случае, двух, трех сторон и не имеют средств и методов для того, чтобы рассмотреть другие его стороны. С точки зрения истории исследований это вполне естественно. Ведь в каждой из перечисленных выше наук — в логике, психологии, языкознании, антропологии и др. — знаки выступали не в качестве самостоятельного предмета исследования, а лишь как внешний материал или, в лучшем случае, как элементы при построении каких-то других предметов изучения — знаний и науки, процессов вывода или процессов мышления, деятельности индивида по решению задач или общения с другими индивидами. Построение каждого из этих предметов требовало учета отнюдь не всех, а лишь некоторых сторон знака, и наоборот, методы исследования, разработанные и разрабатываемые в каждой из этих наук, позволяли понять только эти отдельные стороны знака и не давали возможности проанализировать и познать знак в целом. Действительно, чтобы выяснить логическую структуру рассуждения, надо рассмотреть материал знаков в отношении к тому объективному содержанию, которое в нем замещается, и совсем не нужно учитывать отношение этого материала к генетически предшествующим видам деятельности индивида и их развитию. С другой стороны, многие закономерности речевой деятельности индивидов можно установить, не обращаясь к анализу и описанию объективных содержаний и значений знаков.
Таким образом, односторонний, фрагментарный подход к знакам был вполне обоснован при построении таких предметов, как «наука», «мышление», «психическая деятельность», «процесс языкового общения» и т. п., и на ранних этапах развития соответствующих наук почти не ограничивал продуктивности исследования. Но вместе с тем этот односторонний, «кусочный» подход полностью исключал возможность действительного решения проблемы знака, так как по самой своей объективной природе знак может быть выделен в качестве особого и самостоятельного предмета изучения и понят только в том случае, если он берется в единстве всех своих основных функций. Знак перестает быть знаком, если мы берем его материал только в отношении к деятельности индивида, как средство организации деятельности. Но точно так же знак с его значениями становится совершенно мистическим образованием, если мы берем его только в отношении к объективному миру, вырвав из контекста деятельности, в которой он употребляется как знак. И это вполне понятно, так как по происхождению и назначению своему знаки и являются теми образованиями, которые обеспечивают подключение индивидов к общественной культуре и отчуждение продуктов индивидуальной деятельности в форму общественной культуры.
3. Итак, проблема знака, поскольку она возникла и ставилась при изучении «науки», «мышления», «психической деятельности» или «процессов общения» в качестве самостоятельной, самодовлеющей проблемы, неизбежно должна была выражать, а вместе с тем и создавать некоторые тенденции к синтезу существующих представлений и даже наук. Так, уже у Локка, Лейбница и Кондильяка появилось требование создать общую науку о знаках, стоящую как бы над логикой, психологией, языкознанием, — семиотику, или семиологию. В XX веке это требование было вновь выдвинуто Ф. де Соссюром и всячески пропагандируется Л. Ельмслевом, Х. Ульдаллем, Е. Куриловичем и др.
Если вдуматься в проблему глубже, то можно понять, что все эти требования имеют более важные основания, нежели только потребность исследовать знаки как таковые, как особый самостоятельный предмет. По сути дела они говорят об органической связи логики, психологии и языкознания, об относительности и исторической ограниченности разделения их на особые, самостоятельные науки. Фактически мы уже подошли к такому рубежу, когда существующее разделение и разобщенность делают дальнейшие исследования во всех областях малопродуктивными. И действительно, чтобы понять механизмы мыслительной деятельности индивида, мы должны предварительно проанализировать строение тех способов деятельности, которые были выработаны обществом, передаются из поколения в поколение и усваиваются детьми в процессе учения. Но это значит: чтобы понять механизмы и закономерности «собственно психического» процесса, мы должны предварительно проанализировать «логический предмет». Но и обратно: чтобы понять строение многих способов деятельности и входящих в них знаковых средств, мы должны познать механизмы и закономерности учебной деятельности индивидов, так как многие способы решения и знаковые системы создаются сейчас в приспособлении именно к ней. И точно так же оказываются органически связанными в анализе своих предметов логика и языкознание, языкознание и психология.
Таким образом, во всех требованиях о создании семиотики как новой общей науки о знаках проявляется, на наш взгляд, более глубокая объективная тенденция — к соединению существующих логических, психологических и языковедческих представлений о человеческой деятельности в единую научную систему.
4. Эта тенденция, уже после того, как она достаточно обнаружилась и проявила себя, получила совершенно извращенное представление, в первую очередь — в лингвистических исследованиях.
Становление языкознания как особой, обособленной от других науки происходило позднее, чем становление логики и психологии; оно датируется концом XVIII и началом XIX столетия. Поэтому, когда в языкознании встали проблемы и задачи, требующие анализа «языка вообще» и «знаков вообще», то рядом уже существовали весьма разветвленные и детализированные логико-психологические и общефилософские представления об этих предметах. Как правило, их стремились просто перенести в языкознание и таким образом решить специфически языковедческие проблемы. Но этот ход не мог быть удовлетворительным: он игнорировал то обстоятельство, что перед каждой наукой стоят свои особые задачи и поэтому она берет объект — пусть даже тот же самый — в иных аспектах и «срезах», чем другие науки, выделяет всегда свой особый предмет изучения, создает особые понятия. Поэтому почти никогда механический перенос понятий из одной науки в другую не помогает делу.
Осознание этого момента, — а оно было, в конце концов, достигнуто в языкознании — создало другую, прямо противоположную тенденцию: разрабатывать свою собственную языковедческую семиотику. Аналогичные тенденции, хотя и не столь сильные, появились в логике и психологии; так сложились — и сегодня это вряд ли уже можно отрицать — самостоятельные, обособленные друг от друга логический, лингвистический и психологический подходы к разработке семиотики.
Каждый из них стремится охватить всю область существующих, самых разнообразных знаков, каждый претендует на сферы других; в этом отношении — во всяком случае, по тенденциям — они перекрываются друг другом. Но есть более существенный, чем эмпирическая область, момент, в котором все эти подходы остаются принципиально различными и несовмещающимися, это — метод. Какой бы подход мы сейчас ни взяли — логический, лингвистический или психологический, — в каждом семиотика мыслится как простое расширение соответствующей науки, как приложение ее понятий и методов к новой области объектов. Фактически нигде не идет речи о специфических методах семиотики, об особых — а они должны быть новыми — процедурах выделения и анализа ее предмета.
Показательным с этой точки зрения был проведенный недавно в Москве симпозиум по структурному изучению знаковых систем [Симпозиум… 1962]. Подавляющее большинство докладов, представленных на нем, — это либо традиционные филологические, этнографические и искусствоведческие описания, либо чисто механическое приложение понятий и способов анализа лингвистики к другим знаковым образованиям. Организаторы симпозиума не планировали ни одного доклада по методам семиотического исследования, ни одного доклада по понятиям знака и знаковой системы. И это вполне закономерно, так как они представляли себе семиотику лишь как расширенное приложение понятий и методов лингвистики и математической логики к новым областям эмпирического материала.
Но, если мы примем эту точку зрения, то как затем мы сможем отказать логикам в том, чтобы они называли семиотикой приложение логических методов к анализу знаковых систем? И кто тогда рискнет сказать, что не правы психологи, включающие семиотику в цикл психологических дисциплин?
Совершенно очевидно, что при любом из таких пониманий семиотики мы никогда не получим синтеза наших представлений о знаках и знаковых системах, мы не будем иметь семиотики как особой науки, синтезирующей все другие представления. А потребность в синтезе, как мы выше уже говорили, чувствуется сейчас все больше и больше.
Поэтому можно сформулировать общий тезис: основная задача семиотики как теории знаковых систем, если она хочет быть особой наукой, а не другим названием расширенной лингвистики, расширенной логики или психологии, состоит в объединении тех представлений о знаках и знаковых системах, которые выработаны к настоящему времени в психологии, логике, языкознании и в других дисциплинах; семиотика будет иметь право на существование в качестве самостоятельной науки, если будет решать эту ставшую уже насущной задачу.
5. Объединение логических, психологических и лингвистических представлений о знаке и знаковых системах не может основываться на сведении одних представлений к другим, так как среди них нет «главного». Оно не может быть также механическим, так как содержания перечисленных представлений не являются частями одного целого. Последнее утверждение является очень важным в методологическом отношении, и поэтому его нужно разобрать подробнее; речь идет о понимании характера абстракций, приведших к этим представлениям. Обычно когда сталкиваются с такой ситуацией, т. е. когда имеют несколько различных знаний об одном объекте и их нужно применять вместе, то стремятся связать их как уже сложившиеся, готовые образования, ничего не меняя в них, и посредством движений в той же «плоскости» знаний. Но это значит, что существующие знания выступают как части вновь создаваемого сложного образования, их «содержания» становятся частями или «сторонами» описываемого объекта, а формальная связь, устанавливаемая между знаниями, «переносится» в сам объект и истолковывается как внутренняя связь между его частями или «сторонами». Методологическое представление, лежащее в основе этого хода мысли, изображено на схеме 1.
Оно широко распространено. Именно таким образом пытаются решать проблему взаимоотношения «языка» и «мышления» (см. по этому поводу [1957а*}), проблему связи фонетического, морфологического и синтаксического уровней описания языка (см., например, [Тез. докл. на дискуссии… 1962]), проблему взаимоотношения производства, культуры и личности и др. Во всех этих случаях структура объекта рассматривается как изоморфная той системе объединенного знания, которая может быть получена путем какой-либо формальной связи уже существующих знаний об объекте.
Но подход к проблеме может быть иным. Ведь абстракции по природе своей совсем не обязательно должны выделять части изучаемого объекта; они могут быть его проекциями, снятыми как бы при различных «поворотах» объекта. Но тогда и вопрос о синтезе их принимает совершенно другой вид. Тогда всякая попытка соединить подобные абстракции вместе какой-либо формальной связью и «вынести» полученную таким образом систему на объект является столь же бессмысленной, как попытка получить представление о структуре детали, присоединив друг к другу две ее чертежные проекции. Из этого примера становится совершенно очевидным, что если абстракции производятся по принципу проекций, то никакое формальное соединение представлений, взятых так, как они сложились и существуют, не даст системы, адекватной структуре объекта.
Расхождение системы изображений с реальной структурой объекта не является каким-либо аномальным и недопустимым явлением. Наоборот, всякая система формальных изображений объекта является особой оперативной системой, в которой и с которой действуют совершенно иначе, чем действовали бы с самим объектом. Поэтому мы никогда не можем и не должны стремиться к тому, чтобы системы изображений совпадали со структурами объекта. Очевидно, нужно совсем иное: чтобы это несовпадение было осознано как принцип и чтобы из него исходили при решении методологических проблем.
Чертежные проекции не изображают частей детали, но это нисколько не мешает их использованию, поскольку существуют особые процедуры, позволяющие переходить от них к самой детали в процессе ее изготовления или от одних проекций к другим, например, к аксонометрической проекции. Значит, главное, чтобы существовали эти процедуры переходов между различными представлениями, а это будет означать также и существование связей между ними.
Но процедуры «синтеза», как нетрудно заметить, соотносительны с процедурами абстракции, они могут быть применены только к специально приспособленным для этого, специально выработанным проекциям. Мы можем переходить от одних чертежных проекций к другим и строить по проекциям объекты только потому, что сами эти проекции получены особым образом, именно так, как этого требуют последующие процедуры связи. Иначе можно сказать, что процедуры абстракции и процедуры синтеза представлений, полученных посредством их, должны быть органически связаны между собой, должны образовывать единый познавательный механизм.
Этот принцип должен быть применен к любым теоретическим представлениям, которые мы хотим объединить. И прежде всего он заставляет нас сделать вывод, что, имея какое-то количество теоретических представлений, полученных независимо друг от друга для решения разных задач, мы не можем еще достаточно оправданно ставить вопрос о возможной связи их. Этот тезис легко пояснить на простой графической модели. Представим себе, что наш объект — это круг (см. схему 2) и мы снимаем его проекции с различных сторон, не придерживаясь никаких строгих правил, которые определялись бы «природой» объекта и процедурами последующего синтеза полученных проекций. При этих условиях одни части и элементы объекта могут отражаться по нескольку раз в разных проекциях, и это приведет к «удвоению сущностей»; другие части и элементы вообще не будут воспроизведены, и это приведет к существенным «пустотам» в наших представлениях. Совершенно очевидно, что при таком анализе и описании объекта по сути дела никакая процедура объединения не даст нам необходимых результатов.
Но что делать, если нам все же необходимо осуществить синтез представлений, полученных «хаотично», вне связи друг с другом и вне всякой ориентировки на последующий синтез? Очевидно, для этого необходимо перестроить сами эти представления, освободить их от одинаковых многократно повторяющихся содержаний, дополнить другими представлениями, необходимыми для осуществления нужных синтезов и т. п.
Но тогда снова возникает вопрос: а как это можно сделать? Ведь для этого нужно уже иметь представление о действительной структуре объекта и соотнести с нею существующие «односторонние» представления-проекции. Никакого другого способа решить эту задачу не существует. Такой вывод означает очень многое. Он задает линию того движения, которое мы должны осуществить для синтеза существующих представлений одного объекта. Он показывает, что в это движение обязательно должен будет войти анализ тех абстракций, посредством которых были получены эти представления. Он показывает также, что нужно будет — и это непременное условие осуществления предыдущего требования — проделать особую работу по воссозданию структуры того объекта, «проекциями» которого являются имеющиеся представления.
Идея, определяющая этот ход движения мысли, изображена на схеме 3 (группа движений 1 изображает здесь определение структуры объекта, а группа движений 2 — характеристику существующих представлений как «проекций»).
Схема наглядно показывает, что вместо того, чтобы искать какие-то связи между уже существующими знаниями об объекте в плоскости самих этих знаний, нужно каким-то образом воспроизвести структуру объекта, а затем, исходя из нее, восстановить те «повороты абстракции», которые привели к имеющимся знаниям. И только таким путем можно будет получить необходимую связь между разными представлениями одного объекта.
Но что значит воспроизвести структуру объекта в чем-то сверх уже имеющихся знаний о нем и в дополнение к ним? На наш взгляд, это значит ввести в систему совокупного знания особое образование — структурную модель объекта.
Такая модель имеет совершенно особую функцию в системе теории. Она является изображением объекта, созданным специально для того, чтобы объединить уже существующие знания. (Исходя из этого, можно говорить, что именно набор объединяемых представлений реально задает и определяет характер вводимой модели.) Вместе с тем эта модель объясняет существующие представления и служит (наряду с логическим описанием произведенных абстракций) обоснованием их. В. А. Лефевр, выделивший эти логические функции, назвал соответствующий класс моделей «конфигураторами» [Лефевр, 1962]. Соотнесение существующих представлений с вновь построенным конфингуратором ведет к перестройке их, часто очень существенной, и это является, как мы уже выяснили, одной из важнейших целей всей работы, ибо дает возможность объединить затем существующие представления и непосредственно — в рамках единого теоретического (формального) представления.
Когда подобное объединение осуществлено, конфигуратор становится ненужным и сама модель может быть опущена в системе теории. Но чаще созданные таким образом структурные модели объектов и все связанные с ними построения остаются, начинают жить и развиваться по своей собственной «логике» и становятся особым слоем теории или даже особой научной дисциплиной.
После этих методологических соображений мы можем вернуться к вопросу о задачах семиотики и уточнить то, что мы говорили раньше. На наш взгляд, семиотика и является той наукой, которая должна создать и разрабатывать новую структурную модель знака и знаковых систем, необходимую для синтеза логических, лингвистических и психологических представлений о знаке.
6 По своему смыслу соображения, изложенные в предшествующем пункте, равносильны гипотезе, что во всех существующих представлениях о знаках не было схвачено какое-то объективное свойство их, которое по сути дела является решающим: оно объединяет другие, уже выявленные свойства и задает их место в системе целого. Очевидно, чтобы построить особое семиотическое представление, его нужно выделить. До сих пор, показывая методологическую функцию модели объекта, мы ничего не говорили о том, как она строится. И это естественно, так как вряд ли существуют и могут существовать какие-либо общие правила на этот счет. Но один момент совершенно ясен: условием и предпосылкой выделения не схваченного до сих пор свойства и построения единой синтетической модели должен быть тщательный анализ всех уже наметившихся линий и методов исследования знака — анализ, направленный на выяснение тех пунктов, с которыми они не могли «справиться». Настоящая работа представляет собой попытку выделить эти линии. Она, естественно, не может претендовать на изложение деталей; речь будет идти только о принципиальных линиях и даже, скорее, о принципиальных тенденциях в исследовании знака.
II. О методе историко-критической реконструкции понятия знака
1. В предыдущем разделе мы говорили о том, что практические потребности производства сделали необходимой разработку нового семиотического понятия о знаке, которое должно объединить или, по крайней мере, связать между собой все существующие уже в разных науках частные понятия. При этом, естественно, должно быть учтено все истинное и отброшено все ложное. Но как разделить их?
При первом эмпирическом подходе всякое знание о сложном объекте выступает как множество никак не организованных положений, высказанных в разное время и в разных условиях многочисленными учеными. Эти положения отнюдь не равноценны: действительные познавательные достижения, необходимые для дальнейшего продуктивного развития соответствующих отраслей производства и науки, переплетены с иллюзорными представлениями, с внешними наслоениями, обусловленными преходящими социальными ситуациями и просто ложными ходами мысли. В этом множестве положений не так-то просто выделить те, которые являются действительно истинными и должны составить «современное понятие». Им не может быть какое-либо одно или несколько последних представлений, ибо они, как правило, отнюдь не включают в себя всего рационального содержания предшествующих; известно, что некоторые стороны и аспекты ранних теорий, правильно отражающие объект, не могут быть постигнуты в понятиях других, в общем более высоких и развитых теорий; в истории познания нет абсолютного и автоматического прогресса и прямой преемственности: углубление в одном отношении часто достигается ценой искажения или вообще утраты других моментов [Мамардашвили, 1959]. Поэтому характеристика и конструирование «современного понятия», выделение основных его составляющих, предполагают оценку всех накопленных в историческом движении положений, отделение истинных и «необходимых» для «современного» знания от «случайных», ложных, исторически уже преодоленных.
Но как может быть осуществлена подобная обработка эмпирической истории знания? Какими методами нужно здесь воспользоваться? К каким критериям прибегать?
Оказывается — и осознание этого факта пришло к нам с работами Гегеля и Маркса, — что единственная возможность и единственный путь теоретического решения этих проблем идет через исследование закономерностей познания соответствующих объектов, или, что то же самое, закономерностей формирования понятий об этих объектах. Только соответствие процедур, посредством которых мы получаем те или иные характеристики «знака» или какого-либо другого понятия, общим механизмам и закономерностям познания может служить действительным (и единственным) критерием для включения этих характеристик в «современное» понятие. Но это значит, что, только поставив и решив вторую, вспомогательную задачу — выявить и воспроизвести закономерный ход познания знака (или какого-либо иного объекта), мы можем надеяться решить и ту задачу, которая нас непосредственно интересует, — воспроизвести «необходимую» структуру современного понятия о нем. Иначе, и, наверное, точнее, это можно выразить так: мы должны осуществить такую обработку истории развития знаний о знаке, чтобы в итоге получить двоякий продукт: с одной стороны — изображение развития понятия как некоторого закономерного движения, а с другой — систему «современного» понятия.
Здесь возможны две линии анализа. Первая опирается на описание эмпирической истории употреблений понятий знака в разных науках; она может установить задачи, ради которых вводилось каждое понятие, и способ самого введения, она может показать переходы одной проблематики в другую в ходе реального движения науки и соответствующие им смены понятий. Вторая линия предполагает специальный логико-методологический аппарат понятий, основывающийся на анализе закономерностей самого познания, его средств и механизмов, его «углубления» в объекты такого типа, какими являются знаки и знаковые системы. Первая линия анализа по необходимости будет описательной; фиксируя то, что было, она никогда не даст нам ответа на вопрос, как должно быть. Вторая линия будет теоретически-обобщенной, устанавливающей необходимые стороны процесса познания; она всегда будет отвечать на вопрос, как должно быть (с точки зрения общих логических принципов), но при этом будет содержать неизбежно все недостатки абстрактных теоретических построений. Параллельное применение и согласование обеих линий анализа должно дать наилучший результат; это будет вместе с тем научная история понятия знака (ср. [Мамардашвили, 1959]).
2. Основным средством этой работы должны стать, очевидно, общие логические представления о механизмах и закономерностях развития знаний и систем знания. Из них мы хотим выделить и кратко разобрать четыре основных принципа.
1) Принцип операциональной реконструкции содержания знаний. Смысл его можно пояснить на примере работ А. Эйнштейна. Чтобы выяснить содержание понятия времени, он обратился к анализу тех познавательных (или мыслительных) процедур, которые создало человечество, введя это понятие. На этом пути ему удалось выявить в системе понятия и противопоставить друг другу, во-первых, те объекты, которые непосредственно изучаются, во-вторых, те объекты, с помощью которых или через посредство которых идет познание (это — объекты-эталоны и объекты-индикаторы), в-третьих, те процессы и отношения сопоставления, которые при этом устанавливаются [Эйнштейн, 1955; Кузнецов, 1960]. Теперь мы уже достаточно хорошо знаем, что всякое понятие образуется именно так и его содержание — это не что иное, как устанавливаемая при этом система отношений сопоставления [1957 b; 1958 а*, b*]. Но это значит, что, исследуя историю развития какого-либо конкретного понятия, мы должны выделить (и изобразить) ту простейшую систему сопоставлений, на основе которой оно впервые возникло, а затем проследить те изменения и наращивания в этих сопоставлениях, которые характеризовали его дальнейшее развитие. В этом процессе существуют свои строго определенные закономерности, свои допустимые и недопустимые линии развертывания, а следовательно, и своя необходимая линия «движения». Определив ее, мы сможем оценивать все существующие варианты в понятии и все нововведения в его структуре как «истинные» или «ложные».
2) Принцип развития знаний и мыслительных операций по «уровням». Он конкретизирует первый принцип и задает одно из тех направлений, по которым идет развертывание структуры понятий. В самом схематическом виде суть этого принципа может быть описана так. Изучая какой-либо объект (обозначим его как Ои— «исходный»), мы ставим его в разнообразные отношения к другим объектам («индикаторам», «эталонам», «заместителям»). До определенного момента эти отношения нас не интересуют; они являются чисто вспомогательными образованиями, своего рода «лесами», необходимыми для создания знания об исходном объекте; и хотя именно эти отношения создают и задают содержание вырабатываемого знания, но в самом знании, в его знаковой форме, они никак не фиксируются и не должны фиксироваться, если мы хотим иметь понятие об объекте [1957 b; 1958 b*; 1962 а*]. Но в дальнейшем эти отношения — и др. — сами становятся объектами изучения: для них подыскиваются свои особые объекты-эталоны (тоже «отношения» или «взаимосвязи») и объекты-индикаторы, вырабатываются новые процедуры сопоставления и устанавливаются новые отношения, если можно так сказать, — второго порядка. На основе всего этого появляется новое знание об отношении как особом объекте и фиксируются новые познавательные задачи, которые могут быть названы рефлективно-выделенными[1959; 1962 а*; Ладенко, 1958 а, b}.
Хотя после описанного генетического процесса новая рефлективно выделенная познавательная задача выступает как лежащая в одном ряду с исходной задачей, а новая операция мышления, назовем ее (3, — как лежащая в одном ряду с исходной операцией, скажем, а, однако в действительности ни эти задачи, ни решающие их операции не являются равноправными и однородными. Отношение, ставшее объектом изучения во второй операции, как мы уже говорили, возникает первоначально как некоторое вспомогательное образование, как средство познания исходного объекта. Точно так же и рефлективно выделенная задача является, как правило, вспомогательной, и ее решение первоначально необходимо лишь для решения исходной. Взятая сама по себе, она не имеет никакого смысла и значения. То же самое можно сказать и относительно новой операции мышления. Она возникает лишь как часть деятельности, необходимой для решения исходной познавательной задачи, и при своем формировании «опирается» на знания, являющиеся результатом первого процесса. Поэтому новую рефлективно-выделенную познавательную задачу и соответствующую ей операцию мышления надо рассматривать как образования другого уровня по сравнению с исходной задачей и исходной операцией, как образования, в своем появлении и отношении к действительности опосредованные задачами, мыслительными операциями и знаниями нижележащего уровня. В процессе исторического развития новый объект — отношение, новая познавательная задача и средства ее решения — мыслительные операции и входящие в нее отношения сопоставления — отделяются от исходных задач и операций и приобретают относительную самостоятельность. Но, несмотря на это, они сохраняют с исходными задачами и операциями внутреннюю органическую связь и образуют вместе с ними как бы некоторую целостную структуру знания. Иными словами, знания, лежащие на разных уровнях, образуют целостные структуры, охватывающие сразу несколько уровней, и не могут быть поняты отдельно друг от друга.
Понятие уровня мышления, основанное на принципе рефлективного выделения нового предмета и новой познавательной задачи, впервые дает объективное основание для построения «рядов развития» или «рядов усложнения» содержания знания. Оно объясняет, почему существуют строго определенная зависимость и строго определенный порядок в появлении различных типов знаний и операций мысли, и показывает, что они должны располагаться не рядом друг с другом и не один над другим, а как бы по ступенькам лестницы, причем знания и операции, лежащие на высшей ступеньке, возникают и могут быть сформированы лишь после и на основе определенных знаний и операций, лежащих на низших ступеньках [1959; 1962 а*; Ладенко, 1958 а, b].
3) Идея замещения и принцип «слоистого» строения знания. Они характеризуют второе направление развертывания структур понятий. После того как в объектах изучения путем сопоставления выделено определенное содержание и зафиксировано в знаковой форме знаний, эта знаковая форма сама становится объектом рассмотрения, ее элементы сами определенным образом сопоставляются как объекты, и выделенное таким образом в них содержание фиксируется в новой знаковой форме. В зависимости от того, какое отношение существует между исходными объектами и их знаковой формой, — отношение модели или символа, — вторичная знаковая форма может или, соответственно, не может быть непосредственно отнесена к исходным объектам. В первом случае новое вторичное знание располагается как бы непосредственно над первичным, исходным, по схеме 4, во втором случае — как бы рядом с исходным, по схеме 5, и требует обратных преобразований к форме, допускающей непосредственное отнесение к исходному объекту. Но в обоих случаях мы получаем сложную целостную структуру знания, в которой все части и плоскости органически связаны между собой и зависят друг от друга. На схемах мы привели самые простые случаи. А большинство научных понятий содержит целый ряд надстраивающихся друг над другом замещений. Анализируя их, мы будем выделять четыре, пять или даже еще большее число знаковых плоскостей замещения и должны будем говорить о слоях структуры понятия, каждый из которых включает две связанные между собой плоскости [1960 а*; 1964 с*].
Из сказанного выше уже ясно, что в процессе развертывания понятия знаковые формы, замещающие исходные объекты, рассматриваются как объекты особого рода (функциональные объекты в системе слоя) и к ним применяется деятельность, внешне напоминающая содержательные преобразования самих объектов. Но по сути дела она остается знаковой деятельностью, применяемой к знакам. Непонимание этого момента приводило ко многим затруднениям и ошибкам в истории науки.
4) Различение в знании «предмета» и «объекта». Этот принцип является в каком-то смысле выводом из предшествующих; он выступает в роли методического правила, регулирующего нашу работу по анализу уже сложившихся знаний. «Объект» и «предмет» являются двумя принципиально разными образованиями, входящими в структуру знания и определяющими его развитие, но по разным линиям. Объект знания может существовать независимо от самого знания и до его появления. Предмет знания, напротив, формируется наукой и вне того или иного знания существовать не может. Приступая к изучению какого-либо объекта, мы ставим его в определенные отношения сопоставления и таким образом выделяем (или создаем) некоторое содержание. Оно фиксируется (выражается или замещается) в какой-то знаковой форме. Таким образом, появляется «связка» (или взаимосвязь) определенного объективного содержания со знаковой формой. Эта связка и есть «предмет» в его реальном существовании. В человеческом обществе «предметы» являются не менее действительными, реально существующими, чем «объекты»; на них точно так же направляется дальнейший анализ, и при этом происходит своеобразное «уплощение» самой связки замещения: знаковая форма «видится» и рассматривается не сама по себе, не как объект с определенными материальными свойствами, а как выражение определенных свойств исходного объекта, как выражение некоторого объективного содержания, и поэтому к ней применяются действия, соответствующие не ее собственной «материальной» логике, а логике выражаемого в ней содержания. В этом аспекте «предмет» может быть определен как знаковая форма, выражающая определенные стороны объекта, определенное содержание. С другой стороны, и объект, включенный в связку предмета, видится не как таковой, а сквозь призму той его стороны или того свойства, которое выделено посредством сопоставления и зафиксировано в определенной знаковой форме. Иначе можно сказать, что содержание, выраженное в знаковой форме, выносится на объект, онтологизируется и, следовательно, сам объект рассматривается не как таковой, а в логике оперирования со знаковой формой, а «предмет» может быть определен как объект, взятый с некоторых сторон и замещенный знаковой формой [1964 а*].
Для человеческого общества, как мы уже сказали, предметы знания являются ничуть не меньшей реальностью, чем сами объекты. Наверное, даже наоборот — большей реальностью. Нам важно подчеркнуть, что и тот и другой входят в структуру знання и что они имеют разные законы «жизни»; это касается и функционирования (употребления) и развития: объекты живут и развиваются по законам природы, предметы — по законам производства и познания.
Одному и тому же объекту, как правило, соответствует несколько различных предметов. Это объясняется тем, что характер предмета зависит не только (и даже не столько) от того, какой объект он отражает, сколько от того, зачем этот предмет сформирован, для решения каких производственных и познавательных задач. Каждый из таких предметов развертывается в особую цепь (или ансамбль) связанных друг с другом замещений. Затем, естественно, встает вопрос об отношении их друг к другу и ставится задача объединения, синтеза их в одном, более «многостороннем» предмете. Как средство решения этой задачи вводится структурная модель объекта в функции «конфигуратора». (Эта сторона дела была подробно разобрана нами в предшествующем разделе.) При этом обязательно происходит «уплощение» предметов: их многочисленные слои замещения как бы «снимаются» в одноплоскостной структурной модели, которая становится основанием для развертывания ряда новых предметов изучения.
3. Важнейший момент всех изложенных выше принципов может быть выражен в утверждении, что всякое понятие является особым структурным «организмом», имеющим свои специфические законы развития. Понятия — такие же объективные, сами по себе существующие явления, как орудия труда или картины. Их нельзя рассматривать как зеркальные копии, простые слепки с объектов, так как в этом случае бессмысленно будет говорить о каких-то законах их развития, о собственной истории понятий. Подход к понятиям как к определенным объективным структурам, как к некоторым «организмам», напротив, позволяет говорить о развитии понятий, об их развертывании, и выявлять закономерности этого процесса, обусловленные объективной структурностью понятий.
Но этот вывод является, по сути дела, ответом на поставленные, выше вопросы о методах и средствах научного анализа эмпирической истории развития знаний. Чтобы выявить законы (а вместе с тем и необходимость) в развитии какого-либо понятия, нужно представить его как некоторую объективную органическую структуру, как некоторый объективный «организм», а затем рассмотреть эмпирическую историю развития знаний с точки зрения тех возможностей, которые открывает эта структура в плане своего внутреннего, имманентного развертывания. Такой путь анализа даст нам основную «скелетную схему» для объяснения эмпирической истории знаний, хотя, конечно, не сможет охватить ее всю.
III. Понятие знака как органическая система
1. В предшествующем разделе мы поставили задачу выделить и описать то, что может быть названо «современным» понятием знака. Для этого, как выяснилось, нужно особым образом обработать эмпирическую историю науки — отделить все «истинное» и «необходимое» в накопленных к настоящему времени знаниях от случайного, привнесенного извне, «ложного». Одним из важнейших условий и средств этой процедуры, как было показано, является представление самого понятия знака в виде определенной органической системы, имеющей объективное существование, свою специфическую структуру и особые законы развития.
Представить понятие в виде органической системы — это значит ввести и описать, во-первых, входящие в него элементы, а во-вторых, связи и взаимодействия между ними, приводящие к изменению и развитию всей структуры.[241]
2. Приступая к решению этой задачи, необходимо, прежде всего, разграничить и правильно «развести» два связанных между собой «подразделения» исследования: 1) анализ различных (естественно сложившихся или сознательно сконструированных) знаковых систем, в первую очередь — человеческой речи (или языка), и 2) формулирование понятия знака как такового, выявление различных сторон и свойств, характеризующих его специфику. Эти два подразделения исследования образуют как бы два основных блока в знаниях о знаках; между ними устанавливаются многообразные связи и зависимости и происходит своеобразное «взаимодействие». Чтобы понять механизмы и закономерности «движения», возникающего при этом в структуре понятия, нужно выделить и проанализировать составляющие этих связей и «взаимодействий». Попробуем наметить их, двигаясь по методу восхождения от абстрактного к конкретному.
(А) В каких-то пределах исследование объективно существующих знаковых систем возможно без общего понятия знака как такового; и так оно, по-видимому, и шло на первых этапах. Полученные при этом знания фиксировали какие-то частные особенности исследуемых объектов, например, системы лексических и синтаксических соответствий в разных языках, схемы логических выводов, стилистические приемы и т. п. Затем в ходе этих исследований появилась необходимость ввести понятие «знака вообще». Мы не обсуждаем сейчас вопроса, в связи с какими задачами и в каких ситуациях оно было введено, хотя это очень важно; нас пока интересует результат: возникла сложная система «взаимодействий» между частными описаниями знаковых текстов, общим понятием знака и самими знаковыми текстами (схема 6).
Теперь возникает вопрос о количестве и характере связей между выделенными блоками.
(1) Можно утверждать, что блок «описания знаковых текстов» отражает определенные стороны реальных знаковых текстов. При этом, как следует из общего философского учения об относительности истины, всегда существует известная неадекватность, или расхождение между объективными свойствами знаковых текстов и тем представлением (или знанием) о них, которое фиксируется в описаниях.
(2) Существуют две полярные точки зрения на условия и механизмы возникновения понятий такого типа, как «знак». Одни считают, что они появляются в качестве средств, обеспечивающих организацию и осуществление деятельности, и в этом плане подобны алгоритмам. В этом случае они не должны отражать или изображать какие-либо объекты, а служат лишь предписаниями, как бы планирующими этапы деятельности с объектами. Другие, наоборот, полагают, что понятия этого типа с самого начала появляются как изображения объектов, как продукты выделения и описания некоторых сторон объектов (по поводу различия этих двух точек зрения см. [Москаева, 1965; Розин, 1964 а]). Но, как бы ни возникали эти понятия, потом они всегда начинают употребляться также и в качестве описаний или изображений объектов. Выражая эту связь, мы говорим обычно, что в понятии знака отражаются или фиксируются какие-то стороны реальных знаковых текстов, а также схемы нашей познавательной деятельности, направленной на них и создающей их частные описания. Уже в этом компоненте, как легко видеть, переплетается ряд отношений и связей, существенно различающихся между собой: во-первых, связь общего понятия знака со знаковыми текстами как таковыми (обозначим ее индексом 2. 1), во-вторых, связь с процедурами анализа и описания этих текстов (обозначим ее индексом 2. 2), в третьих, связь с частными описаниями текстов (обозначим ее индексом 2. 3); в понятии знака вообще эти моменты могут быть слиты, переплетены друг с другом, но их нужно различить и развести.
Из-за этого переплетения различных содержаний в одном понятии, а также в силу общего принципа ограниченности и относительности знаний, общее понятие о знаке мало соответствует как реальным знаковым текстам, так и их частным описаниям: оно не учитывает многих очень существенных сторон их и одновременно содержит такие моменты, которых в них нет, которые мы им приписываем (эти обстоятельства особенно проявляются в других составляющих структуры понятия знака).
Описанные выше связи и зависимости представлены на схеме 7.
(Б) После того как понятие знака сложилось, оно в свою очередь начинает определять направление и способы исследования реальных знаковых текстов. При этом неадекватность понятия знака часто обусловливает многолетние неудачные попытки исследования знаковых систем или появление обширных рядов, казалось бы, «эмпирических» понятий, которые совершенно неверно представляют строение своего объекта. Поэтому так важно разделить названные в начале вопросы, с тем чтобы всегда можно было знать, чем определяется та или иная гипотеза или линия исследования — содержанием и формой нашего понятия о знаке или «давлением» самого изучаемого объекта — реальных знаковых систем.
Чтобы зафиксировать эту новую компоненту, мы должны ввести в схему еще одно изображение связи «влияния», идущей от понятия знака к описаниям знаковых текстов; при еще большей детализации она может быть представлена в виде двух связей, идущих, соответственно, к процедурам анализа, т. е. к связи (1), и к самим описаниям (обозначим эти связи индексами 3. 1 и 3. 2 — см. схему 8).
(В) Положение усложняется еще более из-за множественности отношений такого рода, какие были указаны выше. Анализ реальных знаковых систем отражается в понятии знака, оно определяет характер дальнейших исследований самих знаковых систем, результаты, полученные здесь, вновь отражаются в понятии знака, ведут к его изменению и перестройке, измененное понятие обусловливает новый цикл исследования самих знаков, но при этом очень часто взаимодействует с прежним понятием, и это создает дополнительные коллизии разного рода. Поэтому нужно постоянно иметь в виду это наращивание и усложнение взаимоотношений, их постоянное взаимодействие друг с другом и находить методы для того, чтобы сначала отделять одни отношения и связи от других, а затем учитывать их взаимосвязь и взаимовлияние. По-видимому, эта задача может быть решена только на пути генетического анализа, когда изображенная выше схема как бы «прокручивается» несколько раз и каждый «круг» движения вносит свои изменения в строение соответствующих блоков схемы. (Этот метод анализа был детально разработан В. М. Розиным при исследовании развития знаний и знаковых средств математики и в принципе может быть перенесен на другие виды знаний.)
(Г) Дальнейший анализ показывает, что не только исследование, но и реальное производство и реальная жизнь знаковых систем в обществе оказываются зависимыми от тех понятий о знаке и знаковых текстах, которые имеет человечество. В естественноисторических процессах появления и развития знаковых систем, как и при развитии многих других социальных образований, действует, безотносительно к тому, что хотят и желают отдельные индивиды, особый механизм управления. Понятия такого вида, как «знак» или «знаковая система», принятые учеными, определяют направление их исследовательской работы и тем самым производство более частных лингвистических понятий о языке и правил речи, фиксируемых в грамматиках, а также логических понятий и правил, относящихся к языкам науки. Эти понятия, в свою очередь, усваиваются индивидами и определяют как их повседневную речевую деятельность, — а тем самым и характер живого разговорного «языка», — так и специальную деятельность по созданию языков науки (более подробное изложение вопроса о системах и механизмах семиотического управления см. в [1965 е; 1964 i]). Очевидно, что, выпустив из поля зрения эту зависимость, мы получим совершенно превратное представление об отношении между знаковыми системами и общими понятиями о знаке, в особенности в том, что касается языков науки.
Очевидно, чтобы учесть и эту сторону дела, мы должны ввести в схему две связи «влияния»: одна будет идти от частных описаний знаковых текстов к самим знаковым текстам (обозначим ее индексом 4. 1), а вторая — от общего понятия о знаке к знаковым текстам (обозначим ее индексом 4. 2). Суммируя сказанное в пунктах (Б) и (Г), можно ввести схему 8.
3. На указанную выше систему связей и зависимостей накладывается еще одна, обусловленная тем своеобразным отношением между «объективными» и «субъективными» моментами в познании, которое мы имеем при исследовании знаков.
Если мы возьмем, к примеру, объекты, изучаемые в физике и химии, то они всегда как целое противостоят исследователям; с ними можно оперировать, приводить их во взаимодействие с другими объектами, разлагать, соединять в комплексы и т. д.; подобное оперирование составляет основу познания этих объектов. На первый взгляд может показаться, что знаки в этом отношении ничем не отличаются от объектов физики и химии: представленные в текстах разного рода, в особенности как последовательности графических значков, они вроде бы тоже противостоят исследователю как чисто объективные образования и поэтому с ними тоже можно оперировать как с объектами. Но это только видимость. Графические значки, фиксируемые в виде текстов, не являются еще целостными знаками; они составляют лишь одну часть знаков, именно — материал их знаковой формы, а самое главное для знаков — их значение — лежит вне материала, в чем-то другом.
В этом легко убедиться на очень простом примере. Если, скажем, мы имеем графему «коса», то взятая таким образом — вне контекста употребления, вне связи с другими знаками, — она не может трактоваться как определенный знак, ибо мы не можем даже восстановить, что именно она обозначает. У этой графемы, при таком задании ее, нет определенного значения, а поэтому она не может «пониматься» и не может рассматриваться как знак. Но эта графема получит значение и станет знаком, если мы сможем отнести ее к какому-либо определенному объекту или классу объектов. Достаточно, например, сказать: «русая коса», чтобы такое отнесение стало уже возможным. Пример с этой графемой благодаря ее многозначности отчетливо демонстрирует, что сам по себе материал знаковой формы не образует еще знака как такового, что в знаке обязательно должно быть еще что-то, что обеспечивает незатрудненное безошибочное понимание. В приведенном примере из-за особых условий (омонимия) это что-то выпало и знаковая форма потеряла обычно обнаруживаемые у нее свойства знака.
К тому же самому выводу мы приходим и в тех случаях, когда сопоставляем между собой отношение к графемам какого-либо языка двух людей — одного, «знающего» этот язык, и другого, не знающего его. Первый может употреблять эти графемы и, в частности, понимать их, потому что за ними для него стоит еще нечто — значения. Фактически эти два человека имеют дело с совершенно разными образованиями; перед ними, если можно так выразиться, разные действительности.
Но из этого, естественно, вытекает вопрос, важнейший в этом контексте: а можно ли рассматривать знак как объект, целиком противостоящий исследователю, как объект (повторяем, взятый в целом), которым можно оперировать и который как целое можно познавать на основе этого оперирования. То, что мы уже выяснили, дает нам право ответить на этот вопрос отрицательно: знаки не являются объектами, подобными объектам физики и химии, они не противостоят исследователям как чисто субстанциальные образования, и поэтому с ними нельзя оперировать как с объектами. Не может выступить в качестве таких объектов и звуковой или графический материал знаков: в человеческом обществе он «живет» не по своим собственным законам, а по законам значений. Поэтому оперирование с материалом знаков как с объектами ничего не даст для познания самих знаков.
Эта особенность объективной природы знаков проявляется и в процессах их исследования. Анализ отдельных знаковых выражений и знаковых систем всегда опирается прежде всего на понимание их значения или смысла. Только понимание делает возможным расчленение знаковых выражений на отдельные значащие единицы, выделение связей между ними и вообще воспроизведение структуры выражений. Именно таким образом исследователь восстанавливает ту «часть» каждого знака, которой должен быть дополнен материал знаковой формы, именно таким образом он учитывает его значения и содержание, так он получает полный знак. Но это дополнение и восстановление происходят не в объективном плане, не в отчужденной объективной форме, а в его индивидуальном сознании. Здесь, таким образом, нет объективной исследовательской процедуры, направленной на содержание и значение знаков как на отчужденные предметы рассмотрения. Материал знаков понимается, а затем понимаемая знаковая форма сопоставляется и анализируется с новых точек зрения, например, с точки зрения механизма силлогистического вывода, и при этом в ней выделяются различные функциональные элементы, такие, как «субъект», «предикат», «связка» и т. п. Но этот «объективный» анализ уже включает в себя работу понимания, и более того — он «подлажен» к ней и возможен только на ее основе. Приступая к анализу текстов, исследователь, работающий этим способом, не ставит вопроса о том, как он понимает текст и как на основе этого понимания производит смысловое расчленение знаковой формы; он берет эту структуру смысла, а вместе с ней и смысловую расчлененность формы как уже понятое и знаемое, как данное и исходный пункт своей собственной специфической работы ученого.
Важно подчеркнуть, что в дальнейшем осознание этой процедуры и осуществляемого в ней противопоставления отношений к значениям и к материалу знаков привело к отождествлению деятельности понимания знаковых выражений с самими значениями и содержаниями, с той человеческой деятельностью, которая их создает. Сложилось мнение, что значения и содержания знаков имеют исключительно «субъективную» психическую природу, что они привносятся к материалу знаков понимающим их субъектом.
В действительности же материал знаков объективно имеет значения и содержания; и эти значения понимаются людьми. Именно в том, что люди строго определенным образом понимают материал знаков, обнаруживается и доказывается объективное существование значений и содержаний, независимое от деятельности понимания. Итак, правильная, на наш взгляд, трактовка всех этих явлений может быть выражена в тезисе: существуют объективные значения знаков, независимые от деятельности понимания индивидов; эти объективные значения обнаруживаются в деятельности понимания и приобретают новое существование и новую форму в сознании индивидов. Отношение между объективным значением и пониманием его можно сравнить с отношением между руслом и водой реки: объективное значение — это русло, определяющее течение понимания. Таким образом, в знак, кроме материала знаковой формы, входят еще значения, они являются действительностью совсем особого рода, принципиально отличной от материала знаков, и лежат где-то в связях или отношениях этого материала, с одной стороны, к человеку, а с другой — к целому ряду различных объективных образований; если говорить еще точнее, они заключены в способах деятельности человечества с материалом знаков; эта особая и необычная форма их существования приводит к тому, что они выступают какими-то мистическими образованиями (см. [1960 с*, II; 1964g]). Но из этого следует второй, еще более общий вывод, важный для нас в данном контексте: знаки как объекты принципиально отличны от обычных объектов-вещей, и исследователь в ходе анализа не может оперировать ими так, как он это делает с объектами физики и химии.
Но значит ли это, что объективный анализ знаков вообще невозможен и должен всегда строиться на одном лишь понимании значений и смысла их? Отнюдь нет. Существует путь преодоления всех этих трудностей. Чтобы сделать возможным объективное изучение знаков, опирающееся на оперирование с ними как с объектами, нужно построить модели этих знаков и производить все познавательные операции на них. Но это, в свою очередь, означает, что в этих моделях знаков нужно воспроизвести все необходимые значения и содержания соответствующих знаков, а также деятельность «понимания» их. И на этот путь встала, по существу, уже античная наука.
Но таким образом мы приходим к очень важному методологическому выводу. Оказывается, что знание о знаке, если мы хотим, чтобы оно было объективно-научным, должно быть, по меньшей мере, двухслойным, а все мыслительные, исследовательские процедуры, посредством которых оно образуется и развивается, должны содержать операции двоякого рода: во-первых, с материалом самих знаковых систем, во-вторых, с моделями знаков — и, кроме того, должны включать еще соотнесение результатов тех и других. В самом простом виде это представлено на схеме 9.
Связи с индексами 5. 1 и 5. 2 обозначают здесь те зависимости, которые существуют между моделью, с одной стороны, и изучаемыми знаковыми текстами и их описаниями — с другой; связи с индексами 6. 1 и 6. 2 обозначают упомянутое выше соотнесение описаний моделей знаков с описаниями конкретных знаковых текстов, их взаимное влияние друг на друга; связь с индексом 7 подобна связи отражения 1, и к ней поэтому применимо все то, что мы говорили по этому поводу выше. Структура из двух правых блоков, как нетрудно заметить, соответствует тому, что мы обозначали выше как блок «понятие знака».
Появление объективного анализа знаков с помощью моделей не устраняет обычного понимания знаков. Эти два момента постоянно сосуществуют, постоянно соотносятся и взаимодействуют друг с другом, и это обстоятельство определяет многое в истории исследований знака, порождая массу специфических коллизий и противоречий. Обычное понимание знаковых выражений учитывает всегда всю совокупность связей и отношений, в которых находится и может находиться рассматриваемое выражение во всевозможных контекстах употребления его. А любая модель знака, напротив, всегда одностороння и абстрактна, всегда стремится свести входящие в нее связи и отношения к минимуму. Поскольку оба эти процесса направлены на один объект, мы постоянно стремимся отождествить понимаемые нами значения знаковых выражений с теми или иными образованиями в модели знака. Таким образом, возникает и развертывается противоречие между схватываемым в понимании значением знаковых выражений, по своей объективной природе очень богатым и многосторонним, и его моделью в науке, всегда более бедной, односторонней, часто — просто неадекватной (см., например, обсуждение одного из аспектов этой проблемы в [1960 с*. III; 1964 g]).
4. Если теперь свести воедино и представить в одной схеме все отношения, связи и зависимости, намеченные в предшествующем описании, то получится довольно сложная структура (схема 10).
Сравнительно с приведенными уже схемами 7, 8 и 9 в ней будет новый блок «понимания» и ряд новых связей. Связь 8. 1 будет выражать привнесение значений в тексты «понимающими» их людьми; связь 8. 2 — влияние «понимания» на характер описания знаковых текстов. Связи 9. 1, 9. 2, 9. 3 будут выражать управляющее влияние различных видов знаний о знаках на понимание текстов; по своему характеру они подобны связям 3. 1, 3. 2 и 4. 1, разобранным выше. Вместо связи управляющего влияния 4. 2, введенной на схеме 8, мы получим благодаря разделению блока «понятие знака» две такие же управляющие связи, которые мы обозначим индексами 4. 2 и 4. 3.
Приведенная схема изображает минимальную единицу (возможно, и неполную) органической системы понятия о знаке. Все входящие в нее связи и зависимости обязательно должны быть учтены при воспроизведении истории этого понятия. Именно эта структура задает собственно познавательный механизм, во многом определяющий характер фиксируемого в понятии содержания.
Что значит рассматривать «язык» как знаковую систему?[242]
1. Попытки рассмотреть «язык» как знаковую систему представляют собой одно из направлений поиска собственно научного предмета для языкознания. До сих пор деятельность языковеда оставалась по преимуществу «искусством» и конструированием норм речевой деятельности. От уже развитых естественных наук языкознание отличалось прежде всего отсутствием идеального объекта, к которому могли бы быть отнесены «необходимые» законы и закономерности. Проявляется это в частности в том, что до сих пор не найдено какого-либо ответа на вопрос, что такое «язык». Более того, до сих пор не определено, в каком виде надо и можно было бы дать ответ на этот вопрос. Но по сути дела речь идет не только о создании онтологической картины объекта изучения; нужно создать принципиально новый тип науки, которая бы соединяла моменты искусственного конструктивного нормирования и социального управления с традиционными естественнонаучными подходами и представлениями. С такой постановкой задач теснейшим образом связаны современные дискуссии о природе языковедческих универсалий. Но чтобы решить эти задачи, нужно кардинальным образом перестроить традиционные представления и понятия о «речевой деятельности», «речи» и «языке». По сути дела нужно так построить понятия «речи-языка», «знака» и «знаковой системы», чтобы стало возможным исследование «речи» как знаковой системы в виде идеального объекта.
2. Дискуссии 50-х годов о знаковой природе языка были малопродуктивными, ибо исходили из слишком упрощенных представлений о знаке и знаковых системах. Естественно поэтому, что все утверждения о том, что речь-язык есть знаковая система, не могли быть эмпирически подтверждены, ибо не имели соответствующих и специфических процедур обработки эмпирического материала. Но и противоположные утверждения, что речь-язык не является знаковой системой, доказывали лишь то, что реальность речи и языка не похожа на те вульгарные представления о знаке и знаковой системе, которыми в то время широко пользовались. Вопрос должен быть поставлен иначе: сами понятия знака и знаковой системы должны быть построены так, чтобы в них был дан идеальный объект для речи-языка и чтобы речь-язык можно было изучать как знаковую систему особого рода. Это значит, что понятия «языка», «знака» и «знаковой системы» должны быть подвергнуты одновременному сопоставительному анализу и обсуждению.
3. Соссюровское разделение речи и языка не дало действительного теоретического решения, а лишь эмпирически более точно поставило проблемы. Реальное различие двух разнородных элементов речевой деятельности не может вызывать сомнений и возражений. Но оно еще должно быть теоретически объяснено в рамках того идеального объекта, который предстоит сконструировать.
В дискуссии 1957 г. столкнулись два подхода при объяснении природы и статуса языка: формально-онтологический и гносеологический. Во втором подходе язык выступал лишь как знание или, в лучшем случае, как «предмет изучения», выделяющий в речи «языковой аспект». Представители первого подхода настаивали на том, что язык должен иметь реальный и объективный статус. Но тогда приходилось либо сводить язык к грамматикам языков, либо же рассматривать его погруженным в речь.
С нашей сегодняшней точки зрения гносеологический подход, который мы защищали в 1957 г., при многих своих преимуществах был неправомерным, ибо не учитывал деятельностной, социальной и «искусственной» природы языка. А если учесть специфику объектов такого рода, то два по видимости противоположных определения языка: 1) как знания и 2) как реальности — оказываются совместимыми и даже необходимо дополняющими друг друга. В структуре деятельности язык выступает в роли системы средств, обеспечивающих воспроизводство и трансляцию речевой деятельности. Одновременно эти средства являются знаниями об определенных сторонах продуктов речевой деятельности — текстов. В целом «язык» оказывается элементом сложного структурного объекта, а значит, может анализироваться и быть понят только как элемент этой структуры.
4. Подход к «речи-языку» как к знаковой системе по сути своей направлен на выявление указанных выше структур деятельности, но является весьма частичной и недостаточно отрефлектированной попыткой. Сегодня между семиотическим и теоретико-деятельностным подходами сохраняется разрыв, хотя специальные исследования по семиотике показывают, что ни знак как таковой, ни знаковые системы не могут быть поняты вне анализа социальной человеческой деятельности и механизмов ее воспроизводства.
5. В настоящее время можно считать уже общепризнанным положение о том, что суть знака составляют его значения. Вместе с тем потерпели крах все попытки субстанциалистской трактовки значения и все шире распространяется взгляд, что значения есть не что иное, как формы употребления материала знаков. Но, несмотря на это, в большинстве работ знак по-прежнему рассматривается как объект, стоящий в отношении обозначения к другим объектам. И хотя отношение здесь фиксируется в качестве конституирующего элемента знака, оно рассматривается как нечто побочное, лишь придающее знаку определенное свойство. По сути дела все равно происходит сведение знака к его материалу. В этом заключен важнейший парадокс современных семиотических исследований. Человечество уже пришло к изучению объектов принципиально нового типа — «употреблений» материала, или деятельности, но по-прежнему пользуется старыми категориями вещи, неадекватными новым объектам. В этом плане представление о знаке как находящемся в отношении обозначения к объектам, прогрессивное еще 20 лет назад, сегодня стало неадекватным и даже вредным. Чтобы понять знак, нужно рассматривать его не в отнесении к объектам, а в отношении к деятельности, элементом которой он является и благодаря которой он получает смысл и значение. Это утверждение не отрицает факта отнесенности знаков к объектам и того, что они обозначают объекты; но эти отношения создаются деятельностью, являются продуктами и элементами деятельности и могут быть поняты только с этой точки зрения.
6. Другая трудность в изучении знака состоит в том, что он является средоточием многих разнородных отношений и связей, объединяет в одну целостную систему элементы разного рода и сам, следовательно, существует только на пересечении этих разнородных отношений. Общеизвестно и часто фиксируется, что знак существует в своем качестве знака лишь благодаря тому, что люди относятся к нему как к знаку, благодаря тому, что они понимают его как знак и приписывают ему определенный смысл. Знак, следовательно, оказывается включенным в сферу человеческого сознания и вне ее, казалось бы, не может оставаться таковым. С другой стороны, столь же признанно, что условием понимания знака и отношения к нему как к знаку являются системы культуры и, в частности, те или иные системы грамматик. Общность систем грамматик является непременным условием адекватного понимания знаковых текстов разными людьми. Таким образом, знак как таковой существует лишь постольку, поскольку существует понимающее его сознание и обеспечивающие это понимание системы культурных средств. Но, сказав это, мы фактически оказываемся приведенными к вопросу, что же представляет собой это существование знака. Как правило, мы стремимся мыслить его по аналогии с существованием других вещей нашего обихода — столов и стульев, хотя уже достаточно очевидно, что знак имеет какое-то принципиально иное существование — в деятельности, социальное, собственно знаковое. Эти формы существования мы и должны прежде всего определить, причем определить в категориальном плане, чтобы иметь возможность обсуждать, что такое знак, знаковая система и речь-знак как знаковая система. Формулируя это в виде собственно научных задач, мы должны сказать, что нужно определить вид и форму существования знака как объекта принципиально нового, особого типа и найти особые графические средства для изображения и моделирования особой сущности таких объектов.
В качестве таких средств предлагаются средства системно-структурных изображений.
В настоящее время создание и обработка категорий системно-структурного исследования представляет одну из важнейших задач всей науки. Суррогаты этих категорий, широко используемые сейчас в разных науках, неудовлетворительны; но в языкознании они употребляются больше всего и, наверное, самым неточным образом. Поэтому одна из важнейших задач развития языкознания в ближайшем будущем — детальное и тщательное обсуждение принципов и методов системно-структурного и структурно-функционального анализа.
7. Поскольку знак выступает как средоточие многих разнородных связей и отношений и является по сути дела связкой этих связей и отношений на одном материальном носителе, важнейшей методологической проблемой становится определение порядка выделения и исследования этих связей и отношений в зависимости друг от друга. Иными словами, нужно определить весь набор и строение предметов исследования, которые могут и должны быть созданы на таком объекте, каким является знак.
8. По традиции систему знаков понимают обычно как конструктивную организацию из отдельных знаков; иными словами, знаковая система в современном смысле — это совокупность знаков-атомов. В противоположность этому мы считаем, что определить знаковую систему значит задать всю ту совокупность отношений и связей внутри человеческой социальной деятельности, которые превращают ее, с одной стороны, в особую «организованность» внутри деятельности, а с другой стороны — в органическую целостность и особый организм внутри социального целого. Именно на этом пути мы впервые получаем возможность соединить развитые в лингвистике представления о речевой деятельности, речи и языке с семиотическими понятиями знака и знаковой системы. Иными словами, главное в исследовании знаковых систем — не «внутренние» связи между знаками, а «внешние» связи знаковой системы с другими составляющими социального целого. Уже затем «внутренние» связи должны быть введены в соответствии с «внешними». В этом плане знаковая система должна рассматриваться как удовлетворяющая (1) теоретико-деятельностному принципу структурного противопоставления средств, процессов и продуктов, (2) социологическому принципу структурного противопоставления «нормы» и «социального объекта» как реализации нормы, (3) социально-психологическому принципу формирования сознания индивидов путем усвоения средств и норм культуры.
Подобный подход к знаковым системам и речи-языку как к знаковой системе особого рода представляется нам наиболее перспективным именно потому, что он включает речь-язык в широкую систему социальных явлений и позволяет рассматривать все одновременно в двух планах — как естественно развивающееся социальное явление и как искусственно конструируемое и нормируемое социальное образование. На этом пути мы можем надеяться определить как специфику социального объекта изучения, так и специфику изучающей его науки.
Чтобы определить внутреннюю структуру знаковых систем вообще и речи-языка как особой знаковой системы, мы должны рассматривать их сквозь призму основных процессов, протекающих в социальном целом: 1) воспроизводства и трансляции, 2) функционирования и 3) развития.
9. Многообразие средств деятельности, каналов трансляции, обеспечивающих воспроизводство, и норм культуры ставит перед нами в качестве важнейшего вопрос о взаимодействии и соединении различных средств при создании тех или иных продуктов деятельности, в частности, речевых текстов. Определение статуса языковых грамматик и языка невозможно без учета этого многообразия средств и их взаимодействия в деятельности. При этом обнаруживается, что если сохранять соссюровское противопоставление речи и языка внутри речевой деятельности, то «язык» не может быть знаковой системой, а является системой знаний (тот факт, что эти знания тоже выражаются в знаках, не имеет никакого значения). В этом плане «язык» как выраженный в системах грамматик оказывается сопоставимым с «мышлением» как выраженным в системах логики (логического синтаксиса). Если же пытаться определять «язык» как знаковую систему, то придется ввести принципиально новый структурный объект и определять его искусственно, как бы внутри заданной таким образом системы: язык — это речевые тексты, нормируемые в одном из своих аспектов системами семиотических знаний. Здесь отчетливо выступает различие между знаковым существованием речи и языка и знаковым нормированием «речи-языка» как особой социальной системы. Становится ясным, что современные попытки построить теорию «речи-языка» как знаковой системы связаны с новыми направлениями проектирования и нормирования «речи-языка» как социального образования.
10. Эти результаты ставят перед нами вопрос об отношении традиционного объекта лингвистики и объекта языкознания как семиотической дисциплины. Решение его невозможно, по-видимому, без учета развития рефлексивных отношений в современном познании и проектировании и без учета различий в непрерывно сменяющихся позициях человека как исследователя и проектировщика.
Смысл и значение[243]
I. Введение в проблему: лингвистический и семиотический подход в семантике
1. Специальный методологический анализ развитых естественных наук показывает, что работа в них характеризуется постоянным вниманием и интересом не только к объекту изучения, но и к тем средствам анализа, которые дают возможность этот объект «ухватить» и воспроизвести в знании [1958 а*; 1964 а*, {с. 157–165}]. В силу этого мысль исследователя поляризуется и как бы фокусируется в двух разных «точках» — на объекте, фиксированном в знании, и на понятии, которое задает схему знания и реализуется в ней.
В абстрактном плане этот тезис принимается как достаточно очевидный. И точно так же не вызывает особых затруднений чисто теоретическое различение и противопоставление объекта изучения и средств анализа. Но в реальной практике работы исследователь всегда имеет дело не с объектами изучения как таковыми и не со средствами их анализа в чистом виде, а с конкретными знаниями, фиксирующими то или иное объективное содержание, и в знании эти два аспекта — аспект объекта и аспект средств — не просто теснейшим образом связаны между собой, а можно даже сказать — склеены, существуют как нечто одно, и разделить их как в вопросах, так и в ответах очень трудно, а без специальной техники анализа и просто невозможно. Поэтому в развитых естественных науках противопоставление объектов изучения и средств анализа может существовать и существует только благодаря сложной иерархированной организации этих наук {1964 а*, {с. 157–170, 172–179, 187–195}; 1965 b; 1968е; 1966а, {с. 211–227}; Пробл. иссл. структуры… с. 116–189] и специальной логической культуре самих исследователей.
2. Склеенность и неразделенность аспектов объекта и аспектов средств, характеризующая знание, отчетливо проявляется и в языковедении. Когда, к примеру, мы спрашиваем, что представляет собой лексическая система того или иного языка, каковы лексические значения одной или другой группы слов и как эти значения относятся к смыслу этих же слов в тексте, то это всегда вопросы не только по поводу объекта — каков он есть, но вместе с тем и вопросы по поводу используемых нами средств-понятий — что они собой представляют и могут ли они употребляться в анализе и описании этих объектов. Можно сказать, что в каждом из подобных вопросов содержится, по сути дела, два разных вопроса: один относится к этой лексической системе, а другой — к понятию лексической системы, один — к значению этого слова, а другой — к понятиям значения и смысла, ибо в языковедческом исследовании именно общие понятия значения, смысла, лексической системы и т. п. являются теми средствами, которые дают нам возможность получать конкретные лингвистические знания.
Но эта двойственность всякого подобного вопроса и необходимых на него ответов отнюдь не всегда осознается и учитывается. Более того, на практике очень часто получается, что в своем стремлении «как можно скорее» познать и описать объект мы отодвигаем на второй план или вовсе не учитываем все, что касается наших собственных средств. Стремясь получить ответы на вопросы о строении лексической системы выбранного нами языка или лексическом значении определенного слова, мы мало размышляем над тем, откуда взялись сами понятия «лексическая система», «значение» и «лексическое значение», каково их содержание и непременная категориальная форма, забывая, что именно эти моменты предопределили наши вопросы в отношении изучаемых объектов и характер возможных на них ответов. В итоге мы слишком часто обращаем наши вопросы непосредственно на объекты, в то время как их нужно было бы сначала направить на наши средства, на используемые нами понятия и лишь после этого обратиться к испытаниям самих объектов.
3. Другая типичная ошибка, обусловленная той же самой наивно-онтологической ориентацией, состоит в том, что даже свои обращения к средствам, к чистым понятийным конструкциям, когда такое случается, мы часто осознаем и трактуем как эмпирическое изучение объекта.
Очень характерен в этом плане упрек, брошенный Л. Вайсгербером в адрес традиционной семантики: она, по его мнению, изучала изменения значений отдельных слов, но не изучала значения как такового [WeiSgerber, 1930, с. 18–19]. Само по себе это — неоспоримое суждение, и оно заставляет задуматься, но выводы из него должны быть, на наш взгляд, значительно более радикальными, нежели те, которые сделал Л. Вайсгербер (во всяком случае в методологическом плане): если мы в определенной ситуации «изучаем» изменения значений отдельных слов, то не можем «изучать» значение вообще, значение как таковое; последнее выступает в этой ситуации как общий шаблон, как средство, которое нужно нам, чтобы единообразным способом организовать изучение значений отдельных слов (и именно в этой функции должно осознаваться и присваиваться исследователем).
Если же ставить вопрос о происхождении подобных «общих шаблонов» и средств исследования, то придется сказать, что чаще всего они возникают в качестве методологических схем млн методологических понятий, создаваемых нами в совсем ином слое мыслительной работы и по иным логическим нормам, нежели те, которые характерны для описания конкретных значений.
В ряде работ мы обсуждали, используя разнообразный материал, различные аспекты отношения между «знанием» и «методологической схемой», превращающейся в «понятие-средство»: в уже названной выше работе [1958 а*} было показано, как ситуация парадокса, т. е. противоречия между двумя знаниями об одном и том же объекте, заставляет исследователя обращаться к понятиям, на основе которых были получены эти знания, и трансформировать их таким образом, чтобы снять и преодолеть зафиксированную парадоксальность; в работе [1966а*} мы рассматривали, с одной стороны, условия образования собственно методических положений и инженерных средств (см. также [Разин, 1967 b, с. 78–92]), а с другой стороны — условия и механизмы инженерной и естественнонаучной объективации этих средств (во многих случаях связанные также с «оестествлением», или «натурализацией» соответствующих предметов мысли); наконец, в работе [1967 d] были проанализированы связи методических средств с научными и историческими знаниями в системе кооперации методологической работы.[244]
4. Столь резкое и бескомпромиссное противопоставление знаний, всегда отнесенных к тем или иным объектам (конкретно-эмпирическим или идеальным), и средств исследования, в частности методологических схем, организующих нашу исследовательскую деятельность, но не имеющих непосредственной связи с объектами изучения, с необходимостью приводит к вопросу: за счет каких мыслительных процедур получаются или вырабатываются эти средства, методологические схемы и относящиеся к ним методологические знания, например в языковедении, и каким образом обеспечивается их познавательная мощь и эффективность.
Если оставаться в рамках указанных выше ситуаций предметной исследовательской деятельности (ср. [1964 а*, {с. 163, 165–170}; Пробл. иссл. структуры… с. 116–173]), то ответ может быть только один: все эти схемы конструируются в языковедении соответственно их функции быть средствами получения знаний о конкретных рече-языковых явлениях. Следовательно, нельзя говорить, что методологические схемы, а дальше понятия, к примеру «смысл» и «значения», не связаны с эмпирическим материалом, характеризующим отдельные смыслы и значения; такое утверждение было бы неверным. Но точно так же нельзя говорить, что понятия «смысл» и «значение», выступающие в этой ситуации в роли средств, позволяющих строить конкретные знания об отдельных смыслах и значениях, получаются путем абстрагирования или обобщения чего-то заключенного в эмпирическом материале, характеризующем эти смыслы и значения. Связь схем и понятий «смысл» и «значение» с этим материалом является телеологической, она подобна той связи с материалом, которая имеется у всех орудий: колесо является круглым не потому, что оно выражает свойство, абстрагированное у какого-либо предмета, а для того, чтобы оно могло катиться по дороге. И точно таким же образом детерминируются свойства всех инженерных конструкций; вопрос «почему» является для них вторичным, а главными и определяющими являются вопросы «зачем» и «для чего». Именно в этом плане мы можем говорить, что методологические понятия «смысл» и «значение» являются конструктами, что они нами конструируются в соответствии с их функцией в познавательной деятельности.
В наглядной форме это отношение между методологическими схемами, знаниями и эмпирическим материалом, характеризующим жизнь отдельных значений, представлено на схеме 1.
Самым важным здесь является то, что знания о конкретных смыслах или значениях определяются не только и не столько эмпирическим материалом лингвистики, сколько методологическими схемами анализа этого материала: можно сказать, что эти схемы-средства (а дальше понятия) «смысл» и «значение» управляют образованием знаний о конкретных смыслах и значениях.
5. Другим не менее важным моментом является то, что изучение и описание конкретных смыслов и значений на базе и с помощью методологических схем (а затем понятий) «смысл» и «значение» само по себе не делает и не может сделать каких-либо вкладов в развитие и совершенствование самих этих схем и понятий. Единственное, чего мы здесь можем достичь, это опровержения используемых нами схем и понятий, если значительная часть наших конкретных описаний окажется неудовлетворительной и если к тому же мы сами будем настолько прозорливыми, что увидим за этим неудовлетворительность используемых нами средств (ср. [1958 а*, (с. 582–589}]).[245]
Именно в этой (и именно таким образом понимаемой) ситуации в полной мере действует принцип фальсификации К. Поппера (см. [Popper, 1959], а также [Criticism… 1970; Лакатос, 1967]). Но нам сейчас важен другой поворот, другое, чуть ли не обратное употребление этого принципа: что бы мы ни делали в анализе конкретных смыслов и значений (повторяем, именно в такой упрощенной ситуации), это ровно ничего не прибавит к нашим понятиям «смысл» и «значение».
6. Все сказанное выше ни в коем случае нельзя понимать так, что конструктивное происхождение понятий «смысл» и «значение» обрекает их и дальше всегда быть безобъектными и совершенно исключает возможность собственно научного изучения смысла и значения вообще и их эмпирического изучения в частности. Утверждается лишь, что смысл вообще и значение вообще не могут выявляться и изучаться на том самом эмпирическом материале и в той самой действительности, в которой существуют и изучаются отдельные конкретные смыслы и значения. Нельзя забывать, что понятие средства является функциональным и характеризует лишь способ существования каких-то содержательных выражений в более широкой системе. Поэтому понятия «смысл» и «значение» могут рассматриваться в качестве средств анализа лишь в отношении к конкретным смыслам и значениям, и точно так же лишь на этом этапе конструктивного порождения их содержание задается употреблениями их как средств, т. е. инструментальным отношением к эмпирическому материалу и к знаниям, характеризующим конкретные смыслы и значения. Но затем, когда понятия «смысл» и «значение» уже созданы как методологические схемы, когда они начинают употребляться и в связи с этим употреблением конструктивно развертываются в логике средств описания конкретных смыслов и значений, неизбежно встает вопрос об их онтологическом статусе, о форме и способе объектного существования того содержания, которое в них зафиксировано и непрерывно подтверждается и умножается в каждом новом употреблении схемы или понятия при образовании знания.
Так, к примеру, «скорость движения тела» первоначально — лишь отношение численных значений пути и времени, средство сравнить между собой два движения, совершавшихся в разных местах и в разное время (см, [1958 а*]), но затем мы ставим вопрос, в чем сущность «скорости», что именно в объекте она фиксирует и выражает. И точно так же «масса тела» возникает первоначально как отношение численных значений силы и ускорения тела, вызванного действием этой силы, как средство сравнения «сопротивления» разных тел действию силы, но затем мы ставим вопрос об объективной сущности этой характеристики и находим ее в таком свойстве тел, как их «инерциальность» (см. [Мах, 1909; Овчинников, 1957; Джеммер, 1967, с. 56–65]). Но нечто подобное происходит и со всеми другими средствами-понятиями: эффективное употребление их в какой-то определенной предметной области вызывает соблазн — и он вполне оправдывается успехами существующих наук — объективировать их, сделать моделями, найти или на худой конец сконструировать для них идеальные объекты и этим объектам приписать «естественные» (или «псевдоестественные») законы жизни, чтобы они могли существовать подобно эмпирическим объектам нашей практики, и таким образом превратить методологические схемы и предписания в описания и тем самым в знания (в прямом и точном смысле этого слова). И если это удалось сделать естественным наукам с понятиями «движение», «работа», «теплота», «энергия» и т. д., то почему, спрашивается, нельзя надеяться на успех этой же процедуры с понятиями «смысл» и «значение». Важно только уяснить, что этими объектами будут идеальные объекты и их действительность первоначально будет лежать совсем в ином плане, нежели действительность конкретных смыслов и значений — на нашей схеме (схема 2) она лежит перпендикулярно к последней — и эта новая действительность потребует для своего описания совсем особого научного предмета (ср. [1969 b, с. 84–92]), характеризующегося среди прочего также и своим особым эмпирическим материалом.
7. В этом месте мы подошли к одному из наших важнейших утверждений. Задание особой идеальной действительности, в которой существуют смыслы и значения вообще, конструирование модельных изображений этих сущностей, трактуемых теперь в качестве объектов особого рода, установка на эмпирическую проверку этих изображений, а значит, и на исследование самих этих объектов — все это, как и в других областях инженерии и науки, приводит к тому, что средства языковедческого анализа конкретных смыслов и значений выделяются из исходного языковедческого предмета и начинают развертываться (теперь уже как знания) в рамках другого (методологического или собственно научного) предмета.
Непосредственным стимулом к выделению и оформлению новых предметов такого рода служат «метафизические» вопросы: что такое смысл вообще и что такое значение вообще, где и по каким законам они существуют, — к ним в конце концов приводит всякое языковедческое изучение семантики различных языков независимо от рамок выбранной концепции. Но так как все эти вопросы встают непосредственно в контексте лексикографического и синтаксического анализа и ответы на них, как представляется, могли бы оказать существенную помощь в организации и проведении этой работы, то обычно не выделяют того момента, что по своему характеру эти вопросы таковы, что выталкивают исследование, отвечающее на них, далеко за пределы не только лексикографии, лексикологии и синтаксиса, но и вообще за пределы лингвистики.
Но положение именно таково: все эти вопросы могут быть поставлены в рамках традиционной языковедческой, и в частности лексикографической или синтаксической, работы, и они там были поставлены, но получить на них ответ в предмете лингвистики в принципе невозможно; Для этого нужна другая дисциплина, с иным подходом к предмету, с иными средствами и методами анализа. Так в области того, что традиционно называлось «семантикой», появляются две существенно разные дисциплины — «лингвистическая семантика» и «семиотическая семантика», — которые жестко разделены между собой если не китайской стеной, то, во всяком случае, весьма отчетливой границей, и всякий переход через эту границу должен четко фиксироваться и осознаваться, ибо жизнь и работа каждой из этих дисциплин требуют своих особых средств и особых методов.[246]
И до тех пор, пока это не будет понято, нам не удастся организовать эффективных разработок, отвечающих на вопросы общего порядка: что такое «смысл», «значение», «знак», каковы основные типы значений, как они функционируют в речевой деятельности людей и каким законам подчинено их развитие.
Именно по этому пути разделения и иерархизации своих научных дисциплин идет сейчас или, во всяком случае, пытается идти наука о речи-языке. Но ее развитие затрудняется и во многом сковывается тем, что в идеологии и методологии самого языковедения до сих пор не было выработано и не сформировалось отчетливого понимания различия между действительностью знаний и действительностью средств-понятий. До сих пор ведущие лингвисты — как теоретики, так и методологи — не понимают и не хотят признать того, что если мы хотим строго научно исследовать системы лексических значений различных языков, если мы хотим разделить, к примеру, семантические и синтаксические компоненты лексических значений, если мы хотим провести какой угодно анализ смысла или значения какого-либо слова, то во всех этих случаях должны предварительно сконструировать — именно сконструировать, а не исследовать — методологические схемы и понятия «смысл», «значение», «семантическое значение» и т. п., а это значит также (и притом в первую очередь) построить и задать те онтологические картины и модели, в рамках которых могут быть развернуты эти схемы и понятия.
Именно этой установкой, осознанной и возведенной в принцип, отличается наш подход к проблеме смысла и значения; если в других семиотических и собственно лингвистических работах ставится задача исследовать на эмпирическом материале разнообразные лексические и синтактико-морфологические значения, то мы, наоборот, подчеркиваем необходимость предварительно сконструировать понятия смысла и значения, причем сконструировать их так, чтобы они могли служить средствами при анализе и описании конкретных смыслов и значений, а из этого следует, что на передний план мы выдвигаем саму конструктивную процедуру, составляющую ядро научного исследования, и настаиваем на правильном и последовательном осуществлении ее.[247]
II. Две ориентации в анализе смысла и значений знаковых выражений — «натуралистическая» и «деятельностная»
1. Изложенная выше установка, критическая и весьма радикальная по отношению к языковедческой традиции, не является чем-то совершенно новым для философии и логики. «Логос» Аристотеля, «лекта» стоиков, «интенции» и «суппозиции» средневековых схоластов, «концепт» Абеляра и «понятие» Гегеля — все это, по сути дела, разные попытки ввести ту идеальную действительность, в которой могли бы существовать, изменяться и преобразовываться «смыслы» и «значения». И позднее многие исследователи, в рамках этих действительностей и вне их, пытались создать такую рациональную конструкцию «смысла» и «значений», которая представила бы их в виде особых идеальных объектов и позволила бы нам изучать их строго научно. Но ни одному из них (в том числе Г. Фреге, Д. Гильберту и Ч. Моррису) не удалось решить этой проблемы, и поэтому до сих пор ни в логике, ни в эпистемологии, ни в семиотике не существует понятий смысла и значения, несмотря на то, что все признают их исключительную важность и даже ключевую роль во всех названных дисциплинах (ср. [WeiSgerber, 1930, с. 43]).[248]
2. Такой результат вряд ли можно считать случайным. Но если он, наоборот, закономерен, нужно перевернуть всю проблему и искать основные причины и источники столь устойчивых, постоянно повторяющихся злоключений анализа, нужно найти тот слой мыслительных средств, которые их вызывают и изменение которых, напротив, могло бы сдвинуть дело с мертвой точки.
На наш взгляд, эта причина и источник заключены прежде всего в бедности того категориального аппарата, с которым мы подходим к исследованию знаков. А она, в свою очередь, обусловлена той онтологией и теми формами видения мира, которые принято называть «натурализмом», и недостаточной разработанностью альтернативной, «деятельностной» картины мира.
В других словах, основной недостаток всех предложенных до сих пор подходов в исследовании знаков (в частности, их смыслов, значений, значимостей и «содержаний») заключается, по нашему убеждению, в том, что не учитывается принципиальное отличие их как объектов и предметов изучения от всех других предметов, в исследовании которых естественные науки достигли к настоящему времени известных успехов; в результате все существующие концепции знака и речи-языка как знаковой системы дают недопустимо переупрощенное представление о них и делают невозможной разработку новых эффективных методов исследования.
3. В частности, во всех теоретических подходах к знаку до сих пор совершенно отсутствовал анализ конструктивно-нормативной работы, порожденной специфическими условиями и механизмами воспроизводства деятельности, и ее влияния на различные аспекты существования знака.[249]
Этот момент может казаться удивительным, так как в самом языковедении конструктивно-нормативная работа всегда преобладала над другими. Но такова уж сила теоретических предрассудков: гипноз естественнонаучного подхода, возобладавшего с начала XIX столетия, с его представлениями объекта изучения как объекта созерцания и общим невниманием к процессам и механизмам деятельности,[250] заставлял и заставляет языковедов закрывать глаза на практику собственной работы, на то бесспорное обстоятельство, что они сами строят и преобразуют язык, стремясь управлять его развитием (см. [1969 b]).
4. Одним из существенных следствий неуместного употребления «натуралистической идеологии» в лингвистике, логике и семиотике явилось смешение «значений» либо со «смыслами» знаковых выражений (и далее — с их психологическими производными), либо с «содержаниями» знаний, зафиксированных в знаковых выражениях, — с означаемыми, денотатами, десигнатами, операциями и т. п. Напротив, анализ разных видов деятельности, внутри которых создается и живет язык, в том числе конструктивных видов деятельности, впервые дает основание для анализа знаков объективными методами и позволяет различить и четко определить их «смыслы» и «значения», противопоставив их «содержаниям» знаний.
III. Структура знака с деятельностной точки зрения — смыслы, значения, знания
Понимание сообщения и смысл
1. Рассмотреть «смыслы» и «значения» с деятельностной точки зрения — это значит, прежде всего, ввести и изобразить в соответствующих схемах такие системы деятельности (или системы, принадлежащие к деятельности), относительно которых «смыслы» и «значения» являются элементами и частичными организованностями; это даст возможность выводить затем функции и основные характеристики строения этих элементов, исходя из наших представлений о процессах и механизмах функционирования и развития систем деятельности.
Действуя согласно этому принципу, предположим на первом этапе анализа, что для «смысла» такой системой, принадлежащей к деятельности, является система акта коммуникаций (схема 3), включающая:
(1) действия первого индивида в некоторой «практической» ситуации,
(2) целевую установку, делающую необходимой передачу определенного сообщения второму индивиду, (3) осмысление ситуации с точки зрения этой целевой установки и построение соответствующего высказывания-сообщения-текста, (4) передачу текста-сообщения второму индивиду, (5) понимание текста-сообщения вторым индивидом и воссоздание на основе этого некоторой ситуации возможного действования, (6) действия в воссоздаваемой ситуации, соответствующие исходным целевым установкам второго индивида и содержанию полученного им сообщения.
Все перечисленные моменты достаточно очевидны и вряд ли кто-нибудь скажет, что они не должны входить в акт коммуникации; другое дело — являются ли они основными в интересующем нас плане и дают ли достаточно полное представление об акте коммуникации в целом? Но вводимая нами схема и не претендует на это; она призвана лишь указать на рассматриваемую объектную область, примерно очертить ее границы, а сама система и структура акта коммуникации остаются пока открытыми и могут развертываться как интенсивно, так и экстенсивно.
Для нас существенно лишь то, что пока эта схема не включает «смыслы» — ведь они не являются непосредственно фиксируемыми «со стороны» моментами акта коммуникации, — и, следовательно, мы должны будем проделать еще специальную работу, чтобы, исходя из уже перечисленных или вновь добавляемых моментов, ввести их изображения. При этом, естественно, нам придется затронуть и обсуждать вопрос, что есть «смысл» и как он существует в деятельности.
2. Обыденное употребление слов «понимает» и «смысл» наталкивает на то, чтобы определить «смысл» как то, что понимается нами при прочтении текста; и многие исследователи прямо переносят это представление из обихода в науку;[251] тогда оно мыслится в ряду подобных же определений: «то, что воспринимается», «то, что преобразуется», «то, что получается» и т. д., и «смысл» в силу этого выступает либо как предмет понимания, либо как его продукт.
Однако такое определение «смысла», совершенно естественное, само собой разумеющееся и, как представляется, схватывающее суть, на деле оказывается мнимым: оно не имеет ни операционального, ни онтологического содержания. Это становится совершенно очевидным как только мы задаем вопрос: что же понято нами в том или ином тексте? Когда пытаются ответить на него, то строят новый текст или какое-либо изображение, которые должны выразить «то же самое», что было выражено в исходном тексте. И нам остается одно из двух: либо объявить эти вторичные тексты и изображения самим смыслом (игнорируя при этом совершенно очевидные соображения, показывающие, что это не так[252]), либо же признать «смысл» такой сущностью, которая может только пониматься и никогда не может быть представлена в специальных, моделирующих и понятийно фиксирующих ее знаниях.
Эти затруднения, возникающие при попытках научно зафиксировать и описать «смысл» исходя из актов понимания, объясняются в первую очередь тем, что понимание как таковое не является продуктивной деятельностью и поэтому «смысл» не может рассматриваться и трактоваться по схеме предметов и продуктов понимания.
Не снимает всех этих затруднений и попытка рассмотреть понимание как переход от текста к ситуации: ведь ситуацию, взятую в наборе ее основных вещественных элементов, никак нельзя считать продуктом понимания; и даже если предположить, что ситуация является мысленной и потому — идеальной, то все равно мы должны будем рассматривать ее как порождение мышления, а отнюдь не как порождение чистого понимания (см. [1973е*]). И точно так же, если определять процесс понимания как переход от ситуации к тексту, то опять-таки текст будет продуктом мышления и речевой деятельности, а не понимания как такового, хотя понимание, бесспорно, будет участвовать на каких-то ролях в образовании текста.
Итак, «действительность» ситуации, которую мы восстанавливаем по тексту, является продуктом практической деятельности и мышления (вместе со всем тем, что в них входит и их обслуживает); эта «действительность» фиксируется в знаниях, вплетенных в деятельность, и может рассматриваться в качестве их содержания; более узко и более точно — эта действительность выступает в качестве «содержания» того знания, которое обеспечивает связь мышления с практической деятельностью и которое как бы снимает их в себе. Когда мы понимаем текст, то параллельно и одновременно мы мыслим и вырабатываем знания, которые переводят то, что мы понимаем, в форму «содержания»,[253] а затем, когда мы начинаем действовать, — в форму «действительности» нашей деятельности.
Но из того, что мыслительная деятельность и понимание развертываются одновременно, параллельно и в тесной связи друг с другом, нельзя делать вывода, что они совпадают или что понимание производит то, что на деле является продуктом мыслительной деятельности; повторяем, понимание, пока оно не стало особым видом деятельности, непродуктивно и само по себе не порождает и не может породить «смыслы». Но тогда, спрашивается, что такое «смысл», как он получается (или создается) и как связан с актами понимания.
3. Основная гипотеза, которую мы выдвигаем, отвечая на эти вопросы, состоит в том, что на уровне «простой коммуникации»,[254] представленной на схеме 3, не существует никакого «смысла», отличного от самих процессов понимания, соотносящих и связывающих элементы текста-сообщения друг с другом и с элементами восстанавливаемой ситуации.
То, что соотносится и связывается в процессе понимания, то и понимается; поэтому, характеризуя «простую коммуникацию», можно сказать, что мы понимаем какие-то элементы текста или текст в целом, можно сказать, что мы понимаем место и роль тех или иных элементов ситуации или же ситуацию в целом, но нельзя сказать, что мы понимаем смысл текста или смысл ситуации; все выражения такого рода для индивидов, объединяемых актом «простой коммуникации», либо являются неправильными, либо несут совершенно иное содержание.
По сути дела то, что мы сказали, равносильно утверждению, что «смысла» не существует, а существуют лишь процессы понимания. И мы настаиваем на том, что это утверждение истинно, но не вообще (как это трактовалось бы при натуралистическом подходе), а только для мест, связанных «простым» актом коммуникации. В рамках деятельностного подхода, следовательно, сделанное нами утверждение по сути дела содержит в себе указание на то, что «смысл» появляется или должен появиться дальше — в более сложных системах деятельности и на каких-то других местах.[255]
Таким местом, на наш взгляд, является место исследователя, находящегося вне исходного акта коммуникации и вынужденного каким-то образом оперировать с процессами понимания при структурном или морфологическом описании других моментов акта коммуникации — мышления, деятельности, речи, текстов, языка и т. п. (схема 4). И хотя ему в акте коммуникации противостоят процессы понимания и нет ничего такого, что мы привыкли понимать под словом «смысл», этот исследователь говорит именно о «смысле», а не о процессах понимания, ибо он вынужден (для того, чтобы решить стоящие перед ним исследовательские задачи) представить эти процессы соотнесения и связывания разных элементов текста друг с другом и с элементами ситуации в виде соотнесенности и связности этих элементов, в виде сети статических отношений между ними, в виде структуры.
В методическом плане этот прием изображения и фиксации процессов отработан уже давно: когда античная физика столкнулась с проблемами описания и моделирования движения, то она обратилась прежде всего к «следам» этих движений; когда в контексте анализа этих «следов» были решены основные задачи соотнесения дискретных числовых характеристик с непрерывными графическими представлениями (см. [Аристотель, 1937 с]), появилась возможность фиксировать и изображать в виде линий и отрезков изменения любых параметров, характеризующих объекты, и на этой основе затем стала разрабатываться геометрия различных идеальных пространств. После этого продвижение в каждой содержательно-предметной области стало определяться в первую очередь успехами в разработке статических форм описания и фиксации характерных для этой области процессов.[256]
Следуя по этому же пути, исследователь актов коммуникации и, более узко, процессов понимания должен прежде всего выработать и ввести специальный язык для статической фиксации этих процессов. Здесь многое происходит подобно тому, как это происходило в естественных науках. Но есть и очень существенные отличия. Первое из них состоит в том, что сами процессы в акте коммуникации являются значительно более сложными, чем процессы в механическом движении, и это приводит к неимоверному усложнению самого языка описаний. Второе отличие связано с тем, что знания о деятельности и их содержание имеют в деятельности принципиально иное существование, нежели знания о природе, и это проявляется, в частности, в их отношении к своему объекту. Если, к примеру, в рамках натуралистического подхода, изобразив процессы понимания в структурных схемах, мы так бы и говорили, что это — изображения процессов понимания и их содержание не имеет никакого другого реального существования, кроме как в своем объекте, то в рамках деятельностного подхода, наоборот, мы должны сказать, что статические структурные изображения процессов понимания, созданные на определенном месте в системе кооперации, задают и фиксируют действительность совсем особого рода, которая, благодаря различию мест социальной кооперации, имеет свое собственное существование, отличное от существования процессов понимания.[257] Эта особая действительность, создаваемая исследователем при статической фиксации процессов понимания, и есть то, что называется «смыслом» (схема 5).
4. После того как структурное изображение процессов понимания сложилось и оформилось, оно начинает разнообразно употребляться — в разных отношениях к объекту и в разных позициях.
Одно из этих употреблений — так называемая формальная онтологизация: структурная схема рассматривается как изображение самостоятельной структурной сущности, «смысла» как такового; при этом между изображением и тем, что изображается, устанавливается полное соответствие — и это совершенно естественно, ибо само изображаемое получилось путем простого удвоения изображения и приписывания одному из дубликатов статуса объективной сущности (ср. [1960 с*, 1-11; 1966 е; 1967 f; 1968 d]).
Это употребление структурных схем приводит и к соответствующей трактовке самого «смысла»: он определяется как та конфигурация связей и отношений между разными элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создается или восстанавливается человеком, понимающим текст сообщения.[258] Весьма эффективные во многих практических и исследовательских ситуациях, эти определения, естественно, не годятся при исследовании процессов понимания; все, что может быть извлечено из них в отношении самого смысла, ограничивается формально-категориальными характеристиками использованных схем.
Другие употребления этих схем предполагают уже четкое противопоставление и соотнесение статики «смысла» и кинетики понимания; во всех этих случаях понимание мыслится сквозь призму структуры «смысла», а «смысл» — сквозь призму процессов понимания, но конкретное представление того и другого зависит от того, какое из этих образований мы ставим во главу угла и каким образом соотносим и связываем одно с другим.
Наиболее распространенный вариант решения этой проблемы заключается в том, что структурная схема онтологизируется уже в исходном пункте анализа и трактуется как выражение некоторых объективных, можно сказать «натуральных», условий процесса, а сам процесс привязывается затем к этим структурным схемам, как бы вписывается в них. Нередко структурные схемы такого рода рассматриваются как изображения каналов связи, по которым «текут» исследуемые процессы; в частности, на такой трактовке построены все современные системотехнические (кибернетические) концепции мышления и понимания (см. [Ньюэлл, Саймон, 1965; Гелернтер, Рочестер, 1965; Ньюэллидр., 1965], а также [1968 b; Дубровский, 1968]). Ясно, что при таком подходе отношения между реальными процессами в объекте и их изображениями в знании перевертываются на обратные — стратегия очень выгодная при реализации инженерно-конструктивных замыслов, но совершенно неприемлемая в научных исследованиях.
Другой вариант решения этой проблемы зиждется на сознательном использовании приемов методологического мышления, в частности — приема многих знаний (см. [1964а*, {с. 155–178}; 1966 с*]). В этом случае мы с самого начала фиксируем принципиальное различие и расхождение между категориальными характеристиками используемых нами изображений и характеристиками того, что является объектом нашего анализа, но не отказываемся на этом основании от изображений, считая их необходимыми, а лишь располагаем то и другое как бы в один ряд и начинаем развертывать предмет изучения, работая сразу с несколькими разными изображениями и представлениями объекта; за счет этого появляются новые значительно более богатые возможности для анализа и конструирования. Методологические приемы мышления позволяют исследователю идти от описания процессов понимания к структурным схемам смысла и развивать последние в соответствии с характеристиками процессов; и эти же приемы позволяют ему идти от структур смысла к процессам понимания, членя и организуя последние соответственно возможностям структурных схем (см. [1973 е*; 1974 d]). Методы этих двусторонних исследований завершаются и оформляются в категории системы, устанавливающей необходимые формальные связи между описаниями процессов, функциональных структур, организованностей материала и морфологии сложных объектов (см. [1974 с*; Гущин и др., 1969]). Применение этой категории в исследовании интересующей нас области дает возможность объединить процессуальные характеристики понимания и структурные характеристики смысла в едином системном представлении актов понимания-осмысления [1974 d].
5. Но кроме охарактеризованных таким образом употреблений схемы смысла и всех связанных с нею представлений во «внешних» исследовательских позициях возможны и существуют еще вторичные или неспецифические употребления их в позициях, заданных актом коммуникации.[259]
При этом идет двойной процесс: с одной стороны, представления о смысле, выработанные во «внешних» позициях, изменяются, приспосабливаясь к особенностям деятельности и поведения на «внутренних» местах в акте коммуникации, с другой стороны, сама деятельность в этих «внутренних» позициях изменяется и перестраивается под влиянием этих представлений, задающих новое содержание и новую действительность.
Если выше мы подчеркивали, что в «простом» акте коммуникации нет и не может быть «смысла» как такового, то теперь, рассматривая этот акт в кооперативной связи с более «высокими» исследовательскими позициями, мы можем сказать, что «смысл» там появляется, но не как таковой, а в форме особого представления, в форме знания о смысле, которое выступает в качестве средства, организующего процессы понимания. Теперь участники акта коммуникации могут понимать не только ситуацию и текст, но также «смысл ситуации» и «смысл текста», поскольку они знают об их существовании и знают, что «смысл» — это общая соотнесенность и связь всех относящихся к ситуации явлений. Позиции, объединяемые актом коммуникации, перестают быть «простыми» и непосредственными и превращаются в сложные, объединяющие в себе, по сути дела, ряд разных позиций (см. схему 4).
Когда происходит передача представлений смысла из более «высоких» позиций в более «низкие», то сами эти представления, как мы уже отметили, деформируются и изменяются, приспосабливаясь к действительности этих позиций; при этом происходит очень своеобразное взаимодействие схем смысла и знаний о смысле с непосредственными процессами понимания текстов и процедурами выявления их содержания; одним из самых характерных результатов этого взаимодействия является фокусировка и как бы усечение структуры смысла на отдельных материальных узлах всей системы; при этом связи и отношения структуры переводятся в функциональные характеристики «захваченных» ею материальных элементов.[260] В силу этого и сам «смысл» в этих позициях представляется уже не в виде структуры, задающей всю ситуацию в целом, а в виде отдельных функциональных характеристик элементов ситуации, указывающих на их соотнесенность с другими элементами или на принадлежность к целому.[261]
Именно это имеют в виду, когда говорят обычно, что текст сообщения осмыслен, что мы уловили смысл того или иного явления, что в нашем сознании появился соответствующий смысл и т. п. И в каком-то плане все эти употребления слова «смысл» оправданны, ибо в процессах понимания, оснащенных соответствующими представлениями и знаниями, действительно происходит фокусировка и центрация структуры смысла на отдельных материальных элементах, захваченных этой структурой. Но, с другой стороны, во всех подобных выражениях и оборотах проявляется характерное для обыденного сознания смешение разных категориальных слоев системного объекта; ведь во всех этих случаях речь идет уже не о структуре смысла в целом, а лишь о проекциях этой структуры на материал элементов, захваченных ею, следовательно, не о структуре смысла, а о смысловых организованностях текста, ситуации, сознания и т. п.; но эти различия являются уже весьма тонкими и обсуждение их должно быть вынесено за рамки этой статьи.
«Языковая инженерия» и конструкции значений
1. Чтобы теперь ввести в качестве особых сущностей «значения», трансформируем исходно заданную ситуацию общения и превратим ее в ситуацию трансляции (см. [1966 а*; 1967 а, g*; 1970; Генисаретский, 1970]), где главной является побочно сложившаяся связь между позициями 1 и 3 (схема 6).
Предположим, что текст сообщения, направленного из позиции 1 в позицию 2, поступает в позицию 3 и здесь либо вообще не понимается, либо понимается неадекватно. Такое положение заставляет систему, обслуживающую процессы общения, создавать специальные знаковые конструкции, которые, будучи «вложенными» в индивида 3 (или «усвоенными» им), выступают в качестве дополнительных средств, обеспечивающих необходимое понимание текста сообщения. Эти конструкции, создаваемые инженерами-языковедами (позиция 4), мы и будем называть «значениями».
Конструкции значений весьма разнообразны. Их характер и способ фиксации зависят прежде всего от того, (1) чем вызвано непонимание текста сообщения, (2) кто выступает в роли коммуниканта 3 — ребенок, еще не освоивший основных средств речевого мышления, студент, не овладевший чужим для него языком, или, скажем, ЭВМ, не имеющая необходимых программ анализа текстов, и, наконец, от того, (3) как организованы остальные элементы ситуации. Кроме того, существенное влияние на характер и форму фиксации значений оказывают методические и теоретические ответы на вопрос «что такое значение», вырабатываемые в аналитических и собственно исследовательских позициях, обслуживающих конструктивно-нормативную работу языковеда. Но во всех случаях конструкции значений выделяют, фиксируют и закрепляют те или иные из соотнесений и связываний, производимых процессами понимания текста (или текстов) сообщения. Иногда они выступают непосредственно в виде связок знаковых выражений с теми или иными элементами ситуации, — такое бывает при непосредственном обучении языку, — но чаще эти связки устанавливаются опосредованным путем — за счет связи одних знаковых выражений с другими. Например, конструкции значений «a table — стол» и «кислота — вещество, окрашивающее лакмус в красный цвет», несмотря на все свои логические различия, служат, по сути дела, для одного и того же — установления связи между именами и объектами (см. [1958 b*, VI, {с. 622–628}]).[262]
2. Конструкции значений, подобно всем другим знаковым выражениям, должны пониматься; в контексте нашего рассуждения это будут «вторичные понимания» и, соответственно, «вторичные смыслы» (схема 7); от «первичного понимания» и «первичного смысла» они отличаются прежде всего тем, что связаны с четко фиксированными, можно сказать, «искусственными» ситуациями деятельности и все объекты, включенные в них, выступают, по сути дела, в роли эталонов (см. [1967 е, с. 98–106]).
То обстоятельство, что конструкции значений, подобно исходным текстам сообщений, тоже понимаются (и осмысливаются), не меняет их отличия от смысла, существующего и устанавливаемого благодаря функциональному противопоставлению фиксированных, средств, обеспечивающих понимание, исходным текстам, включенным в естественно развертывающиеся, а потому всегда достаточно неопределенные ситуации общения и деятельности (см. схему 6).
3. Обращаясь к деятельности языковеда-инженера (позиция 4), нужно отметить, что в процессе ее он должен еще каким-то образом учитывать и совмещать позиции 2 и 3. Это значит, что он должен, во-первых, понимать смысл исходного сообщения так, как его понимает индивид 2, во-вторых, понимать (или не понимать) смысл этого сообщения так, как его понимает (не понимает) индивид 3, в-третьих, знать, почему индивид 3 понимает (не понимает) именно таким образом, и, наконец, в-четвертых, исходя из всего этого, он должен создать конструкции значений, которые бы позволили индивиду 3 адекватно понять исходное сообщение.[263]
Проделывая всю эту работу, языковед-инженер представляет процессы понимания и одновременно то, что понимается, в совокупности создаваемых им конструкций значений.
Если мы будем описывать все это из внешней исследовательской позиции, в которой разрешено пользоваться понятием смысла, то сможем сказать, что языковед-инженер сводит понимаемый им смысл исходных знаковых выражений и их элементов к создаваемым им конструкциям значений, что он выражает множество разных ситуативных смыслов через наборы специально выделенных элементарных значений и последующую организацию их в структуры.[264]
Затем полученные таким образом конструкции значений и принципы соотнесения и совмещения их друг с другом используются получившими их индивидами (находящимися в позиции 3) в качестве «строительных лесов» при понимании разнообразных сообщений; опять-таки, если мы будем описывать все это, находясь во внешней исследовательской позиции, то должны будем сказать, что эти конструкции значений и принципы организации их в сложные структуры используются индивидами в качестве средств при выделении смысла сообщений или даже в качестве основных компонентов его; имея наборы определенных значений, эти индивиды сначала, если пользоваться неточным, но очень наглядным образом, как бы разлагают по ним смысл сообщений, а затем собирают из них этот смысл как композицию, приноравливаясь при этом к ситуации как к целому.[265]
4. Чтобы теперь завершить характеристику «языковой инженерии» и влияния ее продуктов на существование и функционирование знаков, нужно сделать еще одно замечание, касающееся схемы нашего рассуждения. Вводя исходную ситуацию коммуникации (см. схему 3), мы начали с предположения, что индивид 2 понимал сообщение как бы совсем без опоры на значения. Это неявное допущение было введено потому, что рассуждение нужно было начать, не предполагая изначального существования значений; но после того как значения введены, мы можем отказаться от исходного допущения и распространить полученную нами позицию 3 ретроспективно в историю. Таким путем, естественно, не может быть решена проблема происхождения значений, но сама процедура ретроспективного оборачивания соответствует принципам структурного описания исторических ситуаций: сначала логически вторичное рассматривается как не существующее в реальности, затем оно вводится, как правило телеологически, в модель объекта, и полученная таким образом более развернутая и более сложная система трактуется как единственно существующая в реальности (конструктивный вариант метода восхождения от абстрактного к конкретному [1958 b*; 1967а,с. 30–38; Зиновьев, 1954; Zinovev, 1958; Грушин, 1961]).
«Первичные смыслы» и «значения» — две разные формы существования знака
1. Хотя для индивида 3 конструкции значений в процессе понимания выступают по сути дела в качестве образцов элементов ситуативного смысла текстов, хотя этому индивиду часто кажется, что он собирает смысл из данных ему значений и потому значения просто дубликаты или копии смысла, тем не менее (и это становится очевидным, как только мы переходим в позицию внешнего исследователя) конструкции значений являются не дубликатами и не копиями смыслов, а прежде всего иными функциональными элементами того же целого, в которое на правах особых частей и элементов входят в процессы понимания исходного текста (или, если говорить на формальном языке внешнего исследователя, структуры первичного смысла). Иначе говоря, значения и смыслы (или процессы понимания) связаны между собой деятельностью понимающего человека и являются разным и компонентами этой деятельности. Но в силу этого они оказываются также разными компонентами самого знака (как определенной организованности деятельности). В этом плане конструкции значений являются не чем иным, как новыми элементами ситуации общения и деятельности, расширяющими поле понимания (или, соответственно, объективную структуру смысла), и как таковые они могут рассматриваться наряду со всеми другими элементами ситуации, охватываемыми структурой смысла.
Но, кроме того, у конструкций значений есть свое, совершенно специфическое назначение, и это обстоятельство ставит их как элементы смыслового поля в особое отношение ко всем другим элементам. Это специфическое назначение конструкций значения, как мы выше выяснили, состоит в том, чтобы служить средствами понимания исходного текста, и поэтому они создаются как своеобразные дубликаты и особые формы фиксации отдельных отношений и связей, устанавливаемых процессом понимания и представляемых нами в структуре первичного смысла. Но это значит, что конструкции значений и связанные с ними вторичные смыслы создают для процессов понимания (а вместе с тем для элементов первичного смысла) вторую и особую форму существования; вместе с тем они создают новую и особую форму существования для самого знака (см. схему 6). Мы получаем возможность сказать, что смыслы и значения — разные компоненты знака, придающие ему вместе с тем разные способы и формы существования, соответственно — в синтагматике и в парадигматике, в социэтальных ситуациях и в культуре, в реализации и в нормах (см. [1964 h*; 1971 d, e, f; Соссюр, 1933, с. 121–127; Генисаретский, 1970]).
2. Соединение двух указанных выше характеристик конструкций значений: (1) лежат наряду со смыслами и являются другими функциональными компонентами структуры деятельности и знака, (2) выражают и фиксируют отдельные компоненты смыслов, придавая им второе и особое существование — позволяет рассматривать и трактовать связь между значениями и смыслами как совершенно особое отношение конструктивного замещения, или, как мы его называем, имитации. Изучение специфики имитации — специальная задача; она исключительно важна и актуальна как в общеметодологическом, так и в специально семиотическом плане; в частности, именно смешения отношений имитации с отношениями моделирования приводят в лингвистике и в семиотике к смешению смысла со значениями и к принципиально неправильной трактовке структуры знака (ср. [1971 d]).
Знак как предмет знания
Конструктивный характер значений кардинальным образом меняет практическое и познавательное отношение человека к знаку. Если в акте коммуникации между индивидами 1 и 2 знаковое выражение, как мы предположили, могло лишь пониматься (что позволяет нам при определенных условиях говорить о «смысле» этого знакового выражения) и таким образом впервые появился знак как целостный объект, в единстве его необходимых компонентов — материала знаковой формы и смысла, если при попытках научного исследования и описания знаков исследователь должен был прежде всего понять данное знаковое выражение и у него не было никакого другого пути, чтобы сделать знак объектом деятельности и присвоить его себе (см. [1964 h*; 1971 с}), то появление конструкций значений, образующих второй план существования знака, его парадигматику, предполагает кроме того еще подлинно познавательное отношение к знаку, отношение к нему знания как такового, ибо конструкции значений являются продуктами сознательной инженерной деятельности и как таковые должны не только пониматься, но и обязательно быть знаемы. Инженерно-конструктивная деятельность всегда опирается на знания создаваемой конструкции или ее прообразов и, следовательно, всегда должна сопровождаться и обслуживаться аналитической, исследовательской деятельностью того или иного типа (позиции 5–8 на схеме 8). Даже более того, знание природы значений, как уже говорилось выше, является условием и предпосылкой инженерии значений: та или иная конструкция значений всегда определяется предваряющими ее ответами на вопрос, что представляет собой значение как таковое. И хотя сам по себе этот ответ не устраняет необходимости понимания конструкций значений людьми, использующими их в качестве средств своей деятельности (уже упоминавшееся «вторичное понимание»), благодаря ему значения знаков, а следовательно, и сам знак в целом получают еще одно дополнительное существование в знании и через знание, ни в коем случае не сводимое к существованию их в понимании и через понимание. С этого момента можно говорить о существовании знака как предмета знания.
Но само знание, придающее знаку эту форму существования, а также функции знания еще должны быть теоретически введены и объяснены. Попробуем наметить план этой работы.
Знания как компоненты и формы существования знака
1. Благодаря деятельности языковедов-инженеров, создающих конструкции значений, знаки получают вторую сферу существования — парадигматическую. Синтагматические цепочки речи и конструкции значений, образующие парадигмы языка, связываются между собой деятельностью человека, осуществляющего речевое общение, но при этом они остаются существенно разными как по своим функциям, так и по внутренней организации, и ничто не делает составляющие их элементы и единицы одними и теми же или одинаковыми объектами, ничто не дает права говорить, что синтагматические цепочки и парадигматические организованности — лишь разные планы существования одних и тех же знаков, ибо таких объектов, как чего-то единого и лишь по-разному проявляющегося в синтагмах и парадигмах, пока нет. Каждая организованность знакового материала в какой-либо парадигме выражает нечто иное, нежели та же организованность знакового материала в какой-либо синтагматической цепочке, и в одной синтагматической цепочке — нечто иное, нежели в другой (несмотря на сходство или тождество самого знакового материала), ибо вокруг каждой цепочки создается свой особый смысл (ср. [1971 f]).
Однако, если какие-то элементы синтагматических цепочек и парадигматические конструкции значений содержат одни и те же конструкции материала, мы рассматриваем их как разные манифестации одного и того же знака и, следовательно, и то и другое вместе, в конечном счете, — как один и единый знак в его разных проявлениях. Поэтому обсуждать здесь можно только одно: за счет каких специфических образований, за счет каких дополнительных средств деятельности достигается объединение и синтез всего этого (т. е. всех многообразных проявлений, существующих в огромном множестве разных синтагматических цепочек и в достаточно большом наборе разных парадигматических организованноcтей, отличающихся друг от друга как строением, так и условиями существования) в один и единый знак, что дает нам право и возможность собирать разные конструкции значений в одно целое и затем отождествлять полученную таким образом композицию с тем, что существует в контексте синтагматических цепочек.
Этим средством является знание, обязательно сопровождающее всякую практическую, инженерную и собственно научную (теоретическую) деятельность человека. В соответствии со своими исконными функциями оно осуществляет обобщение и объединяет множество разрозненных и разных индивидуализированных явлений, событий и объектов в один предмет, в одну целостность (ср. [1971 g]). В нашем случае можно сказать, что это знание создает знак в единстве его синтагматических и парадигматических проявлений (например, слово), делает его единым и всегда одним и тем же предметом, независимо от разнообразия форм существования его в синтагматических цепочках и в парадигматических организованностях значений. Условно, исключая все различия этих знаний и создаваемых ими предметов, мы будем называть их «знаниями знаков».
2. «Знание знака» собирает другие формы существования знака — синтагматические и парадигматические — в целостность, объединяет и организует их (см. [1971 d, g; 1972а]). Но это объединение ни в коем случае нельзя понимать механически; оно осуществляется за счет того, что «знание знака» создает свою особую действительность — знак как идеальный объект, действительность, не сводимую к синтагматическим цепочкам и парадигматическим конструкциям значений и вместе с тем снимающую их и представляющую в виде единого объекта.
Одновременно само знание выступает в виде особой, третьей формы существования знака. Эта форма существования знака является ничуть не менее объективной, чем две другие, и функционирует в деятельности наряду с синтагматическими цепочками и парадигматическими конструкциями значений. В этом плане «знание знака» является лишь одной из многих и частной формой существования самого знака. Но так как в своей действительности «знание знака» снимает другие формы существования знака — синтагматические и парадигматические, мы можем сказать, что оно является основной и всеобщей формой его существования. Именно «знания знаков» (а далее также и «знания о знаках» (ср. [Москаева, 1965, с. 140–142]) составляют основную и решающую часть систем языка, именно «знания знаков» выступают как проекты и принципы, определяющие существование знаков в инженерной деятельности языковедов и в духовной жизни всех говорящих людей, именно в знаниях свертывается и существует значительная часть речеязыковой способности людей. Поэтому неудивительно, что именно «знания знаков», а не сами по себе конструкции значений, составляют основную и решающую часть всех парадигматических систем, конституирующих семиотическую (в том числе и речевую) деятельность.
Знание как система, рефлексивно объемлющая знак
1. В принципе «знания знаков» могут быть и бывают весьма разнообразными [1971 d]. Между ними устанавливаются свои особые отношения и связи, которые меняются, во-первых, в зависимости от характера деятельности, которую они обслуживают, — практической, инженерной или собственно научной, а во-вторых, соответственно этапам развития языка и языковедения. Одни из этих знаний фиксируют и задают отдельные стороны существования знака в деятельности, например, только те или иные конструкции значений, другие знания как бы надстраиваются над первыми и охватывают сразу множество разных сторон знака и связи между ними. Кроме того, разные знания существуют в разных формах: одни из них получены научным путем и имеют строго объективный статус, другие, наоборот, предельно интуитивны и выступают скорее в виде чувственных представлений и субъективной речевой способности («чувство языка»). Анализ всех этих знаний и разных форм их существования в деятельности представляет собой особую и весьма сложную проблему, которую мы здесь не можем обсуждать. Нам важно подчеркнуть лишь сам факт разнообразия таких образований, как «знания знаков», их влияние на различие форм и способов существования самих знаков и выделить один вид этих знаний — конструктивно-технические (ср. [1966а*]).
2. С того момента, как утверждается языковедческая инженерия и начинается систематическое конструирование значений, «знания знаков» становятся по преимуществу конструктивно-техническими. Подобно математическим формулам и уравнениям, они фиксируют в себе процедуры сопоставления, разложения и сборки рядов разных явлений и объектов из мира знаков и представляют эти явления и объекты в качестве вариантов и проявлений единого объекта, поневоле (т. е. уже в силу формальных особенностей, самих процедур и соответствующего им строения знаний) конструктивного и структурного. При этом происходит трансформация и переработка исходного содержания, охваченного знанием: из совокупности объектов, возникших первоначально в разных ситуациях и во многом независимо друг от друга (к примеру — разные употребления знакового материала в синтагматических цепочках и разные конструкции значений) и лишь потом внешним образом связываемых друг с другом, оно превращается в сложный конструктивно развертываемый идеальный объект, как бы тиражируемый в разных частях своей структуры и в разных вариантах и приобретающий благодаря этому множественное существование.
Но целостным и структурным объектом при всем этом знак остается только благодаря знанию и в знании.
«Знак» как системное единство разных форм и типов существования. Идея деятельности
Указание на специфическую роль знаний в образовании и дальнейшем существовании знаков достаточно объясняет ту специфическую ситуацию, в которую попадает языковед-исследователь, когда он начинает свою работу и хочет либо проанализировать какие-то конкретные знаки, либо же ответить на вопросы, что такое «язык» или что такое «знак» и «знаковая система». Первое и основное, что предстает перед ним и с чем он преимущественно имеет дело, это — «знания знаков» (в частности, «знания речи-языка»). Осваивая их — понимая и анализируя, — он обнаруживает вскоре, по крайней мере, четыре (а на деле — большее число) разные формы существования знака (и речи-языка): 1) «знания знаков», 2) «действительность» этих знаний, 3) парадигматические конструкции значений и 4) синтагматические цепочки. И тогда он встает перед вопросом: какое же из этих существований знака является подлинным, реальным его существованием. Но тайна знака (и речи-языка) как элемента и организованности деятельности состоит как раз в том, что все эти четыре формы существования являются подлинными и одинаково реальными, а сам знак (или речь-язык) существует как системное единство всех этих форм.
Но такая категориальная и онтологическая характеристика знака и речи-языка (основывающаяся на принципах теории деятельности) не может быть принята языковедом, ориентирующимся на эталоны и образцы объектов естественных наук: типологическое различие и несовместимость объекта, знания об этом объекте и содержания знания, а с другой стороны, внутренняя однородность и единственность объекта — все это является для него аксиомами. Имея интенцию на один внутренне не расчлененный объект, такой языковед приписывает характеристики и свойства «знаний знаков» знакам как действительности этих знаний, а характеристики того и другого — парадигматическим конструкциям значений или элементам синтагматических цепочек (ср. [1971 d]). Вместо четырех разных сущностей, живущих хотя и в связи друг с другом, но по разным законам и механизмам, он имеет в качестве предмета изучения одну сущность, в которой все перепутано и смешано в кучу.
Именно это обстоятельство больше всего мешало оформлению позиции языковеда-ученого и появлению наряду со «знаниями знаков» (или «знаниями языка») также еще «знаний о знаках» (и «знаний о речи-языке»), которые могли бы представить и изобразить все разнообразные формы существования знака (и речи-языка) в виде единой сложной структуры.
Поэтому столь значительным для всей истории языковедения был вклад В. Гумбольдта, впервые представившего речь-язык в категориях деятельности, и затем, в особенности, вклад Ф. де Соссюра, различившего внутри речевой деятельности (language) parole и langue; это были первые теоретические подходы к фиксации множественности разных форм существования знака. Но при этом Ф. де Соссюр не смог довести эту работу до конца и последовательно разделить существование языка в виде набора или системы знаний и существование языка как действительности этих знаний; кроме того, он не видел и не фиксировал различие между языком как действительностью инженерного языковедения и языком как действительностью научного языковедения (см. [1969 b]). Появление рядом со «знаниями знаков» или «знаниями языка» также еще «знаний о знаках» и «знаний о языке» приводит к оформлению наряду с действительностью инженерного языковедения также действительности научного языковедения. Развертываясь далее в полный научный предмет, эти знания порождают (или должны породить) онтологическую картину речи-языка, отделяющуюся от действительности первого и второго типа; в онтологических картинах научного предмета «речь-язык» получает новое существование — в виде идеального объекта изучения, обладающего «естественными законами жизни». Но это происходит лишь в той мере, в какой преодолеваются методологические и эпистемологические догмы натурализма и осуществляется переход на позиции научной семиотики и теории деятельности.
ПОНЯТИЕ. ЗНАНИЕ. МОДЕЛЬ
О некоторых моментах в развитии понятий[266]
Одна из важнейших задач диалектико-материалистической логики состоит в исследовании процессов развития понятий. Эта задача выходит за рамки так называемого формально-логического подхода к мышлению, не рассматривающего процессы образования знаний.
В ходе общественной практики люди открывают в предметах и явлениях действительности все новые и новые свойства и отражают их в мысли. Эти отраженные свойства предметов и явлений объективного мира составляют содержание нашего знания, содержание наших понятий. Реальные процессы, тела или явления, которые исследуются и о которых образуются те или иные понятия, составляют объект мысли. Содержание понятий никогда не исчерпывает всех свойств объектов, оставаясь всегда относительно ограниченным и односторонним. Следуя за развитием общественной практики, оно постоянно меняется, а вслед за изменением содержания понятий меняется их строение.
Изменение строения понятий проявляется в их языковом выражении. Понятие может быть выражено отдельным словом (стол, дом, энергия, желтый и др.), предложением (кислота содержит водород), формулой (y=f [х1 х2 х3…]) или целой системой связанных между собой предложений, как, например, понятие о буржуазных производственных отношениях, представленное в трех томах «Капитала» К. Маркса, и др. Языковое выражение понятия составляет его форму. Форма имеет свое строение, которое входит в характеристику строения понятия в целом. Более подробно все эти определения — формы, строения понятий и т. п. — разобраны в наших статьях [1957 а*; 1958 b*, I].
Строения понятия, в частности строение его формы, определяются, во-первых, характером объекта мысли и, во-вторых, «глубиной» познания, «глубиной» проникновения в объект. Последнее, в свою очередь, определяется характером познавательной деятельности, в частности характером и степенью опосредствования исследуемого отношения другими отношениями в процессе познания.
На примере механического понятия скорости мы попробуем наметить некоторые, на наш взгляд, общие моменты в развитии строения понятий.
* * *
Первое простейшее понятие скорости выражалось в форме отдельного слова: скоро, скорее. (Мы оставляем в стороне вопрос о том, как образовалась эта абстракция, что послужило толчком к ее образованию и как было найдено слово.) Сравним содержание этого понятия с содержанием обобщенного понятия движение[267] (или с частными понятиями движения — бежит, летит и т. п.) У них один и тот же объект, т. е. они отражают одно и то же свойство предметов объективного мира, но отражают его по-разному.
Образование абстракции движение предполагает сопоставление двух тел. (Мы оставляем в стороне вопрос об устройстве органов зрения и рассматриваем здесь лишь отношения между объектами, необходимые для сопоставления при образовании какой-либо абстракции.) Одно из этих тел — обычно земля с расположенными на ней предметами — принимается за неподвижное и служит «телом отсчета», относительно которого рассматривается движение другого тела. При этом абстракция движение выступает как обозначение атрибутивного свойства второго тела. Но фактически она обозначает изменение пространственного взаимоотношения между этими двумя телами.
Образование абстракции скоро, скорее предполагает сопоставление по крайней мере трех предметов: земли и двух движущихся относительно нее тел. Отношение каждого из них к земле уже фиксировано, отражено в понятии движущееся. Сравнение уже зафиксированных в абстракции движений есть сравнение отношений. Однако первоначально оно осознается как сравнение двух движущихся предметов. Без третьего тела, относительно которого рассматриваются два других, никакое чувственное сопоставление движений невозможно. Первоначально это третье — земля или место — выступало как нечто случайное по отношению к самим движениям и к процессу их сопоставления. Сегодня это было одно место, завтра другое, послезавтра третье. Поэтому, хотя оно и всегда участвовало в процессе сопоставления движений, его участие в образовании абстракции скорости долгое время не фиксировалось, не осознавалось.
Абстракция движения, выраженная отдельным словом, имела смысл и значение независимо от той или иной реальной ситуации и ее чувственного отражения, если само слово движение имело фиксированный и общезначимый смысл. Абстракция скоро, скорее вне определенной, непосредственно воспринимаемой конкретной ситуации, вне ее чувственного отражения не имела никакого смысла, хотя значение самого слова скоро могло быть фиксировано и, следовательно, общезначимо. Говоря, что предмет А движется скорее или скоро, мы всегда должны иметь в виду другой предмет, В, который воспринимается в этот момент точно так же непосредственно и движется медленнее предмета А.[268]
Понятия такого вида, т. е. не имеющие определенного смысла вне известного чувственного восприятия, а соответственно, и их форму мы будем называть «чувственно-непосредственными».
Сопоставление двух сходных отношений, уже фиксированных в абстракции, когда одно отношение становится мерой другого, другое определяется относительно первого, — такое сопоставление и опосредствование исследуемого свойства дает нам количественное отношение и, соответственно, количественную абстракцию.
Абстракция движение является качественной. Она выражается отдельным словом, и такая форма вполне соответствует содержанию качественной абстракции. Абстракция скорость на этом этапе также выражается отдельным словом, но эта форма сама по себе уже не может выразить содержания количественной абстракции; последнее для своего выражения нуждается в иной, более сложной форме. И это противоречие между наличным содержанием и наличной формой является одной из причин, определяющих дальнейшее развитие понятия.
На втором этапе развития понятия скорости осознается роль третьего тела — земли или места. Ситуация, т. е. система отношений, отражавшаяся в понятии (в его содержании отражалась исследуемая сторона объекта, а в его строении в «снятом» виде — опосредствующие отношения), расчленяется, дифференцируется. Вырабатываются абстракции пути и времени. (Мы оставляем в стороне вопрос о том, как образуются эти абстракции.) Различие скоростей двух движений начинают сознательно выражать в сравнительной оценке длин пройденного за одно и то же время пути или в сравнительной оценке времени, затраченного на то, чтобы пройти один и тот же путь. Так, например, Аристотель пишет, что более скорому из двух тел необходимо «в равное время двигаться больше другого, в меньшее одинаково или в меньшее больше, как и определяют некоторые слово "скорее"» [Аристотель, 1937 с, VI, с. 126). И в другом месте: «… Если всякое тело должно двигаться (по одному и тому же пути. — Г. Щ.) или равное время с другим, или меньшее, или большее и двигающееся больше времени является более медленным, равное время равноскоростным, а более скорое не является ни тем, ни другим, то оно будет двигаться ни больше, ни равное время. Остается, следовательно, меньшее…» (там же, с. 127).
При этом нужно отметить, что время как таковое не измерялось. В первом случае время прямо фиксировали как равное и сравнивали между собою отрезки пути, а во втором — выделяли определенный отрезок пути и следили, какое из тел достигает его конца раньше, какое позже. В обоих случаях, таким образом, движения сопоставляли не по отношениям пути ко времени, а только по одной компоненте этих отношений, чаще всего по проходимому телом расстоянию, предполагая вторую компоненту — время — одинаковой для обоих движений и фактически оставляя ее в стороне.
Необходимость сравнивать между собой различные длины на определенном этапе развития общественной практики и мышления привела к появлению эталона длины. Пройденные телами расстояния стали обозначаться числами. Способ сопоставления движений по-прежнему оставался чувственно-непосредственным, так как вплоть до Галилея не существовало часов, пригодных для измерения небольших промежутков времени, и последнее всегда приходилось фиксировать как равное для двух движений путем непосредственно-зрительного их сопоставления. Однако сопоставление и измерение сложного отношения — движения — удалось свести к сравнению и измерению более простого отношения — расстояний, что позволило выразить «отношение движений» в числовых величинах
s1 / s2 = α (1)
При этом числовая величина α показывала: непосредственно — во сколько раз больше путь, пройденный за определенное время одним телом, чем путь, пройденный за то же время другим телом; опосредствованно — во сколько раз больше скорость движения одного тела, чем скорость движения другого.
Третий этап в развитии понятия скорости, связанный с именем Галилея (XVII век), характеризуется введением эталона движения — часов.[269] В простейшем случае они представляют собой два тела, одно из которых (сейчас — стрелка) движется относительно другого, а другое (циферблат) является масштабом этого движения, дающим ему числовую меру в отрезках пути. Процесс сопоставления двух «естественных» движений может быть разбит на два этапа. Первый состоит в сопоставлении каждого из сравниваемых движений с движением стрелки часов. Результаты этого сопоставления выступают в виде двух чисел или двух рядов чисел, показывающих величину пути, пройденного исследуемым движением и движением стрелки за одно и то же время. Второй этап состоит в сравнении этих чисел или рядов чисел между собой.
Отношение (1) показывало, во сколько раз больший путь прошло одно тело в сравнении с другим за одно и то же время. Оба сопоставляемых движения были абсолютно равноправны. Второе было мерой первого, но точно так же и первое могло стать мерой второго. По строению, и в частности по строению самой формы, это математическое отношение давало нам новый вид понятия скорости. Его (совершенно условно) можно назвав «случайным», или «нестандартным».
Беря отношения
s1 / t1 = α1 иs2 / t2 = α2 (2)
мы получаем величины, показывающие, сколько единиц своего пути проходят исследуемые тела, пока стрелка часов проходит единицу своего пути, то есть единицу циферблата. Внутри каждого из этих отношений, если брать их изолированно, сопоставляемые движения и, соответственно, меры пройденных за одно и то же время расстояний s1 и t1, s2 и t2 по-прежнему абсолютно равноправны. И в этом плане каждое из отношений (2) ничем не отличается от отношения (1). Но если брать отношения (2) во взаимосвязи друг с другом, то оказывается, что непосредственно сопоставляемые движения — движение исследуемого тела и движение стрелки часов — играют уже различную роль. Движение стрелки часов в этих двух случаях (а также и других) выступает в качестве постоянной, а благодаря этому и всеобщей меры движения, в качестве его постоянного эталона. Подобное «выталкивание» всеобщего эквивалента, или эталона, собственно, и превращает отношение (1) в выражение скорости s/t = v, как мы это понимаем сейчас, или, другими словами, дает всеобщий, «стандартный» вид понятия скорости. Полученное таким путем выражение
v = s/t (3)
характеризует внутреннюю определенность исследуемого движения значительно точнее, чем все предшествующие. Это определение, так же как и другие, имеет относительный характер, но поскольку оно определяется по отношению к постоянному, одинаковому для всех эталонному движению, то в известных границах его относительность можно не учитывать; оно приобретает видимость абсолютной характеристики.
Сопоставляя величины отношений v1 и v2 мы как бы возвращаемся к непосредственному сопоставлению исследуемых движений, «исключаем» эталонное движение стрелки часов.
При определенных условиях полученная формула (3) может быть преобразована в формы s = vt и v = const., которые становятся законами движения исследуемого тела относительно движения стрелки часов.
Таким образом, сложное объективное отношение — движение — осознавалось человеком постепенно, с помощью ряда других, опосредствующих отношений. Только опосредствование и усложнение этого опосредствования позволили выразить движение в абстрактно-логической форме количественного понятия скорости, отличной от непосредственного чувственного образа, причем все большее опосредствование не удаляло понятие от объекта, а, наоборот, приближало его, ибо позволило схватить закон реального отношения, сделало понятие более адекватным самому объекту мысли.
Менялся характер опосредствующих отношений, и соответственно менялось строение, в частности форма, понятия, хотя объект оставался всегда одним и тем же. Отсюда мы можем сделать вывод, что строение понятия, и в частности строение его формы, отражает ступени опосредствования исследуемого объекта и соответственно типы тех отношений сопоставления, посредством которых в этом объекте выделяются те или иные стороны, то или иное содержание понятия.
Та последовательность этапов, которую мы наметили в развитии понятия скорость, сначала чувственно-непосредственная абстракция, фиксируемая отдельным словом, затем случайная мера, меняющаяся от раза к разу, и, наконец, выталкивание эталона, всеобщей и постоянной меры является, на наш взгляд, общей закономерностью в развитии всех количественных понятий.
* * *
До сих пор мы говорили о строении понятий и в связи с его изменением намечали этапы развития понятий. Но, кроме того, существуют еще процессы развития понятий.[270] Эти процессы точно так же имеют свое строение и подчиняются определенным закономерностям. Исследование строения процессов развития понятий составляет не менее важную задачу, чем исследование строения самих понятий. Рассмотрим на примере понятия скорости одну весьма общую, на наш взгляд, закономерность в развитии понятий, которую мы будем называть «расщеплением» (или дифференциацией) понятия.
Образовавшееся понятие v = s/t имело задачей характеризовать исследуемое движение, причем, естественно, характеризовать на всем его протяжении. Другими словами, оно должно было быть для него величиной постоянной, или однозначной. В настоящее время мы знаем, что однозначно полученная таким путем величина v может характеризовать лишь равномерные движения и что она неприменима для описания переменных движений. Этот факт был осознан не сразу, и осознание его представляет собой определенный процесс развития нашего знания.
Различие между равномерными и переменными движениями стало известно людям уже давно. Но это было лишь наглядное, чувственное значение, не осмысленное в понятиях. Существовавший во времена Аристотеля чувственно-непосредственный способ сопоставления движений, когда время фиксировалось как равное, а сравнивались одни лишь отрезки пройденного телами пути, не позволял выявить различие между равномерными и переменными движениями в виде понятия. Действительно, такой способ сопоставления выделял в движениях лишь одно их свойство — величину перемещения за определенное время, — оставляя другие свойства в стороне. Он нивелировал все движения, сводя их, по существу, к равномерным. Ведь путь как показатель движения безразличен к характеру самого движения; по нему нельзя заключить, как пройдено расстояние, с равномерной скоростью или нет.
Поэтому, сравнивая движения тел по пройденным ими расстояниям, мы фактически «превращаем» эти движения на рассматриваемом отрезке пути в равномерные, и ничто при этом не наталкивает на мысль о неправомерности этого преобразования. Ограничиваясь однократным сопоставлением исследуемых движений, мы исходим из неосознанной предпосылки, что результаты сопоставления, проведенного в какой-то промежуток времени и на каком-то отрезке пути, могут быть распространены на движение в целом; мы исходим из того, что если тело А на сравниваемом отрезке s имело большую скорость, чем тело В на этом же отрезке, то оно и на следующем отрезке пути будет иметь большую скорость, а это справедливо лишь для равномерных движений. Здесь существующий способ сопоставления движений определял границы выявляемого содержания.
Таким образом, хотя в представлении древних понятие скорости было результатом и средством сопоставления движений вообще, независимо от их характера, по содержанию и по своему строению оно служило адекватным отражением только равномерных движений. Поэтому когда Галилей приступил к исследованию ускоренных движений, используя для этого понятие скорости, выраженное в формуле (3), то это привело его к логическому противоречию (антиномии). Так как часы, находившиеся в его распоряжении, несмотря на все произведенные усовершенствования, были все еще малопригодны для измерения небольших промежутков времени, Галилей решил замедлить исследуемые движения падения с помощью наклонных плоскостей, а это, в свою очередь, заставило его сопоставить между собой падение тел по вертикали и по наклонным. Согласно определениям Аристотеля, из двух движущихся тел то имеет большую скорость, которое проходит за одно и то же время большее пространство, чем другое, или то же пространство, но в меньшее время. Соответственно считалось, что два движущихся тела обладают одинаковой скоростью, если они проходят равные пространства в равные промежутки времени.
Галилея эти определения уже не удовлетворяли. Выработанный им способ измерения времени позволил представить понятие скорости в виде математического отношения величин пути и времени. С этой новой точки зрения ничего не изменится, если назвать скорости равными и тогда, «когда пройденные пространства находятся в таком же отношении, как и времена, в течение которых они пройдены…» [Галилей,1948, с. 34]. Поскольку Галилей уже «подвел» понятие скорости под более широкое понятие математического отношения, сделанный им переход был вполне законен. Равенство отношений s1/t1 = s2/t2, как при s1 = s2, так и при s1 ≠ s2, остается справедливым, если t1 и t2 меняются в той же пропорции, что и пути.
Итак, имеется два определения равенства скоростей двух движущихся тел.
Первое: скорости двух тел равны, если за равные промежутки времени эти тела проходят равные пространства.
Второе: скорости двух тел равны, если пространства, проходимые одним и другим, пропорциональны временам прохождения.
Второе определение является обобщением первого, первое вытекает из второго и должно быть справедливым, если справедливо второе. Имея эти два определения, Галилей приступил к сопоставлению конкретных случаев падения тел. Пусть по СВ и СА (см. схему) падают два одинаковых тела. Скорость тела, падающего по СВ, будет больше скорости тела, падающего по СА, ибо, как показывает опыт, в течение того времени, за которое первое падающее тело пройдет весь отрезок СВ, второе пройдет по наклонной СА часть CD, которая будет меньше СВ. Отсюда, в соответствии с первым определением, можно сделать вывод, что скорости тел, падающих по наклонной и по вертикали, не равны.
В то же время известное Галилею положение о том, что скорость падающих тел в какой-либо точке зависит только от высоты их падения, наводит его на мысль, что раз скорости тел в точках А и В, расположенных на одной горизонтали, равны, то они должны быть и вообще равны на отрезках СА и СВ. Он проверяет это предположение на опыте, и действительно оказывается, что отношение времен падения по всей наклонной и по всей вертикали равно отношению длин наклонной и вертикали. Отсюда в соответствии со вторым определением можно сделать вывод, что скорости тел, падающих по наклонной и по вертикали, равны.
Таким образом, следуя рассуждению Галилея, мы получили два противоречащих положения:
«Скорости тел, падающих по СА и СВ, равны».
«Скорости тел, падающих по СА и СВ, не равны».
Причину выявленного Галилеем противоречия нельзя искать в произведенном им обобщении условий равенства скоростей. Если бы мы, пользуясь старым условием равенства скоростей, начали сопоставлять движения шаров по СА и СВ, беря отрезки проходимого пути в разных частях СА и СВ, то мы получили бы и при старом определении весьма противоречивые результаты. Скорость падения шара по СВ могла оказаться в одном месте больше скорости падения шара по СА, в другом — равной, в третьем — меньшей. Таким образом, рассмотренное развитие понятия скорости и обобщение условий равенства скоростей не являлись причиной противоречия, а были лишь случайными обстоятельствами, которые облегчили его обнаружение.
Причина этого противоречия заключена в том, что понятие скорости, сложившееся из сопоставления равномерных движений и однозначно характеризовавшее эти движения, уже не подходит для сопоставления и однозначной характеристики движений неравномерных.
Подобные логические противоречия, или антиномии, можно часто встретить в истории науки. Оба положения такого противоречия в равной мере истинны и неистинны. Истинны в том смысле, что они оба действительны, если мы исходим из существовавшего в то время определенного строения исходного понятия. Неистинны в том смысле, что это строение понятия уже не может дать однозначной характеристики новых исследуемых явлений.
Выявление подобного противоречия наталкивает исследователя на мысль, что он не учел в понятии какого-то обстоятельства, какого-то свойства исследуемого явления и заставляет искать это обстоятельство или свойство, а затем в соответствии с ним менять всю систему понятий, относящихся к исследуемой области явлений.
Часто противоречие разрешается тем, что рассматриваемое понятие подводится под новое, более общее или более узкое понятие и рассматривается с точки зрения признаков последнего. Так поступает и Галилей. Сначала он рассматривал скорость как величину или, точнее, как математическое отношение, а после выявления противоречия, стремясь объяснить его и «снять», он начинает рассматривать скорость как переменную величину или переменное математическое отношение. Это было облегчено тем, что представление о переменных величинах к тому времени уже сформировалось (см., например, [Гуковский, 1947, с. 177–180, 469–474; Hall, 1954, с. 80–85]).
Галилей ставит вопрос о законе изменения этой величины в случае свободного падения тел на землю и предполагает, что оно происходит по «простому» закону v = аt, подобному закону изменения пути в равномерном движении, и таким образом находит новую величину (a — ускорение), однозначно характеризующую свободное падение тел. Закон, связывающий движение свободно падающего тела с движением эталона (стрелка часов), принимает вид:
s = аt2/2 (4)
Величина a характеризует «внутреннюю определенность» или качество каждого отдельного равномерно-ускоренного движения.
Заметим, кстати, что дальнейшее усложнение строения и, соответственно, формы закона, связывающего исследуемое движение с движением эталона, как всегда, обусловлено усложнением степени опосредствования, усложнением опосредствующих отношений между исследуемым движением и движением эталона. Но если раньше опосредствующее сопоставление носило предметно-практический характер, то теперь в формуле (4) последняя ступень опосредствования носит абстрактно-логический, формальный характер. Величина v, полученная из математического отношения пути к времени и поэтому непосредственно недоступная чувствам, сопоставляется с движением эталона чисто умозрительным, спекулятивным путем, посредством применения уже выработанной связи v = at, подобной s = vt. Элементы а и t выступают в качестве абстракций, с помощью которых мы формально анализируем логически-опосредствованно образованную абстракцию v. (Мы ограничимся этим замечанием, так как в нашу задачу не входит исследование специфики чисто формальных процессов мышления.)
Выявление нового свойства в процессах движения заставляет Галилея пересмотреть все относящиеся к ним понятия. Так, например, Галилей дает следующее определение: «Движением равномерным или единообразным я называю такое, при котором расстояния, проходимые движущимся телом в любые равные промежутки времени, равны между собою.
Пояснение. К существовавшему до сего времени определению (которое называло движение равномерным просто при равных расстояниях, проходимых в равные промежутки времени) мы прибавили слово «любые», обозначая тем какие угодно равные промежутки времени, так как возможно, что в некоторые определенные промежутки времени будут пройдены равные расстояния, в то время как в равные же, но меньшие части этих промежутков пройденные расстояния не будут равны» [Галилей, 1934, с. 282–283].
Исследование неравномерных движений показывает, что скорость на каком-либо отрезке пути этого движения иная, чем на соседнем. Но и на протяжении первого отрезка скорость непостоянна. Этот отрезок содержит в себе несколько меньших отрезков, на каждом из которых скорость имеет свою особую величину. И на протяжении любого из этих меньших отрезков скорость также не остается постоянной. Продолжение такого деления — а к нему исследователи должны были обязательно прийти, сознательно или бессознательно, — приводит их к необходимости ввести понятие скорость в точке. Эта необходимость проявилась уже тогда, когда, исследуя ускоренные движения, стремясь свести их к равномерным, стали говорить о конечной скорости какого-либо ускоренного движения, то есть о скорости, достигнутой в последней точке рассматриваемого отрезка пути (см. [Гуковский, 1947, с. 177–180, 469–474; Wilson, 1956, с. 121]). Однако вплоть до возникновения дифференциального исчисления это и подобные ему понятия о мгновенных, или «точечных», характеристиках не могли стать «рабочими», то есть действующими.
Дифференциальное исчисление, развитое Ньютоном и Лейбницем, дало правила получения бесконечно малых характеристик из чувственно воспринимаемых и измеряемых отношений, установило правила оперирования с подобными характеристиками. В результате этого понятие скорости расщепилось на два понятия: средняя скорость и мгновенная скорость. Эти понятия имеют не только различное содержание, но и различное строение. Действительно, они измеряются различным образом и выражаются в различных формулах. Первое предполагает лишь эмпирически измеренные величины времени и пути, пройденного телом, и определяется как их простое алгебраическое или арифметическое отношение. Закон движения для этого понятия безразличен, или, вернее, оно все движения сводит к движению, подчиняющемуся закону v = const., где v определяется из математического отношения любых соответствующих друг другу s и t. Второе, то есть понятие мгновенной скорости, не может быть найдено и вообще не имеет практического смысла, если мы, кроме эмпирических данных s и t, не имеем еще закона исследуемого движения, выраженного в формуле или в графике. Величина мгновенной скорости в общем случае выражается в виде функции и определяется с помощью операции дифференцирования, производимой над этой формулой. Только для равномерных движений форма выражения мгновенной скорости совпадает с формой выражения средней скорости, для остальных же движений они не совпадают.
Таким образом, процесс расщепления понятия складывается из двух весьма различных частей: 1) получение пары противоречащих положений типа «А есть В, А не есть В»; 2) образование новых понятий и изменение старых. Как мы видели, вторая часть этого процесса обособлена и зависит от характера рассматриваемых объектов и степени их познания. Тем не менее, взятый в целом, процесс дифференциации понятий имеет постоянное строение и является одним из наиболее общих процессов развития понятий. Лишь только какое-нибудь свойство, считавшееся до того простым и абсолютно сходным в ряде объектов мысли, начинают рассматривать с новой точки зрения, т. е. в других условиях и при других отношениях между предметами и явлениями, как оказывается, что это свойство не абсолютно сходно во всех рассматриваемых объектах, что оно наряду со сходными моментами несет в себе различия. Оказывается, что абстракция, отражавшая общее сходное свойство этих объектов мысли, недостаточно точна, поверхностна и должна расщепиться на ряд новых абстракций, отражающих эти различия.
С процессом дифференциации понятий мы встречаемся на каждом шагу при изучении истории науки. Можно привести в качестве наиболее ярких примеров знаменитый спор Бертолле и Пру (1801–1808), в результате которого понятие соединения раздвоилось на понятие соединение и смесь, опыты Галилея над соударением тел, в ходе которых он пришел к необходимости разделить существовавшее тогда понятие силы на два: силу удара и силу давления. Можно указать на продолжительные споры, развернувшиеся с XVII века вокруг понятий силы, живой силы, количества движения и других, которые закончились лишь в XIX веке тем, что от понятия силы окончательно откололось понятие энергии. Понятие массы прошло в своем развитии через целый ряд дифференциаций (масса инертная, масса тяжелая, масса покоя, масса движения и др.). В истории политической экономии можно указать на противоречие: товары всегда продаются по их стоимости; товары никогда не продаются по их стоимости, — разрешенное К. Марксом путем разделения понятий стоимости и цены производства и выяснения взаимоотношения между ними.
Число этих примеров можно было бы умножать без конца, так как дифференциация понятий происходит на каждом шагу процесса познания. Чаще всего она проходит менее заметно[271] и занимает не столь видное место в истории развития науки, как указанные примеры, но это зависит уже от содержания понятий и их значения в системе той или иной науки, а не от логического строения процесса их развития.
Строение процесса дифференциации, понятно, можно было бы проанализировать на любом из этих примеров. Но мы не случайно выбрали именно понятие скорости. Настоящая работа носит не историко-научный, а логический характер, то есть ставит перед собой задачу не разъяснения содержания того или иного сложного и запутанного понятия, а выявления общих характеристик строения нашей мысли. Поэтому мы должны были взять не эти важные и сложные понятия, а любое уже устоявшееся и простое понятие, которое не вызывало бы споров по своему содержанию и позволило бы благодаря этому выявить с наибольшей наглядностью и отчетливостью общие закономерности процессов развития строения научных понятий. С этой точки зрения механическое понятие скорости было самым подходящим.
* * *
На основе исследования процесса расщепления понятий мы можем построить новую схему умозаключения. Из посылок «А есть В», «А не есть В», относящихся к одному и тому же явлению, при условии, что оба эти положения получены путем «правильных» умозаключений, мы можем сделать вывод, что реальное содержание рассматриваемого явления не соответствует строению, в частности мысленному содержанию и строению формы, прилагаемого к нему понятия. Мы должны искать в рассматриваемом явлении свойство, которое не отражено в понятии и которое в то же время играет существенную роль при заданном анализе этого явления.
О строении атрибутивного знания[272]
I. О строении специфически мысленного «номинативного» знания
1. В последнее время в логике, психологии и языкознании все более утверждается мысль о том, что единицы речи имеют свое особое содержание и значение, которые не могут быть сведены к содержанию и значению чувственных образов — ощущений, восприятий и представлений. Специфический характер этих содержаний и значений позволяет выделить особый вид отражения, называемый мышлением.
Мышление необходимо рассматривать в двух аспектах: во-первых, как фиксированное знание, как образ определенных объектов во-вторых, как процесс или деятельность, посредством которой это знание формируется, а затем используется [1957 а*, {с. 460–462}, b].
Мышление, рассматриваемое в аспекте знания, наглядно-символически может быть изображено в виде взаимосвязи в которой второй элемент по определенным законам замещает или отражает первый [1957 а*, b].
При этом объективным содержанием называются те стороны действительности, которые замещаются или отражаются в знаковой форме. Формой называются те явления и процессы, в которых замещается или отражается объективное содержание. Знаковой эта форма называется потому, что образующие ее процессы и явления могут быть (и первоначально всегда являются) реальными объектами, существующими вне сознания человека (например, звуковые комплексы, жесты или письменные изображения в речи, зерна проса или раковины при счете, предметы-эталоны в практической деятельности и т. п.). Характер их, так же как и характер связи между ними и объективным содержанием, не зависит от природы нашего сенсорного аппарата; поэтому мы говорим, что эта связь является условной. Чувственные образы объектов-заместителей в этом плане являются лишь вторичной формой, и их связь с отражаемым объективным содержанием носит опосредованный и в силу этого также условный характер. Связь между объективным содержанием и знаковой формой называется связью значения или просто значением формы.
Нужно заметить, что не всякая взаимосвязь такого типа, как изображенная, является специфически мысленной взаимосвязью, а только та, которая имеет специфически мысленное содержание и в которой соответственно знаки формы имеют специфически мысленное значение (см. [1957а*, {с. 462–463}; Рамишвили, 1954; Швачкин, 1954 а]). Поэтому без дополнительных определений указанная взаимосвязь не может еще рассматриваться как изображение мысленного знания. Задача данного раздела состоит в том, чтобы указать, какое объективное содержание специфично для мысли и как связаны знаки формы мысленного знания с этим особым содержанием.
2. Специфический характер всех трех составных частей взаимосвязи мысленного знания — объективного содержания, формы и значения — определяется особенностями той мыслительной деятельности, посредством которой это знание сначала вырабатывается, а затем используется. Поэтому исследование деятельности мышления составляет основную и определяющую часть всего исследования мышления, в том числе и исследования мышления в аспекте знания.
Мышление как особая познавательная деятельность возникает внутри процессов труда: первоначально оно является стороной суммарной трудовой деятельности, затем постепенно переходит в ее составляющую часть и в конце концов превращается в особый специализированный вид трудовой деятельности — в умственный труд, относительно обособленный и независимый от других видов труда. По мере развития и обособления деятельности мышления меняются как составляющие ее операции, так и предметы оперирования [1957 b]. Вместе с этим меняется тип объективного содержания, выделяемого в действительности, и соответственно тип знаковой формы, в которой мы это содержание фиксируем, отражаем.
Эти характеристики типов объективного содержания мысленного знания, определяемые относительно мыслительной деятельности,[273] мы называем категориальными характеристиками знания, или категориями. Характеристики типов знаковой формы, определяемые относительно мыслительной деятельности, мы называем логической характеристикой формы, или логической формой. Вместе эти две группы характеристик будут составлять логическую характеристику знания.
В логическую характеристику мысленного знания входит его строение. Чтобы определить строение какого-либо знания, мы должны указать число входящих в его форму знаков и характер связи их с объективным содержанием и между собой. Первая и последняя характеристики, т. е. число знаков в форме и их связи между собой, определяют строение самой формы.
Строение знания, т. е. строение его формы и характер связей между ней и объективным содержанием, меняется, во-первых, в зависимости от категориальной характеристики содержания, выделяемого в исследуемом объекте; во-вторых, в зависимости от числа выделенных сторон одной и той же категориальной характеристики, т. е. если можно так сказать, от «экстенсивности» знания.[274] В данном разделе мы отвлекаемся от этих моментов и рассматриваем лишь общую и абстрактную характеристику специфически мысленной связи между формой и объективным содержанием. Для этого мы берем знание, обладающее простейшей категориальной характеристикой, на основе которого строятся все другие мысленные знания, так называемые атрибутивные, а среди атрибутивных знаний — простейшее по форме, однознаковое, называемое номинативным. На примере этого знания удобнее рассмотреть характер связей между объективным содержанием и формой как таковой, так как его форма не имеет строения и, следовательно, строение не нужно принимать во внимание при исследовании связей, внешних для формы.
3. Атрибутивное знание есть знание, полученное посредством одной или нескольких операций «практически-предметного сравнения». Эта операция принадлежит к тому этажу мышления, где последнее еще не отделилось от практической деятельности с реальными предметами. Она дает нам возможность открывать в предметах такие стороны-свойства, которые недоступны одному чувственному созерцанию.
Чтобы разобрать механизм этой операции, представим себе, что какой-то предмет X впервые попадает в сферу коллективного производства. Чтобы обнаружить какое-либо из его непосредственно чувственно невоспринимаемых свойств, надо поставить его в отношение реального взаимодействия с каким-либо другим предметом (обозначим его буквой I и будем называть предметом-индикатором). Например, чтобы выяснить, горит этот предмет или нет, мы должны привести его во взаимодействие с огнем. Этого практически установленного отношения взаимодействия достаточно для обнаружения свойства предмета X, но, чтобы сообщить об обнаруженном свойстве и соответственно об обнаруженном возможном способе использования предмета X другим членам коллектива, человек, оперировавший с предметом X, должен еще сопоставить его с каким-либо другим предметом А, обладающим тем же свойством и используемым членами данного коллектива только со стороны этого свойства, т. е. только в этом отношении (мы будем называть такой предмет эталоном); человек должен отождествить предмет X, взятый в отношении к предмету I, с этим предметом-эталоном А и благодаря этому выразить обнаруженное свойство предмета X в предмете А. В нашем примере это означает, что предмет X необходимо сопоставить и отождествить с предметом, известным всем членам коллектива своей способностью гореть, с предметом, который всегда служил материалом для разжигания огня. Проделанное таким путем отождествление позволяет обозначить вновь вошедший в сферу коллективного производства предмет X тем же знаком (А),[275] что и давно известный предмет А со строго закрепленным способом использования, и позволяет образовать взаимосвязь знания X — (А), которую мы будем называть номинативным знанием. Номинативное знание создается в результате одной операции практически-предметного сравнения и является, как мы уже говорили, простейшим видом знания атрибутивного типа.
Нетрудно заметить, что разобранная операция практически-предметного сравнения складывается из двух существенно различных действий: во-первых, сопоставления (в реальном взаимодействии и идеально — в представлении) трех предметов — X, А и I, — во-вторых, отнесения знака (А) к одному из этих предметов, именно к предмету X. При этом отождествление предметов X и А (взятых в одном определенном отношении) в действии сопоставления является основанием для установления взаимосвязи между предметом X и знаком (А) в действии отнесения. Однако в полученной взаимосвязи знания X — (А) порождающие ее отношения сопоставления полностью «сняты», элиминированы, и обнаружить их в ней непосредственно невозможно [1957 b].
Характер действий сопоставления и отнесения, составляющих операцию практически-предметного сравнения, полностью определяет строение полученного номинативного знания, характер связи между его объективным содержанием и формой. Поскольку все сопоставляемые предметы (А, X, а далее Y, Z и др.) тождественны лишь в одном свойстве, в одном отношении, постольку общий для них знак, например (А), может обозначать и прежде всего обозначает только одно это общее свойство каждого предмета. Мы будем называть знак, взятый в связи с этим объективным содержанием, абстракцией, или, иначе, будем говорить, что в этой связи, в этом значении знак несет на себе функцию абстракции. Поскольку после проделанного сопоставления знак (А) относится не к отношению сопоставляемых предметов, а к каждому из них отдельно, постольку он обозначает предмет как целое со всем множеством его еще не выявленных свойств. Мы будем называть знак, взятый в связи с этим объективным содержанием, меткой, или, иначе, будем говорить, что в этой связи, в этом значении знак несет на себе функцию метки. Поскольку знак (А) может быть отнесен ко многим предметам, постольку он обозначает их класс. Знак, взятый в связи с этим объективным содержанием, мы будем называть обобщением, или, иначе, будем говорить, что в этой связи, в этом значении знак несет на себе функцию обобщения.
Эти три связи значения и соответственно три функции знака формы в специфически мысленном номинативном знании неразрывно связаны друг с другом. Только благодаря тому, что в первом действии мы сопоставляем два и притом различных предмета, мы можем выделить одну сторону каждого из них (именно общую обоим) в противоположность всем другим сторонам. Если бы мы не сопоставляли два предмета или если бы эти предметы — допустим такой случай — были тождественны именно как целое, во всем множестве своих свойств, то никакого выделения одной тождественной стороны в противоположность всем другим различным сторонам не было бы, а вместе с этим не было бы акта абстрагирования и атрибутивный знак не получил бы своей функции абстракции. Иначе говоря, само выделение одной стороны предметов в знаке, само значение абстракции как особое значение становится возможным только благодаря тому, что происходит обобщение. Но и обратно, обобщение двух различных предметов, т. е. обозначение их одним знаком, возможно только потому, что сопоставляемые предметы могут быть взяты в практически одном и том же отношении, обладают одним и тем же свойством и это свойство может быть выделено в абстракции в противоположность всем остальным свойствам каждого из этих предметов. Точно так же, чтобы стать полноценным знанием об объективном мире, абстракция и обобщение, фиксированные в знаке после сопоставления, должны быть отнесены к определенным предметам. При этом обнаруженное в отношениях сопоставления свойство выступает уже не как реализованное отношение одного предмета к другому, а как способность самих предметов вступать в эти отношения, способность, заложенная в них как таковых и независимая от тех или иных реально установленных отношений. Иначе говоря, чтобы свойство стало свойством именно предмета, оно должно быть отнесено к этому предмету. Но и наоборот, чтобы отнести какой-либо обобщенный знак к предмету как к целому, надо найти и выделить в нем отдельное свойство, фиксированное в этом знаке. Поэтому нам представляется правильным, когда Н. Х. Швачкин, возражая В. В. Виноградову, утверждает, что «наличие в слове обобщенного значения… не снимает его предметной отнесенности» [Швачкин, 1954 а, с. 110]. Но вместе с тем мы не можем согласиться с самим Н. Х. Швачкиным, когда он утверждает, что «в своей конкретно-отнесенной форме значение слова возникает раньше понятия и является предпосылкой его становления. По мере же абстрагирования и обобщения существенных признаков предметов слова ребенка приобретают не только единичное, но и обобщенное значение» (там же). Из анализа действий сопоставления и отнесения, составляющих специфически мысленную операцию практически-предметного сравнения, необходимо следует, что не может быть обозначения предмета, допускающего перенос на другие предметы (а в опытах Н. Х. Швачкина дети сразу же переносили название одного предмета на другие по цвету (там же, с. 87), которое не было бы в то же время обозначением отдельного свойства этого предмета. Точно так же не может быть обозначения отдельного свойства как свойства одного предмета, а только как свойства, общего по меньшей мере для двух предметов.
Итак, связь значения между объективным содержанием и формой в специфически мысленном номинативном знании носит сложный характер. Она складывается по крайней мере из трех компонент — связей абстракции, метки, обобщения, — а атрибутивный знак, образующий форму этого знания, имеет соответственно три свойства-функции. Из этих компонент две — абстракция и обобщение — являются специфически мыслительными, т. е. присущими только мышлению и отличающими его от других видов отражения, а третья связь, или функция, называемая меткой, хотя и является необходимой составной частью взаимосвязи номинативного знания, без которой сама эта взаимосвязь не может существовать, тем не менее не является специфически мыслительной и может существовать самостоятельно, отдельно от функций абстракции и обобщения в более простых чувственных формах отражения, как «собственное имя» предметов (как таковое оно не может быть перенесено с одного предмета на другой). Только несущий на себе все три функции отдельно взятый атрибутивный знак языка выражает понятие о предмете; наоборот, отдельный знак, не являющийся абстракцией и обобщением, понятия и вообще мысли не выражает.
II. Синтагма. Реальное и формальное знание
1. В предыдущем разделе было выяснено, что знание — мы изображаем его схемой — является специфически мысленным атрибутивным знанием только в том случае, когда 1) его содержание вычленяется в объектах действительности посредством операций практически-предметного сравнения, 2) связь значения (определяемая характером мыслительной операции) складывается из трех компонент: связей абстракции, метки и обобщения, 3) форма знания в силу этого несет на себе три соответствующие функции.
Для того чтобы рассмотреть связь между знаковой формой и объективным содержанием в атрибутивном знании в общем виде, отвлеченно от особенностей строения самой формы, мы взяли в первом разделе в качестве предмета исследования атрибутивное знание с простейшей однознаковой формой, так называемое номинативное знание, которое мы изображаем схемой X — (А). Символ X обозначает здесь единичный реальный предмет, а символ (А) — какой-либо отдельный знак, в частности отдельное слово. Проанализировав на примере номинативного знания связь значения, присущую всем атрибутивным знаниям, мы можем теперь перейти к более сложным примерам (к высказываниям с многознаковой формой, таким, как «дом — строение», «медь — металл», «параллелограмм — четырехугольник, у которого противоположные стороны параллельны» и т. п.) и рассмотреть: 1) строение формы различных атрибутивных знаний в порядке ее закономерного усложнения и 2) влияние этого усложнения на значения и функции, входящих в знание знаков.
В качестве объективной основы, определяющей закономерность усложнения формы, мы возьмем увеличение числа сторон, выделяемых в предметах действительности, или, как мы говорим, увеличение «степени экстенсивности» знания.
2. Самым простым среди сложных видов атрибутивного знания является знание с экстенсивностью степени два, форма которого состоит из двух знаков, каждый из которых обозначает определенную сторону рассматриваемого предмета. Чтобы получить знание такого вида о каком-либо единичном предмете X, нужно проделать последовательно две операции практически-предметного сравнения. Результатом этих операций будет сложное атрибутивное знание о единичном предмете X, которое наглядно-схематически может быть изображено в формуле X — (А)(В). Символы (А) и (В) выражают здесь словесные обозначения двух сторон, открытых в предмете X.
С точки зрения фило- и онтогенеза, для того чтобы возникло такое знание, необходимы особые условия, и в частности должна появиться особая способность разума — связывать в некоторое единство последовательные операции практически-предметного сравнения одного и того же предмета с различными эталонами.
В своих экспериментальных работах Н. X. Швачкин показал, что в возрасте от 11 месяцев до одного года семи месяцев дети первоначально не образуют и соответственно не выделяют в речи взрослых сложных, в частности двузнаковых, форм и используют в своем речевом мышлении только номинативные знания [Швачкин, 1954 а, с. 91–95]. Но затем в ходе экспериментов они начинают сопоставлять и связывать между собой последовательно проделанные операции сравнения одних и тех же предметов и выражать это в объединении соответствующих знаков. «Так, например, — пишет Н. X. Швачкин, — когда Вите Н., называвшему синий горшок "гок" и желтую бочку "бок", показали желтый горшок и спросили его, что это такое, он сначала ответил: «Бок», — но, сравнив конфликтную игрушку с синим горшком, произнес: «Гок», — после чего громко сказал: «Гок-бок». Так это название и осталось за этим предметом. Впоследствии подобными именами он называл многие конфликтные предметы. К такому «словообразованию» самостоятельно пришли в разное время еще семнадцать детей» (там же, с. 95).
Атрибутивное знание вида X — (А)(В), несмотря на свою полиэкстенсивность и наличие двух знаков в форме, остается в принципе номинативным знанием. Оба знака его формы абсолютно равноправны: они относятся к реально данному предмету X рядоположенно и являются фактически одним сложным его определением. Однако сама особенность формы такого знания создает необходимую основу для того, чтобы при определенных условиях оно могло превратиться в знание принципиально иного вида, в так называемое синтагматическое знание, которое наглядно-схематически может быть выражено в формуле (А) — (В).
Одной из причин, приводящих к появлению синтагматического знания, является, по-видимому, своеобразный разрыв между «полями зрения» общающихся между собой людей. В условиях этого разрыва номинативные высказывания уже не могут обеспечить процесс коммуникации и появляется необходимость в выработке новых языковых форм. Исследование конкретных условий и механизмов фило- и онтогенеза синтагматического знания представляет собой комплексную задачу, лежащую на стыке нескольких наук — логики, психологии, языкознания, отчасти антропологии и этнографии. Попытки решить или как-то осветить ее были сделаны с различных сторон, однако до сих пор ни одна из них не привела к сколь-нибудь значительным результатам. В частности, не удалась эта попытка и Н. X. Швачкину, который вынужден был просто констатировать превращение «именных суждений» в более сложные — дву- и трехсловные [Швачкин, 1954 b].
Мы ограничимся этими немногими замечаниями относительно проблемы генезиса атрибутивно-синтагматического знания и в дальнейшем будем рассматривать только его строение, процессы формирования отдельных знаний и способы их употребления.
3. Прежде всего сопоставим функциональные взаимоотношения элементов синтагмы (бок) — (гок), или (А) — (В), и функциональные взаимоотношения элементов номинативного знания X — (гок), или X — (В). В номинативном знании первый элемент есть сам предмет, а второй — форма знания о нем. Но и взаимоотношение элементов синтагмы может быть представлено таким образом, что первый элемент — знак (бок), или (А), — будет «играть роль» самого познаваемого предмета, а второй элемент — знак (гок), или (В), — роль формы знания о нем. Иначе говоря, строение синтагмы, рассматриваемой отдельно, таково, что один знак в ней является заместителем самого реального предмета, а второй выступает как форма знания, но уже не о непосредственно данном реальном предмете X, а об этом предмете, замещенном знаком (бок), или (А). Но это значит, что отношение между реальным предметом и формой знания, между реальным предметом и языковыми знаками, как бы переносится внутрь самой системы знаков языка, внутрь самой формы. Взаимосвязь синтагмы (А) — (В), рассматриваемая в этом плане, оказывается не чем иным, как замещением номинативного знания X — (В), «вбирающим» в себя его смысл и «значение»,[276] а знак (А) выступает в роли «формального» предмета знания, или «предмета-заместителя».
Благодаря такому распределению функций синтагматическая форма (А) — (В) может сохранить и сохраняет свойства полноценного знания даже в отсутствие реального предмета высказывания. Это подтверждается всей практикой нашего мышления и общения. Если мы просто скажем дом, металл, стоит, не указывая при этом ни на один предмет, то эти слова не будут выражать никакого знания, несмотря на то что мы прекрасно знаем и осознаем их «смысл». Для того чтобы эти слова стали формой знания, необходимо отнести их к каким-либо предметам. Если же мы скажем дом — строение, медь — металл, то будем иметь полноценное знание и без какого-либо специального непосредственного указания на реальные предметы, о которых идет речь. Если воспользоваться примером Н. X. Швачкина, то это можно выразить так: выражение «бок-гок» представляет собой полноценное высказывание и является формой знания только в том случае, если оно относится к какому-либо данному в этот момент реальному предмету, т. е. только в том случае, если существует взаимосвязь X — (бок-гок), а высказывание (бок) — (гок), как об этом свидетельствует вся практика нашего мышления, сохраняет функции и смысл знания и помимо прямого, непосредственного отнесения к предмету.
Мы пришли к этому исключительно важному, на наш взгляд, выводу, рассматривая синтагматическую форму, казалось бы, отдельно, отвлеченно от связи ее с реальными предметами. Однако на деле вообще вне и помимо связи с реальными предметами синтагма (А) — (В) никак не может иметь действительного смысла и значения, никак не может быть знанием. Знание всегда есть знание о чем-либо реально существующем, объективном. Знаки языка являются формой знания лишь постольку, поскольку они замещают реальные предметы. Замещение реальных объектов знаковой формой имеет смысл, оправданно и целесообразно как с точки зрения самого мышления, так и с точки зрения общения людей между собой, а замещение одних значков другими — если мы берем их просто как значки, а не как знаки чего-то объективно существующего — не имеет никакого смысла и никакого оправдания. Значит, синтагматическая форма (А) — (В) не является самостоятельным изолированным целым в языковом мышлении и не может рассматриваться вне связи с реальными предметами. Она представляет собой лишь элемент более сложного языково-мысленного целого, а именно взаимосвязи X — (А) — (В) и соответственно может рассматриваться лишь как элемент этой взаимосвязи. Когда мы говорим «дом — строение», «медь — металл», то как сами синтагмы в целом, так и входящие в них знаки имеют смысл и значение лишь постольку, поскольку (сейчас или впоследствии) мы можем отнести их к определенным реальным предметам. Иначе говоря, структура полного знання не исчерпывается связью между знаками самой синтагмы, а предполагает еще одну связь — связь этих знаков с реальными предметами. В высказывании «дом — строение» слово «строение» имеет значение и может рассматриваться как форма знания только потому, что мы можем отнести и относим слово «дом» — а следовательно, через него и слово «строение» — к определенным реальным предметам. Таким образом, синтагма (А) — (В) может рассматриваться как знание и замещение номинативного знания только в предположении, что существует еще и может быть реализована собственно номинативная связь X — (А) и что, следовательно, на основе этого может быть образована взаимосвязь X — (А) — (В). Соответственно акт образования синтагмы (А) — (В) является осмысленным и значимым только в предположении второго акта, именно акта образования номинативной связи X — (А). Поэтому, рассматривая синтагматическую форму (А) — (В) как замещение номинативного знания X — (В), мы должны рассматривать ее с учетом той связи, которая может быть установлена между X и (А) и которая превращает взаимосвязь (А) — (В) в элемент сложной взаимосвязи X — (А) — (В).
Но и последнее положение неточно выражает существо дела. Мы не можем рассматривать синтагму (А) — (В) просто как элемент взаимосвязи X — (А) — (В), так как две связи, образующие последнюю — X — (А) и (А) — (В), — в реальном языковом мышлении обособляются (как в пространстве, так и во времени), приобретают относительно самостоятельное существование и получают за счет этого такие особенности, которыми они не обладали как просто элементы взаимосвязи X — (А) — (В). Поэтому при определенных условиях и в определенных границах, мы можем и должны рассматривать синтагматическую форму (А) — (В) как относительно самостоятельное образование; при этом мы должны, с одной стороны, учитывать связь ее с реальными объектами, а с другой — отвлекаться oт этой связи: иначе — мы должны привлекать к рассмотрению связь синтагматической формы с реальными объектами, учитывая, что в действительности она обособлена, существует в пространстве и во времени относительно независимо и дает относительно независимое и самостоятельное существование интересующей нас взаимосвязи (А) — (В). Наглядно-схематически мы будем выражать этот факт и соответствующее ему понимание в формуле Х…(А) — (В), причем точки между изображениями реального предмета и первого знака синтагмы будут служить и изображением того, что связь между синтагмой (А) — (В) и реальным предметом X, с одной стороны, существует и должна учитываться при исследовании, с другой — что она обособлена в пространстве и во времени и в силу этого дает синтагматической связи (А) — (В) относительно самостоятельное существование.
Итак, всякое знание (по сути дела и соответственно исходным определениям) есть знание о реально существующем, есть взаимосвязь знаковой формы с объективным содержанием. Однако с появлением сложных, в частности синтагматических, форм знания в языковом мышлении появляются такие взаимосвязи, составленные исключительно из знаков формы, которые как бы «перенимают», «впитывают» в себя структуру «полного» знания, становятся его замещением. Такие взаимосвязи знаков могут существовать и иметь смысл и значение в системе языкового мышления и коммуникации лишь при условии превращения в дальнейшем в «полное» знание, отнесенное к реальным объектам. Но это превращение может быть обособлено в пространстве и во времени от акта образования самой синтагматической связи и поэтому должно выступать относительно него лишь как возможное; при этом условии взаимосвязь синтагматической (или какой-либо другой, более сложной) формы может существовать относительно независимо и самостоятельно как «замещение» полного знания.
Чтобы учесть это, на наш взгляд, исключительно важное явление языкового мышления в понятиях, нужно ввести различение реального и формального знания.
Мы будем называть реальным знанием взаимосвязь, образованную путем непосредственного отнесения знаковой формы к объективному содержанию, или иначе — взаимосвязь знаковой формы с непосредственно данным объектным содержанием. Формальным знанием мы будем называть взаимосвязь, образованную путем отнесения одних знаков формы к другим знакам, или иначе — взаимосвязь знаков формы, связанных между собой связью значения.
III. Синтагма. Знание о единичном факте и общее знание
1. В предыдущем разделе было показано, что номинативно-комплексное знание вида X — (А)(В), возникшее в результате двукратного применения операции практически-предметного сравнения к предмету X, при определенных условиях порождает синтагму (А) — (В), которая, обособившись от непосредственной связи с реальным предметом X, выступает в качестве замещения номинативного знания X — (В) и как таковое начинает играть роль «полного» знания. При этом первый знак синтагмы выступает в функции предмета-заместителя, а второй — как форма знания о нем. Чтобы отличить чисто знаковые взаимосвязи вида (А) — (В), играющие роль знаний, от знаний о непосредственно данных предметах вида. X — (В) или X — (А)(В), мы ввели понятия формального и реального знания[277] и начали рассматривать значения и функции знаков формального синтагматического знания.
Как формальное замещение реального номинативного знания взаимосвязь синтагмы (А) — (В) прежде всего тождественна отдельному номинативному знанию, и поэтому ее знаки «принимают» на себя, «впитывают» значения и функции соответствующих элементов номинативного знания; в то же время благодаря некоторым особенностям употребления, а также некоторым особенностям составляющих ее элементов синтагма отлична от взаимосвязи номинации и несет на себе особые значения и функции, которых не было у номинативного знания. Рассмотрим их более подробно.
Первое. В синтагматическом знании в роли предмета-заместителя выступает атрибутивный знак языка, который по своему происхождению, как элемент номинативного знания, является не только меткой (обозначением предмета в целом), но и абстракцией, т. е. обозначением одного определенного свойства предмета, и эта функция сохраняется у него также и во взаимосвязи формального синтагматического знания. Благодаря этому синтагма приобретает особые значение и содержание, которых нет у номинативного знания вида X — (В): она выступает как утверждение связи сосуществования двух свойств предмета. Правда, выражение совместности двух свойств в определенных предметах есть уже в номинативно-комплексном знании вида X — (А)(В), однако в связь свойств эта совместность превращается только в структуре синтагматического знания.
Для правильного понимания природы синтагматического знания важно специально отметить, что это превращение никак не связано с теми приемами мышления, которые необходимы для выявления и исследования объективных связей свойств,[278] и происходит только благодаря наличию в формальном синтагматическом знании связи значения. Иначе говоря: в формальном синтагматическом знании (А) — (В) существует связь значения, возникающая как замещение и отображение связи между единичным реальным предметом X и формой знания о нем — (В); само существование этой связи значения благодаря особым функциям знаков синтагмы превращает зафиксированную в номинативно-комплексном знании совместность свойств в определенном предмете в связь сосуществования этих свойств помимо и независимо от сознательной деятельности выделения и исследования связей как таковых.
Второе. Атрибутивный знак (А) выступает в качестве заместителя какого-либо единичного предмета лишь до тех пор, пока взаимосвязь синтагмы берется в отнесении к этому единичному предмету; когда же она берется вне этой непосредственно реализованной связи, как самостоятельно значимое формальное знание, знак (А) перестает быть заместителем единичного предмета и выступает уже в роли заместителя целого класса предметов, так как он (а вместе с ним и вся синтагма) может быть отнесен не только к предмету X, но и к Y, Z и другим предметам, которые он обозначал раньше в качестве отдельного знака. Но это значит, что в формальном синтагматическом знании предметное содержание уже иное, нежели предметное содержание каждой из замещаемых ею взаимосвязей номинаций X — (В), Y — (В) или Z — (В); в последних фигурируют реальные единичные предметы, а в синтагматическом формальном знании — содержательное образование особого рода, возникшее в процессе отражения и общения: класс предметов, или класс обобщения. В соответствии в этим меняется функция первого знака синтагмы: он становится обобщенным предметом-заместителем, или, как мы будем говорить короче, обобщенным заместителем.
Здесь необходимо специально отметить, что с переходом от реальных номинативных к формальному синтагматическому знанию существенным образом меняется характер функции обобщения. Раньше она актуально существовала и реализовалась лишь как совокупность актов отнесения к единичным предметам (см. раздел I). Теперь эта совокупность актов отнесения «снимается» и получает актуальное существование в функции обобщенного заместителя и соответственно в одной связи — в отнесении знака свойства (В) к знаку обобщенного заместителя (А). Но это, в частности, означает, что синтагма (А) — (В), рассматриваемая как самостоятельно значимое формальное значение, выступает уже в качестве замещения не какого-либо одного номинативного знания X — (В), Y — (В) или Z — (В), а в качестве замещения их всех.
Итак, формальное синтагматическое знание отличается от реального номинативного знания, во-первых, тем, что оно выражает объективную связь сосуществования двух свойств предметов, во-вторых, тем, что его «предметом знания» является не единичный, реальный предмет, а особое образование, возникшее в процессе отражения и коммуникации, — обобщенный заместитель, — которому соответствует особое обобщенное идеальное содержание.
2. Указанные свойства формального синтагматического знания (пока оно существует в том виде, какой мы рассматривали) противоречат друг другу, и это приводит к появлению антиномий.
Действительно, формальное синтагматическое знание (А) — (В) возникает из единичного знания X — (А)(В), превращающегося в Х…(А) — (В). Поэтому как выражение связи сосуществования свойств А и В оно является эмпирически проверенным и оправданным лишь в применении к единичному предмету X. Однако, поскольку синтагма (А) — (В) обособляется от связи с единичными предметами и начинает функционировать в качестве самостоятельно значимого формального знания, постольку она становится знанием не о единичном предмете X, а об обобщенном заместителе (А) и, следовательно, распространяется на целый класс предметов — X, Y, Z и т. д. Но это «обобщение» связи сосуществования свойств А и В, происходящее за счет уже установившейся общности знака (А), является незаконным: ведь совместность (или связь) свойств А и В была эмпирически обнаружена только в одном предмете из класса А, именно в предмете X, и в других предметах того же класса, в предметах Y, Z… ее может не быть. Но законно или незаконно, а это обобщение фактически происходит вследствие употребления синтагмы (А) — (В) в качестве самостоятельного формального знания, и поэтому весь класс предметов А начинают рассматривать как обладающий свойством В. Однако это приводит к тому, что, столкнувшись в ходе практической Деятельности, предположим, с предметом Y, относящимся к классу А, но не имеющим свойства В, и пытаясь в соответствии с формальным знанием (А) — (В) использовать его как В, человек терпит фиаско и должен зафиксировать этот факт в синтагме отрицания (А) — /—(В). Тогда в системе атрибутивного знания появляются два совершенно равноправных и исключающих друг друга знания: (А) — (В) и (А) — /—(В). Первое из них в обобщенной форме выражает тот факт, что в реальном единичном предмете X практически обнаружено свойство В, второе — что в реальном единичном предмете Y этого свойства нет. Таким образом, в этих двух случаях дело идет о связи атрибутивного знака (Б) с различным и реальными предметами, что может быть выражено во взаимосвязях X — (В) и Y — /—(В). Если мы представим их в таком виде, то никакой антиномии не будет. Однако, поскольку связь знака (В) с предметами X и Y осуществляется, во-первых, через посредство связи со знаком А, т. е. как X — (А) — (В) и Y — (А)-/-(В), во-вторых, в форме взаимосвязи с предметом-заместителем (А), которая обособляется от связи с реальными предметами X и Y и существует самостоятельно, т. е. в форме взаимосвязей (А) — (В) и (А) — /—(В), постольку между формальными синтагматическими знаниями существует и сохраняется антиномия.
Она показывает, что отнюдь не всякая взаимосвязь синтагмы, возникшая из номинативно-комплексного знания X — (А) (В) и выражающая обнаруженную в каком-либо единичном предмете совместность (связь сосуществования) двух свойств, может стать полноценным формальным знанием (А) — (В); она показывает, что в полноценном формальном знании могут быть связаны только те знаки, которые фиксируют свойства предметов, всегда или необходимо связанные между собой.
Чтобы устранить эту антиномию, необходимо в практике языкового мышления различить формальные синтагматические знания, являющиеся замещением единичного номинативного знания, и формальные синтагматические знания, являющиеся замещением группы номинативных знаний, охватывающих весь класс предметов, обладающих обоими зафиксированными в синтагме свойствами, и ввести какие-либо формальные «указатели» для их различения.
Чтобы убедиться в том, что такое различие между синтагматическими знаниями о единичном факте и общими синтагматическими знаниями существует в современном языковом мышлении, достаточно сравнить между собой предложения: «Этот металл лежит на столе» и «Металл проводит электричество и тепло». Первое значимо лишь в отнесении к какому-либо единичному предмету, в отношении к «тому» или «этому» определенному куску металла; второе же — в отнесении в любому металлу, к каждому из них, а следовательно, и помимо какого-либо единичного отнесения.
В разных языках в качестве формальных указателей принадлежности знаний (соответственно предложений) к одной или другой из этих групп служат знаки, относящиеся к различным грамматическим категориям. В русском языке этой цели служат, среди других, указательные и количественные местоимения. В устной речи словесные формальные указатели единичности предмета знания часто заменяются «указующими» жестами. В настоящей работе мы не можем заниматься вопросами, относящимися к историческим условиям и механизмам появления таких формальных указателей, хотя исследование их и представляет большой интерес для науки о языковом мышлении. Мы возьмем как факт существование формально различенных между собой знаний о единичных фактах и общих знаний и рассмотрим, как сказывается это на употреблении знаний и на функциональных взаимоотношениях их элементов. При этом синтагматические знания о единичных фактах мы будем обозначать формулой Х…(А) — (В), а общие знания — прежней формулой (А) — (В).
3. Разделение синтагматических знаний на знания о единичных фактах и общие создает определенный разрыв между номинативными знаниями и замещающими их синтагматическими знаниями о единичных фактах, с одной стороны, и общими синтагматическими знаниями — с другой. Суть этого разрыва в том, что синтагмы, непосредственно замещающие реальные номинативные знания и тождественные им по содержанию, не могут выступать в роли общих знаний, а общие синтагматические знания имеют особое содержание и не образуются из номинативных посредством уже указанных операций практически-предметного сравнения.
Между тем никакая синтагма, как мы уже об этом говорили, не может существовать в качестве знания вне и помимо связи с номинативными знаниями: всякое формальное знание выражает объективное содержание и имеет значение лишь в силу того, что всегда может быть установлена определенная связь между ним и какими-то реальными объектами и, следовательно, само это знание может быть превращено в реальное. Другими словами, между общими синтагматическими знаниями и знаниями о единичных фактах не может быть разрыва, между ними должна существовать определенная связь, позволяющая переходить от знаний о единичных фактах к общим и обратно, должны существовать определенные процессы мышления, посредством которых эта связь сначала устанавливается, а затем на ее основе осуществляются переходы от одного знания к другому.
Рассмотрим некоторые стороны процессов мышления, посредством которых осуществляется переход от знаний о единичных фактах к общим. Мы называем их процессами согласования. Это название, являясь весьма условным, в то же время довольно точно характеризует суть этих процессов.
Дело в том, что, создавая какую-либо атрибутивную абстракцию, мы должны сравнить между собой два предмета. Выделив общее свойство этих предметов и зафиксировав его в определенном знаке, мы «создаем» класс предметов, скрыто включающий в себя уже не только эти два предмета, а неопределенно большое число их. При этом хотя выделенное свойство и очерчивает жестко границы этого класса, но очерчивает в неявной форме: сколько таких предметов и где они — все это остается неизвестным. Но это и не нужно знать, чтобы пользоваться отдельной абстракцией: сталкиваясь в дальнейшем с какими-либо единичными предметами, мы выясняем с помощью практически-предметного сравнения, обладают они выделенным в абстракции свойством или нет и тем самым принадлежат ли к образованному этой абстракцией классу. Таким образом, предметная «неопределенность» и «неограниченность» созданного отдельной абстракцией класса нисколько не мешают ее практическому употреблению.
Положение коренным образом меняется, когда мы начинаем пользоваться синтагматический формой знания. Второй знак в ней относится к реальным предметам действительности лишь через первый знак, а следовательно, он относится ко всем тем и лишь к тем предметам, к которым относится первый. Этим формальные синтагматические знания принципиально отличаются от номинативно-комплексных, в которых оба знака формы относятся к реальным предметам непосредственно вместе. Таким образом, в синтагматическом знании первый знак получает новую функцию — быть связующим или опосредствующим — и благодаря этому начинает определять тот класс предметов, к которым относится вся синтагма, а следовательно, и ее второй знак. Однако если входящие в синтагму абстракции (А) и (В) были образованы независимо друг от друга, то у нас, как уже было выяснено, не может быть никакой уверенности в том, что все реальные предметы, обладающие свойством А, обладают одновременно свойством В. Наоборот, наиболее вероятным является то, что эти абстракции очерчивают разные по своему предметному содержанию группы, «создают» разные классы, и поэтому отнесение знака (В) к реальным предметам через знак (А), т. е. ко всем предметам, обладающим свойством А, приведет к неверным результатам. Отсюда мы сделали вывод, что синтагма общего знания не может объединять любые свойства предметов, а должна объединять лишь те, которые всегда или необходимо сопутствуют друг другу. Но это значит, что, создавая общее синтагматическое знание, мы должны, выделив какое-либо свойство и образовав тем самым класс, выяснить затем, какими еще свойствами обладают все без исключения предметы этого класса, и лишь эти свойства можем объединять с первым в общем знании.
Совершенно очевидно, что процессы мышления, посредством которых решается эта задача, непохожи на практически-предметное сравнение и даже на сравнение вообще. Простейшим примером процессов такого рода, специфичным как раз для рассматриваемого (атрибутивного) этажа мышления является так называемая индукция через простое перечисление.[279] По своим результатам индукция может быть разделена на подтверждающую и опровергающую. Получение отрицательного знания о единичном факте в ходе индукции приводит либо к тому, что отвергается сама необходимость установления общей связи знака (В) с реальными предметами X, Y, Z… через знак (А), т. е. вообще «отклоняется» его опосредствующая роль, либо к тому, что преобразуются содержание и, соответственно, связи значения согласуемых знаков: например, знак (А), оказавшийся с точки зрения знака (В) «неполноценным» заместителем класса предметов X, Y, Z… «усовершенствуется» путем расщепления на два знака — (А1), обозначающий те предметы класса (А), которые обладают свойством В, и (А2), обозначающий предметы этого же класса, которые свойством В не обладают. Возможны и другие процессы преобразования области содержания и значимости знаков, организуемых в синтагму общего знания. Во всех случаях в результате этого процесса устанавливается и закрепляется в языке обобщенная взаимосвязь (А) — (В), уже не наталкивающаяся на противоречия при применении к сравнительно широкой области действительности. Таким образом, задача и результат индукции заключаются в том, чтобы на пути поединичной эмпирической проверки «согласовать» области значимости объединяемых знаков (А) и (В) и таким способом образовать общее синтагматическое знание.
Однако нетрудно заметить, что индукция через простое перечисление не может справиться со стоящей перед ней задачей адекватным образом. Действительно, с одной стороны, всякая абстракция «собирает» в класс неопределенно большое множество предметов, с другой стороны, создавая общее синтагматическое знание, мы должны, зафиксировав в знаке первую абстракцию, выяснить затем, какими еще свойствами обладают все без исключения предметы класса, образованного этой абстракцией. Совершенно очевидно, что сделать это, перебирая по одному предметы неопределенно большого класса, невозможно. Это обстоятельство создало целую литературу об индукции (довольно полный перечень ее см. в [Write, 1957]). Поэтому, образуя общее синтагматическое знание и желая выяснить, какие еще свойства всегда или необходимо связаны с первым, выделенным нами, мы должны перевести исследование в принципиально иную плоскость и осуществить иные процессы мышления, принципиально отличные от «индуктивного согласования». Эти процессы мышления сложились на более высоких этажах, на этажах уже научного мышления — прежде всего в математике. Они характеризуются тем, что связь свойств, выделяемых в предметах, устанавливается не после образования соответствующих абстракций, как при индукции, а в процессе и самим способом их формирования. Благодаря этому полностью снимается задача поединичной эмпирической проверки справедливости выделенной связи. Условно мы будем называть эти процессы образования общего формального знания дедуктивным[280] согласованием. Подробный анализ их может быть проведен только при изучении более высоких уровней и этажей языкового мышления и полностью выходит за рамки нашей работы. Нам важно здесь установить только то, что существуют особые процессы мышления (индуктивные и дедуктивные), обеспечивающие переход от знаний о единичных фактах к общим, и что, следовательно, существуют устанавливаемые в этих процессах строго однозначные связи между реальными номинативными знаниями и общими формальными синтагматическими знаниями.[281]
4. Обосновывая превращение одних синтагматических знаний в общие и запрещая это превращение для других, процессы согласования как бы «отделяют» те свойства реальных объектов, которые можно приписывать обобщенным заместителям, от свойств, которые им приписывать нельзя. Но это означает, что в общем синтагматическом знании имеет особые значения и несет на себе особые функции не только первый знак (он является обобщенным заместителем), но и второй, который обозначает уже не просто свойство единичных предметов, а свойство, общее для всех предметов определенного класса. Он становится уже не знаком свойства какого-либо непосредственно данного реального предмета, а знаком признака обобщенного заместителя. Если вернуться к примерам знаний, которые мы уже приводили выше: «Металл лежит на столе» и «Металл проводит электричество и тепло», то можно сказать, что вторая знаковая группа первого предложения — «лежит на столе» — выражает свойство определенного единичного предмета, а вторая знаковая группа второго предложения — «проводит электричество и тепло» — признак обобщенного заместителя. Таким образом, обособление синтагмы (А) — (В) и превращение ее в общее формальное знание сопровождается полным преобразованием значений и функций, входящих в нее знаков.
Специально отметим, что мы употребляем термин дедукция в несколько ином смысле, чем это принято в формальной логике. Для нас это не движение от общего положения к частному, а процесс образования общего формального знания, при котором связь между абстракциями устанавливается в процессе и самим способом их формирования. Указание этого признака может служить пока определением дедукции.
IV. Синтагматический комплекс
1. В предыдущих разделах было выяснено, что применение одной операции практически-предметного сравнения к какому-либо реальному предмету X дает специфически мыслительное номинативное знание. Наглядно-схематически оно выражается в формуле X — (А). Последовательное применение двух различных операций практически-предметного сравнения к этому предмету ведет к образованию номинативно-комплексного реального знания вида X — (А)(В), которое затем (при определенных условиях) превращается в формальное синтагматическое знание вида (А)-(В).
По своему содержанию, а также по способам образования и употребления формальные синтагматические знания подразделяются на знания об единичных фактах и общие знания. Переход от знаний о единичных фактах к общим совершается посредством особых процессов мышления, которые условно были названы процессами согласования. Эти процессы позволяют из числа всех связей сосуществования свойств предметов, установленных в разных единичных случаях, выделять действительные, т. е. необходимые, связи. Только таким образом связанные свойства предметов могут фиксироваться в виде общих формальных знаний.
Для дальнейшего здесь важно специально отметить также, что из двух синтагм, (А) — (В) и (В) — (А), совершенно равноценных и равновероятных, пока они являются знаниями о единичных фактах, как правило, только одна может стать общим знанием, именно та, у которой на первом месте стоит свойство, присущее менее широкому классу предметов. Это вытекает из характера процессов согласования; посредством них мы проверяем, все ли предметы, обладающие свойством А, обладают также свойством В, и объединяем в общее формальное знание только те знаки свойств, которые удовлетворяют этому требованию, но мы не проверяем в общем случае, все ли предметы, обладающие свойством В, обладают также свойством А. Таким образом, из всех синтагм, являющихся знаниями о единичных фактах, выделяются и закрепляются в качестве общих знаний только те, в которых первый знак соответствует классу, в котором все предметы обязательно обладают также и вторым свойством, а второй — более широкому классу, из которого только некоторые предметы входят в первый класс.
2. Предметы объективного мира, уже известные со стороны двух свойств и соответственно уже зафиксированные в знаниях вида X — (А)(В), Х…(А) — (В) и т. п., могут стать объектом других практически-предметных сравнений. Выделяемые в этих сравнениях свойства — к примеру, С, D — первоначально выражаются в несвязанных, не объединяемых друг с Другом номинативных или синтагматических знаниях вида X — (С), Х…(А) — (С), Х…(В) — (D) и т. п., но затем эти знания объединяются, входят в связь друг с другом и образуют многознаковые формы знания (соответственно — многознаковые общие формальные знания) более высоких степеней экстенсивности.
Мы оставляем в стороне все вопросы о том, почему и как в плане фило- или онтогенеза происходит это объединение, как «согласовываются» области значимости всех объединяемых знаков и т. п., и для упрощения предположим, что существуют такие классы А, что все входящие в них предметы обладают общими свойствами В, С, D. Это предположение (в сочетании с положением о наибольшей вероятности закрепления в качестве общих знаний тех синтагм, у которых первым является знак свойства, присущего самой узкой группе предметов) позволяет нам взять из массы всех возможных комбинаций синтагматических знаний одну группу общих формальных знаний — (А) — (В), (А) — (С), (А) — (О) и т. д., — которая сокращенно выражается в знании (А) — (B)(C)(D)… и сосредоточить все внимание на анализе его функционального строения.
Прежде всего бросается в глаза, что взаимосвязь нового знания (А) — (B)(C)(D)… по своему строению подобна номинативно-комплексному знанию вида X — (B)(C)(D)… и, очевидно, может рассматриваться как замещение последнего, тождественное с ним в ряде свойств. В то же время эта взаимосвязь возникает из синтагматических знаний и, очевидно, сохраняет многие их свойства. Поэтому общее формальное знание вида (A) — (B)(C)(D)… целесообразно назвать общим синтагматически-комплексным знанием, или просто — общим синтагматическим комплексом.
Как разновидность синтагматического знания комплекс (А) — (B)(C)(D)… сохраняет все те содержания, значения и функции, которые были у простого синтагматического знания (А) — (В). Одновременно он имеет известные особенности в своем строении и за счет этого получает новые дополнительные содержания, значения и функции. Действительно, уже само наглядно-схематическое изображение общего синтагматического комплекса делает прозрачным тот факт, что атрибутивный знак (А) занимает в его взаимосвязи особое место: он является тем знаком, к которому посредством связи значения как бы «притягиваются» все другие знаки, тем центром, вокруг которого группируются общие синтагматические знания заданной группы и который связывает их между собой. Благодаря этому знак (А) приобретает во взаимосвязи синтагматического комплекса особую функцию. Эта функция проявляется в двоякой форме: как центр объединения сложившихся независимо друг от друга синтагм знак (А) получает функцию знака группировки; как знак, «впитавший» в себя содержания и значения других знаков синтагмагического комплекса, он выступает в качестве знака сокращения всех имеющихся знаний о предметах класса А.
Будучи меткой в номинативном знании X — (А) (или обобщением в ряде таких знаний), атрибутивный знак (А) обозначал весь предмет (или класс предметов) со всем множеством его свойств (соответственно — их общих свойств), однако обозначал только потенциально, так как эти свойства не были выделены и отражены в мысли. Теперь, после того как выделены и зафиксированы в особых знаках многие свойства предметов класса А, после того как они все вошли в связь со знаком (А), он становится для всех людей как бы представителем, знаком сокращения всех этих свойств не только потенциально, но и реально, он как бы «впитывает» в себя все их значения.
Когда мы, например, произносим слово металл, то у каждого, кто имеет знание о металлах, возникает не только и не столько отнесение этого слова к каким-то объективным телам, но он, кроме того (и прежде всего), связывает это слово с известными признаками металлов, такими, как ковкий, теплопроводный, электропроводный и др. А это и значит, что он использует слово металл не только в качестве абстракции и метки, но и как знак сокращения разветвленной системы знания, фиксированной в целом ряде предложений. Но, чтобы быть знаком сокращения, это слово, очевидно, уже раньше должно было быть знаком группировки, тем знаком, к которому «привязывались» все остальные. Иначе объяснить функционирование этого слова в качестве знака сокращения невозможно.
Нетрудно заметить, что функции знака группировки и знака сокращения в формальном синтагматическом комплексе сплетаются с функцией обобщенного заместителя, усиливая и структурно закрепляя ее, что, безусловно, способствует в дальнейшем также и ее грамматико-морфологическому выделению.
3. С превращением знака обобщенного заместителя одновременно в знак группировки и сокращения его первоначальное абстрактное значение, как правило, «теряется» среди всех других абстрактных компонентов знания, в которое он входит, т. е. среди абстрактных значений знаков (В), (С), (D)… и это вполне понятно, так как теперь знак обобщенного заместителя как бы «впитал» в себя все абстрактные значения знаков, входящих в синтагматический комплекс, стал знаком их всех.
Этот факт хорошо известен и уже давно зафиксирован в истории различных наук, в языкознании и в логике. Особенно наглядно он прослеживается в этимологиях различных слов. Так, в греческом языке во времена Демосфена и Плутарха слова μεταλλιχος и μεταλλιχα (от μεταλλον — рудник, карьер) стали употреблять для обозначения предметов, добываемых в рудниках (ископаемых, рудных).[282] Следовательно, в то время эти слова имели строго фиксированное абстрактное значение. Но затем в связи с увеличением числа предметов, добываемых в рудниках, и прогрессирующим изучением их они приобрели новые функции — знака группировки и знака сокращения — и потеряли свое первоначальное абстрактное значение. Металлами стали называть предметы, которые не добывались в рудниках, и, наоборот, многие из добываемых в рудниках предметов металлами уже не называли.[283]
Точно так же первоначальным абстрактным значением, по которому Лавуазье образовал слово кислород (охуgene), было: кислость порождающий. Но вскоре же, с доказательством того, что соляная кислота не содержит кислорода, это абстрактное значение было отброшено, и слово кислород сохранило лишь функции знака группировки, знака сокращения и обобщенного заместителя (см., например, [Шатанштейн, 1949, с. 23–27]). Подобные примеры потери первоначального абстрактного значения знаками языка можно было бы приводить без конца.
В ходе указанного процесса знак обобщенного предмета заместителя действительно становится знаком предмета как такового, знаком носителя всех свойств, противостоящего каждому из них в отдельности, т. е. знаком субстрата (ср. [Зигварт, 1908, b, с. 99–117]). А соответственно этому на основе изменения структуры знания происходит изменение его категориальной характеристики: из атрибутивного оно превращается в субстрат-атрибутивное.
Конечно, в плане фило- и онтогенеза это превращение связано с целым рядом других формальных и содержательных изменений в строении и средствах «языкового мышления» как целого. Специально разбирать их в рамках настоящей работы мы не можем, нам важно лишь указать на факт потери знаком обобщенного заместителя своего первоначального абстрактного значения в структуре синтагматического комплекса как на то обстоятельство, которое способствует морфологическому выделению существительных и прилагательных и должно быть принято во внимание при языковедческом анализе соответствующих процессов.
4. Если теперь, вернувшись назад, сопоставить между собой связи значения и соответственно функции знаков в рассмотренных структурах атрибутивного знания, то нетрудно заметить, что они распадаются на три существенно различающиеся между собой группы.
Функции абстракции, метки и обобщения возникают за счет связей знаков формы с объективным содержанием. Чтобы отметить это, назовем указанные функции и лежащие в их основе связи объективно-содержательными.
Функции предмета-заместителя и признака, в противоположность этому, возникают за счет тех связей между знаками внутри формы, которые замещают (и эту сторону дела нужно особенно подчеркнуть) объективно-содержательные связи. Мы называем эти функции и создающие их связи формально-содержательными.
Особое место среди функций знаков в атрибутивных знаниях занимают функции опосредования, знака группировки и знака сокращения. Они не являются результатом связи знаков с каким-либо особым объективным содержанием и поэтому не входят в число объективно-содержательных функций. Но точно так же они не являются результатом формального замещения какой-либо объективно-содержательной связи и поэтому не входят в число формально-содержательных функций. Эти функции появляются у знака формы тогда, когда он сам является составляющим элементом какой-либо связи значения (объективно-содержательной или формально-содержательной), когда он входит как бы «внутрь» этой связи, определенным образом перестраивая ее. Например, в знании X — (А) — (B)(C)(D)… знак (А) может рассматриваться как составляющий элемент объективно-содержательной связи значения знаков (В), (С) и (О). Мы называем такие функции знаков сложного атрибутивного знания формально-структурными, или чисто формальными.
5. Специально надо отметить, что, рассматривая связь атрибутивных знаков (В)(С)(0)… со знаком обобщенного заместителя (А), мы оставили в стороне вопрос о связи знаков (В), (С), (D)… непосредственно между собой и, следовательно, в этом плане рассматривали их как неорганизованную совокупность. В действительности же эти атрибутивные знаки чаще всего связаны не только со знаком (А), но и между собой и образуют не просто совокупность знаков, а сложную внутреннеорганизованную структуру. Однако, чтобы исследовать закономерности строения этих структур, необходимо принять во внимание не только категорию субстрат-атрибутивности, но и ряд других, более сложных категорий, в частности категории действия, отношения, связи и др., что, естественно, не может быть сделано в рамках настоящей работы. Здесь нам важно подчеркнуть то, что до тех пор, пока мы не принимаем во внимание эти более сложные категории, дальнейшее увеличение степени экстенсивности знания, т. е. увеличение числа содержательно значащих знаков в нем, нисколько не меняет его строения. Поэтому все то, что мы говорили относительно связей значения и соответствующих им функций в синтагматическом комплексе степени три и четыре, справедливо и для комплексов любой более высокой степени экстенсивности, если только они остаются «чисто» субстрат-атрибутивными.
V. Процессы соотнесения общего формального знания с единичными объектами
1. В предыдущих разделах работы было показано, что общее формальное атрибутивное знание (синтагма или синтагматический комплекс) является результатом строго определенного сложного процесса мышления, объединяющего в себе целый ряд операций практически-предметного сравнения и «процессов согласования». Вместе с тем оказывается, что с появлением общих формальных знаний существенным образом меняются процессы выработки новых реальных знаний.
Действительно. Предположим, во-первых, что какой-то предмет X впервые попадает в сферу нашей практической деятельности и мы посредством практически-предметного сравнения открываем в нем свойство А. Это дает нам возможность отнести к предмету X знак (А) и образовать номинативное знание X — (А). Предположим, во-вторых, что у нас уже имеется общее формальное знание об обобщенном заместителе (А), содержащее, к примеру, пять признаков. Чтобы практически исследовать предмет X дальше и получить о нем знание, соответствующее уже имеющемуся знанию об обобщенном заместителе, мы должны проделать еще пять операций практически-предметного сравнения. Дело долгое и трудное, а для отдельного индивида часто и просто невозможное. При этом полученное в результате практического исследования знание еще раз, на единичном факте, подтвердит нам правильность имеющегося общего формального знания, но в самом процессе исследования последнее не будет принимать никакого участия. Это один из возможных путей исследования. Другой путь исследования этого же единичного предмета основан на использовании уже имеющегося формального знания. Здесь мы производим только одно практически-предметное сравнение — когда выясняем, что предмет X принадлежит к классу А, и выражаем это в номинативном знании X — (А), — а затем, вместо того чтобы производить еще пять практических операций, чисто формально «присоединяем» к полученному номинативному знанию уже имеющееся общее формальное знание (А) — (B)(C)(D)… и на основании этого «приписываем» предмету X все те свойства, которые принадлежат обобщенному заместителю (А), хотя в этом предмете практически они и не были выявлены. Благодаря меньшему числу составляющих частей и, главное, благодаря чисто формальному характеру своей второй части последний путь исследования является значительно более выгодным и экономным: он дает тот же самый результат, что и первый путь, но более легкими для индивида средствами, а поэтому, при наличии формального знания, он всегда замещает первый путь исследования.
Результатом разобранного процесса мышления является реальное знание о единичном предмете — X — (А) — (B)(C)(D)… Но в большинстве случаев в таком виде знание о единичном предмете нам не нужно.
Действительно, в непосредственной производственной деятельности, чтобы осуществить какое-либо единичное практическое действие с предметами, нам важно бывает учесть одно какое-либо свойство каждого из них или небольшую группу свойств, так как практическое действие всегда определяется только одним (простым или сложным) свойством. Иначе говоря, нам бывает нужно знание номинативного типа или замещающее его. Сложные многознаковые формы, выражающие всестороннее знание об исследуемых предметах, нужны нам только в теоретическом исследовании, но там мы никогда не имеем дело с единичными предметами.
Кроме того, в общем формальном знании, с помощью которого мы получили знание о единичном предмете, знак (А) играл роль предмета, но, после того как знание о единичном получено, он уже не может больше выступать в указанной функции, так как в этой взаимосвязи знания есть другой предмет, именно сам реальный предмет X.
Поэтому в полученном сложном знании о единичном предмете X знак (А) и все знаки абстракции, кроме одного или небольшой группы их, не нужны и должны быть «исключены». Проделав это исключение, мы получим новое знание X — (В) или X — (С), в котором знак нужной нам абстракции относится к реальному предмету уже непосредственно.
В этом новом знании общее формальное знание (A)(B)(C)(D) исчезает, иначе говоря, «снимается», элиминируется, и поэтому рассмотренный процесс мышления в свете своего результата выступает просто как обнаружение в предмете X нового свойства В или С. Но это не обычное обнаружение свойства единичного предмета. Оно достигается на основе общего знания и чисто формальным путем, вне и помимо специального практически-предметного исследования предмета X. Чтобы получить его, нам достаточно «присоединить» к практически полученному знанию X — (А) имеющееся уже общее формальное знание (A) — (B)(C)(D)… и затем «исключить» опосредствующий знак (А) и сопутствующие знаки признаков (С), (D)…
Разобранный процесс получения номинативного (или номинативно-комплексного) знания о предмете X, к примеру знания X — (В), включающий в себя, во-первых, практически-предметную операцию получения другого номинативного знания X — (А) и, во-вторых, формальную деятельность получения знания X — (В), исходя из реального знания Х(А) и общего формального знания (А) — (B)(C)(D)… мы называем процессом соотнесения общего формального знания с единичным объектом, или просто процессом соотнесения.[284]
2. Приведенный анализ процесса соотнесения позволяет осуществить весьма широкое и, на наш взгляд, важное обобщение.
Все процессы мышления, по определению (см. [1957 b, с. 43–44]), направлены на получение нового (для индивида или для коллектива) знания. Но внутри этой общей задачи процессы мышления могут идти двумя существенно различными путями. В одном случае новое реальное знание получается с помощью общего формального знания посредством процесса соотнесения. Этот процесс дает новое знание, поскольку существующее формальное знание (или форма) связывается с новым объектом, но он не прибавляет новой формы к уже существующим (у индивида или коллектива). Во втором случае при получении нового знания имеет место не только смена объекта, но и изменение самой формы: в результате процесса мышления появляется новая форма, какой не было в наборе уже имеющихся знаний, и при этом вырабатывается новое значение абстракции, соответствующее новому абстрактному объективному содержанию. Мы говорим о выделении в действительности нового абстрактного содержания, о появлении новой абстракции.
В соответствии с указанным различием все существующие процессы мышления могут быть разбиты на две группы: одну будут составлять процессы, в результате которых вырабатываются новые формы знания, кратко — порождающие процессы, другую — процессы соотнесения уже готовых, сложившихся форм знания с новыми реальными объектами, кратко — процессы соотнесения.
Между процессами, порождающими новые формы знания, структурой этих форм и процессами соотнесения форм знания с реальными объектами существует определенная связь. Всякая форма знания есть не что иное, как снятый результат определенного порождающего процесса. С другой стороны, процессы соотнесения (как особые процессы исследования реальных объектов) появляются с возникновением сложных форм общего знания или, соответственно, общих формальных знаний и представляют собой сокращение соответствующих порождающих процессов мышления на основе и благодаря полученным новым формам (новым формальным знаниям). Характер процесса соотнесения зависит от того, с какой формой он имеет дело, а, следовательно, опосредованно также и от того, каков был процесс, породивший эту форму.
3. Важно отметить, что процесс соотнесения как особый процесс мышления возникает лишь вместе с особыми мыслительными действиями — «присоединением» и «исключением», которые мы назвали формальными. Первое действие — «присоединение» — мы производим, объединяя два знания: номинативное, предположим X — (А), и общее формальное, в котором этот же знак (А) выполняет роль обобщенного заместителя, — в одно сложное реальное знание X — (А) — (B)(C)(D)… Второе действие — «исключение» — мы производим «выбрасывая», «вычеркивая» из этой взаимосвязи знак обобщенного заместителя и некоторые знаки признаков и относя оставшиеся знаки признаков обобщенного заместителя непосредственно к предмету X.
Формальные действия не имеют никаких аналогов в действиях с содержанием; они не замещают каких-либо преобразований содержания. Эти действия возникают лишь в связи с задачами соотнесения, как частичные мыслительные действия; они имеют смысл только в системе процесса соотнесения или в системе других вырастающих на его основе целостных процессов мышления; ни в одном случае, взятые самостоятельно, они не дают перехода от одного знания к другому, а поэтому не являются процессами (или операциями) мышления в собственном смысле этого слова (см. [1957 b, с. 43–44]). Но из этого, в частности, следует исключительно важное положение, что эти действия нельзя рассматривать в одном ряду с мыслительными операциями или с процессами мышления (порождающими новые формальные знания и соотнесениями). Они могут рассматриваться только в особом плане абстракции, как частичные мыслительные действия. Но если сделать эту оговорку и учесть все вытекающие из нее следствия, то в определенных границах указанные формальные действия можно рассматривать как «операции мышления». Это будет соответствовать общему определению процессов и операций, так как внутри процесса соотнесения, в связи с имеющимся формальным знанием и на его основе, эти действия дают переход к новому знанию, т. е. при этих условиях выполняют роль мыслительных операций. Поэтому мы будем называть их «формальными операциями». (Таким образом, мы можем говорить, что в состав процесса соотнесения входят три операции: первая — практически-предметное сравнение, вторая — «присоединение» и третья — «исключение». Первая является «реальной» операцией, вторая и третья — «формальными».)
4. Введение понятия о «формальных» операциях и противопоставление их процессам (или операциям) мышления в собственном смысле имеет, на наш взгляд, исключительно важное значение. Формальной логике (включая сюда и математическую логику) чуждо понимание знания как «двухплоскостной» структуры вида:
Все элементы знания она рассматривает как расположенные в одной плоскости: либо в плоскости знаковой формы, либо в плоскости обозначаемого знаками — «понятий» или чувственных образов. Вместе с тем в формальной логике не ставится вопрос о том, как выделяются «единицы содержания» из общего «фона» действительности. Подобно элементам знаковой формы, эти единицы предполагаются уже заданными, и их «плоскость» рассматривается как точное зеркальное отражение плоскости знаковой формы (принцип параллелизма знаковой формы и содержания мышления). Это в свою очередь предопределяет возможное понимание мыслительной деятельности. Все логические операции и действия рассматриваются в теориях формальной логики, во-первых, как лежащие только в одной плоскости (знаковой формы или содержания — это с точки зрения принципа параллелизма безразлично) и в этом плане как однородные, во-вторых, как чистая комбинаторика наперед заданных, неизменных единиц. Но это, в частности, означает, что фактически формальная логика может исследовать и всегда исследовала только формальные действия и не схватывала процессы мышления в их целостности. Описание этих формальных действий в небольшой (только «разговорно-словесной») части языка (ср. [1957 а*, {с. 455–456}]) получило название теории вывода, или теории следования.
Понимание знания как двухплоскостной структуры, напротив, с самого начала заставляет различать три вида логических действий:
1) действия с объектами (или со знаками, заместителями объектов), посредством которых выделяются определенные единицы объективного содержания; они получили название сопоставлений [1957 b, с. 44–45];
2) действия по установлению связи значения между объективным содержанием и знаковой формой; мы назвали их отнесениями [1957 b, с. 44–45];
3) чисто формальные действия, осуществляющиеся в контексте процессов соотнесения; они предполагают систему формы (языка) со строго фиксированными элементами и связями между ними и осуществляются в соответствии со строго установленными правилами перехода от одних связей этой системы формы к другим.[285] Только в определенной связи, в единстве друг с другом логические действия всех этих трех видов образуют собственно операции и процессы мышления.
Между тем формальная логика всегда занималась действиями исключительно третьего вида и не рассматривала действия первой и второй групп. Именно это обстоятельство дает нам право утверждать, что формальная логика не изучает действительных процессов мышления (ср. [1957 b, с. 41]).
Даже в случаях, когда мы имеем дело, казалось бы, с чисто словесными, чисто знаковыми рассуждениями, мы должны, если хотим выделить и исследовать действительные процессы мышления, применить к этим рассуждениям указанный подход и выделить среди входящих в них знаков 1) «объекты-заместители», т. е. знаки, функционально играющие роль объектов, и 2) знаки, образующие форму знания, т. е. знаки, фиксирующие результаты применения действий сопоставления к «объектам-заместителям». Собственно, только такой подход, как бы разносящий в две разные плоскости «материал» словесного или всякого другого языкового рассуждения, и создает специфику действительно логического рассмотрения, создает особую и (что очень важно) целостную логическую действительность.
К сожалению, именно этих принципиальных моментов нашей точки зрения не увидел А. А. Зиновьев. Он пишет: «Сопоставление — отражение двух или более различных предметов в процессе построения высказывания или термина… Если отражение предметов при их сопоставлении совершается уже в терминах и высказываниях, то сопоставление полностью описывается в понятиях теории следования, теории определения и т. д.» [Зиновьев, 1959 с, с. 72]. Но ведь в нашем понимании сопоставление как раз не есть отражение предметов, а есть действие с самими предметами или со знаками, выступающими в роли предметов. И введено было понятие сопоставления именно для того, чтобы отличить действия с предметами и со знаками, выделяющие новое абстрактное содержание в действительности, от формальных действий со знаками, которые никакого нового абстрактного содержания не выделяют.
Позиция, занятая А. А. Зиновьевым, кажется тем более странной, что в других своих работах (например, [Зиновьев, 1959 а]) он строит весь анализ на различении этих двух типов действий. Для этого он сначала постулирует тождество формы простейшего знания «Ра» и его содержания (в терминологии А. А. Зиновьева — объекта) Ра [Зиновьев, 1959 а, с. 115], тем самым вводя группу знаков (или знаний), выступающих в роли объектов; затем, переходя к анализу содержания знаний о связи, он отказывается от принципа тождества и вводит (путем описания сопоставления) особое изображение для содержания знания (ситуации и наборы) (там же, с. 116–117) и особое изображение для знаковой формы, фиксирующей это содержание (там же, с. 118–123). В этой работе специально подчеркивается, что в структуре формы, фиксирующей знание о связи, содержательные отношения сопоставления элиминированы: «Когда полиситуационные полипредметные знания получены, то в ряде случаев их строение явно обнаруживается лишь со стороны их расчленения по фиксируемым объектам. Например, в знании "Если (Qa), то (Rb)" прежде всего обнаруживается расчленение на «Qa» и «Rb», а тот факт, что слова "Если… то…" сокращенно фиксируют вторую ситуацию, допустим (-Qa) (-Rb), остается в тени. В ряде же случаев явно обнаруживается лишь расчленение по фиксируемым ситуациям. Например, в знании "В ситуации I имеет место (Qa) и (Rb), в ситуации же II — (-Qa) и (-Rb)" скрыт тот факт, что оно может быть представлено как соединение знания о а и знания о b. А между тем только соединение обеих сторон придает им характер знаний особого рода» (там же, с. 118–119).
Но тогда, в частности, не имеет смысла говорить, что сопоставление предметов или знаков, играющих роль предметов, полностью описывается в понятиях теории следования.
5. Нетрудно заметить, что первые две операции разобранного процесса соотнесения — практически-предметное сравнение и «присоединение» — и сами по себе, независимо от третьей операции — «исключения», — могут быть рассмотрены как целостный процесс мышления, и притом в соответствии с общим определением также как процесс соотнесения, так как посредством него мы от одного знания о единичном предмете — номинативного X — (А) — и с помощью общего формального знания (A) — (B)(C)(D)… — переходим к другому знанию об этом же единичном предмете — сложному, многознаковому, с формой, тождественной общему формальному знанию, именно к X — (А) — (B)(C)(D)… Чтобы отличить указанные двусоставные процессы мышления от разобранных выше трехсоставных, мы будем называть их процессами подведения единичного объекта под общее формальное знание, или просто процессами подведения. Как правило, процесс подведения осуществляется внутри процесса соотнесения. По-видимому, не было бы ошибкой сказать даже резче: процесс подведения возникает лишь для целей соотнесения, как составляющая часть процесса соотнесения, первоначально имеющая смысл лишь в его общей системе, и только в дальнейшем он обособляется и начинает функционировать в качестве относительно самостоятельного процесса мышления.
6. Мы рассматривали условия возникновения и общее строение процессов подведения и соотнесения на материале знаний субстрат-атрибутивного типа. Но это не значит, что указанные процессы существуют и применяются только на этом «этаже» мышления. Напротив, эти процессы мышления встречаются на всех без исключениях «этажах» и входят в качестве составляющих элементов почти во все реальные процессы исследования. Там, где связи между знаками общего формального знания по своему содержанию являются связями просто сосуществования (раздел III), там процессы подведения и соотнесения осуществляются непосредственно по разобранной выше схеме. Там же, где в связях формы отражается объективная структура, там процессы подведения и соотнесения осуществляются в усложненной и модифицированной форме. Анализ этих более сложных процессов подведения и соотнесения предполагает специальный анализ типов структур знания.
Рассматривая процессы соотнесения на примере знаний субстрат-атрибутивного типа, мы, естественно, имели в качестве первой входящей в их состав операции практически-предметное сравнение. Однако в процессах соотнесения вообще свойство, выделяемое в объекте посредством первой операции, не обязательно должно быть атрибутом какого-либо субстрата. В равной мере оно может быть свойством-функцией или характеристическим свойством какой-либо связи. Тогда в качестве первой операции в процессах соотнесения мы будем иметь уже не практически-предметное сравнение, а какую-либо другую операцию. Так, например, чтобы установить наличие причинной связи между предметами X и Y, мы должны сопоставить между собой по крайней мере две ситуации, объединяющие эти предметы. Если в ситуациях при наличии X обязательно будет присутствовать и Y, а при отсутствии Y обязательно будет отсутствовать и X,[286] то мы получим право, во-первых, «подвести» связь между X и Y под понятие причинной связи, т. е. утверждать, что X является причиной Y, и, во-вторых, сможем «отнести» все известные признаки причинной связи к данному единичному случаю связи X и Y. Таким образом, чтобы обнаружить характеристическое свойство причинной связи, надо проделать операцию, отличную от практически-предметного сравнения. Точно так же первой операцией в процессах соотнесения может быть операция, выделяющая в рассматриваемых предметах свойство-функцию. Но это изменение «содержательной» и «технической» характеристик первой операции не меняет общей структуры процессов соотнесения как целого и функциональных взаимоотношений составляющих ее частей.
VI. Простейшее «определение», его назначение и структура
1. В предыдущих разделах было показано, что появление общих формальных знаний (синтагм или синтагматических комплексов) существенным образом меняет процесс выработки новых реальных знаний, т. е. знаний о единичных объектах: вместо того чтобы осуществлять ряд практически-предметных сравнений исследуемого объекта X с объектами-эталонами, мы применяем к нему одну операцию практически-предметного сравнения, получаем посредством нее номинативное знание вида X — (А), а затем чисто формальным путем объединяем его с уже имеющимся общим формальным знанием (А) — (B)(C)(D)… Результатом этого процесса — сокращенно мы называем его процессом подведения — является реальное знание вида X — (А) — (B)(C)(D)… такое же, какое мы получили бы, применив к исследуемому объекту X, к примеру, четыре операции практически-предметного сравнения. Посредством чисто формальной операции исключения это знание может быть преобразовано в целый ряд номинативных знаний вида X — (В), X — (С) или номинативно-комплексных вида X — (В)(С)… Указанный процесс получения этих знаний, взятый в целом, мы сокращенно назвали процессом соотнесения.
Важно специально отметить, что реальное знание об объекте X, полученное посредством процессов подведения или соотнесения, отличается от таких же (по содержанию и структуре) знаний, полученных посредством ряда практических предметных операций, только тем, что имеет вероятно — истинный характер.
Из анализа структуры процессов подведения и соотнесения следует, что знак обобщенного заместителя (А) играет в них, а вместе с тем и в самих формальных знаниях особую роль: он связывает формальное знание как целое с единичными объектами и в этом плане является знаком-посредником. Но, чтобы выполнить эту роль успешно, т. е. чтобы обеспечить вероятно-истинный характер знаний об объекте X, получаемых с помощью процессов подведения и соотнесения, знак обобщенного заместителя должен иметь только одно строго установленное абстрактное значение, соответствующее той и всегда только той операции практически-предметного сравнения, которая лежит в основе номинативного знания X — (А) и выделяет класс предметов, обозначаемый обобщенным заместителем (А), — именно этот класс предметов подразумевается при выработке общего формального знания (А) — (B)(C)(D)… Однако, как уже было показано в разделе IV, с превращением знака обобщенного заместителя одновременно в знак группировки и сокращения его собственное первоначальное абстрактное значение и соответствующая этому значению познавательная операция «теряются» среди значений и операций всех других знаков, которые он объединяет вокруг себя в общем формальном знании, т. е. знаков (В), (С), (D)… Но если знак обобщенного заместителя «теряет» свое особое абстрактное значение, то он перестает соответствовать строго определенному классу предметов окружающей действительности и в силу этого уже не может быть тем знаком, через который осуществляется связь формального знания как целого с единичными объектами. Вместе с тем теряет свой смысл и значение само формальное знание: исчезает возможность соотносить его с единичными объектами и развертывать дальше, находя новые общие свойства какого-либо класса предметов. Чтобы вновь стать «полноценным» и получить возможность участвовать в процессах подведения и соотнесения, формальное знание должно каким-то образом «вернуть» знаку обобщенного заместителя его особое строго определенное абстрактное значение. Это достигается особым путем: в системе формального знания появляется еще один знак — будем обозначать его (а), — «принимающий на себя» то абстрактное значение, которое раньше было у знаков обобщенного заместителя. (Поэтому, несмотря на увеличение числа знаков в форме и соответственно в формальном знании, экстенсивность знания остается прежней.)
Если, к примеру, мы имеем общее формальное знание «Кислота есть соединение, содержащее водород, способный замещаться металлом с образованием соли, образующее в водном растворе положительно заряженный ион водорода и проводящее электрический ток, при нейтрализации щелочи дающее соль и воду, воздействующее как катализатор на некоторые химические реакции, например превращение целлюлозы в моносахариды, гидролиз жиров и т. д.», то для того, чтобы использовать его в процессах соотнесения, т. е. при практическом исследовании конкретных веществ, мы должны, кроме того, знать, что «Все то, что окрашивает лакмус в красный цвет, — кислота» или, по меньшей мере, что «Все кислое — кислота». Если мы возьмем последний пример, то сделанное выше замечание о том, что новый знак «принимает на себя» то абстрактное значение, которое раньше было у знака обобщенного заместителя, станет совершенно ясным: ведь первоначальное содержание слова «кислота» и было «кислое на вкус», и лишь постепенно в ходе развития понятия о кислоте в него вошли, «включились» все те признаки, которые сейчас перечисляются при введении этого понятия в учебниках и руководствах. В более сложных случаях значение знака, о котором мы говорим, не соответствует первоначальному абстрактному значению знака, ставшего обобщенным заместителем, и той операции, которая выделяла содержание, фиксировавшееся в этом знаке, но это происходит только в силу дополнительного процесса изменения содержания всего знания о кислоте, начинающегося уже после того, как возник этот новый знак, и в силу того, что он вступил в связь со знаком обобщенного заместителя и принял на себя особую функциональную роль в системе формального знания. Анализ закономерностей этого процесса должен стать предметом особого исследования.
2. Новый знак свойства возникает в системе формального знания в связи с процессами подведения и соотнесения и лишь для них. Он должен обеспечить ту связь между формальным знанием как целым и реальными предметами, которая разорвалась из-за потери знаком обобщенного заместителя своего особого абстрактного значения. Поэтому в процессах подведения и соотнесения этот знак должен встать между знаком обобщенного заместителя и реальными предметами. Тогда структура реального знания, являющегося результатом процесса подведения, приобретает вид X — (а) — (A)(B)(C)(D)… а структура общего формального знания, используемого в этом процессе, соответственно вид (а) — (А) — (B)(C)(D)… Сопоставим новые усложненные структуры знаний с прежними.
Знаковое образование (а) — (А) в новой структуре выступает в качестве функционального замещения знака (А) прежней структуры и поэтому как целое несет на себе все те функции и значения, которые были у прежнего знака (А). В то же время внутри этого образования происходит распределение функций между его элементами: новый знак (а) принимает на себя функции абстракции и обобщения прежнего знака, а за знаком (А) остаются лишь функции обобщенного заместителя, знака группировки и знака сокращения. Важно специально отметить, что здесь происходит также расщепление функции обобщения: одна из сторон обобщения остается связанной с функцией абстракции; это — обобщение, непосредственно связанное с познавательной операцией и выделяемым ею свойством; другая сторона оказывается связанной с замещением класса предметов как таковых и соответственно с функциями группировки и сокращения. Функция посредника остается за обоими знаками, но несколько изменяется: знак (а) в процессах подведения является посредником между реальными предметами и обобщенным заместителем, а знак (А) в этих же процессах — посредником между знаком свойства (а) и знаками других свойств (B)(C)(D)… В процессах соотнесения роль посредника играет все образование (а) — (А) в целом.
Но самое важное изменение, которое претерпевает структура знания, заключается в появлении связи принципиально нового типа, именно между знаками (а) и (А). Если мы возьмем формальное знание вне связи с процессами подведения и соотнесения, то знак (а) выступает в нем просто как знак признака обобщенного заместителя наряду со всеми другими знаками признаков. Структура формального знания в этом случае должна быть записана так: (A) — (a)(B)(C)(D)… Связи, соединяющие знаки признаков со знаками обобщенного заместителя, в общем случае являются ограниченно-двусторонними, т. е. такими, что переход по ним без всяких ограничений совершается лишь от знака обобщенного заместителя к знакам признаков, слева направо, а когда мы хотим перейти в противоположном направлении, от знаков признаков к знаку обобщенного заместителя (в традиционной логике это называется обращением), то в общем случае должны ввести дополнительный ограничивающий квантор «некоторые». К примеру, мы говорим, что «все кислоты — соединения», но вместе с тем, оборачивая это предложение, мы скажем, что только «некоторые соединения — кислоты». В то же время нетрудно заметить, что знак (а) может выполнить свою опосредствующую функцию в процессах подведения и соотнесения (ради которой он был введен) только в том случае, если связь между ним и знаком обобщенного заместителя будет неограниченно-двусторонней: только в этом случае он сможет остаться знаком признака и в то же время сможет становиться между знаком обобщенного заместителя и реальными предметами в процессах подведения и соотнесения, так чтобы движение шло от него к знаку предметов. Например, мы говорим, что «все кислоты окрашивают лакмус в красный цвет», но точно так же мы говорим, что «все вещества, окрашивающие лакмус в красный цвет, — кислоты».
Благодаря особому характеру своей связи со знаком обобщенного заместителя признак (а) занимает особое место среди всех других признаков в системе общего формального знания: он приобретает особую, чисто формальную функцию — быть выделяющим признаком, очерчивающим границы того класса обобщения, с каждым членом которого как целое может быть соотнесено общее формальное знание.
Часто выделяющее свойство называют существенными рассматривают как свойство, занимающее особое место «внутри» самих объектов. Это понимание является одним из следствий принципа параллелизма формы и содержания мышления, принятого в традиционной логике (см. [1960 с*]); оно глубоко ошибочно. В реальных объектах нет «выделяющих» свойств; все свойства каждого из них вместе составляют его индивидуальность и его отличие, все они вместе выделяют его из других объектов. Свойство, которое мы принимаем в качестве выделяющего, принадлежит каждой единичности, входящей в класс, к которому относится формальное знание (а) — (А) — (B)(C)(D), но это свойство «отличает» или «выделяет» каждую из них, взятую саму по себе, ничуть не больше, чем любое другое ее свойство. Только объединяя ряд единичностей в один класс, отражая объекты этого класса в виде одной логической конструкции, представляющей собой систему знаков, мы порождаем задачу выделить среди всех знаков, из которых строится эта логическая конструкция, какой-то один, который бы обеспечивал определенность и постоянство того класса предметов, к которым мы относим эту конструкцию. Только в силу этой задачи знак (а), а вместе с тем и фиксируемое им свойство приобретают особое значение в системе формального знания и для самих объектов. Иначе говоря, свойство, фиксируемое как выделяющее, является «существенным» для каждого объекта только с точки зрения задачи подведения этого объекта под определенное формальное знание; если мы подводим этот объект под другое формальное знание, то «существенным» становится другое свойство.
Истинный смысл и значение проблемы существенности связаны совсем не с атрибутивным знанием. Эта проблема возникает только в контексте логико-диалектических исследований связей и структур самих объектов, т. е. в контексте процессов восхождения от абстрактного к конкретному.
3. Значение и содержание знака (а) всегда имеют операционный характер. Когда выделяющий признак выражается развернутой языковой формой, подобной уже приведенным выше: «Кислота — то, что окрашивает лакмус в красный цвет» или «Элемент — то, что не может быть разложено (заданным образом) на более мелкие части», — то это обнаруживается особенно отчетливо, но в принципе операциональная природа значения и содержания этого знака может быть выявлена и во всех других случаях. Если мы возьмем, к примеру, такую форму, как уже приведенная «кислота — кислое», то без труда обнаружим за знаком (а) — «кислое» — схему операции практически-предметного сравнения: «кислое» — значит «вызывающее кислый вкус во рту», т. е. определенное изменение в индикаторе I (см. раздел I), но эта характеристика изменения индикатора, вызванного воздействием исследуемого объекта, по определенной схеме переносится на сам объект.
Операционная природа выделяющего признака самых разнообразных знаний, а вместе с тем и необходимость сознательного выделения ее рельефно обнаруживаются также в процессах обучения. Исключительно характерными в этом отношении являются опыты П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной по формированию понятий «прямая линия», «перпендикуляр», «прилежащие углы» и т. п. [Гальперин, Талызина, 1957, с. 29–37].
4. Как видно уже из примеров, приведенных выше, выделяющий признак может быть (а чаще всего является) сложным, т. е. включает в себя целый ряд знаков, определенным образом связанных между собой. Тогда взаимосвязь «выделяющий признак — обобщенный заместитель» оказывается уже не просто связью двух знаков, а сложным многознаковым образованием, занимающим особое место в системе целостного формального знания. Именно это образование в традиционной логике принято называть «определением», или «дефиницией». Собственно, если говорить точнее, то только эти многознаковые образования, обладающие определенной внутренней структурой (чаще всего «родо-видовой»), и называют «определением», а на простейшие образования вида (а) — (А) эту характеристику не распространяют.
В противоположность этим подходам мы считаем, что уже простейшая взаимосвязь (а) — (А), функционирующая в системе процессов подведения и соотнесения, обладает всеми необходимыми признаками определения; она является «чистой» моделью определения, наиболее удобной для функционально-структурного исследования. Анализ этой модели, проведенный выше, позволяет ввести понятие об определении так: определение есть такая взаимосвязь знака признака и знака обобщенного заместителя в системе общего формального знания, которая позволяет осуществлять процессы подведения единичных объектов под это формальное знание и процессы соотнесения этого знания с единичными объектами. Сама связь между знаками признака и обобщенного заместителя должна быть неограниченно-двусторонней, а признак — операциональным. Иначе можно сказать так: определение — это взаимосвязь между знаками обобщенного заместителя и выделяющего признака.
5. Исследовать детали развития структуры и функций определения — задача специальных работ. Здесь мы хотим указать только на существование двух существенно различных линий, по которым может идти это развитие.
Первая заключается в усложнении формы выражения выделяющего признака и связана, с одной стороны, с объективным усложнением той системы сопоставлений предметов, посредством которой выделяется содержание, фиксируемое в этом признаке, с другой — с осознанием этой системы сопоставлений. Так, например, переход от определения «Кислота — вещество, содержащее кислород» к определению «Кислота — вещество, содержащее водород, дающий в водном растворе положительно заряженный ион» объяснятся объективным изменением самой системы сопоставлений, а переход от определения «кислое — кислота» к определению «то, что вызывает ощущение кислого во рту, — кислота» обусловлен осознанием структуры сопоставления. В этом случае определение сохраняет свою общую «грубую» схему (а) — (А) и развертывается только за счет появления новой, более «тонкой» системы связей внутри самого (а).
Вторая линия заключается в усложнении общей, «грубой» структуры определения, в увеличении числа функционально различающихся элементов в ней. Она обусловливается усложнением и канонизацией тех формальных систем, в которые объединяются отдельные формальные знания. Нетрудно, например, заметить, что наравне и одновременно со знанием (а) — (А) — (В)(С)… должны существовать и применяться знания (b) — (В) — (E) — (F)… (е) — (Е) — (M)(N)… и т. п. Необходимость использовать все эти разнообразные знания в сложных процессах мышления, стремление сделать эти процессы предельно формальными, ставят задачу объединить их в целостные формальные системы, что в свою очередь порождает задачу найти простые и отчетливые правила организации, обеспечивающие внутреннюю непротиворечивость этих систем и возможность формально «двигаться» внутри них в максимально большем числе направлений. Одним из способов такой организации явилась так называемая «родо-видовая» система знания, при которой определение получило структуру (а)(В) — (А), где (А) — «вид», (а) — «видообразующее отличие», (В) — «род», который выступает в функции знака сокращения, объединяющего все те признаки, кроме (а), которыми может обладать (А) как знак сокращения.
Мы ограничимся этим коротким замечанием относительно различий во «внутренней» структуре определений, так как ни анализ возможных типов сопоставлений предметов, посредством которых мы получаем содержание выделяющих признаков, ни анализ принципов организации формальных систем знания не входят в задачи настоящей работы.
Нам важно подчеркнуть только то, что, по какой бы линии ни шло развитие структуры определения, его назначение, или функция, в процессах мышления остается и должна оставаться неизменной. Эта функция — осуществлять связь между двумя плоскостями знания: плоскостью объектов и выделяемого в них содержания и плоскостью формальных знаний. Наглядно-схематическое изображение структуры определения должно фиксировать именно этот факт, эту сторону дела. Это значит, что оно должно изображать не только элементы самого определения, но и те элементы более широкой структуры, с которыми определение связано, оно должно быть, следовательно, изображением той более широкой структуры, в которую определение «вписано», «вставлено», внутри которой оно «живет», функционирует. Если воспользоваться символикой, учитывающей структуру плоскости содержания (см. [1960 а*]), то подобное изображение будет иметь вид:
Оно наглядно фиксирует, что определение, по сути дела, причастно обеим плоскостям — и плоскости содержания, и плоскости формы, что его элементы и связи относятся к ним обеим. Проанализировать и понять «внутреннюю» структуру определения вне и помимо анализа его «внешней» структуры, изображенной выше, вне анализа процессов выработки этих структур и процессов их использования невозможно (см. [1957 b; Швырев, 1960]).
6. Анализу структуры и функций определения была посвящена масса работ,[287] но до сих пор остается невыясненным, какой же специфический (выделяющий) признак лежит в основе понятия «определение». Объясняется это, на наш взгляд, прежде всего двумя основными методологическими ошибками.
Во-первых, отсутствием генетического подхода к вопросу: различные по своему внутреннему строению определения, относящиеся к разным генетическим этажам мышления, рассматриваются наряду друг с другом как одинаковые.
Во-вторых, тем — и на это обстоятельство мы уже указывали выше, — что структуры определения анализируются безотносительно к мыслительной деятельности, задающей тот «контекст», в котором «живет» и функционирует само определение.
Эти общие методологические ошибки имеют своим следствием то, что специфику определения ищут в его «внутренней» структуре (форме), в то время как ее нужно искать в роли этого образования внутри других, более «широких» структур, следовательно, в его функции. Обратной стороной этого является то, что при анализе «внутренней» структуры определения игнорируют, не учитывают сознательно его «внешние» связи, т. е. связи с содержанием и с другими элементами форм знаний, которые складываются в ходе функционирования определения.
В частности, это проявляется в том, что разрывают на части единую структуру определения, представленную на схеме (1), каждый раз берут отдельные ее части и односторонние характеристики этих частей противопоставляют друг другу как разные виды определения.
Когда, к примеру, в ходе анализа природы определения выделяют и выдвигают на передний план операциональную характеристику содержания выражения (а), т. е. (а) берут в отношении к X, то определение выступает как определение через абстракцию (см. по этому поводу, например, [Яновская, 1936; Кутюра, 1913, с. 39–40, 43–49, 88–91, 96–97]).
Если же содержания выражений (а) и (B)(C)(D)… рассматривают как свойства объекта X или признаки обобщенного заместителя (А) и берут в отношении к другим возможным свойствам и признакам, то определение выступает как реальное (см. [Ajdukiewicz, 1958]).
Если, напротив, элементы взаимосвязи (а) — (А) берут с точки зрения их значения и при этом отвлекаются от всего остального, в частности от функции самой этой взаимосвязи, то оказывается, что у (А) то же самое значение, что и у выражения (а), и определение в этом случае выступает как чисто номинальное, т. е. чаще всего как «конвенциональное» или «арбитрарное» установление смысла символа (А) (см. по этому поводу [Кутюра, 1913, с. 13, 34–35, 37–38, 96–97; Ajdukiewicz, 1958, с. 119–124]).
Наконец, в тех случаях, когда связь определения рассматривают с точки зрения взаимосвязи (а) — (А) — (B)(C)(D)… определение выступает как утверждение, обладающее «эмпирической истинностью», или, иначе, в традиционной терминологии как «синтетическое» суждение. И это верно, так как связь (а) — (А) есть лишь часть связи (а) — (B)(C)(D)… и вместе с тем (в условиях разрыва процесса соотнесения) форма проявления этой связи. В этом плане она ничем не отличается от любой другой синтагмы или синтагматического комплекса и, поскольку (А) берется как знак группировки и сокращения, нуждается в таком же оправдании посредством процессов согласования (см. раздел III) или каких-либо других.
Все перечисленные выше характеристики являются односторонними характеристиками определения (или, точнее, его частей и аспектов), но они, как правило, противопоставляются друг другу (см., к примеру, [Кутюра, 1913, с. 37–38, 96–97]). К. Айдукевич убедительно показал, что такое противопоставление неправомерно и что различные понятия определения не исключают друг друга [Ajdukiewicz, 1958]). Но это означает фактически, что эти понятия не могут быть использованы при построении единой теории мышления.
О различных планах изучения моделей и моделирования[288]
1. Рассматривая вопрос о моделях и моделировании, необходимо различать: (А) решение специально-предметных научных задач путем построения моделей и (В) получение различных знаний, обслуживающих моделирование. Во вторую группу войдут: а) разработка инструкций и предписаний, выступающих в роли методических средств и помогающих исследователю-предметнику построить нужную ему модель объекта; б) описание конкретных видов моделей, их строения и свойств, отношений к объектам (натуре); в) теоретическое описание типов моделей, их функций в познавательной деятельности или в разных системах науки, типов отношений к объектам моделирования; г) теоретическое описание деятельности моделирования; д) логико-методологическое проектирование абстрактных типов моделей с преобразованием самих моделей в объекты оперативных систем.
Самое примитивное моделирование может совершаться без всяких специально выработанных средств на основе одних лишь способностей исследователя и в ходе содержательного анализа самого объекта; при этом моделирование не выделяется еще в особую задачу. С выделением моделирования в особую познавательную задачу начинается разработка специальных обслуживающих его средств; сначала это дело самих исследователей-предметников, но потом точно так же оформляется в особую социальную деятельность и порождает особые профессии (схема 1).
Два первых типа деятельности направлены на создание методик моделирования и часто входят в тело специальных наук; три последних типа деятельности находятся уже в сфере методологии; последний к тому же выводит в сферу математики.
2. Каждый из специалистов, обслуживающих моделирование, может работать приемами «искусства» или науки. Второе характеризуется наличием четко определенного предмета изучения, движением строго в этом предмете и использованием специально фиксированных средств этого предмета. Отсюда различие методистов и методологов разного рода: работающие приемами «искусства» имеют разрыв между задачами, которые они решают, и имеющимися у них средствами.
3. Возможны две исследовательские «позиции» при разработке средств, обслуживающих моделирование: а) исследователь «видит» объекты своей деятельности, изменения и преобразования их материала или отношений к другим объектам; б) исследователь «видит» саму деятельность, функции объектов в деятельности и смену их, средства и процедуры деятельности (схема 2). В зависимости от «позиции» исследователь будет по разному «видеть» модели и моделирование, выделять в них разные составляющие и давать им разные определения. При решении некоторых задач необходимо сочетание этих двух «позиций» и особое объединение (конфигурирование) обоих способов «виденья» изучаемого объекта.
4. Общее определение понятия модели может быть дано только с позиции 2; оно будет фиксировать функции модели в деятельности — специфическую и производные от нее. В одной из систем методологического описания специфическая функция модели может быть изображена схемой 3. Словесно эта функция определяется так: если свойства, выявленные в каком-то объекте М, могут быть приписаны другому объекту О, то первый объект является моделью второго.
С позиции 1 можно рассматривать и характеризовать лишь сходство и различие модели и ее натуры; это возможно только в тех случаях, когда исследователю актуально даны как модель, так и сама натура; в реальности такие случаи бывают крайне редко и делают ненужной саму модель; но подобные ситуации могут создаваться искусственно, в методических целях (прием «двойного знания»).
5. Реальное моделирование может производиться как в тех случаях, когда исследователь-предметник устанавливает какое-либо отношение между М и О в ходе моделирования, так и в тех случаях, когда такое отношение не устанавливается, а связь между М и О задается лишь тем, что свойства, выявленные в М, приписываются О. В последнем случае, после того как моделирование осуществлено, оно должно оцениваться либо путем специального теоретического анализа, либо же экспериментально; при этом акцент может ставиться либо на знаниях, полученных из модели, либо на самой модели. Но во всех случаях центр методических проблем моделирования переносится здесь на процессы оценки, осуществляемые после моделирования. В первом случае, напротив, основные методические проблемы относятся к процессу конструирования модели и к выработке и использованию тех критериев, которые с самого начала обеспечивают ее «истинность».
В наиболее развитых случаях конструируемая модель рассматривается как в связи с моделируемым объектом, так и с последующими процедурами использования ее в качестве модели.
6. Научный анализ функций модели или ее абстрактных типов ведется в предмете какой-либо методологической теории: а) мышления, б) деятельности, в) семиотики, г) науки, рассматриваемой как «машина», д) науки, рассматриваемой как «организм». Во всех случаях при этом анализируются отношения и связи структуры, представленной на схеме 3, к более широким деятельностям и к элементам более широких систем, создаваемых деятельностью. Например, при анализе модели в системе «науки-машины» нужно рассмотреть ее функции по отношению ко всем другим блокам системы: эмпирическому материалу, средствам, системе теории, методу, онтологическим картинам. При семиотическом анализе будут выявляться знаковые функции модели. При анализе ее в рамках теории «науки-организма» мы получим смысловые значения модели или «естественные» механизмы развития моделей в истории науки. Каждый раз, в зависимости от способа представления деятельности, мы будем получать и фиксировать разные аспекты моделей, а косвенно — и моделирования.
7. Особую задачу представляет описание тех процедур (или последовательностей операций), которые мы осуществляем в разных случаях, конструируя модели или оценивая их истинность. При таком анализе система средств, используемых исследователем-предметником, располагается в порядке их применения и в связях, задаваемых этим применением. Анализ процедур моделирования предполагает сочетание обеих исследовательских «позиций», и это обстоятельство создает особые методические трудности в теории деятельности. Но только такой анализ процедур может дать нам то методологическое средство, которое сейчас принято называть «логикой научного исследования».
8. Логико-методологическое проектирование типов моделей и процессов моделирования — завершающая часть всей философской работы. С одной стороны, оно превращает модели в объекты оперативных систем математики (подобные объектам теории множеств или «словам» и алгоритмам теории Маркова), элиминируя тем самым моделирование как таковое и потребность в нем; с другой стороны, оно задает общую философскую категориальную онтологию и картину «действительного» мира (действительности).
Синтез знаний: проблемы и методы[289]
Проблемы объединения и соорганизации знаний в единую систему (т. е. того, что обычно называют синтезом знаний) являются ключевыми в исследовании природы знаний вообще и теоретических в особенности. И именно таким образом они понимались и трактовались со времен Э. Кондильяка и И. Канта [Кондильяк, 1938; Кант, 1948]. Но при этом, как правило, проблемы объединения и соорганизации знаний отождествлялись с проблемами построения единой теоретической системы знаний — философской или научной. Причиной этого, по-видимому, было то, что в XVIII и XIX вв. как философия, так и в особенности естественные и физико-математические науки развивались относительно автономно и независимо от практики организационно-управленческой деятельности, и поэтому проблемы «выхода» теории на практику и использования научно-теоретических знаний в практической деятельности стояли не так остро, как сейчас. В результате этого из трех известных нам сейчас механизмов объединения и соорганизации знаний: систематизации в целях употребления в практической деятельности (схема 1а), систематизации в целях трансляции и обучения подрастающих поколений (схема 1б), систематизации в целях создания многосторонней картины изучаемого объекта (схема 1в) — два первых уходили как бы на задний план, а в качестве важнейших и ключевых для всего круга проблем синтеза знаний выступали одни лишь проблемы организации научной теории, или, как сказали бы мы сейчас, проблемы построения и организации научного предмета.
* * *
XX век кардинальным образом изменил фокусы проблематизации и направления методологических и эпистемологических поисков. Теперь все больший интерес вызывают случаи одновременного использования знаний из разных научных предметов в ситуациях решения различных социотехнических задач — при обучении и воспитании людей, управлении научными исследованиями и разработками, планировании социального развития отдельных предприятий, отраслей промышленности и регионов и т. п. Для всех этих случаев характерно, что объект социотехнического действия не совпадает с объектами изучения отдельных наук и поэтому в работе с социотехническим объектом не удается опереться на знания о законах функционирования и развития какого-либо одного научного объекта, а приходится говорить о «многостороннем» и «комплексном» характере социотехнического объекта и на практических путях искать способы связи и объединения различных разнопредметных знаний, описывающих его с разных сторон. В результате объединения этих знаний должно получиться одно целостное (или целостноорганизованное) представление о сложном «многостороннем» объекте.
Но в итоге этих практических поисков (в большинстве случаев эклектических) «комплексный», или «многосторонний», объект все равно не обретает единых законов жизни, ибо каждое научно-предметное знание так вырабатывалось и соответственно этому так организовано, что оно в принципе исключает всякую возможность органического и законосообразного объединения его с знаниями из других научных предметов.
Например, так называемый биосоциальный объект в принципе не может быть представлен как законосообразная связь биологического и социального, хотя в рамках практического социотехнического действия представление о биосоциальном объекте получается именно путем механического сложения биологических и социальных представлений. И то же самое придется сказать обо всех «комплексных», или «многосторонних», объектах. По логике своего образования они не могут быть законосообразными и, следовательно, вообще не могут стать объектами научного рассмотрения.
Но это — явно парадоксальный вывод, ибо такие сложные «многосторонние», или «комплексные», объекты, очевидно, существуют и мы имеем с ними дело в практике нашей организационно-управленческой деятельности, и пока совершенно неясно, почему же эти объекты не могут быть представлены в единой научно-теоретической картине, получаемой путем объединения и синтеза разносторонних представлений.[290] В силу этого сам процесс объединения и соорганизации различных знаний об одном объекте становится важной методологической и эпистемологической проблемой, требующей специального обсуждения и анализа.
При этом, чтобы сделать анализ продуктивным, мы произведем предметное ограничение проблемы и в дальнейшем сосредоточимся только на одном механизме синтеза знаний — на систематизации и соорганизации их в целях создания многосторонней теоретической картины изучаемого объекта.
При таком сужении проблемы анализ (во всяком случае — в начале) может строиться на базе исходной эпистемологической оппозиции «знание — объект»[291] и предполагает в качестве основной методологической схемы (т. е. схемы, в соответствии с которой будут строиться все рассуждения) схему «двойного знания». Водном — будет фиксироваться представление об объекте как таковом, а в другом — представления об описывающих и изображающих его знаниях. И эти два знания будут объединяться и сниматься в онтологическом представлении отношений и связей между знаниями и их объектом. Лишь в дальнейшем, когда нам придется раскрывать реальные механизмы этих отношений и связей, мы будем постепенно вводить представления о мышлении и деятельности и таким образом трансформировать чисто эпистемологическую методологию в теоретико-мыслительную и теоретико-деятельностную [1957 b], а вместе с тем теоретико-мыслительно и теоретико-деятельностно развивать и обосновывать саму эпистемологию.
Итак, начнем с самых простых представлений и постараемся проблематизировать их.
Первая проблематизация
Какое бы знание об объекте мы ни взяли, оно всегда является результатом решения каких-то определенных частных задач. И когда потом в ходе рефлексии мы хотим выяснить отношение этого знания к объекту, беря его относительно других знаний о том же самом объекте, то можем представить все дело так, что это знание (подобно всякому другому) описывает и фиксирует объект с какой-то одной стороны, выделяет в нем одно или небольшую группу свойств, необходимых для решения определенной практической задачи.
То, что важно для решения одной задачи, нередко оказывается неважным, несущественным для решения других задач. Поэтому появление новых практических или теоретических задач, во-первых, заставляет брать объект с новых сторон, выделять в нем новые свойства и соответственно образовывать новые знания, а во-вторых, выдвигает на передний план вопрос об отношении к уже имеющимся знаниям, заставляет выяснить, можно ли использовать их для решения вновь вставших практических задач или для получения новых знаний об объекте.
Когда накоплено достаточно большое число таких, «односторонних» и частных знаний, возникает особая теоретическая задача — объединить их в одном многостороннем знании об объекте. Решение этой задачи имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое значение: оно позволяет рационализировать, «уплотнить» накопленные знания и тем самым ведет к экономии в работе с ними.
Но как можно объединять в единой системе односторонние знания об объекте, полученные в связи с решением частных задач?
Нередко их соединяют чисто механически. Тогда изучаемый объект выступает как сумма тех сторон, свойств, которые в нем раньше были выделены. В наглядном виде эта процедура представлена на схеме 2.
Методологическое основание такого представления объекта (хотя оно обычно не выражается в явном виде) состоит в том, что каждое из зафиксированных в знании свойств трактуется как отражение субстанциальной части объекта, а реальная система объекта понимается как «сложенная» из этих частей. При этом формальные связи объединения, устанавливаемые в плоскости знаний, просто переносятся «внутрь» самого объекта и объявляются его структурными связями.
Именно таким образом обычно пытаются строить теорию мышления как целого. При этом опираются, с одной стороны, на выработанные в истории логики и психологии представления о собственно мышлении, а с другой — на выработанное в лингвистике представление о языке. «Мышление» и «язык» в таком анализе рассматриваются как две «части» единого объекта, и задача состоит в том, чтобы определить характер объективной связи между ними. Но, несмотря на долгую историю исследований, дело здесь не пошло дальше формулирования самых общих положений, вроде того, что язык невозможен без мышления, а мышление — без языка. Подробнее об этой проблеме см. [Выготский, 1934, с. 5–16].
Такое же положение характерно и для современной теоретической биологии. В ее состав входит огромное число разных дисциплин, и все они исследуют «жизнь», но «берут» ее каждый раз с какой-то одной стороны и на этой основе строят теоретические представления, частные по отношению к целостной картине «жизни». Когда речь заходит о такой целостности, то ее представляют как сумму частей, описанных в частных биологических дисциплинах, как сведение воедино различных «биологических уровней». При этом сами «уровни» понимаются чисто онтологически, т. е. как уровни самого биологического объекта, как его слои, а их логическая природа не принимается в расчет. Это пока не препятствует развитию исследований на каждом «уровне», но не позволяет построить целостную теоретическую концепцию «жизни».
Наконец, укажем еще на семиотику. Попытки построить общую теорию знака стали особенно интенсивными с конца XIX в. и к настоящему времени породили целый ряд различных концепций — логических, логико-философских, логико-психологических, лингвистических, психологических. Но ни одной из них не удалось построить сколько-нибудь удовлетворительного (т. е. непротиворечивого и достаточно полного) теоретического представления знака, которое обеспечило бы решение стоящих в настоящее время практических задач. Такой итог, на наш взгляд, вполне закономерен. Ведь логика, психология, языкознание, антропология и др. науки всегда рассматривали знак не как самостоятельный предмет, а лишь как внешний материал, в лучшем случае как элемент других предметов изучения — знаний и науки, процессов вывода и процессов мышления, деятельности индивида по решению задач или общения с другими индивидами. При построении каждого из предметов достаточно было учесть лишь некоторые, а не все стороны знака. Соответственно и методы анализа, характерные для каждой из этих наук, позволяли понять лишь отдельные стороны знака и не давали возможности исследовать его в целом. Например, при выявлении логической структуры рассуждения достаточно было рассмотреть материал знаков в отношении к замещаемому в них объективному содержанию и совсем не требовалось учитывать отношение этого материала к генетически предшествующим видам деятельности индивида и их развитию. С другой стороны, многие закономерности речевой деятельности индивидов можно было определить, не обращаясь к анализу и описанию логического содержания и значений знаков. На том и строились все психологические концепции знака.
Но когда встала задача построения общей теории знака, подобные методы «отказали». В самом деле, по своей объективной природе знак может быть выделен в качестве самостоятельного предмета изучения только в том случае, если он берется в единстве всех своих основных функций. По сути дела, само возникновение семиотики, начиная с первых идей, выдвинутых еще Локком, Лейбницем и Кондильяком, было продиктовано необходимостью преодолеть односторонность, свойственную логике, психологии или языкознанию, в подходе к анализу знака и синтезировать методы всех этих наук. Однако такая тенденция получила совершенно извращенное представление, в первую очередь — в лингвистических исследованиях, а также в логике и психологии. В каждом из этих подходов семиотика мыслится как простое расширение соответствующей науки, как применение ее понятий и методов в новой области объектов [Симпозиум… 1962; Труды… 1965-73]. В результате сложились самостоятельные, обособленные друг от друга логический, лингвистический и психологический подходы к разработке семиотики, и каждый из них стремится охватить всю область знаковой действительности.
В конечном счете картина получается такой же, как и в других приводившихся нами примерах. Отдельные, частные знания об объекте пытаются свести в общую теоретическую систему чисто механически, рассматривая содержание этих знаний как части самого объекта. При этом система объекта всегда, в конечном итоге, рассматривается как изоморфная той системе знания, которая может быть получена путем непосредственного объединения уже существующих, полученных независимо друг от друга частных знаний [Солнцев, 1971, с. 90–139; Папуш, 1974].
Если же учесть специфическую природу знаний и их отношений к объекту изучения, то подход к проблеме синтеза знаний, относимых к одному объекту, может (а на наш взгляд, и должен) быть совершенно иным. Ведь абстракции далеко не всегда выделяют части изучаемого объекта. Как правило, они образуются иначе. Содержание знаний, вырабатываемых при решении частных практических задач, можно уподобить проекциям, которые «снимаются» с объекта при разных его «поворотах».
В наглядной форме понимаемое таким образом отношение между несколькими разными знаниями и объектом изучения представлено на схеме 3. Круг с заштрихованными секторами изображает сам объект; линии (А), (В), (С) — знания, фиксирующие разные «стороны» объекта; заштрихованные секторы — «объективное содержание», которое выделяется и фиксируется этими знаниями.
Если такое представление абстракций справедливо (а против него принципиальных возражений нет) и существующие знания действительно могут быть уподоблены проекциям, снятым с объекта, то, очевидно, чисто механическое объединение этих проекций не может дать представления о действительном строении объекта. Попытки такого объединения с последующей формальной объективацией полученной подобным образом системы знаний столь же бесперспективны, как и попытки получить представление о структуре детали путем простого присоединения друг к другу ее чертежных проекций.
Но как же в таком случае должен осуществляться синтез различных односторонних знаний об одном объекте?
Различение предмета и объекта знания
Обоснованный методологический подход к названной выше проблеме требует прежде всего четкого и резкого разграничения понятий объекта и предмета изучения. Такое разграничение имеет принципиальное значение в любом методологическом анализе, а в методологии системного исследования оно особенно значимо, являясь, по сути дела, исходным пунктом всей работы.
Не имея возможности обсуждать здесь эту тему в деталях и подробностях, мы лишь наметим основные из тех различений, которыми мы пользуемся в анализе проблемы синтеза знаний.
Понятие объекта (кроме того, что оно и само по себе крайне сложно) употребляется в настоящее время весьма недифференцированно. По сути дела, никак не различаются: 1) объект оперирования, 2) объект подразумевания (или объект отнесения — это выражение фиксирует то, что к нему относят знаковые формы) и 3) объект изучения. Объясняется это, на наш взгляд, тем, что обычно в эпистемологическом анализе не учитываются уровни оперирования, приводящего к образованию знания, и знание берется как бы в своем «последнем срезе», т. е. в конечном отнесении к объекту изучения. Если же мы, напротив, специально выделяем процессы порождения знаний [1957 b] и начинаем рассматривать входящие в них операции (или действия сопоставления) относительно тех объектов, к которым они приложены, то нам приходится организовывать их по уровням [1959}, как это представлено на схеме 4. А из этого уже автоматически вытекают все названные выше различия, ибо уже во втором слое знания (объединяющем второй и третий уровни) объекты оперирования (А), (В) отличаются от объектов возможного отнесения X или О1, а необходимость связывать между собой много таких слоев (каждый из которых имеет свой объект отнесения — на нашей схеме это объекты X, О1 и О2) заставляют выделять еще объект изучения, к которому в конце концов относятся все характеристики, полученные на разных уровнях порождения сложного знания, и в котором все они как бы объединяются и снимаются. На схеме 4 это объект [Оσ].
На базе этого же многоплоскостного представления сложного знания (но уже по другому основанию) должны быть различимы и противопоставлены друг другу: 1) идеальный объект и 2) реальный объект. На нашей схеме идеальные объекты — это [О1], [О2] и снимающий их объект [Оσ], а реальный объект (или объекты) — он обозначен как [R] — это, с одной стороны, то, что подразумевается за идеальными объектами и рассматривается как существующее само по себе, а с другой стороны, то, к чему эти идеальные объекты относятся в процессах практического приложения и использования знаний.
Анализ обоих этих понятий (в особенности понятия реального объекта или «реальности») крайне сложен, и здесь мы не можем на нем останавливаться. Достаточно отметить, что реальный объект, или «реальность», задается как то, что существует само по себе, осваивается практикой, может исследоваться в науке и фиксируется с помощью знаний, но при этом всегда остается более богатым, чем любая сумма полученных к этому историческому моменту знаний, и открывает неисчерпаемое множество возможностей для новых направлений анализа. Как писал В. И. Ленин, «электрон неисчерпаем» (Ленин, 1961, с. 277).
В натуралистической традиции и в обосновывающих ее философских концепциях объект изучения рассматривается обычно как нечто изначально данное и противостоящее исследовательской деятельности. В этом случае он по сути дела отождествляется с реальностью. С точки зрения введенной нами выше схемы сложного знания такая трактовка означает либо прямое склеивание идеального объекта с реальным, т. е. [Оσ] с [R], либо погружение идеального объекта в реальный и структурное объединение их, сопровождающееся, как правило, склеиванием и объединением двух типов существования — идеального и реального.
Но даже, если мы примем противоположную, антинатуралистическую точку зрения[292] и будем считать, что всякая данность объекта изучения есть результат деятельности человека — либо познавательной, либо инженерно-конструктивной и практической,[293] то все равно это не лишает нас права в контексте рефлексивного методологического исследования рассматривать противопоставленность знаний и их объекта как нечто реально существующее и весьма существенное для многих процедур и приемов современного научного и философского мышления.
Понятие предмета изучения строится именно на этом отношении между знаниями и их объектом и «берет» его в двух планах — обстоятельство, которое в дальнейшем приводит к дифференциации самого этого понятия.
Первый план фиксирует саму связь между знанием и объектом. Соответственно этому создается представление о системе, которая охватывает объект и знание в качестве своих элементов и за счет этого порождает в них такие свойства, которых до этого не было и не могло быть. Такая система, включающая объект как бы внутрь себя, и есть то, что называется «предметом» в чистой эпистемологии.
Второй план анализа того же отношения, точно так же выражаемый в понятии предмета, фиксирует не сам факт связи объекта со знанием, а обусловленную этим данность объекта в знании, или иначе — «видение» его через знание. В этом случае содержание знания как бы склеивается с объектом, и объект выступает со стороны того содержания, которое зафиксировано в знании. Поэтому можно сказать, что здесь понятие предмета фиксирует ту или иную определенность видения объекта через знание. В этом употреблении термин «предмет» выделяет уже не столько эпистемологическое, сколько специальное научно-предметное содержание.
Для методологии имеют существенное значение оба плана понятия «предмет» и связь между ними. В естественнонаучной традиции и в соответствующей ей философской рефлексии используется в первую очередь вторая компонента понятия «предмет». Считается, что, если объект независим от исследования и противостоит ему, то предмет изучения, напротив, формируется самим исследованием. Это конструкция, созданная мышлением или наукой, существующая лишь постольку, поскольку есть знание об объекте. Исследователь, приступая к изучению какого-либо объекта, берет его с одной или с нескольких сторон; выделенные и зафиксированные в знании стороны объекта становятся «заместителем» всего объекта в целом. Поскольку это знание об объективно существующем, оно всегда объективируется и как таковое образует «предмет», который в зависимости от задач исследования и точек зрения рассматривается то как предмет науки, то как предмет знания, то, наконец, как предмет деятельности, практической или теоретической.[294]
Если воспользоваться изображениями такого типа, какие приведены на схеме 3, то два указанных выше аспекта содержания понятия предмета можно будет представить соответственно в схемах 5а и 5б.
Различие этих двух изображений соответствует, с одной стороны, различию отношений эпистемолога и «универсального естественника» к предмету, а с другой — разным этапам совокупного общественного исследования объекта. На многих этапах специального научного исследования предмет рассматривается как «адекватный» объекту. Это правильно, вполне обоснованно, пока исследовательское движение идет в рамках данного предмета. Когда же относительно одного объекта построено несколько различных предметов исследования (как показано на схеме 3), или когда этот объект выступает в предметах различных наук, такая позиция становится препятствием к синтезу этих различных предметов, порождает парадоксы, или противоречия, в развитии и систематизации знаний. Единственным средством избежать их является специальный эпистемологический анализ, который рассматривает предмет исследования как результат и продукт деятельности, как продукт человеческого мышления, не тождественный объекту и несводимый к нему, существующий в особых средствах науки и как особое создание человеческого общества подчиняющийся особым закономерностям жизни, не совпадающим с закономерностями жизни самого объекта.
Характер предмета зависит не только от того, какой объект он отражает, но и от того, зачем этот предмет сформирован, для решения какой задачи. Задача исследования и объект являются теми двумя факторами, которые определяют (но не детерминистически, а телеологически), как, с помощью каких средств — приемов и способов исследования — будет сформирован необходимый для решения данной задачи предмет.
Общее условие синтеза разных знаний об объекте
Разобранные выше особенности формирования предметов изучения и, соответственно, знаний об объектах приводят к тому, что системы знаковых изображений в принципе не совпадают и не могут совпадать с реальной структурой объектов. Это расхождение не следует считать каким-то аномальным, недопустимым явлением. Наоборот. Всякая формальная (знаковая) система изображений объекта является особой оперативной системой, в которой и с которой действуют совершенно иначе, нежели действовали бы с самим объектом. Как известно, оперативные системы именно так и именно для того и создаются, чтобы оперирование с ними существенно отличалось от непосредственного оперирования с объектами. Поэтому в принципе мы не можем и не должны стремиться к тому, чтобы системы изображений обязательно совпадали со структурами объекта. Очевидно, нужно прямо противоположное, чтобы это несовпадение было осознано как принцип и чтобы из него исходили при решении методологических проблем.
Чертежные проекции не являются изображениями частей детали, но это нисколько не мешает их использованию, поскольку существуют особые процедуры, позволяющие переходить от одних проекций к другим (например, к аксонометрической проекции) или от проекции к самой детали в процессе ее изготовления. То же самое можно сказать о различных типах радиотехнических схем (блок-схемы, принципиальные схемы, монтажные схемы), где заданы жесткие правила перехода от одной схемы к другой.
Следовательно, главное в том, чтобы существовали процедуры переходов между различными представлениями и знаниями, а это будет означать одновременно возможность установления между ними определенных связей.
Нетрудно заметить, что эти процедуры могут существовать и «работать» только в том случае, если имеются подходящие, специально для этого приспособленные «проекции», хотя отнюдь не для всех и всяких произвольно взятых «проекций» можно установить процедуры связи. Следовательно, всякий способ синтеза знаний оказывается жестко связанным со специфическим способом их получения. Мы можем переходить от одних чертежных проекций к другим и «строить» по проекциям объект именно потому, что сами эти проекции получены особым образом, так, как этого требуют последующие процедуры связи. Иначе можно сказать, что процедуры абстракции и процедуры синтеза, полученные посредством абстракции представлений и знаний, должны быть органически связаны между собой, должны образовывать единый познавательный механизм.
Сформулированный выше принцип может быть применен к любым теоретическим знаниям и представлениям, которые мы хотим объединить. Учитывая его, можно сделать такой вывод: сам по себе факт наличия нескольких теоретических представлений, полученных независимо одно от другого при решении разных задач, еще не дает достаточных оснований для постановки вопроса о возможной связи между этими представлениями.
Поясним это на графическом изображении многопредметного исследования объекта (см. схему 3). Предположим, что проекции (А), (В), (С) «снимались» с объекта без всяких строгих правил, определяемых «природой» объекта и процедурами последующего синтеза полученных проекций (в общем виде такая ситуация довольно типична для ряда отраслей современной науки). При таких условиях одни части и элементы объекта будут отражены несколько раз в разных проекциях и, следовательно, в разном контексте. Это приведет к «удвоению сущностей», к запутыванию характеристик объекта, поскольку одни и те же «точки» его будут изображаться по-разному, с различной функциональной нагрузкой в этих системах. С другой стороны, некоторые элементы и стороны вообще не будут воспроизведены, а это создаст существенные «пустоты» в наших представлениях.
Совершенно очевидно, что при таком анализе и описании объекта, по сути дела, никакая процедура объединения не может дать необходимых результатов. Нечто подобное происходило в домарксовой политической экономии, когда В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо и другие исследователи пытались построить общую экономическую теорию, механически связывая уже имеющиеся понятия, такие, как товар, труд, капитал, стоимость и т. д. Все попытки объединить эти категории ни к чему не приводили и не могли привести, поскольку определенные стороны экономики как объекта исследования «проходили» через несколько понятий и описаний, а другие существенные аспекты вообще не были «схвачены». В том виде, как они существовали до К. Маркса, эти понятия и описания не могли быть сведены в единую систему, так как они были выработаны безотносительно к задаче синтеза. Успех марксова анализа, напротив, с методологической точки зрения может быть объяснен тем, что Маркс построил принципиально новую исходную позицию, которая позволила ему с самого начала развертывать единую структуру предмета исследования и именно в этом контексте представить все понятия как систему, связанную в целое. Методологической основой исследования явился, как известно, метод восхождения от абстрактного к конкретному, в котором были связаны в единое целое способы образования абстракций со способами их синтеза в процессе восхождения.
Пути и средства синтеза разных знаний об объекте
В приведенном выше примере по сути дела уже содержится ответ на вопрос о том, каким образом должен осуществляться синтез различных теоретических представлений и знаний, если они получены «хаотично», вне связи друг с другом и без всякой ориентировки на последующий синтез. Очевидно, в такой ситуации первый шаг должен состоять в том, чтобы перестроить сами исходные представления и знания, освободить их от одинаковых, многократно повторяющихся элементов содержания, дополнить другими представлениями, которые окажутся необходимыми с точки зрения задачи синтеза.
Попытка проделать такое движение сразу же наталкивается на видимый парадокс. Чтобы исходные абстракции действительно образовывали систему и увязывались с задачей синтеза, исследователь должен уже в исходном пункте иметь представление о действительной системе и структуре объекта, который он изучает и хочет воспроизвести, и, кроме того, он должен соотнести с этим представлением все существующие односторонние проекции — знания. Иначе говоря, построение сложного системного знания об объекте предполагает в качестве своего предварительного условия знание структуры этого объекта.
На первый взгляд кажется, что это требование содержит в себе противоречие. Но другого способа решить задачу не существует, а более детальный анализ ситуации убеждает: обнаруживаемое здесь противоречие — мнимое. Прежде всего потому, что исходное структурное представление объекта еще не есть теоретическое представление или теоретическое знание структуры этого объекта, оно лежит в особой плоскости представлений об объекте — методологической — и выполняет особую методологическую функцию в процессе исследования, являясь лишь средством для построения теоретического знания.
Такой вывод означает очень многое в плане анализа. Он задает линию того движения, которое должно быть осуществлено для синтеза уже существующих знаний об объекте. Прежде всего он подчеркивает, что нельзя получить решения этой проблемы, оставаясь в плоскости одних лишь уже имеющихся знаний. Он показывает, что в это движение обязательно должен войти анализ тех абстракций, говоря более широко — всех тех процедур, посредством которых были получены существующие знания. Он показывает также, что нужно будет — и это непременное условие осуществления предыдущего требования — проделать особую работу по воссозданию структуры того объекта, проекциями которого являются уже имеющиеся знания.
Идея такого движения в исследовании изображена на схеме 6. Знак К означает на ней новую знаковую форму, представляющую структуру объекта. Группа сплошных стрелок должна символизировать теоретико-методологическое движение по построению этой знаковой формы, исходя из уже существующих знаний (А), (В) и (С), а группа штриховых стрелок — характеристику и объяснение этих знаний (А), (В), (С) как «проекций» объекта (или, что то же самое, его нового представления К).
Схема наглядно показывает, что, решая задачу синтеза различных знаний об одном объекте, нужно, вместо того чтобы искать какие-то связи между ними в их собственной плоскости, воспроизвести каким-то образом структуру объекта, а затем, исходя из нее, восстановить те «повороты» абстракции, которые привели к имеющимся знаниям. И только таким путем можно получить необходимую связь между разными знаниями и представлениями одного объекта.
Осуществить названный выше процесс — значит воспроизвести структуру объекта в чем-то сверх уже имеющихся знаний о нем и в дополнение к ним. С точки зрения традиционных логических и эпистемологических представлений такая формулировка задачи может показаться если не бессмысленной, то, во всяком случае, малоэффективной: сколько бы новых представлений объекта мы ни вводили, они будут лишь новыми частными знаниями о нем и по своему типу ничем принципиально не будут отличаться от предшествующих.
Но так дело будет выглядеть лишь с традиционной точки зрения, знающей только один тип эпистемологических единиц — знания, выраженные в предложениях или суждениях. Если же мы встанем на современную точку зрения, учитывающую множественность эпистемологических единиц и различие их функций как в системах современного мышления, так и в порождаемых ими «организмах» науки, то наш вывод и заданная им установка получат значительно более глубокий смысл. Они будут означать не просто то, что мы должны получить новое знание об объекте, отличное от прежних, а то, что мы должны будем создать в системе предмета, воспроизводящей этот объект, совсем новую по своему типу эпистемологическую единицу. Вновь создаваемое представление объекта, как мы утверждаем, не будет уже знанием — во всяком случае, в том смысле, в каком были знаниями предшествующие образования, оно будет лежать в ином функциональном месте системы научного предмета и будет иметь другие структурные и морфологические определения. Именно в этом состоит смысл сделанных выше утверждений о необходимости нового и особого представления, воспроизводящего, как было сказано, сам объект и вместе с тем дающего основание для объединения всех уже существующих знаний об объекте.
Но тогда мы, естественно, приходим к вопросу: в каких именно типах эпистемологических единиц может и будет строиться это новое представление объекта, предназначенное для того, чтобы осуществить объединение уже имеющихся частных и односторонних знаний о нем.
Структура научного предмета и разные планы описания процессов синтеза знании
Новейшие исследования по общей методологии и теории науки показывают, что в систему всякого достаточно развитого научного предмета (или специальной научной дисциплины) входят по крайней мере восемь основных типов единиц и еще несколько сложных суперединиц, объединяющих и рефлексивно отображающих исходные единицы.
В число единиц первого уровня входят: 1) «факты», называемые также «единицами эмпирического материала»; 2) «средства выражения» (весьма условное название, используемое из-за отсутствия другого, более подходящего), среди которых окажутся «языки» разного типа (описываемые в методологии и логике), оперативные системы математики, системы понятий, заимствованные из других наук или созданные специально в качестве средств в рамках этой же науки, представления и понятия из общей методологии и т. п.; 3) методические предписания или системы методик, фиксирующие процедуры научно-исследовательской работы; 4) онтологические схемы, изображающие идеальную действительность изучения; 5) модели, репрезентирующие частные объекты исследования; 6) знания, объединяемые в систему теории; 7) проблемы; 8) задачи научного исследования. В системе научного предмета, в соответствии с разными процессами функционирования и развития его, эти единицы организуются еще в связанные друг с другом агрегаты и образуют ряд сложных функциональных, а затем и материально-организационных структур.
В настоящее время, изображая эти единицы в рамках одной системы — обычно в рамках того, что называется «научным предметом», принято зарисовывать их в виде блок-схемы, представляющей состав, а иногда также функциональную или материально-организационную структуру этого целого.[295] В одном из возможных вариантов состав научного предмета представлен на схеме 7.[296]
Любой достаточно развитый научный предмет может быть представлен в таком наборе блоков: если этот предмет уже сложился, то блок-схема будет служить его изображением, а если он только еще складывается, — выражением конструктивных требований к нему или его проектом.
В зависимости от задач исследований и, естественно, способов употребления самой схемы на нее будут накладываться «сети» из различных связей и отношений, а параллельно этому в плоскости теоретического описания научного предмета будет строиться фиксированная иерархия разных системных представлений.
Основная трудность, возникающая при решении этой задачи, связана с тем, что между всеми блоками, входящими в систему научного предмета, существуют отношения и связи рефлексивного отображения.
Средства для распутывания этих отношений и связей дает анализ процедур и механизмов научно-исследовательской деятельности, отображаемых на этой блок-схеме, в частности в виде процессов функционирования и развития научного предмета. В зависимости от того, какой процесс мы выделяем, блок-схема и стоящий за ним предмет выступают либо в виде искусственно преобразуемого объекта, либо в виде естественно меняющегося целого, либо в виде «машины», перерабатывающей некоторый материал. Так, если мы выделим из системы научного предмета блоки «эмпирический материал» и «теоретические знания» и будем считать, что цель и назначение науки состоят в переводе «фактов» в форму «теоретического знания», то вся система научного предмета выступит в виде «машины», осуществляющей эту переработку [Розин, Москаева, 1967; Розин, 1967 а, с; Самсонова, Воронина, 1967]. Но точно таким же образом мы сможем выделить задачи преобразования или конструирования блоков «модели», «методики», «онтология», «средства выражения», приводящие их в соответствие с «фактами», поступающими в блок эмпирического материала. Тогда внутри системы научного предмета мы должны будем выделить еще несколько «машин», осуществляющих эти конструирования и преобразования.
Особое место в системе научного предмета занимают проблемы и задачи. Они фиксируют отношения несоответствия между наполнениями других блоков системы научного предмета и определяют общий характер и направление процессов научно-исследовательской деятельности, перестраивающих эти наполнения.
Кроме того, каждый научный предмет существует и изменяется в широком окружении: других научных предметов, математики, общей методологии и философия [Москаева, 1967; Розин, Москаева, 1967; Симоненко, 1967]. Из этого окружения он может получать эмпирический материал, онтологические представления и схемы, а также средства выражения для содержаний, образующих наполнение всех блоков. Некоторые из элементов окружения — например, философия и методология (но не математика!) — управляют функционированием и развитием научных предметов.[297] В частности, определяющим для всех научных предметов является изменение и развитие категорий мышления, осуществляемые в рамках и средствами философии и методологии.
Системы, образующие наполнение всех блоков научного предмета, построены в соответствии с определенными категориями. Можно сказать, что категории задают строение систем наполнения, а также управляют всеми мыслительными движениями внутри них и переходами от одних систем к другим в рамках общей структуры предмета. Поэтому всякое принципиальное изменение в способах фиксации и описания какого-либо объекта средствами науки означает вместе с тем изменение аппарата категорий, характеризующих наше мышление. И наоборот, смена основных категорий, определяющих уровень и способы нашего мышления, должна привести и приводит к перестройке наполнений всех блоков научного предмета.
После этой краткой характеристики строения научного предмета и перечисления входящих в него основных функциональных элементов (а вместе с тем и основных эпистемологических единиц) мы можем вернуться к главному (с точки зрения линии наших рассуждений) вопросу: какие именно элементы научного предмета представляют объект как таковой и используются в качестве основного средства объединения разных частных знаний об объекте.
Специальный методологический и эпистемологический анализ показывает, что в процессах объединения и синтеза знаний участвуют многие, если не сказать все, элементы (единицы) научного предмета и многие единицы из более широких охватывающих его систем методологии и философии. Поэтому если бы мы хотели описывать механизмы синтеза знаний во всех необходимых деталях, то должны были бы охватить в своем анализе всю систему научного предмета и все влияющие на него элементы методологии и философии. Но так как наша задача состоит не в анализе и описании механизмов такого рода,[298] а лишь в постановке самой проблемы синтеза знаний и изложении основной идеи объединения их через посредство специального изображения объекта, и поскольку, следуя логике этой задачи, мы выделили из всех процессов синтеза, захватывающих полный набор элементов предмета, один лишь момент представления «самого» объекта как такового в противоположность тому содержанию, которое фиксируется в уже имеющихся знаниях, то вполне естественно, что на передний план в нашем анализе должны выйти именно те блоки научного предмета, которые изображают сам объект, — онтология и модели. В них мы можем надеяться найти средства для воспроизведения структуры объекта как такового.
Подобное ограничение области анализа, переход от научного предмета в целом к отдельным его функциональным подсистемам, может пониматься и трактоваться двояко: с одной стороны, как очень сильное упрощение реальной ситуации, сведение ее по сути дела к другой, идеальной ситуации, заведомо ей неадекватной, а с другой стороны — как описание одной части или одного момента в реальном процессе синтеза. В принципе обе трактовки допустимы, но у них совершенно разные условия «истинности» и «практической приемлемости», и поэтому выбор одной или другой из этих трактовок требует от исследователя разных средств и методов анализа. Описать функциональную часть (или момент) какого-то сложного процесса — значит рассмотреть ее в контексте целого и в зависимостях от других частей. Но в данном случае мы в принципе не можем ставить перед собой задачу описать процесс синтеза знаний в целом и поэтому выбираем из названных выше трактовок, полагая, что сама задача изложения основной идеи объединения знаний через посредство изображений объекта (а не механизмов и норм этого процесса) оправдывает наши упрощения. Чтобы эффективно функционировать в качестве идеи или задачи, некоторое знание или представление о деятельности совсем не нуждается в точном соответствии с этой деятельностью.
Более того, эта же установка позволяет нам произвести еще одно упрощение: оставить в стороне онтологические схемы и свести все дело к одной лишь модели объекта. Действительно ли взятые со стороны только одного требования или одной функции — воспроизводить «сам» объект знания — онтологические и модельные схемы совершенно равноправны? Их различия по форме и содержанию становятся существенными лишь после того, как мы переходим к описанию конкретных механизмов синтеза знаний. Вместе с тем для передачи и описания самой идеи — идеи синтеза знаний через посредство особого изображения объекта — модель оказывается значительно более удобным и более выгодным элементом научного предмета, нежели онтология, в силу своей относительной простоты. Поэтому в дальнейшем анализе мы ограничимся только модельными схемами, показав, как процедура синтеза знаний использует их специфические функции и строение.
Модель-конфигуратор
Итак, коротко напомним основную линию наших рассуждений и одновременно поясним их смысл с точки зрения введенных выше представлений о научном предмете.
Обсуждение условий объединения в одну систему нескольких разносторонних знаний об объекте привело нас к выводу, что в общем случае эти знания должны быть перестроены в соответствии со структурой предполагаемого объекта. Из этого, в свою очередь, следовало, что структура объекта должна быть каким-то образом представлена и изображена еще до того, как мы начнем работу по перестройке и синтезу имеющихся знаний. Исходя из зафиксированной таким образом формальной необходимости специальных изображений объекта, мы предположили, что они реально существуют в мышлении и в научном исследовании, и ввели их в свои схемы. Так как подобные изображения объекта не могли быть получены без опоры на уже существующие знания об этом объекте, мы связали знания и специальные изображения объекта двусторонними переходами — 1) получения изображения объекта на основе знаний и 2) объяснения знаний исходя из полученного изображения объекта (см. схему 7). Но такая схема фиксировала лишь один момент в «жизни» гипотетически введенного нами изображения объекта и совсем не учитывала других моментов, по сути дела уже заданных нашей установкой на объяснение процессов синтеза уже имеющихся знаний. Ведь для того чтобы такой синтез произошел, эти знания должны быть перестроены и объединены в их собственной плоскости. А об этом у нас пока речь вообще не шла. Поэтому сейчас мы должны как бы вернуться назад и зафиксировать в анализе и описании основное назначение изображения объекта и его функции не только в отношении исходных знаний об объекте, но также и в отношении результата всей работы — системы перестроенных и объединенных знаний.
После того как специальное изображение объекта получено, начинается новый этап мыслительной работы — использование изображения уже непосредственно для синтеза знаний в единой теоретической системе.
Мы уже говорили, что сам по себе факт наличия нескольких знаний об одном объекте, полученных независимо друг от друга, не дает еще оснований ставить вопрос об объединении их. Чтобы связать и действительно объединить подобные знания, их нужно еще предварительно перестроить. Именно эта работа и осуществляется на втором этапе. Начинается новое, вторичное соотнесение уже существующих знаний с полученным на их основе изображением объекта в свете специальной целевой установки: сделать их теоретически однородными и объединяемыми. И это всегда ведет к перестройке знаний, часто настолько существенной, что она выступает как процесс замены одних знаний другими. И так до тех пор, пока нам, наконец, не удается свести исходную совокупность разрозненных знаний к единому сложному знанию, выводимому из имеющегося у нас изображения объекта. При этом очень трудно, по сути дела даже невозможно, ответить на вопрос, что же мы делаем «на самом деле» — объединяем исходные разрозненные знания, сводим их к новому целостному знанию или выводим это последнее из имеющегося изображения объекта. Практически в большинстве случаев превалирует последнее.
В наглядной форме такие отношения и функции схемы, изображающей объект, представлены на схеме 8. Линия (А'В'С) символизирует в ней систему перестроенных и объединенных знаний, а двойная стрелка — процедуру получения этой системы на основе специального изображения объекта. Все остальные элементы схемы совпадают с тем, что было представлено на схеме 6.
Подобное объединение знаний имеет неоспоримую практическую ценность: его итогом является своеобразное «сплющивание» всех представлений и знаний об объекте, расположенных как бы в разных планах и проекциях и потому непосредственно не сводимых одно к другому. Это «сплющивание» является непременным условием построения сложного теоретического знания об объекте. Такая «линейная», или «плоскостная», организация существенно облегчает оперирование системой знаний, и в частности обеспечивает ее формализацию.
Попробуем теперь охарактеризовать функции и природу того изображения объекта, которое мы гипотетически ввели и анализировали. Во-первых, оно собрало и объединило в себе все то объективное содержание, которое было зафиксировано в уже имевшихся ранее знаниях. Во-вторых, его структура была введена как «основание» и «источник» всех проявлений объекта, обнаруживаемых в прямом познавательном оперировании с этим объектом. Наконец, в-третьих, на основе особого познавательного оперирования с самим этим изображением и выраженным в нем предметом знания выводились и обосновывались новые сложные знания об объекте. Все эти моменты: сначала — особое назначение этого изображения, затем — специфика процедур его создания и, наконец, — специфика процедур его употребления, задают ему совершенно особое место в системе научного предмета.
Поскольку именно из этого изображения выводятся потом все уже существовавшие знания об объекте, и оно (вместе с эпистемологическими описаниями произведенных абстракций) либо служит их основанием, либо же заставляет их перестраивать, поскольку именно на его основе строится новое синтетическое знание, которое затем используется в практической работе с реальностью, постольку это изображение является моделью объекта [Генисаретский, 1966 а; Розин, 1966; Москаева, 1966]. Смысл такого утверждения наглядно отражен на схеме 8. Изображение объекта в ней является очевидным функциональным замещением объекта как в отношениях к знаниям (А), (В), (С), так и в отношениях к знанию (А'В'С).
Поскольку эта модель объекта создается в проанализированной нами ситуации с совершенно особым назначением — специально для того, чтобы объединить уже существующие знания, она имеет специфический набор функций и совершенно особые характеристики формы и содержания, которые должны быть особым образом обозначены. Мы называем изображение объекта, создаваемое в целях описанного выше объединения и синтеза разных знаний, «конфигуратором», а процедуру этого объединения и синтеза, основывающуюся на специально созданном для этого изображении объекта, — «конфигурированием» [Тез. докл. симпозиума… с. 26–27].
Анализируя историю естественных наук, мы можем встретить простейшие конфигураторы во всех задачах, решение которых требовало оперирования не с одним, а с двумя или многими представлениями объекта. В тех случаях, когда создавалась систематическая теория объекта, конфигуратор, естественно, принимал более сложный вид, становясь весьма разветвленной и детализированной системой системных представлений объекта. Само построение такой системы выступало как особая и очень сложная задача теоретического исследования, причем от ее успешного решения в первую очередь зависел успех всей работы.
Если с этой точки зрения рассмотреть уже упоминавшиеся исследования в области биологии, семиотики, теории мышления и других наук, то можно утверждать, что развитие их в настоящее время упирается именно в отсутствие адекватных «конфигураторов». Бесспорно, попытки строить их предпринимаются практически всюду, притом с возрастающей интенсивностью. Но из-за отсутствия соответствующего эпистемологического осознания и специально выработанных для этого логических средств исследователи нередко с самого начала избирают методологически бесперспективный путь: вместо того чтобы строить конфигуратор, онтологически обосновывающий и объясняющий существующие разнообразные знания об объекте, они принимают одно из имеющихся системных представлений объекта за исходное и уже одним этим закрывают себе дорогу к выявлению действительной структуры объекта.
Именно так, на наш взгляд, обстоит дело в современной семиотике: при исключительной развитости отдельных направлений в исследовании знака она не может нормально развиваться из-за отсутствия обобщающей структурной модели, в которой были бы объединены знания и представления о знаке, выработанные в логике, психологии, лингвистике, социологии и эстетике.
Только путем построения особого конфигуратора может быть решена, по всей видимости, и проблема объяснения «жизни», стоящая сейчас перед теоретической биологией. Она точно так же выступает как проблема синтеза различных уровней описания биологической действительности. Именно так ее понимает, например, А. Сент-Дьердьи [Сент-Дьердьи, 1964, с. 16]. В последнее время уже многие биологи приходят к выводу, что объяснить сущность жизни, взяв за исходный какой-то из существующих уровней описания, вряд ли удастся. В общем виде можно сказать, что необходимая биологам структурная модель должна возникнуть, фигурально выражаясь, как «перпендикулярная» по отношению к существующим уровням описания. Это значит, что для построения ее необходим специальный эпистемологический анализ появления и развертывания каждого из имеющихся в настоящее время уровней описания. Такой анализ и явится предпосылкой создания конфигуратора, а последний выступит как исходный пункт в построении общей теории жизни.
Аналогичные методологические проблемы стоят сейчас перед педагогикой. Проводимые в ее рамках научные исследования до сих пор, как правило, имеют психологическую ориентацию. Но ведь обучение представляет собою сложный многоаспектный объект и заведомо не ограничивается процессами психологического развития индивида. Поэтому необходимо расширить предмет педагогических исследований: он должен охватывать проблемы целей обучения и воспитания, моделирование человека будущего, динамику малых групп, содержание обучения и воспитания, стимулы учебной деятельности и т. д. Чтобы охватить в рамках единой системы научных предметов столь широкий круг проблем, необходимо особым образом синтезировать представления и методы ряда научных дисциплин — социологии, логики, психологии, лингвистики, этики, эстетики, возрастной физиологии и т. п. Но такая постановка задачи вновь приводит к проблемам построения конфигураторов.
Подобные иллюстрации можно было бы продолжить, обратившись к другим отраслям современной науки и техники, например к исследованию и проектированию больших систем, к эргономике, криминологии, лингвистике, к социальной психологии и т. п. Но смысл дела, очевидно, не в обилии примеров. Ведь единственное, что мы хотим здесь показать, это новые возможности, которые открывает применение моделей-конфигураторов при решении задачи объединения и синтеза разных знаний, относящихся (как мы предполагаем) к одному объекту. А реальность таких возможностей может быть подтверждена и доказана только практикой будущей работы по созданию и использованию конфигураторов. При этом, конечно, было бы большим упрощением представлять дело так, будто сама по себе идея модели-конфигуратора решает все вопросы, связанные с созданием сложного многоаспектного знания об объекте или целостной и однородной системы знаний. И построение такой модели, и последующая работа с ней потребуют преодоления многих трудностей, но сам этот путь, на наш взгляд, делает работу значительно более перспективной.
Структурные модели и формальные знания — принципиально разные элементы научного предмета
В итоге описанной выше работы по конфигурированию знаний (см. схему 8) появляются две группы принципиально различных образований: одну составляют структурные модели объекта, другую — собственно теоретические знания, полученные на основе структурных моделей и синтезирующие набор исходных разрозненных знаний об объекте.
Строение и функционирование теоретических знаний отличаются большой сложностью и, можно даже сказать, внутренней противоречивостью. Полученные на основе структурной модели, они являются подлинными знаниями лишь в отношении к представленному в модели идеальному объекту, и если процедура выведения теоретических знаний из модели была осуществлена правильно, т. е. в соответствии с существующими мыслительными нормами, то в этом отношении они всегда будут истинными и необходимыми. По сути дела это означает, что структура, составленная из знаковой формы теоретического знания и идеального объекта, при выполнении этих условий будет замкнутой и не будет иметь внутри себя рассогласований содержания.
Но отношение к идеальному объекту является отнюдь не единственным отношением, в котором живет и функционирует знаковая форма теоретического знания. Теоретические знания должны употребляться, и эти употребления осуществляются уже не в отношении к идеальному объекту (что было бы бессмысленным, поскольку идеальный объект включен в знание и является одним из его конституирующих элементов), а в отношении к множеству различающихся между собой объектов практики. При этом происходит очень своеобразное преобразование структуры теоретического знания: его знаковая форма сначала как бы вырывается из смысловой связи с идеальным объектом, а затем переносится, или как бы опрокидывается, на объекты практического оперирования, образуя в связи с ними новые структуры знаний (схема 9). Таким образом, одна и та же знаковая форма оказывается элементом сразу многих структур знаний и соответственно этому она несет в себе различные смыслы. В одном случае, как мы уже сказали, она выступает в качестве формы выражения знаний об идеальном объекте, в других случаях — в качестве формы выражения знаний о единичных объектах практической деятельности. В противоположность теоретическим знаниям, которые являются необходимо истинными, знания о единичных объектах практики, если они получены путем такой трансформации теоретических знаний, всегда являются лишь гипотетическими и вероятно истинными.[299]
Подобное преобразование теоретических знаний в практические (или, что то же самое, перенос знаковой формы с идеального объекта теории на реальные объекты практики) и есть, по сути дела, основной процесс жизни знаний, то, в чем они существуют как знания, и то, ради чего мы их, собственно говоря, создаем. Но из этого с необходимостью следует, что сама знаковая форма теоретических знаний должна быть так устроена и так организована, чтобы обеспечить это преобразование (или перенос формы). В частности, если знаковая форма переносится из системы теоретического знания в многочисленные и разнообразные системы практических знаний и при этом выступает в качестве элемента, конституирующего смысл (а тем самым во многом и содержание) этих знаний, то она должна иметь такое устройство и такую организацию, которые бы обеспечивали ее относительную самостоятельность и сохранение собственного смысла и содержания независимо от того, берется ли она в системе теоретического знания или вне ее. Другими словами, знаковая форма знания и сама по себе, вне системы знания, должна существовать как организованность, несущая определенный смысл, а возможно, и содержание.
Анализ знаковых форм в этом плане [1960 с*] показывает, что подобная смыслонаполненность и содержательность «чистых» знаковых форм достигается прежде всего за счет того, что связи замещения и отнесения, характерные для «полных» знаний, как бы переносятся внутрь знаковых форм и воспроизводятся (или имитируются) там их функциональной структурой, так или иначе фиксируемой в материале (морфологии) входящих в нее отдельных знаков и выявляемой затем в процессе понимания этих форм. Благодаря этому знаковые формы знаний выступают как бы в виде полных знаний особого рода; мы называем их «формальными знаниями».
Различные формальные знания сильно отличаются друг от друга по структуре знакового материала. Характер ее зависит от типа того объективного содержания, которое фиксируется в этих знаниях, от «уровня» той плоскости замещения, на которой было получено и употребляется соответствующее знание (см. схему 4), от отношений и связей его с другими знаниями системы, а также от процедур преобразования в другие знания. В одном случае это будут арифметические соотношения вида 1 + 1=2, 1+2=3 и т. д., 2x2=4, 2x3=6 и т. д.; в другом — общие утверждения вида «Диагонали ромба взаимно перпендикулярны» или «Вещество, окрашивающее лакмус в красный цвет, есть кислота; кислота содержит электроположительный водород, замещаемый металлом с образованием соли, электропроводка, при нейтрализации щелочами дает воду и соли и т. д.»; в третьем — уравнения, включающие коэффициенты и знаки переменных и т. п. Но во всех случаях в структуру формальных знаний будут входить специфические связи, позволяющие использовать их в качестве средств образования реальных знаний о единичных объектах практики. Независимо от того, как будут использоваться формальные знания — будут ли они непосредственно соотноситься с объектами, как бы «накладываясь» на них, или же будут включаться в структуру рассуждения, эти связи должны дать возможность приписывать объектам практики свойства, непосредственно эмпирически в них не выявленные, или же, минуя эмпирический анализ, переходить от одних признаков объекта через посредство других к третьим. Покажем, как это происходит, на одном из самых простых примеров.
Предположим, что перед нами в колбе находится какое-то жидкое вещество и необходимо выяснить, какими свойствами оно обладает. В решении этой задачи мы можем пойти двумя путями. Первый путь — чисто эмпирический: мы будем применять к заданному нам веществу различные процедуры физического и химического анализа и постепенно практически выявлять его свойства. Мы узнаем таким образом, каков его удельный вес, в какие реакции с другими веществами оно будет вступать, на какие вещества разлагается и т. п. Но есть еще другой путь, на котором мы можем получить не менее разностороннее знание об этом объекте: это путь использования уже имеющихся формальных знаний. Мы можем, например, опустить в данное нам вещество лакмусовую бумажку, и если она окрасится в красный цвет, то мы сможем утверждать, что это вещество — кислота, и припишем ему те свойства, которые зафиксированы в общем формальном знании о кислоте.
В наглядной форме эта процедура изображена на схеме 10. Знак X означает на нем данное нам вещество, А (дельта) — операцию, в которой устанавливается действие вещества на лакмусовую бумажку. Знак (а) обозначает знаковое выражение, фиксирующее эмпирически выявленное свойство объекта X — «окрашивает лакмус в красный цвет». Знак (А) обозначает слово «кислота», вертикальная стрелка, направленная вверх, символизирует замещение содержания, выявленного благодаря применению операции D к объекту X. Вместе знаковые формы (а) и (А) обозначают то, что принято называть «определением». Двусторонняя стрелка, соединяющая их, символизирует связь, характерную для определения (равенство объемов выражений (а) и (А) и возможность оборачивания без ограничений: «все, что окрашивает лакмус в красный цвет, — кислота» и «все кислоты окрашивают лакмус в красный цвет»). Стрелка, ведущая от (А) к X, завершает мыслительную процедуру, называемую обычно «подведение объекта под понятие» [Зигварт, 1908, а, с. 415–416], знак III обозначает отождествление выражений «кислота» в двух относительно автономных организованностях формального знания — «определении» и «развернутом формальном знании». Знаки (В), (С), (D), (Е)… обозначают знаковые формы, фиксирующие все другие общие свойства (или признаки) кислоты; эти свойства как бы «выносятся» на объект X, приписываются ему — соответствующая стрелка, ведущая к X, — и становятся характеристиками объекта X в структуре реального знания. Операция «приписывания свойств» завершает процесс образования реального знания посредством процедуры соотнесения общего формального знания с единичным объектом.
Первый путь — непосредственного эмпирического исследования объекта X — дает всегда непосредственно достоверные знания, но он очень сложен и нуждается в особых условиях, средствах и методах; для отдельного индивида они часто просто недоступны. Второй путь предполагает всего лишь одну операцию эмпирического исследования — она специально выбирается очень легкой, а все другие операции носят сугубо формальный характер: «Если X есть (а), то X есть (А)», «Если X есть (А), то X есть (В) (С) (D) (Е) и т. д.». Все это совершается на основании формальной связки между признаками (а) и признаками (В) (С) (D) (E)… через специальный знак-посредник (А). Благодаря своему формальному характеру второй путь образования знаний о единичных объектах является значительно более выгодным и экономным, а поэтому в практической деятельности, если есть соответствующие формальные знания, он всегда вытесняет первый, эмпирический путь.
На основе анализа этого простейшего примера мы можем еще раз, теперь с несколько иной стороны, охарактеризовать сами формальные знания. Их назначение как раз в том и состоит, чтобы в разных слоях и на разных уровнях мышления обеспечивать второй путь образования реальных, используемых в практике знаний. Именно этим всегда определяется их структура и формы организации: они должны содержать связи и операции, позволяющие на основе одних эмпирически выявленных свойств приписывать единичным объектам другие свойства.
Нередко формальные знания существуют в сфере науки и философии в виде отдельных, совершенно автономных единиц — тогда их обычно (хотя и не совсем правильно) называют понятиями, но по сути дела это еще преднаучная форма организации знаний. По мере возникновения и развития науки отдельные формальные знания во всех областях вытесняются системами формальных знаний.
В структуре научных предметов систематизация формальных знаний неразрывно связана с систематизацией идеальных объектов и организацией их в единую онтологическую картину. В этом плане история формирования античной математики, ньютоновской механики, молекулярно-кинетической теории вещества и максвелловской электродинамики дает нам ряд совершенно единообразных и прозрачных образцов [1967 b;Галилей, 1934, т. 1; Максвелл, 1938; Гуковский, 1947; Больцман, 1956; Розин, 1964 а; Москаева, Розин, 1966; Лакатос, 1967; Степин, Томильчик, 1970; Алексеев И., 1974 а, b]. В силу этого только вместе с этой онтологией и, можно даже сказать, в неразрывном единстве с ней систематизированные формальные знания образуют систему теории. Однако в традиционной эпистемологии с начала XIX столетия и до наших дней система теории, как правило, отождествляется с множеством так или иначе систематизированных формальных знаний. Такой подход имеет два основания. Одно из них — методологические трудности описания системы теории как составленной из двух совершенно разнородных системных образований — системы формальных знаний и системы идеальных объектов, представленных в обобщенной онтологии. Другое основание — реальная обособленность и автономность систем формальных знаний в современном мышлении и в организации научных исследований и разработок. Благодаря интенсивному развитию в XIX в. философии математики и математической логики над системами формальных знаний (систематизированных первоначально путем систематизации идеальных объектов и построения обобщенных онтологических картин) были построены новые знания методического и методологического типа, отображающие структуру исходных формальных знаний, отношения между разными формальными знаниями и процедуры преобразования одних знаний в другие [Brower, 1928; Carnap, 1929, 1934; Morgan, 1847; Boole, 1847, 1854; Schroder, 1877; Frege, 1879; Peano, 1889]. Благодаря этому системы формальных знаний были как бы подвешены к метазнаниям, фиксирующим правила конструктивного развертывания и преобразования одних формальных знаний в другие, а связь их с онтологией была ослаблена или совсем разорвана [1960 с *; Гейтинг, 1936; Гильберт, 1948]. Многие системы формальных знаний превратились в формализованные системы [Гейтинг, 1936; Гильберт, 1948].
В результате всех этих процессов систематизации и формализации многие из формальных знаний, входящих в систему теории, неизбежно теряют непосредственную операциональную связь с единичными объектами практики (см., в частности, обсуждение этого вопроса в работе [Гильберт, 1948]). Однако сама теория оправданна и может существовать в системе культуры лишь до тех пор, пока в ее составе остается достаточно большое число формальных знаний, непосредственно выносимых на объекты практики, и, по сути дела, сама теория всегда существует и развертывается лишь ради них.
Но вернемся несколько назад. Итак, нетрудно заметить, что свойство структуры формальных знаний непосредственно никак не связано с требованием изображать охватываемые в формальных знаниях объекты. Наоборот, можно показать, что если бы мы наложили это требование на формальные знания и при создании их стремились к тому, чтобы они в своем строении всегда изображали бы реальное строение объектов, их подлинную природную структуру, то во многих случаях мы не получили бы формальных связок и не смогли бы использовать формальные знания как способ обобщенной фиксации нашего опыта и средство образования реальных знаний о единичных объектах.[300]
Совершенно иначе обстоит дело со структурными моделями объектов. Они не содержат формальных связок следования, и поэтому их нельзя использовать для того, чтобы, выявив эмпирически какое-либо свойство в объекте, формально приписывать ему другие свойства, «необходимо» связанные с первым. В системе научного предмета структурные модели предназначены для другого — они должны изображать объект как таковой, в целом, безотносительно к тем или иным частным возможностям его познания и практического использования. Если структурные модели и соотносятся с объектами, положенными вне их, — практическими или идеальными, представленными в онтологии, — то при этом обязательно должны накладываться на них в целом, во всей совокупности зафиксированного в них содержания, и между различными элементами или частями этого содержания не может быть того различия между эмпирически выявляемым и гипотетически приписываемым, которое было характерно для формального знания. Можно было бы, наверное, сказать, что структурная модель вся в целом «выносится» на объект, но совершенно по другим основаниям и в иных процедурах, нежели те, которые мы наблюдали и фиксировали в формальном знании. И именно этим определяется основной принцип в подходе к моделям: их структура, несмотря на парадоксальность такого подхода, оценивается прежде всего с точки зрения соответствия ее структуре объекта [Генисаретский, 1966 а; Розин, 1966].
Итак, структурные модели объектов отличаются от формальных знаний буквально по всем эпистемологическим характеристикам. По структуре и материалу знаковой формы, по отношению к объектам и, наконец, что является для нас самым главным, по способам употребления в научном исследовании. И если бы мы хотели продолжить анализ по той схеме, которая была реализована выше при разборе формальных знаний, то должны были бы здесь подробно и во всех деталях описать различные способы употребления структурных моделей в научном исследовании. Но это, естественно, совершенно особая тема.
Методологическая «план-карта» исследования
Хотя модели строятся всегда исходя из уже имеющихся знаний об объекте и в принципе должны «объяснять» только то, что уже известно, практически в процессе построения конфигуратора мы «угадываем» и как-то выражаем в структурной модели еще целый ряд дополнительных свойств объекта, не содержащихся в исходных знаниях. Модель всегда богаче свойствами, нежели сумма знаний, по которым она строилась. Она изображает объект в целом и, подобно объекту, может рассматриваться как бы с разных сторон. При этом мы исходим из того, что модель должна соответствовать объекту и это соответствие распространяется на все ее свойства.
Но такое предположение дает возможность использовать модель-конфигуратор в совсем особой функции: как средство, позволяющее намечать пути и схемы дальнейших исследований объекта.
Наверное, поэтому модели-конфигураторы, как правило, не исчезают из системы науки после того, как с их помощью произведен синтез уже имеющихся знаний, а сохраняются и, более того, начинают жить и развиваться по своей собственной «логике», переходя в онтологию научного предмета и становясь особым, постоянно действующим слоем всякой науки. К тому же на их основе развертывается целый ряд новых «органов» науки, и в частности вся ее методическая часть.
Формулирование рекомендаций относительно предстоящих процедур анализа и описания объекта изучения является важнейшей и специфической задачей методологической работы. Здесь методолог исходит из вновь вставших или намечаемых им практических и теоретических проблем какой-то области деятельности и должен ответить на вопрос, какие предметы изучения нужно сформировать и как в них нужно двигаться, чтобы эти проблемы решить [Пробл. иссл. структуры… с. 109–190]. Образно говоря, методолог должен еще до начала специального научного исследования объекта достроить план-карту этого исследования, наметить все его узлы и подразделения, определить средства и метод работы в каждом из них. При этом он должен двигаться в особом, методологическом слое мышления и знаний. Картина выглядит так, будто мы начинаем строить все здание науки с «верхнего этажа», с методологии, задающей план и программу всех исследований, а затем «подвешиваем» к ним все остальное, вплоть до системы формальных знаний теории. В наглядном виде идея этого движения для одного из фрагментов научного предмета представлена на схеме 11. Знаки (D) и (Е) изображают в ней новые специально-научные знания об объекте, получаемые по заранее составленному методологическому плану.
В этом движении может быть два разных варианта. В первом случае мы получаем знания (D) и (Е), исходя из план-карты и оперируя с одной лишь моделью, а уже затем интерпретируем полученные знания в отношении к объекту и фиксирующему его эмпирическому материалу. Во втором случае планкарта определяет не сами знания, получаемые на модели, а лишь процедуры эмпирического анализа объекта. В наглядном виде второй случай представлен на схеме 12.
Предваряющее описание процедур исследования объекта, сопровождающее обычно план-карту, возможно благодаря тому, что методологический анализ всегда имеет большую общность, нежели соответствующий специальный анализ. Он переносит понятия, принципы, схемы расчленений из одной, уже исследованной области в другие, еще не исследованные. При этом методолог апеллирует как к общим методологическим принципам и понятиям, в которых отложился весь опыт человеческой мыслительной деятельности, так и к специальным, как правило более общим, научно-предметным знаниям. В этом контексте как одно, так и другое выступает по отношению к непосредственно изучаемому объекту не как теоретическое предметное знание, а как методологическое или даже методическое. Обязательным элементом такого движения является сопоставление имеющейся модели изучаемого объекта с моделями уже изученных объектов, а новых проблем, встающих относительно этого объекта, — с теми проблемами, которые решались для других объектов (для этого, конечно, сами проблемы должны быть представлены в достаточно расчлененном виде). В наглядном виде складывающиеся при этом отношения изображены на схеме 13.
Если результаты сопоставления указывают на сходство проблем и объектов — уже изученного и изучаемого, то мы можем перенести на новый объект те схемы расчленения и анализа, которые были разработаны или применены при работе с изученным объектом. Характерно, что модель объекта выступает по функции как сам объект. Она соотносится с различными средствами и методами анализа и при этом как бы «поворачивается» разными сторонами и с нее «снимают» разные проекции, подобно тому как их раньше «снимали» с самого объекта. Однако есть и существенное отличие от того, что делалось раньше, так как мы уже знаем структуру модели и потому при каждом «повороте» сами задаем те ее составляющие, которые будут отображены в соответствующей проекции. Итак, сопоставление модели объекта с проблемами и соответствующими им средствами анализа может проводиться как расчленение модели на структурные компоненты. Кроме того, так как нам известна структура модели и мы задаем ей строго определенные процессы и механизмы жизни, появляется возможность определить ту последовательность, в которой должны вычленяться разные компоненты модели, чтобы можно было правильно понять каждый из них и получить систему знаний, с самого начала связанных между собой и описывающих объект в целом [Разин, Москаева, 1967]. Именно эту сторону дела — совокупность возможных предметов изучения и последовательность их рассмотрения — должна фиксировать методологическая план-карта исследований.
Построенная на основе структурной модели, план-карта относится затем к самому объекту и представляющему его эмпирическому материалу: она как бы переносит на них все те расчленения и связи, которые были получены на модели. Поэтому, подобно структурной модели, план-карта (как это и изображено на схеме 13) представляет собой особое изображение объекта, а вместе с тем и особый предмет в науке, со своими особыми принципами и методами построения и развертывания. Планкарта, по сути дела, тоже «конфигуратор», но с иной функцией и соответственно иным строением, нежели модель-конфигуратор. Это своеобразная блок-схема объекта. Если модель-конфигуратор должна представить объект как таковой, как единое целое, безотносительно к различным задачам его изучения, то план-карта, напротив, должна представлять объект разложенным на ряд предметов, причем само это разложение и способ связи составляющих его элементов определяются задачами, которые должны быть в данном случае решены. В этом смысле план-карта является уже не столько «изображением» объекта, сколько схемой или «программой», определяющей (регулирующей) деятельность исследователя.
Важно подчеркнуть, что эти два типа образования в системе науки тесно связаны. Структурная модель строится на основе существующих частных знаний и соответственно частных предметов исследования данного объекта и является по отношению к ним своеобразным «мета-предметом», охватывающим объект в целом. Но, поскольку он не может быть изучен сразу как целое, «в одном измерении», его необходимо расчленить на отдельные «узлы», образующие особые предметы исследования. Это новое расчленение, основанное на особом соотнесении структурной модели с вновь вставшими проблемами, и реализуется в план-карте. Следовательно, расчленение в план-карте не воспроизводит членения на прежние предметы изучения. Наоборот, оно обязательно должно быть новым, подчиняющимся логике развертывания новых предметов в соответствии с новыми задачами исследования.
Из описания тех процессов, в которых создается, а затем используется методологическая план-карта исследования, должно быть уже ясно, что каждому ее блоку будет соответствовать своя особая система формальных знаний. Она будет развертываться независимо от других систем, оформляя то содержание структурной модели объекта, которое «снято» в проекции соответствующего блока. Таким образом, теория объекта будет складываться из ряда независимых или зависимых друг от друга систем, но во всех случаях они с самого начала будут соотнесены друг с другом и связаны благодаря своему отношению к структурной модели объекта и план-карте исследований.
План-карта, фиксирующая предметы изучения, их последовательность и процедуры анализа в каждом предмете, является чрезвычайно эффективным методологическим средством, позволяющим организовать исследования в определенном направлении, подчинить их согласованному движению к единой цели.
РАЗВИТИЕ. УЧЕНИЕ. ИГРА
К анализу процессов решения задач[301]
1. Проводимая в настоящее время перестройка школы поставила перед педагогической наукой целый ряд новых исключительно важных задач. Одной из них является задача коренного улучшения методов обучения и воспитания детей.
Важность ее определяется, в частности, тем, что учебная программа новой школы, предусматривающая сочетание политехнических дисциплин с производительным трудом при сохранении гуманитарного образования, неизбежно связана с увеличением материала, подлежащего усвоению. Вместе с тем хорошо известно, что уже при прежней программе наблюдалась перегрузка школьников учебными занятиями. Вопрос о необходимости сужения программы не раз поднимался в нашей печати, но опыт показал, что ни один из существующих предметов не может быть выброшен или существенно сокращен. Теперь же к ним прибавились еще новые предметы.
Решение этого важного вопроса может заключаться только в изменении характера самого учебного процесса, в предельной рационализации его.
В качестве средства такой рационализации выдвигают дифференциацию и специализацию обучения на втором этапе образования. Это, без сомнения, правильная и вполне назревшая мера. Однако не менее важным и назревшим является переход к «активным» методам обучения и воспитания, которые позволили бы учащимся в более короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями. Это, на наш взгляд, является главным средством рационализации учебного процесса.
Одной из причин, почему существующие методы обучения приводят к перегрузке учащихся, является то, что они пока еще плохо используют скрытые возможности развития умственных способностей детей. Известно, что быстрое и прочное усвоение знаний, умение быстро найти правильное решение в новой производственной или жизненной обстановке во многом зависят от правильного воспитания внимания, памяти и, в особенности, мышления учащихся. Но существующие методы обучения почти не обеспечивают сознательной и систематической работы учителя по формированию этих психических деятельностей. При существующей практике обучения они складываются, как правило, стихийно. Новые методы, напротив, должны быть рассчитаны прежде всего на воспитание способностей учащихся, причем особое внимание при этом должно быть обращено на формирование у учащихся навыков самостоятельного умственного труда, умения самостоятельно планировать свою работу, анализировать ее состав, намечать этапы и т. п.
2. В школе одним из главных средств воспитания мыслительных способностей учащихся является решение учебных задач.
В настоящее время при построении отдельных учебных задач и определении порядка их расположения в учебниках и задачниках учитывают в основном только предметное содержание этих задач и усложнение содержания и, как правило, не учитывают сложности тех действий, которые учащийся должен проделать, чтобы решить задачу. Между тем главным фактором, определяющим развитие мыслительных способностей в ходе решения задач, являются именно характер и структура той мыслительной деятельности, которую осуществляет учащийся, и последовательность усложнения этой деятельности в ходе обучения. Поэтому для построения рациональной системы обучения, формирующей у учащихся мыслительные способности, необходимо осуществить широкий круг логических и психологических исследований структуры мыслительной деятельности, а также условий и закономерностей ее формирования. В частности, необходимо проанализировать с точки зрения состава и структуры деятельности процессы решения разнообразных практически-познавательных задач и дать основанную на результатах этого анализа классификацию учебных задач.
3. Подобно всем другим мыслительным процессам, процессы решения задач могут рассматриваться в двух хотя и теснейшим образом связанных друге другом, но тем не менее существенно различных планах:
А. По своему объективному составу и структуре, которые только и могут обеспечить решение данной задачи и в этом отношении не зависят от субъективных средств отдельных индивидов; в этом плане мыслительный процесс решения задачи рассматривается как «трудовая норма».
Б. С точки зрения тех действий, которые могут и должны осуществить индивиды, чтобы, исходя из определенных знаний и навыков деятельности, в той или иной форме овладеть новым составом деятельности, новой «нормой»; действия второго плана определяют тот субъективный способ, каким отдельные индивиды в дальнейшем будут осуществлять трудовую мыслительную деятельность.
В настоящем сообщении мы будем рассматривать процессы решения задач только в первом плане — как «норму». Такой анализ является предварительным условием развертывания исследований процессов решения задач во втором плане; действительно, чтобы исследовать формирование каких-то знаний или мыслительных операций в онтогенезе, надо предварительно выяснить, что при этом формируется, что представляют собой уже сложившиеся, готовые знания и мыслительные операции. Мы исключим также практические действия и ограничимся процессами решения познавательных задач.
4. Решение всякой познавательной задачи является определенным мыслительным процессом. Поэтому исследование процессов решения задач во многих отношениях фактически совпадает с исследованием мыслительных процессов. Суть мыслительной деятельности, с нашей точки зрения [1957 b, с. 42; 1958 b*, I, {с. 590–592}; 1960 с*, I, {с. 1–3}], заключается в замещении исследуемых объектов другими объектами (эталонами и «посредниками») или знаками. Поэтому процессы решения задач правильнее всего классифицировать в соответствии с тем, чем в ходе решения замещается исследуемый объект и как он замещается.
На первом этапе анализа в этом направлении оказалось целесообразным подразделить все процессы решения задач на четыре основные группы:
(1) Для характеристики первой группы можно взять мыслительные операции, которые мы осуществляем, отвечая на вопросы: «Сколько предметов на этом столе?», «Какова длина этого стола?», «Равны ли по длине эти две веревки?» и т. п. Во всех этих случаях исследуемый объект (обозначим его знаком X) и вопрос относительно него заданы таким образом, что существует одна познавательная операция — счет, измерение, наложение и т. п. (обозначим их знаком А, читай «дельта»), — решающая задачу. Эта познавательная операция направлена непосредственно на объекты (и сама представляет собой особую модификацию замещения одних объектов другими), она выделяет в объектах определенное содержание и может рассматриваться как лежащая в одной плоскости с самими объектами (см. [1958 b*, V, {с. 618–620}; 1960 с*, I, {с. 1–3}]). Результат этой познавательной операции — определенное языковое выражение или знаковая форма (цифры, слова «равно» и «не равно» и т. п.) находится уже как бы в другой плоскости по отношению к объектам и самой операции: операция как бы исчезает и в этом языковом выражении, последнее замещает операцию и выделенное посредством нее содержание. Наглядно-схематически описанный процесс решения задачи может быть изображен формулой ХΔ↑(А), где вертикальная стрелка ↑ обозначает переход от объективного содержания, выявленного в плоскости объектов, к знаковой форме, лежащей уже в другой, более «высокой» плоскости.
(2) В ряде случаев объект и вопрос относительно него бывают заданы таким образом, что не существует одной познавательной операции, посредством которой можно было бы непосредственно решить задачу. Например, нельзя непосредственно сопоставить по длине два непередвигаемых объекта, расположенных в разных местах; нельзя измерить длину кривой линии прямолинейным эталоном и т. п. В этих случаях задачу решают, преобразуя исходный объект X к такому виду Y или замещая объект X другим объектом Y, таким, что к Y может быть применена какая-либо операция типа Δ, дающая знание, которое может рассматриваться как ответ на вопрос относительно X. При этом между X и Y устанавливается особое отношение замещения, которое получило название отношения эквивалентности [Ладенко, 1958 а]. Именно таким образом, к примеру, решал задачу Галилей, когда он приступил к изучению свободного падения тел, но не мог достаточно точно измерять время такого движения и заместил его движением шарика, скатывающегося по наклонной плоскости (см. [1958 а *]). Наглядно-схематически описанный процесс решения задачи может быть изображен формулой X = YΔ↑(А), где знак = (читай «эквивалентно») обозначает замещение исследуемого объекта X другим объектом Y. Для этого процесса характерно то, что как операция замещения, так и познавательная операция А осуществляются в плоскости объектов, а языковое выражение (А), фиксирующее содержание, выделенное посредством Δ в объекте Y, относится к объекту X (см. [Ладенко, 1958 а, с. 70]).
(3) В качестве примера процессов третьей группы можно взять определение вида вещества в соответствии с положением «Если вещество окрашивает лакмус в красный цвет, то это вещество есть кислота». Необходимым условием процессов этого вида являются предварительная выработка и использование в ходе самого решения задачи сложной знаковой формы (иначе — формального знания), которая в простейших случаях представляет собой отдельное выражение вида «Все (В) суть (А)» или систему таких выражений. В специальной серии сообщений [1958 b*] мы разобрали условия и закономерности формирования знаковых форм такого вида, относящихся к категории атрибутивного знания, и дали общую схему решений, основанных на использовании этих форм (см. [1958 b*, V]). Наглядно-символически эти процессы решения задач можно изобразить в формуле XΔ↑(B)λ(A), где (В) есть знаковое выражение, фиксирующее результат применения операции Δ к объекту X, а λ изображает «формальные преобразования» (осуществляемые в соответствии со связями и правилами формальной знаковой системы), приводящие выражения вида (В), (С), (О)… к виду (А), которое может рассматриваться как ответ на исходный вопрос относительно объекта X. В простейших случаях, когда знаковые системы имеют вид «Все (В) суть (А)», эти преобразования представляют собой просто переход по связи от (В) к (А) и приписывание объекту X свойства, зафиксированного в выражении (А), — процесс решения задачи может быть изображен в этом случае формулой ХΔ↑(B)→(A), — но в более сложных случаях эти преобразования включают в себя собственно формальные действия — «присоединение», «исключение» и т. п. (см. [1958 b*, V; {с. 617–618}]).
Другими примерами процессов этой же группы будут: сложение нескольких чисел, дающее ответ на вопрос о количестве объектов в совокупности, части которой находятся в разных местах; вычисление длины окружности на основании формулы l = 2πr, после того как измерена длина радиуса этой окружности; использование уравнения химической реакции для ответа на вопрос, какие вещества получатся, если мы приведем во взаимодействие другие определенные вещества, и т. п. Генетически все эти процессы значительно сложнее, чем процессы, основывающиеся на знаковой форме атрибутивного вида, и, в частности, возникают как сокращения комбинаций из процессов решения вида (2) и (3), но с функционарной точки зрения, т. е. с точки зрения способа непосредственного осуществления, они ничем принципиально не отличаются от процессов, разобранных выше. Для всех процессов этой группы характерно, что большая часть составляющей их деятельности лежит в плоскости знаковой формы (есть, следовательно, деятельность не с объектами, а со знаковыми выражениями) и имеет чисто формальный характер.
(4) К четвертой группе мы относим все те случаи, когда объект и вопрос относительно него заданы таким образом, что для решения задачи нужно осуществить сложную комбинацию замещений исходного объекта различными знаковыми формами (часто также и одних знаковых форм другими) и преобразований (формальных и содержательных) этих знаковых форм, т. е. процессы, представляющие собой комбинации процессов вида (2) и (3). Характерными примерами процессов такого вида являются решения геометрических задач. Важно специально отметить, что на определенных этапах решения этих задач знаковые формы, замещающие исходный объект, рассматриваются как объекты особого рода и к ним применяется особая деятельность, напоминающая содержательные преобразования собственно объектов, рассмотренные под п. (2). Специфику подобных процессов решения задач составляют каждый раз порядок и способы комбинирования элементарных процессов вида (2) и (3). Соответственно мы получаем для изображения этих процессов решения задач различные формулы. Например, процесс решения геометрической задачи, при котором исходная фигура включается в более сложную фигуру и получает в связи с этим новые определения, позволяющие в соответствии с уже имеющейся сложной знаковой формой приписать этой фигуре (а вместе с тем и объекту X) новое свойство, может быть изображен в формуле:
где (β) есть геометрическая фигура, замещающая на основе операции Δ исходный объект, (α) — эта же фигура, получившая новое определение, = — знак эквивалентного замещения, Δ — операция, выделяющая в (α) свойство, которое фиксируется в знаке (В), а (А) — знаковое выражение свойства, которое в соответствии с формальным знанием (В) —> (А) приписывается (α), затем (β) и, наконец, самому X. Важно также отметить, что часто повторяющиеся комбинации элементарных процессов закрепляются в виде определенных строго фиксированных приемов; в качестве примера можно указать на прием среднего пропорционального в геометрии.
5. Необходимым условием решения задач вида (2), (3) и (4) являются умения оперировать (содержательно и формально) со знаковой формой. Эти способы оперирования нередко бывают очень сложными; они, как правило, отделяются от тех задач, для решения которых возникли, и выделяются в особые научно-теоретические задачи. Геометрия, например, возникла из оперирования с вещами окружающего мира и для решения сугубо практических задач, но как наука она имеет дело исключительно с чертежами фигур и другими знаками и отвечает на вопросы, поставленные относительно них; подобно этому арифметика имеет дело только с числами, алгебра — с величинами, выраженными в буквах, и т. п. По отношению к исходным эти новые задачи являются вспомогательными, вторичными, или, как говорят, задачами других, «более высоких» уровней. Они имеют смысл и значение лишь как средства решения исходных задач, но это не мешает им обособляться и существовать относительно самостоятельно в виде структур, соответствующих перечисленным выше. Таким образом, складывается сложная иерархия относительно самостоятельных и в то же время тесно связанных друг с другом познавательных задач и способов их решения (см. [Ладенко, 1958 b; 1959]). Важно специально отметить, что конкретный анализ различных уровней этой системы дает, по-видимому, возможность классифицировать и все разнообразные виды знаковых форм и действий с ними в соответствии с тем местом, которое они занимают в этой иерархии задач.
6. Изложенные выше соображения позволяют сделать важный дидактический вывод. Если мы ставим задачу обеспечить формирование у учащихся необходимого комплекса мыслительных способностей, то система учебных задач должна строиться в соответствии с изложенными выше принципами иерархии: она должна отражать как относительную самостоятельность каждой познавательной задачи, так и их тесную связь и зависимость друг от друга. В частности, задачи этой системы должны располагаться в последовательности, соответствующей сложности процессов их решения. Сами процессы решения каждой задачи должны: а) вводиться как средство и условие решения другой задачи, нижележащего уровня, б) отрабатываться как процесс решения особой задачи, безотносительно к задаче нижележащего уровня, в) включаться как особый целостный процесс в решение задачи нижележащего уровня. Только такой порядок отработки учебных задач может обеспечить сознательное усвоение способов их решения и формирование соответствующих мыслительных способностей.
Игра и «детское общество»[302]
Как нам лучше организовать нравственное и общественное воспитание детей дошкольного возраста? Поиск наилучших форм организации воспитания должен идти по самым различным линиям, мы должны использовать для решения этой задачи все, что только можно. И, конечно, в первую очередь игру, ведь она занимает такое важное место во всей жизни детей.
Но здесь перед нами сразу же встает ряд вопросов. Что такое общественные отношения? Где они складываются и существуют? Как будет влиять на их образование игра? И какой должна быть она сама, чтобы дать детям общественное и нравственное воспитание? Можно ли, в частности, полагаться на традиционные, привычные формы и методы организации игры? Ответить на все эти вопросы может только специальное научное исследование.
* * *
Основной принцип подхода к проблеме сформулирован в докладе А. П. Усовой: если мы хотим использовать игру для воспитания общественных качеств, надо прежде всего выяснить, в какой мере она создает «детское общество».
Но что такое «детское общество»? Какой смысл мы вкладываем в эти слова? Что именно можно называть «детским обществом»?
Эти вопросы отнюдь не тривиальны. Представим себе, что педагог организовал какую-то игру по правилам и в ней участвует группа детей. Предположим, что все дети тотчас же уловили общий замысел игры, распределили роли, усвоили все правила и четко, как говорится «без сучка и задоринки», выполняют их. При этом в ходе игры между детьми устанавливаются какие-то отношения, можно сказать, что они все связаны ими и образуют организованную группу. Но можно ли говорить здесь о «детском обществе»?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать, в чем специфический признак «общества», что отличает его, к примеру, от «группы» или «команды». И у нас, по-видимому, есть только один путь, чтобы выяснить это, — мы должны обратиться к анализу понятия «общество».
Это не значит исследовать человеческое общество, закономерности его «жизни» и развития. Нет. Нам нужно анализировать само понятие «общество», чтобы выделить его отличительный признак.
И, конечно, тот факт, что мы обращаемся здесь к анализу понятия «общество», не означает, что мы отождествляем «детское общество» с «большим» человеческим обществом или пытаемся установить между тем и другим глубокие параллели. Нет, употребление выражения «детское общество» во многом условно. Но ведь мы вводим его и интуитивно чувствуем, что за этим лежит какая-то доля истины, какая-то реальная особенность детской жизни. Поэтому обращение к анализу понятия «общество» кажется нам правомерным.
* * *
Являются ли «обществом» завод или фабрика? Конечно, ответ может быть только один: нет. Но почему так? Ведь любой современный завод и по количеству людей, и по разнообразию отношений между ними значительно сложнее, чем маленькие деревенские поселения, которые мы называем «обществами». В чем различие?
На этот вопрос можно ответить, построив довольно простую структурную модель. Мы изобразим ее схематически.
Представим себе какую-то производственную структуру — мастерскую, фабрику или завод c определенными средствами труда, материалами, с известным числом мест для людей, с какими-то правилами их деятельности. Эта структура, очевидно, требует и определенных отношений между людьми в процессе производства: там должен быть один общий руководитель, должны быть руководители групп, должны быть исполнители; между исполнителями тоже будут определенные отношения, так как все они участвуют в производстве общего продукта. Пусть на схеме производственная структура со всеми своими вещественными элементами, местами для людей, связями и отношениями будет изображаться блоком 1.
Представим себе далее, что кроме блока производства есть еще блок быта и потребления с определенной совокупностью условий, вещей, продуктов питания, средств развлечения и т. п. У него также свое особое строение, которое определяется возможностями распределения благ между людьми. На схеме он представлен блоком 2.
Наконец, добавим в схему еще один блок, изображающий то, что обычно называют «духовной культурой». Ее элементы усваиваются людьми в ходе обучения и воспитания, и, таким образом, происходит формирование их личности, их общее психическое развитие. На схеме это будет блок 3. По отношению к нему каждый человек тоже занимает строго определенное «место», т. е. владеет определенными элементами общечеловеческой культуры.
Ни один из этих блоков, взятый отдельно от других, не дает «общества». Но и вместе они не образуют еще «общества»: в схеме нет людей. Возникает вопрос: куда мы должны их поместить?
В каждой из этих структур, образно говоря, есть «места» для людей; люди на какой-то промежуток времени подключаются к каждой из них, «занимают» эти места, но только на время, а затем покидают их и «переходят» в другие структуры. Значит, жизнь людей охватывает все эти структуры, но не сводится к ним, она проходит еще и вне их, во всяком случае в моменты переходов. Поэтому, отвлекаясь от пространственно-временных условий жизни людей, но точно передавая логику отношения (по крайней мере в первом приближении), мы должны поместить людей в особой сфере, лежащей как бы между этими тремя блоками. Это — особое «пространство» человеческой жизни, в котором происходит «свободное» движение людей; в нем они сталкиваются и взаимодействуют как независимые личности, в нем они относятся друг к другу по поводу производства, потребления и культуры. Это — сфера особых, личных и «личностных» отношений. Именно она объединяет три других блока системы в одно целое и образует область, без которой не может быть «общества». Именно отсюда три других блока «черпают» человеческий материал, и сюда же они возвращают его «использованным» или обогащенным в зависимости от социально-экономической структуры сфер производства, потребления и обучения.[303]
Изображенные на схеме блоки ни равнозначны, ни независимы друг от друга. Отношение каждого человека к сфере потребления определяется его «местом» в сфере производства. Вместе с тем отношение к сфере производства определяется, с одной стороны, его «местом» в системе культуры (просто говоря, «уровнем» его культурного развития), а с другой — часто его «местом» в системе потребления. Наконец, отношение к сфере культуры (т. е. к системе образования) нередко зависит от «места» в структурах производства и потребления. Все эти отношения накладываются друг на друга, взаимодействуют и, кроме того, преобразуются в новую сеть отношений уже непосредственно между людьми, определяющих качества личности и «личностную» позицию каждого человека.
Уже на их основе строятся реальные личные отношения.
Таким образом, «обществом» может быть названа только такая организация людей, в которой кроме структур производства, потребления и культуры существует еще сфера особых отношений между людьми, отношений, возникающих прежде всего по поводу производства, потребления и культуры и принимающих форму социально-классовых и «личностных» отношений. Выделяя любой из первых трех блоков — производства, потребления или культуры, мы можем говорить об отношениях, которые определяются только их собственной структурой (например, об организационных отношениях и нормах поведения в производстве, о производственной дисциплине или о нормах поведения в быту и при распределении, о бытовой дисциплине). Но мы не можем говорить об «общественных отношениях», «общественных качествах» и «общественной дисциплине»: все это имеет место в совершенно другой сфере — «личностных» или социально-классовых отношении.
* * *
Этот вывод, полученный из анализа понятия «общество», может быть перенесен уже непосредственно на жизнь детей. Конечно, наивным и неправильным было бы искать у детей «общество» с точно такой же структурой, как изображенная на схеме. У детей не может быть «общества» в точном смысле этого слова, «общества», живущего независимо от влияния взрослых. Взрослые, и в частности воспитатели, постоянно вмешиваются в жизнь детей, организуют и перестраивают ее по своему усмотрению, в соответствии со своими задачами. И так всегда должно быть. Но вопрос в том, во что они вмешиваются и как вмешиваются.
Часто вмешиваются так, что при этом разрушается и даже совсем исключается сфера личностных отношений между детьми, их самодеятельность в установлении и построении этих отношений. Вместо самодеятельности детей и их отношений друг к другу мы получаем сферу «парных отношений» воспитатель — ребенок, в которой очень мало остается от собственно общественных отношений (ибо нет равенства возможностей), в которой у ребенка не может быть свободы в построении своих отношений и, следовательно, не могут развиваться общественные и истинно нравственные качества.
Значит, для формирования у детей общественных качеств и нравственного самосознания нужно создавать соответствующие условия, организовывать и постоянно сохранять сферу их «личностных» отношений, стимулировать самодеятельность детей, «свободу» в установлении отношений друг с другом.
Но это и будет созданием «общества» детей, «детского общества» в точном соответствии со структурой разобранного понятия.
И такой вывод определяет как работу воспитателя, так и направление дальнейших исследований. Необходимо ответить на вопрос, как можно и нужно вмешиваться в жизнь детей и активно организовывать ее, чтобы при этом не разрушалась детская самодеятельность в сфере «личностных» отношений, чтобы не разрушалось «детское общество». Где и как это возможно?
Именно здесь приходится выделить на передний план игру и подчеркнуть ее особую роль в воспитательном процессе. И в других формах жизни детей — в занятиях, в труде, в быту — идет общественная жизнь и могут устанавливаться «личностные» отношения между детьми, но очень ограниченно и лишь в той мере, в какой они уже сложились и отработаны. Пока дети не воспитаны, не выработали форм и способов общественного поведения, конфликты между ними в сфере «личностных» отношений отрицательно влияют на всю их деятельность, подчас совершенно ее разрушают. Именно поэтому и в сфере учебной деятельности, и в сфере детского самообслуживания свобода детей в течение длительных промежутков времени недопустима, мы вынуждены непременно помогать им и направлять их, переходя к «парным отношениям» воспитатель — ребенок. Но тогда, как уже говорилось, мы разрушаем «детское общество» и делаем невозможным развитие общественных и нравственных качеств.
Где же тогда могут и должны воспитываться общественные качества?
А. П. Усова подчеркивает, что наибольшие возможности формирования «детского общества» обеспечиваются именно игровой деятельностью детей. К этому, наверное, нужно добавить, что воспитатели, и вообще взрослые, могут допустить эту свободу и самодеятельность детей в игре, потому что любой ее результат, любое отклонение от намеченной нормы не принесут тех разрушительных последствий, какие они могли бы принести в учебной деятельности или в самообслуживании детей.
Опираясь на эти возможности игры, целесообразно использовать ее как форму организации жизни детей, как средство создания «детского общества».
Но где именно в этой форме будут лежать и складываться собственно общественные отношения?
Попробуем взглянуть на игру с точки зрения приведенной выше схемы «общества». Какому блоку в ней она соответствует?
На наш взгляд, ее нужно поставить в соответствие прежде всего с блоком производства. Хотя в игре нет того «жизненного» продукта, который всегда должен быть получен в производственной деятельности, но это отличие ее имеет значение только для взрослого и общества в целом, а для ребенка остается незначимым. Вместе с тем игра, подобно производственной деятельности, имеет строго определенную структуру деятельности и отношений, имеет систему определенных «мест», или «ролей», и чаще всего задается детям извне воспитателями, взрослыми, старшими детьми. Есть отношения — их нужно разбирать особо, — в которых игра подобна учебной деятельности или блоку потребления. Но она никогда не может быть поставлена в соответствие сфере личностных отношений. И это главное, что важно подчеркнуть.
Поэтому, выделив в качестве предмета изучения игру как таковую, ограничив себя сюжетом игры, ее правилами и игровыми отношениями, мы оставим в стороне как раз то, что называется «детским обществом». Игра сама по себе, хотя она и организует детей в группы со строго определенной структурой, еще не дает «детского общества». Она может служить основанием для организации «детского общества», но оно складывается не в ней самой, а вокруг нее, по поводу нее — при выборе игры, при составлении и согласовании общего замысла, при распределении игровых ролей, в конфликтах из-за несоблюдения замысла или правил и т. д. Таким образом, в «детском обществе», складывающемся на основе какой-то игры, есть две разнородные части. Одна часть — структура самой игры, а вместе с тем и система отношений между детьми, задаваемая ее замыслом, сюжетом, правилами и т. д. Другая часть — отношения по поводу игры, т. е. распределение или «захват» ролей, контроль за соблюдением правил и т. п.
Каждая из этих частей «детского общества» живет по своим особым законам, каждая требует особых качеств личности и воспитывает особые качества.
Возьмем, к примеру, какую-либо игру по правилам. Чтобы участвовать в ней, ребенок должен понимать общий замысел игры, уметь усваивать правила и строить в соответствии с ними свою деятельность, уметь соблюдать отношения с другими детьми, которые заданы игровой деятельностью, и т. п. Все это нужно для самой игры. Но это не может помочь в установлении нормальных взаимоотношений с другими детьми по поводу игры, например не может обеспечить взаимопомощи, мирного урегулирования спорных вопросов при распределении ролей и в других менее заметных, но не менее важных отношениях. Там понадобятся совершенно иные умения и навыки.
Понимание этой стороны дела правильно организует педагогические усилия. В зависимости от того, что педагог хочет воспитать в детях, он будет выдвигать в центр внимания и организовывать ту или другую систему взаимоотношений. Если хотят воспитать у детей умение подчиняться в дальнейшем каким-то производственным правилам, хотят, чтобы дети поняли и усвоили значение подобных правил в совместной деятельности, невозможность достигнуть результата без их соблюдения, то на первый план, естественно, выдвигаются сама игра, ее сюжет или правила, усвоение правил, влияние нарушений правил на результаты и т. п. Если же нас интересует воспитание общественных качеств личности, воспитание нравственного сознания ребенка, то на передний план, наоборот, выдвинется все то, что происходит между детьми вокруг игры, — функции инициаторов игры, столкновение различных замыслов, борьба за наиболее «интересные» роли или, напротив, безразличие к этим ролям, уступки друг другу или крайняя неуступчивость, основания, позволяющие в конце концов согласовать претензии детей, или, напротив, причины полного разрушения совместной деятельности.
* * *
Уже из одного этого различения следует вывод, важный как для практики воспитания, так и для научных исследований. Если мы подходим к игре с точки зрения использования ее в целях общественного и нравственного воспитания детей, если мы рассматриваем ее как средство организации детского общества, то для нас во многих отношениях безразличными оказываются сам сюжет игры или правила и усвоение их детьми. Не через сюжет и не через правила игры воспитываются «общественность» детей и их нравственные качества, хотя и то и другое необходимо для организации игры и как-то участвует в воспитательном процессе. Структура игры, ее сюжет и правила оказываются здесь внешними образованиями, не влияющими принципиально на развертывание «личностных» взаимоотношений между детьми. Это утверждение нельзя понимать так, что сюжет игры вообще не должен учитываться в подобных исследованиях. Часто он оказывается значимым и важным, например, как форма проявления личностных отношений (см. по этому поводу статью Р. Г. Надежиной), но это уже совсем иной аспект исследования и другое, по сути дела, вторичное явление. А если мы анализируем взаимоотношения детей по поводу игры, то конкретное содержание сюжета и правил оказывается действительно несущественным; оно должно быть учтено лишь для оценки значимости различных ролей или «мест» для детей.
Но это означает, что принцип, выдвинутый сейчас в качестве важнейшего основания педагогической работы, — использовать игру для создания «детского общества», для воспитания общественных и нравственных качеств у детей — дает новое направление педагогическим исследованиям, принципиально отличное от тех исследований игры как таковой (т. е. сюжета, правил и т. п.) и ее роли в воспитании детей, которые проводились раньше. Чтобы удовлетворить этому принципу, нужно переместить центр тяжести исследований с сюжета игры на отношения, которые складываются у детей по поводу игры.
Какие же проблемы стоят в этой новой сфере исследований? Необходимо выяснить, как складываются взаимоотношения детей по поводу игры, как они «протекают», что управляет столкновениями детских интересов и претензий, какие факторы нормируют поведение детей в этих конфликтах.
Все эти вопросы не возникают, когда игра организована и непрерывно контролируется воспитателем. Он задумывает игру, он распределяет роли и расставляет детей по местам, он решает детские споры и наказывает провинившихся. Внешне все выглядит хорошо. Но нет ни «детского общества», ни воспитания общественных и нравственных качеств.
Чтобы создать «детское общество», воспитатель должен отойти «в сторону» и дать детям свободу. И тотчас же конфликты: сначала по вопросу, во что играть, потом — кто что будет делать (какую роль займет), затем — в какой последовательности должны идти игровые действия, и, наконец, недовольные течением игры, если все же она началась, покидают ее в самом разгаре.
Что должно прийти на помощь воспитателю, чтобы игра могла быть организована и протекала нормально без его непосредственного участия? Нелепо было бы думать, что здесь можно обойтись без столкновений и конфликтов. Они должны быть, они оправданны, и без них не может быть воспитания. Педагог должен добиваться не устранения конфликтов, а правильного их разрешения в соответствии с принципами и нормами человеческих общественных отношений. При этом на что он должен опираться? Одного понимания замысла игры и знания правил, как мы уже говорили, здесь недостаточно. На помощь приходит вся та система разнообразных принципов, норм поведения и чувств, которая называется товарищескими и дружескими отношениями, уважением и любовью.
Возьмем простой пример. Группа детей решила начать игру, и двое претендуют на одну и ту же роль. Как можно разрешить их конфликт? На каком основании можно предпочесть одного ребенка другому? Если в дело вмешается воспитатель и без всяких оснований, просто так, отдаст или поручит роль одному из детей, это будет безнравственным. Справедливое решение конфликта предполагает какое-то основание, и оно должно быть принято детьми.
Основания могут быть различными. При согласовании замысла игры им может быть степень соответствия его окружающей жизни, деятельности и отношениям взрослых. Кстати, в этой связи, наверное, и идет формирование и развитие игровых сюжетов. При распределении «интересных» ролей основанием может служить какой-либо абстрактный нравственный принцип (например, принцип «по очереди» — сегодня ты, а завтра эту роль возьму я), или умение (соответственно неумение) ребенка совершать действия, необходимые для данной роли, или дружеские отношения между детьми. Последние особенно ярко демонстрируют природу этих дополнительных оснований, необходимых для разрешения конфликтов между детьми. Они являются именно тем, что заставляет одного ребенка уступить другому интересную роль, которую он никогда не уступил бы, если бы дети не были связаны дружескими отношениями. Следовательно, дружеские отношения — это то, что заставляет ребенка особым образом вести себя в этом конфликте — не так, как он вел бы себя, если бы не было этой добавки. Но точно в такой же функции выступают и все другие основания — собственно моральные нормы и принципы.
* * *
Таким образом, мы выяснили функцию общественных и нравственных норм и соответствующих им качеств личности; они необходимы для регулирования отношений детей по поводу игры — при согласовании замысла, распределении ролей и т. п. Когда это осуществлено и начинается собственно игра в соответствии с выбранным сюжетом и правилами, все эти нормы и качества становятся ненужными: в сфере игры единственным управляющим принципом является сам сюжет. И так продолжается до тех пор, пока не нарушена сюжетная логика игры. А как только она нарушена, дети тотчас же выпадают из структуры игры и оказываются в сфере отношений по поводу игры; здесь, естественно, опять начинают действовать общественные и нравственные нормы.
Но если все это действительно так, то было бы бессмысленным пытаться воспитывать общественные и нравственные качества детей, опираясь на сюжет и правила самой игры. Воспитывать их можно только в сфере отношений по поводу игры, ибо только здесь ребенок может почувствовать необходимость в них. Но это означает и следующее — сами общественные и нравственные нормы могут задаваться детям в качестве особых содержаний усвоения тоже только в ситуациях, возникающих по поводу игры, именно в конфликтных ситуациях, ибо только здесь они могут быть использованы в качестве средств разрешения конфликта и только здесь ребенок может увидеть и понять их роль в качестве таких средств.
Здесь еще раз отчетливо выступает расхождение между сюжетом игры и содержанием, которое должно быть усвоено детьми в ситуациях воспитания. Игровой сюжет оказывается чем-то внешним и несущественным, а главным является то, что развертывается вокруг игры, — конфликты между детьми и средства их разрешения, предлагаемые воспитателями.
Нужно понять второстепенную роль сюжета в решении этого круга педагогических проблем. Когда мы поймем это, то сможем разрешить действительно значимые проблемы общественного и нравственного воспитания дошкольников в игре.
Развитие детей и проблемы организации нравственного воспитания[304]
1. В последнее время постоянно отмечается, и совершенно справедливо, что процессы воспитания детей, в частности процессы нравственного воспитания, изучаются значительно меньше, чем процессы обучения мышлению и производственной деятельности. Отсюда естественное стремление — восполнить этот пробел.
2. Но точное формулирование обусловленных этим задач для педагогического исследования затруднено той неразберихой, которая существует сейчас в самих понятиях обучения и воспитания.
С одной стороны, сохраняется традиционное понимание отношения между воспитанием и обучением: «воспитание» рассматривается как более общее и исходное понятие, оно вводится через характеристику своих продуктов — качеств личности, которые мы формируем у ребенка. Так как умения решать задачи различного рода, анализировать окружающие обстоятельства, рассуждать и т. п. во многом определяют характер личности человека, то обучение всему этому тоже, естественно, выступает как процесс воспитания. Поэтому Гербарт и определял обучение как средство воспитания. И очень часто мы пользуемся именно таким пониманием отношения между ними.
С другой стороны, нередко, говоря о «воспитании», подразумевают нравственное воспитание и тогда противопоставляют его обучению (как обучению мышлению или производственной деятельности). Обучение, думают в этом случае, делает интеллектуальные, а воспитание — нравственные качества личности. При таком понимании, очевидно, обучение уже не может быть средством воспитания; обучение и воспитание рассматриваются как однопорядковые процессы, лежащие как бы наряду друг с другом.
Два этих понимания употребляются очень часто вместе, смешиваясь друг с другом, и создают ту путаницу, которая крайне затрудняет научное общение и продуктивный теоретический анализ.
В дальнейшем мы будем говорить о «нравственном воспитании» и рассматривать его как процесс, идущий наряду с производственным и интеллектуальным обучением.
3. Сравнение механизмов интеллектуального обучения и нравственного воспитания нередко приводит к тезису, что в воспитании нет процессов усвоения знаний и норм деятельности, что формирование нравственных качеств личности идет путем развития, подчиняющегося принципиально иным законам, нежели формирование интеллекта ребенка в условиях обучения. При доказательстве этого тезиса ссылаются обычно на неэффективность вербальных методов воспитания.
На наш взгляд, нет и не может быть ничего вреднее для дела воспитания подрастающих поколений и для развертывания педагогических исследований, чем этот тезис.
Его нельзя отбросить просто так, ибо убеждение в принципиальном различии обучения и воспитания возникает из многочисленных эмпирических оснований: прежде всего и больше всего оно питается тем, что все попытки трактовать и изображать ситуации и процессы воспитания как точную копию ситуаций и процессов обучения, скажем, математическим или физическим знаниям и умениям, естественно, приводили к неудачам. Ситуации и процессы нравственного воспитания ребенка действительно во многом отличны от процессов и ситуаций интеллектуального обучения. Но в чем? Именно этот вопрос требует обсуждения.
4. Главное как в обучении, так и в воспитании — это создание таких ситуаций, в которых ребенок начинает брать что-то из выработанных человечеством средств деятельности, усваивает их. А если такие ситуации не созданы, то, как показывают многочисленные эксперименты и наблюдения, вся работа учителя или воспитателя — показ образцов деятельности, сообщение знаний и инструкций и т. п. — идет попусту, не воспринимается, не учитывается ребенком. В этом отношении обучение и воспитание совершенно одинаковы. Но ситуации обучения мы уже научились создавать, а ситуации воспитания еще нет и недостаточно хорошо представляем себе, в чем их специфические особенности.
5. Чтобы создать ситуацию обучения, надо задать «разрыв» в предметно-практической или мыслительной деятельности человека.
Когда перед ребенком ставят какую-либо практическую или мыслительную задачу, то он может принять ее и начнет решать только в том случае, если у него для этого есть необходимые средства. Но в ряде случаев оказывается, что средств достаточно, чтобы принять саму задачу, но недостаточно, чтобы решить ее. Например, ребенок принимает задачу определить величину частичной совокупности по известным значениям целого и другой части, но не может решить ее, если она задана в косвенной форме. Именно здесь он оказывается в ситуации разрыва, хотя часто, особенно если мы имеем дело с маленькими детьми, не понимает этого, и требуется еще очень большая работа, чтобы это было осознано.
Когда разрыв возник и осознан, начинается второй этап работы, он может идти пo-разному в зависимости от возраста ребенка. В одном случае учитель приходит на помощь ребенку и они, действуя совместно, решают задачу за счет новых средств, добавленных учителем; при этом учитель старается выделить и продемонстрировать ребенку те дополнительные средства, которые он ввел, и построенные им новые процедуры деятельности; в дальнейшем, на третьем этапе работы, ребенок должен будет «взять» или усвоить их. В другом случае учитель сразу задает необходимые для решения задачи средства в качестве содержаний усвоения. Если ребенок может, то он берет их, усваивает, а затем строит с их помощью нужный ему процесс решения. Но это могут делать только очень уж развитые дети, достаточно подготовленные к самообразованию. Поэтому значительно больший интерес для анализа и сравнения представляет первый случай, когда учитель помогает ребенку решить задачу и при этом вводит дополнительные средства так, что получается новый процесс решения.
Но само по себе это не приводит еще ни к какому усвоению новых средств, ни к какому развитию ребенка. Чтобы осуществилось такое усвоение и развитие, учитель должен поставить перед ребенком вторую, вспомогательную задачу, решение которой вело бы к выделению средств решения задачи именно как средств и к усвоению их в этом качестве.
Эти задачи могут быть оформлены по-разному. В некоторых случаях ставится задача перенести решение, построенное ребенком с помощью учителя, в новые условия. Тогда объектом деятельности и анализа становится само решение, в нем выделяются операции, знаковые средства, особенности условий, сама задача и т. п. (ср. исследования Н. Г. Алексеева). В других случаях ребенка просят выделить то новое, что было внесено учителем и что не мог осуществить он сам, и т. д. Но во всех случаях должна быть поставлена вторая задача, специально на усвоение, и должна быть осуществлена вторая деятельность, по выделению средств как таковых и усвоению их. Образно дело можно представить себе так, что вторая задача и деятельность расположены как бы «перпендикулярно» к первой задаче и деятельности.
Нам представляется, что только при соблюдении этих условий можно осуществлять эффективное обучение детей производственной и мыслительной деятельности.
6. Но точно такая же в принципе схема может быть реализована и при нравственном воспитании детей. Другими по типу будут лишь разрывы в деятельности и средства их преодоления.
Сама человеческая деятельность имеет как бы несколько «слоев». Это всегда коллективная и социализированная деятельность, и поэтому в ней кроме отношений к объектам и процедур, направленных на объекты, имеются еще взаимоотношения между людьми. Последние играют не менее важную роль в деятельности, чем сами отношения к объектам, наверное, даже большую. Поэтому овладение человеческой деятельностью предполагает обязательно усвоение также всех тех средств, которые необходимы для установления нормальных общественных взаимоотношений между людьми. Усвоение этих средств ведет к развитию специфических нравственно-этических качеств личности.
Но, чтобы началось и происходило усвоение этих специфических средств, обеспечивающих общественную деятельность, установление нормальных общественных взаимоотношений между людьми, нужны, во-первых, совершенно особые ситуации разрывов деятельности, а во-вторых, особые формы подачи или задания самих этих средств. Но ни то, ни другое фактически до сих пор не выделено и не описано педагогической наукой.
Для того чтобы возникла ситуация, в которой может осуществляться нравственное воспитание, нужно создать разрыв в той части деятельности, которая складывается из взаимоотношений между людьми, нужно создать невозможность осуществления деятельности из-за ненормальных взаимоотношений между участниками ее.
В последнее время во многих педагогических работах высказывается отрицательное отношение к воспитанию методом «конфликтов». Считается, что педагог-воспитатель не должен их создавать и не должен ими пользоваться в воспитательных целях. Эта позиция неоправданна. «Конфликты», или разрывы, во взаимоотношениях между детьми постоянно возникают. И задача воспитателя состоит совсем не в том, чтобы стараться избежать их, а в том, чтобы использовать их в целях воспитания. Больше того, наверное, можно сказать, что без этих конфликтов воспитание вообще невозможно. Единственный результат указанной педагогической доктрины избегания конфликтов состоит в том, что педагог-воспитатель теряет возможность управлять детскими конфликтами и действительно воспитывать детей. Думается, что вербализм в воспитании и есть следствие этой доктрины. А если мы хотим воспитывать реально, то нам, очевидно, придется руководить конфликтами, а это значит также — и создавать условия для них.
7. Второй важнейший момент в ситуациях воспитания — это создание таких условий и такая постановка дополнительной задачи, чтобы предметом деятельности и сознания детей становились их взаимоотношения с другими детьми и воспитателями. В настоящее время существует ряд практически выработанных приемов, с помощью которых достигается такое изменение предмета деятельности и сознания (С. Г. Якобсон, Н. Ф. Прокина и др.). Недостаток их, на наш взгляд, состоит в том, что при этом ребенок всегда ставится в особую позицию в коллективе (например, наблюдающего за поведением других детей), следовательно, выходит из разрыва, в котором он раньше находился или мог находиться, и не может осознать самого разрыва и необходимости новых средств для его преодоления. Новая действительность взаимоотношений оказывается чем-то «внешним», противостоящим ему.
Поэтому одна из важнейших задач как в организации самих процессов воспитания, так и в исследовании их состоит, на наш взгляд, в том, чтобы создать приемы, помогающие детям осознавать те разрывы во взаимоотношениях, в которые они попадают в условиях коллективной деятельности, и их характер.
8. Третий важнейший момент в ситуациях воспитания — это задание норм правильных общественных взаимоотношений и средств, обеспечивающих их установление. В ситуациях обучения эта часть процесса обеспечивалась учителем: он включался в деятельность ребенка, помогал ему, вводил собственные средства и таким путем создавал необходимый процесс решения. В ситуациях воспитания это либо совсем невозможно, либо очень затруднено из-за того, что всякое включение воспитателя в совместную деятельность с детьми тотчас же меняет все взаимоотношения в группе или в коллективе, совершенно перестраивает их, создает по сути дела новые ситуации с новыми взаимоотношениями. Педагог здесь оказывается не внешним наблюдателем деятельности и не просто источником средств, а членом группы и участником коллективной деятельности.
Вместе с тем внутри группы его поведение выступает как нормативное и образцовое, как то, чему нужно подражать и следовать.
Таким образом, мы приходим к необходимости анализировать прежде всего ситуации деятельности детей совместно со взрослыми (в частности с педагогами), где последние выступают как носители средств и норм правильного нравственно-этического поведения. В дальнейшем это могут быть уже группы без взрослых, но обязательно с детьми, поведение которых может считаться образцовым. Здесь важно специально подчеркнуть, что само по себе наличие «положительного примера» еще не ведет к усвоению необходимых норм и средств установления взаимоотношений; для этого необходима ситуация разрыва, заставляющая детей сменить предмет деятельности и сознания, обратить внимание на сами взаимоотношения и средства их установления. Но и самого разрыва, добавленного к «положительному примеру», тоже еще недостаточно для усвоения средств нравственно-этического поведения: для этого они должны быть еще выделены ребенком в поведении взрослого именно как средства построения собственной деятельности или же каким-то образом представлены самим взрослым и взяты ребенком в качестве средств построения коллективной деятельности.
Важнейший недостаток современных педагогических исследований процессов воспитания, на наш взгляд, состоит в том, что до сих пор не выяснены формы репрезентации и задания норм и средств нравственно-этического поведения и не делается никаких шагов для решения этого вопроса.
9. Одно из необходимых направлений разработки проблем воспитания состоит в классификации тех разрывов во взаимоотношениях между людьми, которые могут возникать и возникают в условиях коллективной, социальной деятельности. По-видимому, каждому типу разрывов должны соответствовать свои особые средства преодоления или предотвращения их. В этом пункте педагогические исследования оказываются непосредственно зависимыми от успеха социолого-этических исследований.
В настоящее время мы ведем исследования типов разрывов взаимоотношений между детьми в условиях игры и пытаемся выделить те средства, которые необходимы для их преодоления и установления правильных общественных взаимоотношений.
Методологические замечания к педагогическому исследованию игры[305]
Настоящая работа имеет строго ограниченную цель: выделить некоторые важные проблемы педагогического изучения игры, отграничить их друг от друга и на основе этого поставить задачу разработки более детальных и строгих методов анализа. При этом все обсуждение ведется с точки зрения перспективы построения общей теории игры.
I. Многообразие характеристик игры. Проблемы исходного определения
1. Методологический анализ изучения игры предполагает критический обзор всех уже проведенных исследований и полученных в них знаний. Но здесь из-за недостатка места мы вынуждены будем опустить его и дадим лишь сводку основных, с нашей точки зрения, характеристик, задающих общий подход к проблеме. Игра есть: 1) особое отношение ребенка к окружающему его миру; 2) особая деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается как его субъективная деятельность; 3) социально заданный, навязанный ребенку и усвоенный им вид деятельности (или отношения к миру); 4) особое содержание усвоения (или усвоенное содержание); 5) деятельность, входе которой происходит усвоение самых разнообразных содержаний и развитие психики ребенка; 6) социально-педагогическая форма организации всей детской жизни, «детского общества».
Все эти определения игры кажутся нам вполне правильными и достаточно обоснованными. Кроме того, существует еще масса других правильных и удачных характеристик. Каждая из них была получена в связи с решением определенных частных практических или теоретических задач и является односторонним «изображением» объекта. Каждой из них можно пользоваться в определенных случаях. Но остается нерешенной собственно теоретическая проблема: как соотнести все эти определения и характеристики друг с другом, с какой из них начинать теоретический анализ игры и к каким характеристикам двигаться затем.
Одним словом, мы имеем ряд различных знаний об игре и должны связать их в рамках единой теоретической системы.
2. Специальный логико-методологический анализ показывает, что эта задача решается путем создания одной или нескольких структурных моделей объекта, выступающих в особой функции «конфигуратора» (см. [1964 h *; 1967 е; Лефевр, 1962]).
Построение подобных моделей для объектов такого типа, каким является игра, в свою очередь предполагает задание системы того более широкого целого, в котором эти объекты живут в качестве элементов, и анализ их назначения и функций в этом целом.
3. Такой вывод переводит нас в сферу общепедагогических проблем: в системе какого целого нужно начинать исследование игры?
Было много попыток ответить на этот вопрос. Психологи XIX и начала XX столетия пытались ограничиться здесь индивидом и выводили игру из его физиологических и биологических качеств. Ст. Холл и П. П. Блонский выводили игру из взаимодействия двух факторов: биологической природы ребенка и воздействий социальной среды. Л. С. Выготский подчеркивал «культурный» характер и историческое происхождение игры.
Следуя идеям Л. С. Выготского и его учеников (см. [Выготский, 1956; ЛеонтьевА. Н., 1959; Эльконин, 1966]), мы исходим из принципа, что игра, подобно учебной деятельности, сложилась на определенном этапе исторического развития общества в связи с задачами формирования подрастающих поколений. Можно сказать, что игра — это особая форма детской жизни, выработанная или созданная обществом для управления развитием детей; в этом плане она есть особое педагогическое творение, хотя творцом ее были не отдельные люди, а общество в целом, а сам процесс возникновения и развития игры был «массовым», «естественноисторическим» (по терминологии К. Маркса) процессом, в котором естественноисторическая закономерность «пробивалась» через разнообразную сознательную деятельность отдельных людей.
Из этого принципа следует, в частности, что начинать исследование игры надо с анализа ее места и функции во всей системе обучения и воспитания, а последнюю брать в еще более широкой системе воспроизводства всего социума. Полученные на этом пути характеристики игры должны стать первыми и определяющими все остальные.
II. Игра в системе трансляции деятельности и обучения
4. Чтобы исследовать социальную функцию обучения вообще и игры в частности, нужно построить особый предмет изучения, изображающий процесс общественного воспроизводства (см. [1965е; 1966 i*]). Главным в этом процессе — и как то, что воспроизводится, и как то, что обеспечивает воспроизводство, — является деятельность. Все остальное — и вещи, и знаки, и даже сами люди — включено в нее в качестве элементов.
Деятельность непрерывно передается, или, как мы говорим, «транслируется», из поколения в поколение. Средства и способы трансляции ее разнообразны: это может быть переход самих людей, владеющих деятельностью, и «живой» показ ее, это может быть передача другим людям орудий и средств или продуктов деятельности, это может быть передача тех знаков, которые использовались при построении деятельности, и т. п.
Но в каком бы виде ни транслировалась деятельность, повторение ее другими людьми возможно только в том случае, если они умеют «копировать» увиденную деятельность или восстанавливать ее по продуктам и средствам (например, знаковым). Если же такой способности нет, то в процессе воспроизводства, несмотря на трансляцию деятельности, возникает «разрыв». Именно как средство и способ преодоления этого разрыва исторически сложилось и развивалось в качестве особого социального института обучение. Можно сказать, что функция обучения в системе общественного воспроизводства состоит в том, чтобы обеспечить формирование у индивидов деятельностей в соответствии с образцами, представленными в виде «живой», реально осуществляемой деятельности или же в виде знаковых средств и продуктов деятельности. Таким образом, обучение деятельности является вторым необходимым звеном в процессе воспроизводства — оно дополняет процесс трансляции: трансляция, как правило, опредмечивает деятельность, дает ей превращенную предметную или знаковую форму, а обучение обеспечивает обратное превращение предметных и знаковых форм в деятельность индивидов, оно как бы «выращивает» деятельность в соответствии с этими формами.
5. Но, чтобы овладеть какими-то деятельностями, независимо от того, в каком виде они транслируются, нужно уже владеть другими деятельностями, которые выступают в качестве предпосылок учения. Так образуется сложная цепь зависимостей одних деятельностей от других. Эта зависимость определяет способ организации деятельностей в трансляции и порядок задания их в обучении. Те сравнительно простые виды деятельностей, которые образуют общие составляющие для других, более сложных видов деятельности и поэтому являются предпосылками при освоении последних, выделяются в особые учебные системы и транслируются по особым «каналам». Каждый следующий «канал» трансляции и обучения строится уже применительно к предшествующим.
Таким образом, создается как особая конструкция длинный ряд зависимых друг от друга специальных учебных средств и соответствующих им ситуаций обучения.
Это рассуждение можно обобщить. Хотя каждый этап обучения и воспитания детей и каждая ситуация обучения не сводятся к одним лишь учебным средствам, а предполагают значительно более широкую систему «жизненных» отношений к другим детям, к педагогу, мы можем говорить о том, что эти системы в целом транслируются и строятся искусственно в целях обучения и воспитания. Мы можем говорить здесь о длинном ряде ситуаций жизни ребенка, которые создаются для обучения общественно-фиксированным деятельности» и через которые общество как бы «протаскивает» ребенка в ходе его воспитания и обучения (схема 1).
Нам важно подчеркнуть, что эта «труба» — искусственно созданная система (поэтому мы и называем ее «инкубатором»); она возникла на определенном этапе исторического развития общества, сначала как очень «маленькое» образование, еще не обособившееся от системы самого производства, постепенно все более и более разрасталась, причем рост ее шел «слева направо», т. е. от производства и вплетенного в него обучения к «чистым» формам обучения, от обучения сложным деятельностям к обучению все более простым деятельностям, лежащим в основании всех других; при этом, конечно, происходила перестройка всей системы. Вырабатываемые таким образом ситуации обучения и воспитания и их последовательности закреплялись в особых средствах трансляции и передавались от поколения к поколению. Но это значит вместе с тем, что они постоянно навязывались детям.
6. Все сказанное имеет непосредственное отношение к игре. Она является особым звеном системы «инкубатора», одним из самых ранних с точки зрения формирования ребенка — в этом плане она лежит в основании других — и одним из самых поздних с точки зрения исторического происхождения.
Утверждая это, мы отнюдь не отвергаем субъективно-психологического подхода к игре, когда она рассматривается как деятельность индивида, но мы оцениваем его как вторичный и выдвигаем на передний план другое представление — социально-педагогическое. Игра есть деятельность ребенка, но деятельность, задаваемая через особые средства и формы общественного воспроизводства, навязываемая ему системой «инкубатора», принимаемая и усваиваемая им.
В этом плане игра является чисто педагогической формой, можно сказать, созданием педагогики и педагогов. Она исторически сложилась и развивалась для управления формированием детей.
Как особая педагогическая форма игра определяется массой разнообразных факторов, действующих в разных направлениях и с разной «силой». Это и производство игрушек, определяющееся часто не педагогическими, а экономическими или идеологическими факторами, и архитектурно-планировочная деятельность в строительстве детских садов и яслей, и условия работы воспитателей в детских садах, и программы обучения в педучилищах и специальных школах, и традиции отношения взрослых к детским занятиям, и многое другое. Из-за обилия всех этих факторов, влияющих на игру, она как педагогическая форма сама оказывается плохо управляемой и начинает «жить» по стихийным законам, нарушающим общую систему «инкубатора».
Изучение каждого из факторов, влияющих на трансляцию и построение игры, в принципе является актуальной задачей педагогической науки и имеет значение для улучшения практики воспитательной работы. Но на сегодняшнем этапе все эти задачи являются все же вторичными.
Куда большее практическое значение имеет сейчас построение идеальной системы игры как педагогической формы, органически «вписанной» в общую систему «инкубатора», ибо до сих пор такого представления не существует вовсе.
Но, чтобы двигаться дальше, нужно выяснять, что представляет собой игра как социально-педагогическая форма, каково ее строение и как можно ее в этом аспекте анализировать, изображать и описывать.
III. Схемы изучения игры как системы взаимосвязей и взаимоотношении
7. По-видимому, говоря об игре как о социально-педагогической форме, мы должны иметь в виду ту систему взаимосвязей и взаимоотношений, которая создается и складывается вокруг ребенка и в которую он входит в качестве одного из элементов. Ее изображение представлено на схеме 2.[306]
Подобные графические изображения систем взаимосвязей и взаимоотношений, складывающихся в процессе воспитания и обучения детей, дают возможность фиксировать, во-первых, все разнородные элементы, входящие в систему, их число и качество, а во-вторых, если будут определены виды возможных связей и отношений, — общую структуру системы как целого. Благодаря этому они могут выступать в качестве моделей реальных игровых ситуаций (и вообще всех ситуаций обучения и воспитания).
8. Как дети — участники игровой ситуации, так и воспитатели (или взрослые) имеют определенные психические качества и установки, определенный «настрой», от которого во многом зависит вся эта система, ее складывание, устойчивость и т. п. И если мы вообще не будем учитывать этих моментов при изучении игры, то получим, без сомнения, ложные результаты. Но такой вывод не исключает возможности того, что на первых этапах анализа и описания структур взаимосвязей и взаимоотношений мы отвлечемся от всех психических качеств, от «психики» вообще и дадим чисто объективный анализ самих структур, т. е. входящих в них элементов и связей или отношений между ними. Для осуществления объективного исследования такое отвлечение исключительно важно и, можно сказать, незаменимо, так как всякое обращение к психическим качествам на этом этапе может привести только к фальсификации и необоснованному переносу в психические качества того, что является внешней характеристикой самих связей или отношений. Например, мы говорим о дружеских взаимоотношениях между детьми и рассматриваем дружбу как качество личности, мы говорим об уважении к взрослым и тотчас же невольно вводим «уважительность» как качество личности. Итак, на первом этапе анализа и описания систем взаимосвязей и взаимоотношений, в которые попадают дети, нужно полностью исключить все ссылки на психические качества индивидов и разработать метод чисто объективного описания.
9. Продуктивность такого подхода, элиминирующего психические качества, особенно сказывается в тех случаях, когда надо рассматривать не отдельно играющих детей, а группы их, когда элементом, на который воздействует педагогическая форма организации, является детская группа (см. схему 3).
Здесь апеллировать к психическим качествам группы просто бессмысленно: она как целое их не имеет и должна характеризоваться какими-то совершенно иными параметрами. Вместе с тем бессмысленно апеллировать и к психическим качествам каждого отдельного члена группы, так как хотя они и влияют на тип и характер самой группы, но их влияние проявляется опосредованно и должно быть переведено в какие-то другие характеристики группы как целого.
Можно показать, что структура, изображенная на схеме 3, не может быть сведена к структуре, представленной на схеме 2. Всякая попытка такого сведения привела бы к искажению и ложному представлению действительных отношений и к утере важных в педагогическом отношении свойств этих структур. В частности, «замыкание» связей с объектами, воспитателями, другими детьми на ребенке (Т) вместо их замыкания на всей группе в целом создает, по сути дела, совершенно новую структуру, принципиально отличную от прежней и требующую иной деятельности как от детей, так и от воспитателей.
10. Изображенные выше структуры взаимосвязей и взаимоотношений являются лишь внешней, по сути дела «мертвой», оболочкой тех деятельностей, которые осуществляются воспитателями и детьми; вне этих деятельностей их просто не существует. Но, подобно тому как мы отвлеклись от психических качеств детей, несмотря на то, что они являются обязательным условием всяких взаимоотношений, точно так же на первом этапе исследования мы можем и обязаны отвлечься от анализа и описания этих деятельностей как деятельностей и представить их в форме структур взаимосвязей и взаимоотношений.
Такой способ описания не только возможен, но и необходим при решении педагогических проблем.
Дело здесь заключается в том, что деятельность воспитателей (взрослых) и деятельность детей имеют разное значение в этих структурах и связаны друг с другом через посредство вещей и знаков, составляющих структуру. Воспитатели, исходя из определенных целей образовательной деятельности и тех или иных представлений о ней и детях, составляют определенные структуры вещей, знаков и требований с тем, чтобы вызвать определенную деятельность детей. Таким образом, их деятельность реализуется в первую очередь в этой внешней системе «вещей». По-видимому, и сами по себе, пока еще вне ответной деятельности ребенка, они образуют некоторую целостную структуру, соотнесенную с возможной деятельностью ребенка. Во всяком случае, задавая определенные наборы вещей, требований, знаков, воспитатель надеется вызвать строго определенную деятельность ребенка. Значит, с точки зрения воспитателя, между этими вещами и деятельностью ребенка существует строго определенная связь, и, следовательно, на каких-то этапах своей работы он должен ориентироваться именно на эти «вещные» структуры, различать их виды и типы, не задаваясь специальным вопросом об особенностях деятельности ребенка.
Но далее мы сталкиваемся с тем весьма обычным фактом, что воспитатель надеется вызвать у ребенка определенную деятельность, но не получает ее или получает совсем другую деятельность, на которую он не рассчитывал.
Это очень просто объясняется тем, что деятельность ребенка (и человека вообще) детерминируется не только (и даже не столько, особенно в игре) элементами этой «внешней структуры» — вещами, знаками и требованиями, сколько так называемым «внутренним миром» ребенка.
Из этого простого факта мы можем сделать важный в формальном отношении вывод, что в изображенных нами выше системах взаимосвязей и взаимоотношений существуют фактически две разные структуры: «внешняя», идущая от воспитателя и социальной обстановки, и «внутренняя», идущая от самого ребенка, и они могут и должны быть отчленены друг от друга, разведены (схема 4).
Тогда та система взаимосвязей и взаимоотношений, которую мы разбирали выше, будет результатом столкновения и взаимного наложения двух разных структур, часто весьма расходящихся между собой.
Отсюда при анализе реальных процессов игры возникает особая задача соотнесения игровых структур, создаваемых воспитателями, с так называемым «уровнем развития» детей. Определенная структура организации игры детерминирует определенную деятельность детей только тогда, когда дети уже подготовлены к этому, если их субъективные способности и навыки соответствуют этим структурам внешней организации, «настроены» на эти структуры.
Итак, всякую систему взаимосвязей и взаимоотношений которую мы сначала выделяли и описывали внешним образом как просто существующую, надо будет затем разложить на две составляющие: 1) «внешнюю» структуру организации, создаваемую воспитателями (или складывающуюся стихийно), и 2) «внутреннюю» структуру потенциальной деятельности ребенка и потенциальных отношений, которые он может установить; эти две структуры можно будет соотносить между собой, устанавливая их соответствие или несоответствие друг другу. Самым трудным моментом здесь является изменение «смысла» фиксируемых при этом связей и отношений. Это уже принципиально иные образования, нежели те, что мы устанавливали при первом, чисто объективном описании систем взаимосвязей и взаимоотношений.
11. Но затем мы можем сделать еще один шаг. Ведь все структуры возможных деятельностей и отношений к вещам у ребенка являются продуктом тех прошлых ситуаций, в которых он жил и действовал. Всякое отношение, которое существует у него и может установиться, является в принципе лишь составляющей (грубо можно сказать: «обрывком») прежних взаимосвязей с вещами. И точно так же любая «ценность» или любое отношение, присущее всякому элементу из внешней структуры, являются «обрывками» прежних отношений к нему ребенка; они как бы отчуждены от самого ребенка и «запечатлены» в материальных признаках этого элемента; именно так можно понять знаменитое левиновское выражение: «Пирожное хочет, чтобы его съели».
Из этого точно так же следует важный формальный вывод: сопоставление «внешних» и «внутренних» структур систем взаимосвязей и взаимоотношений может быть переведено в сопоставление следующих друг за другом «внешних» структур организации деятельности, а «внутренние» структуры благодаря этому на каких-то этапах исследования могут быть элиминированы. Графически это изображено на схеме 5.
Такое переведение одного сопоставления в другое обеспечивает объективность исследования. Субъективные потенциальные деятельности и отношения ребенка становится возможным охарактеризовать как объективные и актуальные взаимосвязи и взаимоотношения внутри определенных уже сложившихся структур; сопоставление разнородных структур с разнонаправленными связями, отношениями и функциями переводится в сопоставление однородных структур с однопорядковыми связями, отношениями и функциями. Тогда степень расхождения между объективной «внешней» системой связей и отношений, задаваемой воспитателем (или складывающейся стихийно), и «внутренней» системой отношений, возможной у ребенка, можно характеризовать по расхождению каких-то (особым образом выбранных) «внешних» структур. На этом пути мы получаем возможность исследовать, во-первых, смену функций вещей относительно этих структур; при этом сами вещи должны «сопротивляться» этому как в силу своих вещественных, атрибутивных свойств, так и в силу своих прошлых функций, т. е. связанных с ними отношений; появляется возможность устанавливать ряды наиболее близких друг к другу функций (отношений). Во-вторых, мы можем вести исследование и сопоставление указанных структур с точки зрения появления в них новых элементов, требующих особых (иногда совершенно новых) отношений. В-третьих, появляется возможность исследовать перенос старых отношений на новые объекты, знаки, на новых людей и т. д., зависимость этих переносов от свойств самих вещей, результаты «столкновения» различных функций и т. д.
Этот план исследования может интерпретироваться двояко. Во-первых, как сопоставление различных социально-педагогических форм, их связей и отношений друг к другу, а следовательно, их возможность следовать друг за другом в единой системе воспитания и обучения (уточнения этого положения см. в разделах V и VII). Во-вторых, он может интерпретироваться с точки зрения возможностей деятельности ребенка, попавшего в новые для него ситуации: сравнивая вновь заданную ребенку «внешнюю» структуру с уже бывшими в его опыте, мы можем судить, какие отношения он сможет оттуда заимствовать, чтобы построить новую систему взаимоотношений. Но условием движения в этом втором плане является предположение, что потенциальные возможности ребенка равны сумме уже «пройденных» им актуальных отношений; оно может быть весьма продуктивным в некоторых частных случаях, но в общем с ним нужно обращаться очень осторожно (см. разделы IV и V).
12. Игра всегда сочетается с другими формами жизни ребенка, в частности с деятельностью (и соответственно отношениями) потребления и самообслуживания, с участием в жизни взрослых (в том числе и в их трудовой деятельности), со специально организованными занятиями и т. п. Все эти виды отношений, а вместе с тем и соответствующие им педагогические формы организации непрерывно накладываются друг на друга, пересекаются и перекрываются: одни и те же вещи часто являются объектами и непосредственного потребления, и игры, даже еда ребенка часто сопровождается игровыми моментами, участие в жизни взрослых переливается в игру, игровые отношения то и дело переходят в неигровые, и наоборот. Поэтому если мы хотим вести эмпирическое изучение игры, то должны очень четко выделить специфику игровых отношений, задать их отличительный признак (или систему признаков) и на основе этого отграничить игру от всех других видов отношений.
Вместе с тем мы должны, очевидно, иметь в виду, что система игровых отношений вплетена в более широкую сеть всех жизненных отношений ребенка, которые он устанавливает в системе «инкубатора», а поэтому происходит постоянный «обмен» отношениями, постоянный перенос деятельностей и отношений из одной области в другую. Поэтому, рассматривая функции вещей, людей, знаков и т. п., их изменения во вновь заданных ребенку ситуациях и т. д., мы должны иметь в виду не только прежние игровые ситуации, но все остальные ситуации и структуры «инкубатора», устанавливать ряды и границы переноса не только между разными играми, но и между всеми деятельностями и отношениями.
Таким образом, в этой части исследования перед нами встает двойная задача: 1) определить игру как особую педагогическую форму и особую систему взаимоотношений, тем самым выделив ее как особый предмет изучения из всего остального; 2) найти и определить реальные связи, которые существуют между игрой и другими формами и системами взаимоотношений в условиях действительной жизни ребенка в разных социальных структурах и на разных этапах его собственного формирования.
IV. Схемы изучения игры как деятельности
13. До сих пор, говоря об игре, мы старательно обходили анализ и описание ее как деятельности. Но именно это представление ее является главным и определяющим, и мы никогда не сможем понять природы и закономерностей игры, если не выделим и не опишем тех моментов, которые характеризуют ее именно как деятельность.
Но что значит проанализировать и описать какую-либо деятельность ребенка (или вообще человека)?
Это, наверное, одна из самых сложных проблем современной науки, и существуют только первые подходы к ее решению. Наметилось два разных плана описания: 1) объективный, или логико-социологический, в котором совершенно не учитывается психическая сфера людей, и 2) субъективный, или психологический, в котором главное внимание обращается на воспроизведение и описание психических процессов.
Между первым и вторым планами описания деятельности существует тесная связь и зависимость: чтобы осуществить анализ деятельности во втором, субъективно-психологическом плане, нужно обязательно предварительно проанализировать и описать ее в первом, объективно-логическом. Характер психических процессов всегда соответствует (хотя и по-разному) составу тех операций, которые должны быть применены к объектам.
14. Дать описание деятельности в первом, социально-логическом плане — это значит выделить и проанализировать: а) задачи деятельности; 6) процесс, складывающийся из операций с объектами (вещами и знаками); в) средства, необходимые для построения процесса, и, наконец, г) продукты деятельности (см. [1964с* i, j; 1965 с; Москаева, 1964; Розин, 1963, 1964 а, b]). Графически это представлено на схеме 6.
В подобной схеме может изображаться деятельность любой сложности, осуществляемая одним индивидом или несколькими; важно только одно, что эмпирический материал членится и как бы «разносится» по четырем разным блокам (пример такого рода исследования игровой деятельности дает работа [Пантина, 1966]).
Для дальнейшего важно отметить особую природу самого процесса в структуре деятельности: он должен быть построен ребенком или группой детей (вообще человеком или группой людей), и хотя это построение во многом детерминировано уже имеющимися средствами, но они никогда и ни в коем случае не могут определить всего в этом процессе, и, таким образом, именно здесь осуществляется творчество ребенка (и вообще человека), его самодеятельность, именно здесь могут появиться и появляются новообразования.
15. Описание объективной части деятельности не дает ничего для понимания того, как строится деятельность индивидами, и не объясняет механизмов психического формирования ребенка. Чтобы рассмотреть и эти стороны проблемы, мы должны перейти к субъективно-психологическому описанию деятельности. Методы его разработаны еще меньше, чем методы описания объективной части. На первых этапах субъективно-психологическое описание, по-видимому, можно строить исходя из «объективного», добавляя к нему новые блоки и связи или перестраивая уже имеющиеся.
В первую очередь на этом пути можно выделить и включить в общую схему собственно психические механизмы построения объективной части процесса. При этом в блок средств нужно будет добавить еще особое образование, которое можно назвать способностями.
Анализируя далее механизмы построения, мы сможем выделить в них ряд составляющих: а) механизмы соотнесения задачи со средствами, имеющимися у ребенка (или вообще человека), и выбор определенных средств для «решения» этой задачи, т. е. для построения этого процесса; обычно эту составляющую называют «пониманием» задачи (она обозначена на схеме 7 стрелкой 1); б) механизмы использования определенных регулятивов (специальных правил или «слепков» с прошлых деятельноcтей) для составления цепей процессов из средств I (эти механизмы обозначены на схеме стрелкой 2). В более общем случае, когда задачи деятельности не задаются извне, а должны быть выделены и поставлены самим действующим ребенком, мы должны будем ввести еще одну систему средств и еще один механизм, обеспечивающий выделение задач. Сейчас для упрощения анализа мы опускаем эту составляющую. Полученный таким образом предмет изучения изображен на схеме 7.
16. Природу «способностей» пытались объяснять как из механизмов внутреннего развития ребенка, так и из механизмов «чистого усвоения» в обучении. Ни одна из этих линий не дала необходимого решения проблемы. Так мы оказываемся приведенными к представлению о таком развитии способностей в усвоении, которое не может быть сведено ни к чистому развитию, ни к чистому усвоению, ни — что самое главное — к сумме того и другого, а предполагает совершенно особый механизм всего целостного процесса и совершенно особое, связанное с этим представление структуры психической деятельности. Графически задаваемый таким образом предмет изучения представлен на схеме 8.
Главное здесь, что для объяснения природы способностей мы должны расширить прежний предмет, изображенный на схеме 7, и включить в него дополнительно процессы усвоения каких-то внешних содержаний (средств) и связанного с этим развития особых «психических функций». То, что называется «способностями», складывается по меньшей мере и из того, и из другого.
17. Если теперь предположить, что развитие психических функций достаточно жестко определено характером усваиваемых извне содержаний (а правомерность такой односторонней зависимости подтверждается всем, что мы сейчас знаем), и сопоставить это с исходной структурой задания внешней ситуации воспитателем (схема 4), то мы можем сделать вывод, что каждый процесс деятельности ребенка (в том числе игровой деятельности) детерминируется двумя рядами зависимостей: один ряд задает внешняя ситуация, или внешняя структура, созданная воспитателем, а другой — предшествующие акты усвоения (схема 9).
Но так как всякое усвоение происходит в каком-то процессе и без него невозможно, то мы можем сказать что, с одной стороны, именно через «способности» осуществляется связь между новыми совершаемыми ребенком процессами и прошлыми, а с другой стороны, что «способности» для того и служат и формируются, чтобы обеспечивать эти связи, чтобы создавать возможность построения новых процессов на основе прошлых. Мы изобразили это на схеме 10.
Но, таким образом, взяв какую-нибудь игровую деятельность в качестве «верха», мы можем мысленно двигаться все дальше вниз (по одному ряду или ветвящемуся дереву, это нам сейчас безразлично) и каждый раз будем констатировать, что любой процесс деятельности ребенка детерминирован, с одной стороны, внешними условиями, сложившимися стихийно или сознательно заданными воспитателями и взрослыми, а с другой стороны, предшествующими процессами деятельности и осуществляющимся в них (или на основе их) усвоением.
Так в конце концов мы приходим к простейшим движениям новорожденного, из которых благодаря внешним ситуациям «инкубатора» вырастает постепенно вся сложная деятельность индивида.
Но такой вывод означает, что и игра как особый вид деятельности либо непосредственно задается извне, либо складывается под влиянием внешних условий на каком-то раннем этапе развития ребенка и постепенно пополняется и развертывается за счет все новых внешних ситуаций и процессов деятельности ребенка в них, ситуаций, частично специально создаваемых воспитателями, частично складывающихся стихийно благодаря случайным внешним обстоятельствам, частично создаваемых самой деятельностью ребенка.
Этот вывод означает также, что мы устанавливаем ряд внешних ситуаций, детерминирующих процессы деятельности ребенка, и сводим анализ изменений, происходящих в деятельности, к анализу различий этих ситуаций, подобно тому как мы переходили к объективным внешним структурам при анализе систем взаимоотношений (схема 5). Но здесь мы уже не можем полностью отвлечься от субъекта и должны каждый раз вместе с внешними условиями ситуации рассматривать объективную структуру процесса его деятельности. Кроме того, теперь мы должны брать эти ситуации и процессы деятельности в них с точки зрения механизмов усвоения и развития, т. е. мы должны выяснять, что нового открывают эти ситуации и процессы в них для усвоения, приводящего к развитию способностей ребенка.
И таким образом мы оказываемся втянутыми в новое расширение предмета исследования: мы должны перейти к более детальному анализу процессов усвоения и развития, чтобы затем с этих более общих позиций оценить возможности, которые открывает в этом отношении игра.
V. Усвоение и развитие
18. Понятие усвоения в нынешнем употреблении крайне многозначно. Мы говорим об усвоении деятельности, имея в виду, что ребенок научается осуществлять какой-то процесс. Но точно так же мы говорим об усвоении, когда ребенок запомнил какое-то слово или последовательность слов и может правильно повторить их. И этим же термином мы обозначаем те случаи, когда ребенок научается решать с помощью какого-либо понятия разнообразные задачи.
Чтобы сузить и уточнить понятие усвоения, нужно определить: 1) какие именно содержания могут усваиваться; 2) каков специфический механизм усвоения; 3) в чем специфический продукт усвоения. А для того чтобы ответить на все эти вопросы, надо «вписать» усвоение в общую структуру деятельности, соотнести с другими ее механизмами.
На наш взгляд, необходимо различать:
A) Умение строить разные процессы деятельности. Это то, что ребенок дает «на выходе»: складывает пирамидку, играет определенную роль и т. п.; выражения, что ребенок в этих случаях овладел этими процессами деятельности, приводят, как нам кажется, к ложным представлениям.
Б) Овладение материалом знаков (например, запомнил и умеет повторять в правильной последовательности названия чисел).
B) Усвоение «способов деятельности», т. е. систем средств, позволяющих строить разнообразные деятельности (по поводу понятия «способ деятельности» см. [1964 j; 1965 с; Лефевр, Дубовская, 1965; Москаева, 1964]); усвоение в таких случаях сопровождается развитием психических функций, необходимых для использования этих средств (см. [Непомнящая, 1963, 1964 b]).
Резюмируя все эти различения, можно сказать, что ребенок научается строить разнообразные процессы деятельности, овладевал материалом необходимых для этого средств и усваивая способы деятельности, в которые эти средства организованы.
19. Кроме того, с этой точки зрения необходимо различить и на первых порах даже противопоставить друг другу: а) процесс деятельности, в контексте которого происходит усвоение, и б) само усвоение.
Построение процессов деятельности отнюдь не всегда приводит к усвоению новых способов деятельности и развитию способностей. Есть масса процессов, которые, сколько бы они ни совершались, не только ничего не дают для развития способностей, но и не могут дать. Вместе с тем есть такие процессы деятельности, которые могли бы привести к развитию способностей ребенка, но не приводят, так как при этом нет необходимой дополнительной организации самого усвоения. В обоих случаях системы средств и психических функций ребенка после процесса деятельности остаются такими же, какими они были до него.
В этой связи мы получаем возможность уточнить различение процесса деятельности и усвоения. Процесс деятельности должен дать определенный внешний продукт, и такой продукт в процессе бывает всегда, даже если мы произвели только движение рукой. Процесс усвоения в противоположность этому не имеет такого внешнего продукта, а приводит лишь к появлению у индивида нового способа деятельности, новой способности.
20. Но как возможен процесс усвоения? Что он должен иметь своим содержанием? При каких условиях у индивида может появиться новый способ деятельности и новые способности?
Чтобы подойти к решению этих вопросов, разберем одну искусственную модель деятельности индивида. Предположим, что у него есть набор определенных, остающихся неизменными средств деятельности и психических функций и на основе их он может строить различные процессы деятельности, направленные на широкий круг предметов. Число построенных индивидом процессов и круг предметов, на которые они направлены, может увеличиваться практически беспредельно. Но приведет ли это к появлению хотя бы одного нового способа деятельности, новой способности?
Отвечая на этот вопрос, нам нужно произвести довольно тонкое различение: по-видимому, построение различных сложных процессов деятельности приводит к развитию каких-то психических функций. Но это чисто индивидуальный процесс; вновь появившиеся психические функции не находят никакого опредмеченного и общественно фиксируемого выражения. Каждый индивид должен вырабатывать эти психические функции сам, он не может передать их другим, и поэтому с его смертью они умирают. Мы можем сказать, что здесь развиваются психические функции, но не появляется никаких новых объективных средств, а вместе с тем и никаких новых объективных «способов деятельности».
А что нужно для появления новых средств и «способов»? По нашей гипотезе, для этого нужно, чтобы сама деятельность стала предметом специальной обработки, чтобы на нее направилась новая, вторичная деятельность. Иначе говоря, должна появиться рефлексия по отношению к исходной деятельности. Ее специфическая задача будет состоять в том, чтобы выделить в построенном процессе деятельности какие-то новые образования, которые могли бы служить средствами для построения новых процессов деятельности. При этом, очевидно, должно происходить какое-то сопоставление процессов деятельности с уже имеющимися системами объективных средств и способов, и только на этой основе может идти действительно продуктивный анализ процессов. При этом, конечно, он не сможет ограничиться одним лишь процессом, а должен будет охватить также его задачи, объекты и продукты. Итогом рефлексии будет выделение и оформление в каком-то виде новых объективных средств построения деятельности. И только после того, как они будут выделены и оформлены, после того, как они станут особой действительностью, будет возможно усвоение их (в точном смысле этого слова, т. е. в форме «способов деятельности») и развитие тех психических функций, которые необходимы для оперирования этими средствами (см. [1962 b; 1964 d; Алексеев, Москаева, 1964; Москаева, 1964; Непомнящая, 1964 b}). Графически все это представлено на схеме 11.
Важно специально отметить, что психические функции и способности, появляющиеся при этом у ребенка, будут другими, нежели те, которые «естественно» развивались у него при построении исходных процессов без сопровождающей их рефлексии.
Итак, чтобы построение различных процессов деятельности вело к нужному, собственно человеческому развитию способностей, необходимо, чтобы над этими процессами надстраивалась вторичная рефлективная деятельность, которая выделяла бы новые средства, оформляла их в виде объективно данных способов деятельности, и чтобы эти средства или способы затем усваивались в своей функции средств построения новых процессов деятельности, обеспечивая развитие соответствующих психических функций.
Совершенно очевидно, что такое рефлективное выделение и оформление средств и способов деятельности является делом очень сложным и малодоступным для детей. Поэтому, если предоставить детей самим себе, заставить их открывать новые способы деятельности, то развитие их способностей будет идти крайне медленно сравнительно со всей массой осуществляемых ими процессов деятельности.
Чтобы выйти из этого положения, человечество разделило рефлективные процессы и усвоение между различными сферами социума. Оно отделило науку как специализированную деятельность по выделению новых средств и способов деятельности из всей массы тех процессов, которые строятся. Оно отделило специализированную учебную деятельность, обеспечивающую усвоение этих выделенных средств и способов их применения. Оно построило особую систему обучения, т. е. особую искусственную систему задания этих средств, с одной стороны, в виде знаковых и вещных оперативных систем, с другой — в виде специальных моделей процессов деятельности (см. [1965 е; 1964 i; Дубовская, 1965; Лефевр, Дубовская, 1965; Москаева, 1965]).
И именно в связи с этим возникает масса специфических проблем, требующих специального педагогического исследования, и масса практически-педагогических задач, касающихся организации усвоения в обучении. Все они формулируются обычно как одна проблема — усвоения и развития.
21. Прежде всего само усвоение надо организовать как особую деятельность ребенка, как особые процессы деятельности. Чем они могут быть и как они должны строиться? Можно выдвинуть несколько гипотез по этому поводу.
1) Можно предположить, что в условиях новой задачи ребенок (или вообще человек) строит процесс деятельности, с одной стороны, опираясь на уже имеющиеся у него способности (средства и психические функции), а с другой стороны, используя «подсовываемые» ему воспитателем новые объективные средства. После того как процесс построен, он становится предметом рефлективного осознания, вновь примененные средства и их функция в построении процесса фиксируются в особом знании, затем на основе нескольких употреблений происходит овладение материалом средств и таким образом завершается усвоение самих средств.
2) По другому предположению, воспитатель может дать образец нового процесса деятельности, включающего в себя новые средства. Ребенок, наблюдая за его деятельностью (возможно, искусственно расчлененной), фиксирует новые средства и их функции в знании, овладевает материалом самих средств, а затем сам начинает с их помощью строить новые процессы деятельности. Благодаря всему этому происходит усвоение и закрепление усвоенного.
3) Нередко предполагают, что новые средства или способы деятельности могут быть взяты вне всякого контекста употребления их, прямо «в лоб» или даже в форме знания о них (например, в виде правила деятельности и т. п.); на сравнительно высоких ступенях развития индивидов так, по-видимому, действительно иногда происходит (или кажется, что происходит).
Мы привели все эти варианты, чтобы пояснить постановку самой проблемы: до сих пор в психологии и педагогике очень мало внимания уделяют анализу конкретных механизмов усвоения в различных ситуациях обучения и воспитания. А без этого никакие педагогические проблемы, в том числе и проблемы игры, не могут быть решены.
22. Вторая группа проблем, встающих здесь, связана с определением последовательности задания средств и способов деятельности в процессе систематического обучения и воспитания.
Для практической педагогики общим местом является положение, что формирование одних способностей и умений у детей предполагает сформированность других; последние выступают как необходимые предпосылки первых. Таким образом, знания и связанные с ними умения оказываются сгруппированными в последовательности, нащупанные эмпирически и стихийно в течение долгой истории. Если попробовать дать детям какие-либо знания из этих рядов, минуя то, что им предшествует, то дети, как правило, не смогут их усвоить. И это бесспорные факты. Но чем они объясняются: 1) объективной природой самих способов деятельности, фиксированных в этих знаниях и умениях, особенностями их собственной структуры, 2) природой ребенка, его «натуральными» возможностями или же 3) особенностями организации процессов усвоения и формирования? Ответ на этот вопрос представляет первостепенную важность для всей педагогики и для теории игры в частности.
Бесспорным в настоящее время является только одно положение: чтобы определить закономерную последовательность формирования ребенка, не нужно апеллировать к его «натуральным» возможностям «естественного» развития. Все остальные вопросы остаются проблемными и спорными.
Проведем простое рассуждение, чтобы задать общие рамки этой проблемы. Усвоение какого-либо способа деятельности (или вообще каких-либо средств) предполагает построение определенного процесса деятельности ребенком. Значит, оно требует предпосылок в самом ребенке по меньшей мере двоякого рода: 1) способностей к построению этого процесса (изображенного прямоугольниками 2 на схеме 12) и 2) способностей к усвоению самого способа как особого содержания (изображенного квадратами 1). Но эти способности в свою очередь являются результатом усвоения чего-то или, во всяком случае, связаны с усвоением. Таким образом, мы начали с объективно заданных содержаний, перешли к субъективным способностям, которые должны обеспечить их усвоение, а затем вновь возвращаемся к объективному плану — тем средствам и способам, из усвоения которых сложились сами эти способности. Но усвоение этого второго содержания само нуждалось в определенных способностях. Мы вынуждены повторить все рассуждение еще раз, потом еще и таким образом приходим к длинному ряду связанных между собой структур усвоения. Графически эта зависимость представлена на схеме 12. Развертывание этой структуры может быть представлено в проекциях. Если мы возьмем его со стороны способностей и попробуем представить складывающуюся последовательность их как закономерное движение от одних способностей к другим, то получим линию «чистого развития» ребенка. Если мы возьмем развертывание этой структуры со стороны процессов деятельности и объективных содержаний усвоения, то получим линию усложнения «норм» деятельности ребенка.
При фрагментарном подходе к этой единой структуре каждая из проекций может стать предметом особого рассмотрения и анализа. Наверное, можно будет найти даже некоторые эмпирические закономерности развертывания их. Но действительная «жизнь» каждого плана и действительная связь всех их элементов задается общей структурой зависимостей в этом едином механизме усвоения и развития ребенка, в едином механизме формирования его; обнаруженная связь процессов деятельности и содержаний усвоения будет действительно объективной связью лишь благодаря особым объективным закономерностям усвоения и развития, охватывающим всю эту структуру, а связь способностей в общей линии формирования будет именно такой благодаря сложившимся последовательностям задания содержаний усвоения и соответствующих им процессов деятельности.
Точно так же мы можем выделить из этой общей структуры механизмы построений процессов деятельности или усвоений и как-то описать их. Но полученные таким образом знания будут применимы лишь на определенных местах этой общей структуры, ибо и то, и другое меняется по мере формирования ребенка.
Так мы еще раз приходим к обозначенному уже выше принципу целостного рассмотрения всего механизма усвоения и развития ребенка, принципу, заставляющему нас начинать с целого и уже от него затем идти к элементам и связям общей структуры.
VI. Снова: что такое игра?
23. Проделав «нисходящее» движение в специфически методологических средствах, представив себе общий контур необходимого здесь предмета исследования, мы можем вновь вернуться к игре и взглянуть на нее уже с точки зрения сделанных различений. Чем она является: содержанием особого рода, усваиваемым ребенком, или процессами деятельности, в контексте которых происходит усвоение других разнообразных содержаний — средств и способов деятельности?
Ответ на этот вопрос должен быть двояким. Сначала, на каких-то очень ранних этапах формирования ребенка, игра является особым содержанием усвоения, она задается воспитателями (вообще взрослыми или другими детьми) в виде определенных образцов процессов деятельности, способов и средств деятельности, включенных в какие-то другие деятельности, в процессах деятельности же принимается ребенком и откладывается у него в виде определенных способностей к игровой деятельности. Но после того как это произошло, игра становится тем широким контекстом процессов деятельности, внутри которых развертывается усвоение самых разнообразных содержаний. Если при этом она сохраняет единство в каких-то своих существенных признаках (если наша вера в это не иллюзия), то мы можем говорить об игровой форме деятельности (или об игре как форме деятельности) и, несмотря на все разнообразие ее содержаний, рассматривать в рамках одного предмета изучения, как одно целостное, хотя внутренне и дифференцированное, образование.
Тогда перед нами открываются три основные линии теоретического и экспериментального исследования:
1) Мы должны произвести функциональный анализ развитых форм игровой деятельности, выделить их специфические характеристики. Для этого мы должны сопоставить развитую игру с целым рядом других деятельностей: а) с простым манипулированием вещами, 6) с трудовой и производственной деятельностью ребенка, в) с деятельностью потребления и самообслуживания, г) с учебной деятельностью. И в каждом таком сопоставлении мы должны получать признаки, отличающие игру от других деятельностей. Вместе они и дадут нам первое рабочее определение игры, которым мы будем пользоваться в ходе дальнейшего исследования, постепенно уточняя и углубляя его.
2) Опираясь на полученное таким образом рабочее определение игры, мы должны проанализировать и описать первые моменты «схватывания» ее ребенком. Для этого нужно выделить: а) те формы деятельности, внутри которых это происходит и может происходить; 6) те средства, способы, формы, в которых игра задается ребенку воспитателями (взрослыми, другими детьми); наконец, в) те процессы, в которых ребенок впервые начинает играть. Анализ всех этих моментов даст нам первое структурное и генетическое изображение игры, как таковой, в себе и для себя; оно будет служить структурным уточнением исходных рабочих определений.
3) Мы должны перейти к прослеживанию того, как дальше развертывается игра, теперь уже в качестве особой формы деятельности, обеспечивающей усвоение разнообразных содержаний и формирование психики ребенка. Обычно этот процесс называют развитием игры.
VII. В каком смысле можно говорить о развитии игры?
24. Часто говорят как о развитии игры в целом, так и о развитии ее отдельных составляющих и характеристик, например сюжета (см. [Эльконин, 1960; Фрадкина, 1966]). Но что при этом имеют в виду? На каком основании пользуются словом «развитие»? Вкладывают ли в него при этом тот специфический смысл, который имеется у понятия развития, или употребляют его просто как синоним слова «изменение»? Если мы имеем дело только с последним, то разумно ли это, не создает ли это неправильных представлений и ложных интенций?
Поставленные вопросы имеют значение, далеко выходящее за рамки одной лишь игры. Они являются решающими для всей педагогики и детской психологии. Они имеют проблемное значение также для самой методологии. Чтобы ответить на них, надо прежде всего выяснить смысл самой категории развития, затем природу тех механизмов, в силу которых изменяется игра детей. Соотнесение характеристик того и другого даст нам ответ на вопрос, развивается ли игра.
25. В логическом и общеметодологическом плане понятие развития исследовано явно недостаточно (см. [Грушин, 1961, 1962]). Обычно фиксируют два признака: а) структурное усложнение последующего состояния сравнительно с предыдущим[307] и б) обусловленность первого вторым (см. [Аnderson, 1957; Harris, 1957; Nagel, 1957]). Таким образом, понятие развития фиксирует закономерную зависимость между предыдущим и последующим и позволяет умозаключать от существования первого к необходимости существования второго (схема 13).
Если же реальный механизм заключался в том, что не одно А вызвало состояние В, а лишь вместе с каким-то третьим элементом С, то, чтобы говорить о развитии в точном смысле слова, мы должны включить это С в первое состояние вместе с А и рассматривать развитие как переход от АС к В (схема 14).
Если же подобное представление невозможно, скажем в силу того, что А и С «производят» В не вместе, не как одно целое, а благодаря своим изолированным действиям, то С должно быть представлено совсем особым образом — как условие развития А в В, и должно быть показано, что между А и В, с одной стороны, С и В, с другой стороны, совершенно разные отношения и связи, что «движение» АВ представляет собой целостный процесс, а С оказывает на него лишь модифицирующее воздействие (схема 15).
Таким образом, оба указанных выше признака развития связаны с особым пониманием целостности рассматриваемого предмета, и поэтому само понятие развития может применяться лишь к тем объектам и процессам, которые допускают такое представление (см. [1963 с*; 1965 b]). Поэтому же в методологии сложилось и закрепилось представление, что, говоря о развитии, мы всегда должны подразумевать имманентное «движение», т. е. идущее внутри выделенного предмета (см. [Грушин, 1961; Anderson, 1957]).
В этой связи до сих пор остается неясным, можем ли мы применять понятие развития к элементу, изменяющемуся в связи с развитием целого и под влиянием внешних для него связей целого (см. [Грушин, 1961, 1962]). Точно так же неясно, можем ли мы применять это понятие к тем изменениям, которые происходят под влиянием каких-то внешних элементов и «тянут» рассматриваемый объект к каким-то телеологически заданным характеристикам. Во всяком случае если мы хотим применить понятие развития и здесь, то это потребует существенных изменений и перестроек в самих традиционно установленных категориях.
Мы сделали все эти замечания по поводу понятия развития, чтобы, с одной стороны, разъяснить общеметодологическую схему наших дальнейших рассуждений по поводу игры и деятельности вообще, а с другой — подчеркнуть «открытый» характер самой проблемы развития в методологии и отсутствие там достаточно точных и дифференцированных понятий. Теперь мы можем перейти к анализу тех механизмов, которые определяют изменения детской игры.
26. Мы уже выяснили, что более узкая постановка вопроса о развитии игры связана с анализом ее как деятельности (раздел VI). Поэтому, наверное, и ответ на вопрос о возможных закономерностях и механизмах ее развития мы должны искать прежде всего в общих механизмах осуществления или развертывания деятельности.
Всякий процесс деятельности ребенка происходит в определенной системе внешних условий, или, как мы говорим, в определенной «ситуации». При этом процесс деятельности, с одной стороны, «сталкивается» с элементами этой ситуации, а с другой — создает саму ситуацию как целое, структурирует ее. Между элементами ситуации и деятельностью ребенка может быть двоякое отношение. В одних случаях они «подходят» к деятельности и легко организуются процессом; тогда мы можем говорить о соответствии условий и процесса деятельности, или о равновесии в ситуации деятельности. В других случаях существует несоответствие между условиями и процессом деятельности: объектов может оказаться слишком мало или, наоборот, слишком много, сами объекты могут «сопротивляться» включению их в данный процесс и т. п. Если в игровой ситуации участвуют другие дети или взрослые, то несоответствие условий и процесса деятельности будет проявляться в виде столкновения нескольких разных процессов деятельности, идущих от разных участников игры; наконец, могут существовать «возмущающие» воздействия на уже сложившиеся ситуации деятельности, которые будут выводить их из равновесного состояния; характеризуя такое положение вещей, мы будем говорить о «разрывах» в ситуациях деятельности.[308]
Попав в ситуацию с разрывом, ребенок должен построить новый процесс деятельности, чтобы таким путем «вернуть» ситуацию в равновесное состояние (фактически он, конечно, должен построить новую ситуацию). Мы не можем здесь обсуждать вопросы о том, как происходит осознание ребенком разрыва в ситуации, обязательно ли это нужно для преодоления его, формулирует ли ребенок новую задачу деятельности и т. п. Очевидно одно, что он никогда или почти никогда не ставит задачу изменить свою собственную деятельность. Ребенок (а в принципе и взрослый) стремится к совершенно другому — изменить сами условия, привести их к такому виду, чтобы они соответствовали начатой им или просто имеющейся у него деятельности. И таким образом он строит новые процессы деятельности. Средства для них черпаются из уже готовых, имеющихся у ребенка запасов. При этом, как мы уже разбирали в разделе V, может происходить и происходит изменение уже имеющихся и накопление новых психических функций, но при этом не происходит выделения и оформления новых объективных, определенных средств деятельности. Процесс такого рода представлен на схеме 16.
Теперь нужно выяснить, что в подобном процессе может быть охарактеризовано как развитие.
Попробуем сначала выделить в качестве самостоятельного предмета изучения процессы деятельности, их последовательность. Уже из самой схемы видно, что, несмотря на наличие опосредованной связи их через психические функции, между ними, как таковыми, нет того, что может быть названо «преемственностью». Точно так же процессы деятельности, если их брать поодиночке, не могут удовлетворить признаку структурного усложнения: каждый раз это будут разные, несопоставимые друг с другом образования, ибо их характер будет определяться, как мы уже оговаривали, в первую очередь условиями осуществления деятельности. (Мы сможем удовлетворить этому признаку развития, если создадим целое, включающее все единичные процессы (или акты) деятельности индивида, но такое целое, очевидно, будет слишком искусственным, и ему не будет соответствовать никакого реального целого.) Из схемы видно также, что процессы деятельности не могут удовлетворить требованию имманентности развития: внешние условия, во многом определяющие характер процессов, входят как бы «со стороны» и не связаны друг с другом (при данных условиях рассмотрения) никакой преемственностью. В самом абстрактном и обобщенном виде выявляемые здесь связи и воздействия могут быть изображены схемой 17.
На основании характеристик рассмотренного процесса можно утверждать, что вряд ли удастся найти регулярные правила, фиксирующие закономерность изменения процессов деятельности (элемента А на схеме 17) и позволяющие определять характер последующих состояний на основе знаний о предшествующих состояниях (см. [Непомнящая, 1964 а, с, 1965; Алексеев Н., 1964]).
Если мы попробуем выделить в качестве самостоятельного предмета исследования психические функции, предполагая, что они могут характеризовать развитие деятельности, то получим в общем такой же отрицательный итог. Связи между ними носят опосредованный характер, и поэтому нельзя говорить о преемственности в точном смысле слова. Признаку структурного усложнения они удовлетворяют только в том случае, если мы берем их в совокупности, хотя здесь такое целое соответствует вполне реальному целостному образованию — единой психике индивида. Как и в случае процессов деятельности, здесь нельзя говорить об имманентном движении: характер В2 определяется всей структурой С1 — > А1 <- В1 в целом.
Нетрудно увидеть далее, что столь же неудачной будет попытка выделить в качестве развивающегося предмета структуру А <- В. Больше всего к характеристикам развивающегося целого подходит вся структура С — > А <- В, но и она, как легко видеть, во-первых, не удовлетворяет требованию имманентности движения — левый конец системы, откуда поступают элементы С, остается «открытым», между ними пока нет преемственности, — а во-вторых, позволяет говорить о накоплении и развитии лишь индивидуальной деятельности, полностью исключая возможность анализа деятельности как социального, общественного образования.
27. Последний вывод является неизбежным следствием того, что анализ и описание механизмов развертывания деятельности начались с очень упрощенной модели: мы полностью отвлекались от всех процессов рефлективного осознания ее. А между тем действительное развертывание деятельности связано с рефлективным осознанием и выделением возникших в процессах новообразований, оформлением их в виде особых опредмеченных средств и способов деятельности. Рефлективное осознание, как мы уже говорили в разделе V, проходит в двоякой форме: 1) как чисто индивидуальное осознание собственной деятельности самими детьми и 2) как социальное осознание общественной деятельности наукой.
Рассматривая одну лишь первую форму осознания, мы получим линию «свободного» развертывания деятельности индивида, проходящую вне системы целенаправленного обучения и воспитания. Ее механизм может быть изображен на схеме 18, получающейся путем дальнейшего усложнения и развертывания схемы 17.
Знаком D на ней обозначены рефлективно выделенные и опредмеченные средства деятельности, а знаком Е — психические функции, возникающие благодаря осуществлению рефлективных процессов деятельности.
Преимущество этой структуры сравнительно со структурой, изображенной на схеме 17, состоит в том, что она содержит опредмеченные средства и способы деятельности; это позволяет говорить о накоплении и развертывании деятельности в общественном, социальном плане, имея в виду накопление и развертывание рефлективно выделенных, опредмеченных средств. Вместе с тем нетрудно заметить, что и этот механизм развертывания деятельности не дает возможности говорить об имманентном процессе развития: элементы С (т. е. условия деятельности) и здесь действуют на систему «со стороны», их последовательность никак не связана с общим механизмом развертывания структур деятельности.
Это положение принципиально меняется, когда воспитатели (или вообще взрослые) подключаются к механизмам развертывания деятельности детей и начинают руководить и управлять ими. Во-первых, они сознательно создают разрывы в ситуациях деятельности детей, причем те, которые им необходимы, убирая или вводя дополнительно строго определенные объекты, знаки, новых людей и т. п. Во-вторых, они помогают осознанию разрывов в ситуациях и формулированию новых задач (см. [Разин, 1964 b; Пантина, 1966]). В-третьих, они «подсовывают» детям новые средства и демонстрируют способы деятельности, необходимые для построения процессов, преодолевающих разрывы; здесь используются продукты науки, вырабатывающей опредмеченные средства и знания о «способах деятельности». В-четвертых, они помогают детям овладеть этими средствами и усвоить соответствующие способы деятельности. Действуя таким образом, взрослые направляют развертывание деятельности детей по строго определенным траекториям. Их действия как бы «замыкают» рассматриваемую систему; устанавливается строго определенная последовательность изменений условий деятельности (т. е. элементов С), причем характер и порядок их определяются теми изменениями, которые мы хотим получить в других элементах системы, в частности в Д, Е и В. Эти предполагаемые и необходимые изменения фиксируются в знаниях, а в соответствии с последними (и на основе других знаний о всей этой системе) вырабатываются знания о характере и порядке необходимых изменений в элементах С. Весь этот механизм развертывания деятельности может быть изображен схемой 19.
Знаки α, β… изображают в ней знания о необходимом развитии способностей детей (т. е. средств, способов и психическим функций), а знаки δ, ε… — знания о тех условиях деятельности, которые должны последовательно задаваться в обучении и воспитании.
Благодаря такому строению система развертывания деятельности детей оказывается имманентно развивающейся в точном смысле этого слова. Но она включает сознательно задаваемые условия обучения и воспитания и оказывается действительно развивающейся системой только благодаря им. Это, таким образом, не обычное для природы «естественное» развитие, а принципиально иное, характерное для организмов (включая сюда социальные структуры) «искусственное» развитие, осуществляющееся благодаря механизмам управления и управляющим структурам (см. ([19641; 1965 е; Непомнящая, 1964 а, 1965]). Важно отметить, что воспитателей и ученых здесь нельзя рассматривать как людей, управляющих развитием; от являются лишь элементами структуры, через которую или посредством которой осуществляется управление. Другим элементом управляющей структуры являются знания. И в зависимости от того, какой характер они имеют, развитие всей системы идет тем или иным путем.
Первым и основным элементом в знаниях, необходимых для организации обучения и воспитания, являются знания о тех «способностях», которыми должны обладать полностью подготовленные индивиды, легко включающиеся в процесс производства. Можно сказать, что это знания о целях обучения и воспитания в широком смысле (см. [1964 d; Юдин Э., 1963]). Вторым элементом их должны быть знания о той «траектории» формирования, по которой надо вести детей от нулевого состояния полной неподготовленности к заданному уровню развития (см. [1964 d, е; Непомнящая, 1964 а]). В силу такого характера педагогические знания задают систему не просто «искусственного», управляемого, но, сверх того, и «телеологического» развития деятельности.
28. Из проделанного анализа следует, что игра детей, как и всякая другая педагогическая форма, не имеет имманентного развития. Смена одних видов игровой деятельности другими определяется не закономерностями усложнения и внутренней обусловленности их друг другом, а задачей «продвигать» способности детей к определенным телеологически заданным состояниям. Это значит, что игра может иметь только управляемое, «искусственное» развитие.
Изучение закономерностей и механизмов управляемого развития имеет свои особенности. Конечно, можно было бы сопоставлять друг с другом последовательно развертывающиеся у детей формы игровой деятельности, выделять наиболее заметные изменения и формулировать это в виде правил. Возможно, что такие знания тоже могут принести где-либо пользу. Но они ровно ничего не дадут педагогической практике, так как не отвечают и не могут ответить на вопрос, как нужно строить и перестраивать систему педагогических форм, чтобы обеспечить формирование детей в направлении к заданному состоянию по кратчайшей, наиболее рациональной траектории.
Чтобы ответить на этот насущный педагогический вопрос, нужен совсем особый план и метод исследования, исходящий как раз из того, что мы имеем дело с «искусственной», управляемой системой. В самом общем виде он может быть охарактеризован как метод предельного расшатывания существующей системы, как выявление наиболее расходящихся «траекторий» формирования детей. Иначе еще он может быть назван методом типологических исследований. Только задав предельно широкий диапазон возможных траекторий, мы сможем сравнить их друг с другом и таким образом определить границы допустимых изменений в каждой, постепенно выявляя и составляя наиболее рациональную.
29. Но, чтобы начать систему типологических исследований, мы должны предварительно решить: можно ли рассматривать всю психику ребенка как единую, целостно развивающуюся систему? На наш взгляд, нельзя. Даже так называемые интеллектуальные способности не представляют цельной, в едином потоке развивающейся системы. Эта неоднородность системы психики еще больше увеличивается из-за различия моральных, эстетических и всяких других качеств.
Из этих положений вытекают важные следствия, касающиеся механизмов управляемого развития игры. Если в системе способностей ребенка есть принципиально различные составляющие со своими особыми линиями развития, то должно существовать и несколько различных линий педагогического развертывания игры, ориентированных на эти составляющие психики. Так, повторяя, хотя и на совершенно другой основе, известный тезис П. П. Блонского, мы приходим к положению, что у сравнительно развитого ребенка нет «игры вообще», а есть несколько различных систем игры и каждая из них, во-первых, имеет свою особую логику построения и развертывания, а во-вторых, нуждается в своих особых способах руководства. Если в формировании психических способностей мы выделяем линию умственного развития, то получаем одно направление развертывания игровой деятельности (см. [Пантина, 1962, 1963]), а если мы в способностях выделяем так называемые «качества общественности» или моральные нормы, то получим другие линии развертывания игры (см. [1964 b*; Усова, 1964 а, b; Надежина, 1964 а, b, 1965]).
VIII. Заключение
Нетрудно заметить, что в этой работе, по сути дела, нет положений, характеризующих специфику игры. И это не случайно. Мы ставили перед собой задачу рассмотреть методологию изучения игры и, следовательно, должны были анализировать только логические и общепедагогические моменты. Игра рассматривалась сквозь их призму и поэтому выступала либо как педагогическая форма вообще, либо как система взаимоотношений, либо как деятельность. Все положения этой работы формулировались относительно этих обобщенных предметов и лишь тем самым также и относительно игры. Они не описывают игру как таковую, но все изучение игры, по нашему мнению, может вестись только с их учетом и, более того, — только на их основе.
Литература
I. Работы Г. П. Щедровицкого
1957
a* Щедровицкий Г. П. «Языковое мышление» и его анализ // Вопросы языкознания. 1957. № 1. {С. 449–465 наст. изд. }.
b Щедровицкий Г. П., Алексеев Н. Г. 0 возможных путях исследования мышления как деятельности //Докл. АПН РСФСР. 1957. № 3; 1958. № 1,4; 1959. № 1,2,4; 1960. № 2,4,5,6; 1961. № 4,5; 1962. № 2–6.
1958
a* Щедровицкий Г. П. О некоторых моментах в развитии понятий // Вопросы философии. 1958. № 6. {С. 577–589 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. О строении атрибутивного знания. Сообщения I–VI //Докл. АПН РСФСР. 1958. № 1,4; 1959. № 1,2,4; 1960. № 6. {С. 590–630 наст. изд. }.
1959 Щедровицкий Г. П., Ладенко И. С. О некоторых принципах генетического исследования мышления // Тез. докл. на I съезде Общества психологов. Вып. 1. М., 1959.
1960
a* Щедровицкий Г. П. К анализу процессов решения задач // Докл. АПН РСФСР. 1960. № 5. {С. 667–672 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. Опыт анализа сложного рассуждения, содержащего решение математической задачи. (На правах рукописи). М., 1960.
c* Щедровицкий Г. П. и др. Принцип «параллелизма формы и содержания мышления» и его значение для традиционных логических и психологических исследований. Сообщ. I–IV // Докл. АПН РСФСР. 1960. № 2,4; 1961. № 4,5. {С. 1-33 наст. изд. }.
1961
a* Щедровицкий Г. П. О взаимоотношении формальной логики и неопозитивистской «логики науки» // Диалектический материализм и современный позитивизм. М., 1961.
b* Щедровицкий Г. П. Технология мышления //Известия. 1961. № 234.
1962
a* Щедровицкий Г. П. О различии исходных понятий «формальной» и «содержательной» логик // Методология и логика наук. Ученые зап. Том. ун-та. № 41. Томск, 1962. {С. 34–49 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. Усвоение мышления и проблемы творческой активности учащихся // 0 психологических особенностях творческой активности учащихся. Тез. докл. на межвуз. конф. М., 1962. с Щедровнцкий Г. П., Якобсон С. Г. К анализу процессов решения простых арифметических задач. Сообщения I–V // Докл. АПН РСФСР. 1962. № 2–6.
1963
a* Щедровицкий Г. П. О месте логики в психолого-педагогических исследованиях // Тез. докл. на II съезде Общества психологов. Вып. 2. М., 1963.
b* Щедровицкий Г. П. К методологии педагогического исследования игры // Материалы к симпозиуму. Ротапринт (Библиотека имени В. И. Ленина). М., 1963.
c* Щедровицкий Г. П. Методологические замечания к проблеме происхождения языка // Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1963. № 2. {С. 299–316 наст. изд. }.
d* Якобсон С. Г., Щедровицкий Г. П. Логико-психологический анализ способов решения простых арифметических задач //Тез. докл. на II съезде Общества психологов. Вып. 2. М., 1963.
1964
a* Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. М., 1964. {С. 155–196 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. Игра и «детское общество» // Дошкольное воспитание. 1964. № 4. {С. 673–681 наст. изд. }.
c* Щедровицкий Г. П. О принципах анализа объективной структуры мыслительной деятельности на основе понятий содержательно-генетической логики // Вопросы психологии. 1964. № 2. {С. 466–473 наст. изд. }.
d* Щедровицкий Г. П. Место логических и психологических методов в педагогической науке // Вопросы философии. 1964. № 7.
е* Щедровицкий Г. П. О необходимости типологических исследований в психологии и педагогике // Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащихся. Тез. докл. на межвуз. конф. М., 1964.
f* Щедровицкий Г. П. К характеристике критериев интеллектуального развития ребенка // Вопросы психологии. Тез. докл. на респ. психол. конф. Киев, 1964.
g* Щедровицкий Г. П., Костеловский В. А. К анализу средств и процессов познания пространственной формы. Сообщения I–II // Новые исследования в педагогических науках. Вып. 2,4. М., 1964–1965.
h* Щедровицкий Г. П., Садовский В. Н. К характеристике основных направлений исследования знака в логике; психологии и языкознании. Сообщения I–III // Новы е исследования в педагогических науках, Вып. 2,4,5. М., 1964–1965. {С. 515–539 наст. изд. }.
i* Щедровицкий Г. П., Юдин Э. Г. О применении понятия управления в психологических и педагогических исследованиях // Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащихся. Тез. докл. на межвуз. конф. М., 1964.
j* Щедровицкий Г. П., Якобсон С. Г. Сравнительный логико-психологический анализ способов решения арифметических задач (на укр. языке) // Радяньска школа. 1964. № 6.
1965
a* Щедровицкий Г. П. К характеристике наиболее абстрактных направлений методологии структурно-системных исследований // Проблемы исследования систем и структур. М., 1965.
b* Щедровицкий Г. П. Методологические замечания к проблеме типологической классификации языков // Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965.
c* Щедровицкий Г. П. Исследование мышления детей на материале решений простых арифметических задач // Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников. М., 1965.
d* Щедровицкий Г. П. 0 принципах классификации наиболее абстрактных направлений методологии системно-структурных исследований // Проблемы исследования систем и структур. М., 1965. e Лефевр В. А., Щедровицкий Г. П., Юдин Э. Г. «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах // Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции. М., 1965.
f* Генисаретский О. И., Щедровицкий Г. П. Методологическая картина дизайна // Программа научн. иссл. лаб. общетеор. иссл. отдела теории и методов худ. констр. ВНИИТЭ. Архив ВНИИТЭ. М., 1965 (см. Теоретические и методологические исследования в дизайне. Избранные материалы. Ч. I. Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 61. М., 1990). {С. 317–328 наст. изд. }.
g* Генисаретский О. И., Щедровицкий Г. П. Дизайн: проблемы исследований // Программа научн. иссл. лаб. общетеор. иссл. отдела теории и методов худ. констр. ВНИИТЭ. Архив ВНИИТЭ. М., 1965 (см. Теоретические и методологические исследования в дизайне. Избранные материалы. Ч. I. Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 61. М.,1990). {С. 329–333 наст. изд. }.
1966
a* Щедровицкий Г. П. 06 исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности // Обучение и развитие. Материалы к симпозиуму. М., 1966. {С. 197–227 наст. изд}.
b* Щедровицкий Г. П. Методологические замечания к педагогическому исследованию игры // Психология и педагогика игры дошкольника. М., 1966. {С. 687–715 наст. изд. }.
c* Щедровицкий Г. П. Заметки о мышлении по схемам двойного знания // Материалы к симпозиуму по логике науки. Киев, 1966. {С. 474–476 наст. изд. }.
d* Щедровицкий Г. П. «Естественное» и «искусственное» в развитии речи языка // Основные проблемы эволюции языка. Материалы Всесоюз. конф. по общ. языкознанию. Ч. 1. Самарканд, 1966.
e* Щедровицкий Г. П. К анализу исходных принципов и понятий формальной логики // Философ, иссл.: Труды Болгар, акад. наук. 1966.
f* Щедровицкий Г. П. 0 логическом смысле проблемы лингвистических универсалий // Конф. по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков. Тез. докл. М., 1966.
g* Щедровицкий Г. П. 0 различных планах изучения моделей и моделирования // Метод моделирования в естествознании. Тарту, 1966. {С. 631–633 назд. изд. }.
h* Щедровицкий Г. П. НадежинаР. Г. Развитие детей и проблемы нравственного воспитания // Обучение и развитие. Материалы к симпозиуму. М., 1966. {С. 682–686 наст. изд. }.
i* Щедровицкий Г. П., Юдин Э. Г. Педагогика и социология. Сообщение 1 // Новые исследования в педагогических науках. Вып. 7. М., 1966. {С. 342–349 наст. изд. }.
j* Shchedrovitzky G. P. Methodological problem; of system research // General Systems. 1966. Vol. XI. (Перевод работы 1964 a").
k* Лефевр В. А., Щедровицкий Г. П., Юдин З. Г. Анализ связей управления в социальных структурах и деятельности. (Место публикации не установлено). 1966.
I* Щедровицкий Г. П. Дизайн и его наука: «художественное конструирование» — сегодня, а что дальше? // Научный отчет по теме 0047(1). ВНИИТЭ. М., 1966 (см. Теоретические и методологические исследования в дизайне. Избранные материалы. Ч. I. Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 61. М., 1990). {С. 334–341 наст. изд. }.
1967
a* Щедровицкий Г. П. О методе семиотического исследования знаковых систем // Семиотика и восточные языки. М., 1967.
b* Щедровицкий Г. П. О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967. {С 350–359 наст. изд. }.
c* Щедровицкий Г. П. Что значит рассматривать язык как знаковую систему? // Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода». М., 1967. {С. 540–544 наст. изд. }.
d* Щедровицкий Г. П., Дубровский В. Я. Научное исследование в системе «методологической работы» // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967. E Щедровицкий Г. П., РозинВ. М. Концепция лингвистической относительности Б. Л. Уорфа и проблемы исследования «языкового мышления» // Семиотика и восточные языки М., 1967.
f* Schedrovitsky G. P. Concerning the analysis of initial hriniciples and conceptions of formal logic // Systematics. Vol. 5. 1967. N 2. (Перевод работы 1966 е).
g* Лефевр Я/4., Щедровицкий Г. П., Юдин 3. Г. «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах // Семиотика и восточные языки. М., 1967. {С. 50–56 наст. из/]. }.
1968 a* Щедровицкий Г. П. Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логика. М., 1968.
b* Щедровицкий Г. П. К анализу структуры, оснований и метода эвристики // IV Всесоюз. симпозиум по кибернетике. Материалы симпозиума. Тбилиси, 1968.
с* Щедровицкий Г. П. Модели новых фактов для логики // Вопросы философии. 1968. № 4.
d* Schedrovitsky G. P. Concerning the analysis of initial hriniciples and conceptions of formal logic // General Systems. Vol. XIII. 1 968. (Перевод работы 1966 е).
е* Scedrovickij G. P. Methodologische Bemerkungen zum Problem einer typologischen Klassifikation der Sprachen //Linguistics. 1968. N42. (Перевод работы 1965 b).
f* Щедровицкий Г. П. Лингвистика, психолингвистика, теория деятельности //Теория речевой деятельности. М., 1968. {С. 360–366 наст, изд. }.
1969
a* Щедровицкий Г. П. Проблема объекта в системном проектировании // Вторая Всесоюз. конференция по технической кибернетике. Тез. докл. М., 1969. {С. 399–400 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий // Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969.
1970
Щедровицкий Г. П. 0 системе педагогических исследований (методологический анализ) // Оптимизация процессов обучения в высшей и средней школе. Душанбе, 1970.
1971
a* Щедровицкий Г. П. Значения как конструктивные компоненты знака // Вопросы семантики. Тез. докл. М., 1971.
b* Щедровицкий Г. П. Человек и деятельность в инженерно-психологических исследованиях // Проблемы инженерной психологии. Вып. 1. М. 1971.
с* Щедровицкий Г. П. Понимание как компонента исследования знака // Вопросы семантики. Тез. докл. М., 1971.
d* Щедровицкий Г. П. 0 типах знаний, получаемых при описании сложного объекта, объединяющего «парадигматику» и «синтагматику» // Актуальные проблемы лексикологии. Докл. лингвист, конф. Ч. 1. Томск. 1971.
e* Щедровицкий Г. П. «Логическое» и «лингвистическое» в знаках (к характеристик е материал а терминологической работы) // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики. Ч. 1. М., 1971.
f* Щедровицкий Г. П. К проблеме существования терминов в тексте и в парадигматических системах // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики. Ч. 2. М., 1971.
g* Щедровицкий Г. П. Значения и знания // Актуальные проблемы лексикологии. Тез. докл. Ч. 2. Новосибирск, 1971.
h* Щедровицкий Г. П. Деятельность и понятие деятельности // Материалы IV Всесоюз. съезда Общества психологов. Тбилиси, 1971.
i* Schedrovitsky G. P. Configuration as a method of construction of complex knowledge // Systematics. Vol. 8. 1971. N 4.
j* Щедровицкий Г. П. Проблема соотношения логических и психологических исследований мышления в истории советской психологии // Материалы IV Всесоюз. съезда Общества психологов. Тбилиси, 197К
1972
a* Щедровицкий Г. П. Цели и продукты терминологической работы (методологические заметки о процессах становления терминологической деятельности) // Актуальные проблемы лексикологии. Новосибирск, 1972.
b* Stschedrowitzky G. P. Die Struktur des Zeichens: Sinn und Bedeutung // Ideen des exakten Wissens. Wissenschaft und Technik in der Sowjetunion. 1972. N 12.
1973
a* Щедровицкий Г. П. Системно-структурный подход в анализе и описании эволюции мышления // Мышление и общение. Материалы Всесоюз. симпозиума. Алма-Ата, 1973. {С. 477–480 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. Структура знака: смыслы и значения // Проблемы лексикологии. Минск, 1973.
c* Щедровицкий Г. П., Дубровский В. Я. Проблема объекта в системном проектировании // Методология исследования проектной деятельности. Тез. сообщ. Всесоюз. науч. конф. «Автоматизация проектирования как комплексная проблема совершенствования проектного дела в стране». Сб. 2. М., 1973.
d* Щедрювицкий Г. П., Надежина Р. Г. О двух типах отношений руководств а в групповой деятельности детей // Вопросы психологии. 1973. № 5.
е* Щедровицкий Г. П., Якобсон С. Г. Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание» // Мышление и общение. Материалы Всесоюз. симпоз. Алма-Ата, 1973.
1974
a* Щедровицкий Г. П. Смысл и значение // Проблемы семантики. М.,1974. {С. 545–576 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии. Обнинск, 1974. {С. 57–88 наст, изд}.
с* Щедровицкий Г. П. Два понятия системы // Труды XIII Межд. конгресса по истории науки и техники. Т. 1а. М., 1974. {С. 228–232 наст, изд}.
d* Щедровицкий Г. П. Коммуникация, деятельность, рефлексия // Исследование речемыслительной деятельности. Алма-Ата, 1974.
e* Щедровицкий ГЛ. Логико-психологический анализ процедур и способов решения простых арифметических задач // Психолого-педагогические проблемы обучения и развития. Душанбе, 1974.
1975
a* Щедровицкий Г. П. Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975. (С. 401–436 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. Проблема исторического развития мышления // Генетические и социальные проблемы интеллектуальной деятельности. Алма-Ата, 1975. {С. 496–514 наст. изд. }.
c* Щедровицкий Г. П. Исходные представления и категориальные средства теории деятельности (Приложение I к 1975 а'). {С. 233–280 наст. изд. }.
d* Щедровицкий Г. П. Общая идея метода восхождения от абстрактного к конкретному (Приложение II к 1975 а').
e* Щедровицкий Г. П. Категории «процесс — механизм» в контексте исследования развития (Приложение III к 1975 а").
f* Щедровицкий Г. П. Генетическое восхождение (Приложение IV к 1975 а').
1976
Щедровицкий Г. П. Проблемы построения системной теории сложного «популятивного» объекта // Системные исследования. Ежегодник 1975. М., 1976.
1977
a* Щедровицкий Г. П., Щедровицкий П. Г. Проблематизация и проблемы в процессах программирования решения задач // Логика научного поиска. Тез. докл. Свердловск, 1977.
1978
a* Щедровицкий Г. П. Методологический подход как средство объединения знаний из разных научных предметов // Методологические аспекты взаимодействия общественных, естественных и технических наук. Тез докл. М. — Обниск, 1978.
b* АросьевДЛ., Астахов В. И., Щедровицкий Г. П. Средства и методы проектирования годичного цикла спортивной подготовки. Макет учебно-деловой игры // Отчет КНГ МОГИФК по теме № 05-139-21. 1978.
1979
a* Щедровицкий Г. П. Комплексная организация научно-исследовательских работ как социотехническая систем а // Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. Ч. 2. Свердловск, 1979.
b* Поливанова С. Б., Щедровицкий Г. П. Методологическая организация мышления и деятельности как условие и средство комплексной организации НИР // Комплексный подход к научному поиску: Проблемы и перспективы. Ч. 2. Свердловск, 1979.
1981
a* Щедровицкий Г. П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник 1981. М., 1981. {С. 88-114 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. О двух способах структурно-системного представления объектов // Машинные методы обнаружения закономерностей. Рига, 1981.
1982
Shchedrovitsky C. P. Methodological organization of systems-structural research and development: principles and general scheme // General Systems. Vol. XXVII. 1982. (Перевод работы 1981 a *).
1983
a* ЩедровицкийГ. П. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятельности // Методы исследования, диагностики и развития международных трудовых коллективов. М., 1983.
b* Щедровицкий Г. П. Системодеятельностный подход в анализе и оценке места и функций естественнонаучных картин мира в современном мировоззрении // Научная картина мира как компонент современного мировоззрения. Материалы симпозиума. М. — Обнинск, 1983.
с* Щедровицкий Г. П., Котельников СИ. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности // Нововведения в организациях. Труды семинара. ВНИИ системных исследований. М., 1983. {С. 115–142 наст. изд. }.
1984
Щедровицкий Г. П. Синтез знаний: проблемы и методы // На пути к теории научного знания. М., 1984. {С. 634–666 наст. изд. }.
1985
a* Ойзерман М. Т., Рац М. В., Щедровицкий Г. П. Научные и практические вопросы создания проектов, эффективно реализуемых с точки зрения инженерных изысканий // Проблемы методологии и технологии инженерных изысканий. М., 1985.
b* Наградова Е. Я., Щедровицкий Г. П. Категории сложности изыскательных работ как объект исследований с системодеятельностной точки зрения // Проблемы методологии и технологии инженерных изысканий. М., 1985.
с* Shchedrovitsky C. P. Methodological organization of systems-structural research and development: principles and general scheme // Systems Research, II. Methodological Problems. 1985. (Перевод работы 1981 a*).
1987
a* Щедровицкий Г. П. Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1986. М., 1 987. {С. 281–298 наст. изд. }.
b* Щедровицкий Г. П. Методологический подход как средство объединения знаний из разных научных предметов // Методологические аспекты взаимодействия общественных, естественных и технических наук. Тез. докл. и выст. Ч. I–II. М. — Обнинск, 1987.
1991
Щедровицкий Г. П. Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов // Вопросы методологии. 1991. № 2. {С. 143–154 наст. изд. }.
II. Работы других авторов
Автоматизация в проектировании. М., 1972.
Акофф Р. Л. О природе систем //Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. 1971. № 3.
Акофф Р. Л. Планирование в больших экономических системах. М., 1972.
Акофф Р. Искусство решения проблем. М., 1982.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М., 1985.
Алексеев И. С. Возможная модель структуры физического знания // Проблемы истории и методологии научного познания. М., 1974 а.
Алексеев И. С. Принцип детерминизма и физическая картина реальности // Философия и естествознание. М., 1974 b.
Алексеев Н. Г. Проблема управления мыслительной деятельностью при решении алгебраических задач и их классификация // Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащихся. Тезисы докладов на межвузовской конференции. М., 1964.
Алексеев Н. Г. Формирование осознанного решения учебной задачи // Педагогика и логика. М., 1968.
Алексеев Н. Г., Москаева А. С. О некоторых психологических проблемах при решении текстовых задач // Психологія навчання і виховання. Тезисы докладов на республиканской психологической конференции. Киев, 1964.
Аристотель. Метафизика. М, 1937 а.
Аристотель. О душе. М., 1937 b.
Аристотель. Физика, М., 1937 с.
Аристотель. Аналитики. М., 1952.
Аристотель. Сочинения. В 4-х т. М., 1978.
Асмус В. Ф. Логика. М., 1947.
Асмус В. Ф. Шарль Серрюс и логика отношений // Ш. Серрюс. Опыт исследования значения логики. М., 1948.
Афанасьев В. Г. Научное руководство социальными процессами // Коммунист. 1965. № 12.
Афанасьев В. Г. Об интенсификации развития социалистического общества (проблемы взаимодействия науки, техники и управления). М., 1969.
Ахманов А. С. Формы мысли и законы формальной логики. К вопросу о предмете формальной логики // Вопросы логики. М., 1955.
Ахманов А. С. Логическое учение Аристотеля. М., 1960.
Бакрадзе К. Логика. Тбилиси, 1951.
Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. М., 1962.
Бернштейн Н. А. Некоторые назревающие проблемы регуляции двигательных актов // Вопросы психологии. 1957. № 6.
Вир Ст. Кибернетика и управление производством. М., 1963.
Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969.
Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.
Богданов А. А. Всеобщая организационная наука (тектология). В 3-х т. 8-е изд. Москва-Берлин, 1925–1929.
Большие системы: теория, методология, моделирование. М., 1971.
Больцман Л. Лекции по кинетической теории газов. М., 1956.
Борджану К. О научном характере понятия прогресса // Проблемы философии. М., 1960.
Бродский И. Н., Серебрянников О. Ф. О характере современной формальной логики II Вопросы философии. 1964. № 2.
Бутлеров A. M. Альдегиды, кетоны и нитропроизводные жирного ряда. Специальный куре органической химии. 1875.
Ветров А. А. Математическая логика и современная формальная логика // Вопросы философии. 1964. № 2.
Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940.
Виндельбанд В. Принципы логики // Логика. Вып. 1. М, 1913.
Винер Н. Кибернетика. М., 1958.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1959.
Войшвилло Е. К. К вопросу о предмете логики // Вопросы логики. М., 1955.
Волков Г. Н. Социология науки. Социологические очерки научно-технической деятельности. М., 1968.
Волков Г. Научно-техническая революция: естествознание и обществоведение // Правда. 1973, 25 февр. Восхождение от абстрактного к конкретному // Филее, энцикл. Т. 1. М., 1960.
Выготский Л. С. Мышление и речь. Психологические исследования. М. -Л., 1934.
Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956.
Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960.
Галилей Г. Беседы и математические доказательства… //Сочинения. Т. 1. М. -Л., 1934.
Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира — птоломеевой и коперниковой. М. -Л., 1948.
Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. Формирование начальных геометрических понятий на основе организованного действия учащихся // Вопросы психологии. 1957. № 1.
Гвишиани Д. М. Управление — прежде всего наука // Известия, 1963, № 118.
Гвишиани Д. М. Предисловие //Дейнеко О. А. Методологические проблемы науки управления производством. М., 1971.
Гвишиани Д. М. Организация и управление. М., 1972.
Гвишиани Д. М., Каменицер С. Е. Научно организовать труд по управлению производством // Социалистический труд. 1965. № 2.
ГвишианиД. М., ЛисичкинВ. А. Системы прогнозирования в планировании и управлении научными исследованиями и разработками. М., 1969.
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Ч. 1. Логика // Сочинения. Т. 1. М., 1934.
Гегель Г. В. Ф. Наука логики. // Сочинения. Т. 5–6. М., 1937.
Гейтинг А. Обзор исследований по основаниям математики. М., 1936.
Гелернтер Г. А., Рочестер Н. Интеллектуальное поведение машин, решающих задачи // Психология мышления. М., 1965.
Генисаретский О. И. Специфические черты объектов системного исследования // Проблемы исследования систем и структур. М., 1965.
Генисаретский О. И. Логический смысл моделей и моделирования //Метод моделирования в естествознании. Тез. докл. и выступлений на симпоз. Тарту, 1966 а.
Генисаретский О. И. Проблема смысла в содержательно-генетической логике // Методология и логика науки. М., 1966 Ь.
Генисаретский О. И. Понятие о деятельности. Деятельность проектирования // дизайн в сфере проектирования. Методологическое исследование. Т. 1. Архив ВНИИТЭ. № 470. 1967.
Генисаретский О. И. Опыт моделирования представляющей и рефлектирующей способностей сознания // Всесоюзный симпозиум по кибернетике. Тбилиси, 1968.
Генисаретский О. И. Опыт методологического конструирования общественных систем // Моделирование социальных процессов. М., 1970.
Генисаретский О. И. Методологическая организация системной деятельности // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975.
Гердер И. Г. Трактат о происхождении языка // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М. -Л., 1959.
Гессе Г. Игра в бисер. М., 1969.
Гильберт Д. Основания геометрии. М., 1948.
Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. М., 1947.
Глушков В. М. Построение автоматизированных систем управления // Актуальные проблемы управления. М., 1972.
Гоббс Т. Избранные произведения. В 2-х т. М., 1965.
Головнях В. В. Комплексирование оптимизационных, имитационных и логико-лингвистических моделей в автоматизированных системах управления летательным аппаратом // Вопросы кибернетики. Вып. 121. М., 1986.
Горохов В. Г. Методологический анализ системотехники. М., 1982 а.
Горохов В. Г. Современные комплексные научно-технические дисциплины // Вопросы философии. 1982 Ь. № 7.
Гослинг Б. Проектирование систем // Перевод № 567 ГКРЭ СССР. 1964.
Греневский Т. Кибернетика без математики. М., 1964.
Григорьев Э. П. Проектный метод прогнозирования и его использование при формировании бытовой предметной среды // Проблемы прогнозирования материально-предметной среды Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 2. М., 1972.
Гропп P. O. К вопросу о марксистской диалектической логике как системе категорий // Вопросы философии. 1959. № 1.
Грушин Б. А. Логические и исторические приемы исследования в «Капитале» К. Маркса. // Вопросы философия. 1955. № 4.
Грушин Б. А. О приемах и способах воспроизведения в мышлении исторических процессов развития // Канд. диссертация. МГУ, 1957.
Грушин Б. А. Маркс и современные методы исторического исследования // Вопросы философии. 1958. № 3.
Грушин Б. А. Очерки логики исторического исследования. М., 1961.
Грушин Б. А. Процесс развития (логическая характеристика категории в свете задач исторической науки) // Проблемы методологии и логики наук. Томск, 1962.
Гуд Г. Х., Макол Р. Э. Системотехника: введение в проектирование больших систем. М., 1962.
ГудожникГ. С. Научно-технический прогресс: сущность, основные тенденции. М., 1970.
Гуковский М. А. Механика Леонардо да Винчи. М. —Л., 1947.
Гуссерль Э. Пролегомены к чистой логике // Гуссерль Э. Логические исследования. Ч. 1. Спб., 1909.
Гущин Ю. Ф., Дубровский В. Я, ЩедровицкийЛ. П. К понятию «системное проектирование» // Большие информационно-управляющие системы. М., 1969.
Гущин Ю. Ф., Дубровский В. Я., Щедровицкий Л. П. О методических принципах инженерно-психологического проектирования // Проблемы инженерной психологии. Вып. 1. М., 1971.
Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.
Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958.
Дейнеко О. А. Методологические проблемы науки управления производством. М., 1971.
Джемпер М. Понятие массы в классической и современной физике. М., 1967.
Джонсон Ф. и др. Системы и руководство (теория систем и руководство системами). М., 1971.
Дизайн в сфере проектирования. Методологическое исследование. Т. 1 / Под ред. Г. П. Щедровицкого и О. И. Генисаретского // Архив ВНИИТЭ. № 470. 1967.
Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений. М. 1969.
Дубовская В. И. К вопросу о связях теории с компонентами учебной деятельности // Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции. М., 1965.
Дубровский В. Я. О природе и основаниях эффективности эвристических методов // IV Всесоюзный симпозиум по кибернетике, (материалы симпозиума). Тбилиси, 1968.
Дубровский В. Я. К проблеме распределения функций в системах «человек — машина» //Большие информационно-управляющие системы. М., 1969.
Дубровский В. Я. Об одной модели деятельности проектирования // Проблемы инженерной психология. Вып. 1. М., 1971 а.
Дубровский В. Я. Проблема знаний в инженерно-психологическом проектировании //Проблемы инженерной психологии. Вып. 1. М., 1971 b.
Дубровский В. Я., Щедровицкий Л. П. Проблема распределения функции в системах «человек — машина» // Инженерно-психологическое проектирование. Вып. 1. М., 1970 а.
Дубровский В. Я., Щедровицкий Л. П. Инженерная психология и развитие системного проектирования // Инженерно-психологическое проектирование. Вып. 2. М., 1970 b.
Дубровский В. Я., Щедровицкий Л. П. Проблемы системного инженерно-психологического проектирования. М., 1971 а.
Дубровский В. Я., Щедровицкий Л. П. Социальное назначение инженерной психологии // Проблемы инженерной психологии. Вып. 1. М., 1971 b.
Дубровский В. Я., Щедровицкий Л. П. Концепция машинизации проектирования как вида мыслительной деятельности // Методология исследования проектной деятельности. Всесоюз. науч. конф. «Автоматизация проектирования как комплексная проблема совершенствования проектного дела в стране». Сб. 2. М., 1973.
Дубровский В. Я., Щедровицкий Л. П. Проблемы модификации в системном проектировании // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975.
Дынин Б. С. К вопросу о характере проблем методологии // Философия, методология, наука. М., 1972.
Евенко Л. И. Системный анализ — инструмент обоснования управленческих решений // США: экономика, политика, идеология. 1970. № 8.
Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
Емельянов С. В. Современные проблемы научного управления // Цикл лекций о со временных методах планирования и управления народным хозяйством. М., 1970.
Емельянов С. В. Организационные системы управления: принципы построения структурных схем // Актуальные проблемы управления. М., 1972.
Епископосов Г. Л. Техника и социология. М., 1967.
ЖимеринД. Г. Проблемы автоматизации управления //Автоматизированные системы управления. М., 1972.
Жолковский А. К… Предисловие // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1964. № 8.
Жолковский А. К. и др. О принципиальном использовании смысла при машинном переводе // Труды Института точной механики и вычислительной техники. Машинный перевод — 1961. Вып. 2. М., 1961.
Жолковский А. К., Мельчук И. А. К построению действующей модели языка «Смысл-текст» // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1969. № 11.
Заде Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем. М., 1970.
Замошкин Ю. А. Психологическое направление в современной буржуазной социологии. М., 1958.
ЗигвартХ. Учение о суждении, понятии и выводе // Зигварт X. Логика. Т. 1. Спб., 1908 а.
ЗигвартХ. Учение о методе //Зигварт X. Логика. Т. 2. Вып. 1. Спб., 1908 Ь.
Зиновьев А. А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса) // Канд. диссертация. М., 1954.
Зиновьев А. А. Логическое строение знаний о связях // Логические исследования. М., 1959 а.
Зиновьев А. А. Следование как свойство высказываний о связях // Науч. докл. высшей школы. Философские науки. 1959 Ь. № 3.
Зиновьев А. А. 06 одной программе исследования мышления // Докл. АПН РСФСР. 1959 с. № 2.
Зиновьев А. А. О логической природе восхождения от абстрактного к конкретному // Филос. энцикл. Т. 1. М., 1960 а.
Зиновьев А. А. К вопросу о методе исследования знаний (высказывания о связях) // Докл. АПН РСФСР. 1960 b. № 3.
Зиновьев А. А. К определению понятия связи // Вопросы философии. 1960 с. № 8.
Зиновьев А. А. Логика высказываний и теория вывода. М., 1962.
Зиновьев А. А. Об основных понятиях и принципах логики науки // Логическая структура научного знания. М., 1965.
Зиновьев А. А., Ревзин И. И. Логическая модель как средство научного исследования // Вопросы философии. 1960. № 1.
Зинченко А. П. Игра. В Харькове проведен экспертный семинар по теме «Учебно-воспитательный процесс в вузе» // Архитектура. Приложение к «Строительной газете» от 25 апреля 1982.
Зинченко А. П. Игровая форма межпрофессионального обсуждения градостроительных проблем // Строительство и архитектура. 1983. № 8.
Зинченко П. И. Проблема непроизвольного запоминания // Научные записки Харьковского государственного педагогического института иностранных языков. Т. 1. 1939.
Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К. Маркса. М., 1960.
Ильенков Э. В. Предмет логики как науки в новой философии // Вопросы философии. 1965. № 5.
Ильенков Э. В. К истории вопроса о предмете логики как науки // Вопросы философии. 1966. № 2.
Ильенков Э. В. Идеальное // Филос. энцикл. Т. 2. М., 1962. Исследования по общей теории систем. М., 1969.
Калман Р. и др. Математическая теория систем. М., 1971.
Кант И. Критика чистого разума. Спб., 1907.
Кант И. Логика. Спб., 1915.
Кантор Г. Учение о множествах // Новые идеи в математике. Сб. 6. Спб., 1914.
Квейд Э. Анализ сложных систем (методология анализа при подготовке военных решений). М., 1969. Кибернетический сборник. Вып. 1. М., 1960.
Клини С. К. Введение в метаматематику. М., 1957.
Климовская Г. И. Опыт псевдогенетического поиска языковых универсалий //Языковые универсалии и лингвистическая типология М., 1969.
Клир Дж. Абстрактное понятие системы как методологическое средство // Исследования по общей теории систем. М., 1969. Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. В 2-х ч. Свердловск, 1979.
Кон И. С. О понятии исторического прогресса // Проблемы развития в природе и обществе. М. — Л., 1958.
Кон И. С. Прогресс общественный // Филос. энцикл. Т. 4. М., 1967.
Кондильяк Э. Б. Трактат о системах. М., 1938.
Кондорсэ Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.
Кондрашов И. А. К вопросу о происхождении языка // Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина. М., 1950.
Копнин П. В., Крымский С. Б. Заметки о логике современной и традиционной // Вопросы философии. 1965, № 7.
Коссериу Э. Синхрония, диахрония и история//Новое в лингвистике. Вып. III. M., 1963.
Косыгин Ю. А. Методологические вопросы системных исследований в геологии // Геотектоника. 1970. № 2.
Котарбиньский Т. Избранные произведения. М., 1963.
Кремянский В. И. Некоторые особенности организмов как «систем» с точки зрения физики, кибернетики и биологии // Вопросы философии. 1958. № 8.
Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К-Маркса. М., 1976.
Кузнецов Б. Г. Беседы по теории относительности. М., 1960. Курс для высшего управленческого персонала. М., 1970.
Кутта Ф. Человек. Труд. Техника. М., 1970.
Кутюра Л. Философские принципы математики. Спб., 1913.
Куффиньяль Л. Кибернетика — искусство управления. // Наука и человечество 1963. М., 1963.
Ладенко И. С. Об отношении эквивалентности и его роли в некоторых процессах мышления // Докл. АПН РСФСР. 1958 а. № 1.
Ладенко И. С. О процессах мышления, связанных с установлением отношения эквивалентности // Докл. АПН РСФСР. 1958 b. № 2.
Ладенко И. С. Проблемы обоснования математики и логической эмпиризм // Диалектический материализм и современный позитивизм. М., 1961.
Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы. М., 1967.
Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики // Исследования по общей теории систем. М., 1969.
Лапин И. И., Пригожий А. И. «Социальные инновации» — новое направление в организационной психологии на Западе // Психологический журнал. Т. 3. 1982. № 5.
Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме. М. -Л., 1936.
Лекторский В. А., Садовский В. Н. О принципах исследования систем (в связи с общей теорией систем Л. Берталанфи) // Вопросы философии. 1960. № 8.
Лекторский В. А. и др. История предмета философии // Филос. энцикл. Т. 5. М., 1970.
Ленин В. И. Философские тетради // ПСС. 4-е изд. Т. 38, М., 1958.
Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // ПСС. Т. 18., М., 1961
Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма //ПСС. Т. 27. М., 1962
Леонтьев А. А. Психолингвистика. Л., 1967.
Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.
Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры // Проблемы развития психики. М., 1959.
Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1959.
Леонтьев А. Н. О некоторых перспективных проблемах советской психологии // Вопросы психологии. 1967. № 6.
Леонтьев А. Н. Автоматизация и человек // Психологические исследования. Вып. 2. М., 1970.
Лефевр В. А. О способах представления объектов как систем //Тез. докл. симп. «Логика научного исследования» и семинара логиков. Киев, 1962.
Лефевр В. А. О различии «процесса решения» и «способа решения» задач // Тез. докл. на II съезде Общества психологов. М., 1963.
Лефевр В. А. О самоорганизующихся и саморефлексивных системах и их исследовании // Проблемы исследования систем и структур. М., 1965.
Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М., 1967.
Лефевр В. А. О способах представления объектов как систем // Философские проблемы современного естествознания. Вып. 14. Киев, 1969.
Лефевр В. А. Системы, нарисованные на системах // Системный метод и современная наука. Вып. 1. Новосибирск, 1970.
Лефевр В. А., Дубовская В. И. Способ решения задач как содержание обучения // Новые исследования в педагогических науках». Вып. 4. М., 1965.
Лисицин В. Н., Попов Г. Х. О науке управления // Плановое хозяйство. 1968. № 3. Логика научного поиска (тез. докл. к Всесоюз. симп.). Ч. 1. Свердловск, 1977. Логические исследования. М., 1959.
Локк Дж. Избранные философские произведения. Т. 1. М., 1960.
Ломов Б. Ф. Человек и техника. М., 1966.
Лосев А. Ф. Платон // Филос. энцикл. Т. 4. М., 1967.
Луканин Р. К., Касымжанов А. Х. Об исходных моментах проблемы взаимоотношения диалектики и формальной логики // Актуальные проблемы диалектической логики (мат. Всесоюз. симп. по диалектической логике). Алма-ата, 1971.
Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М., 1959.
Любищев А. А. Значение и будущее систематики // Природа. 1971. № 2.
Маковельский А. О. История логики. М., 1967.
Максвелл Дж. К. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля. М., 1938.
Мамардашвили М. К. Процесс анализа и синтеза // Вопросы философии. 1958. № 2.
Мамардашвили М. К. Некоторые вопросы исследования истории философии как истории познания // Вопросы философии. 1959. №: 12.
Мамардашвипи М. К. Формы и содержание мышления (к критике гегелевского учения о формах познания). М., 1968 а.
Мамардашвили М. К. Анализ сознания в работах К. Маркса // Вопросы философии. 1968 b. № 6.
Марков И. Б. Научно-техническая революция: анализ, перспективы, последствия. М., 1971.
Маркс К. К критике политической экономии. М., 1952.
Маркс К. Капитал. Т. 1. М., 1955 а.
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. З. М., 1955 Ь.
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1884 года //Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
Маркс К. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала») // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 26. Ч. ІІІ. М., 1964.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология //Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. З М., 1955 а.
Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или критика критической критики // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 2. М., 1955 Ь.
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
Мартине А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
Мах Э. Механика. Историко-критический очерк ее развития. Спб., 1909.
Мелещенко Ю. С., Шухардин С. В. Ленин и научно-технический прогресс. Л., 1969.
Мельников Г. П. Азбука математической логики. М., 1967 а.
Мельников Г. П. Системная лингвистика и ее отношение к структурной// Проблемы языкознания. Докл. и сообщ. советских ученых на X Межд. конгрессе лингвистов. М., 1967 b.
Мельников Г. П. Язык как система и языковые универсалии // Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969.
Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл-текст». М., 1974.
Месарович М. и др. Теория иерархических многоуровневых систем. М., 1973.
Металлы // Большая Сов. Энцикл. 2-е изд. Т. 27. М., 1954.
Метод моделирования в естествознании (тезисы докладов и выступлений на симпозиуме). Тарту, 1966.
Методологические проблемы науки. М., 1964.
Методология исследования проектной деятельности (Всесоюз. науч. конф. «Автоматизация проектирования как комплексная проблема совершенствования проектного дела в стране»). Сб. 2. М., 1973.
Минский М. На пути к созданию искусственного разума // Вычислительные машины и мышление. М., 1967.
Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. Спб., 1901.
Мирский Э. М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М., 1980.
Моисеев Н. Н. Компьютер ставит эксперимент // Литературная газета, 1 января 1973.
Моисеев Н. Н. Имитационные модели//Наука и человечество 1973. М., 1972.
Морено Дж. Социометрия. М., 1958.
Морз Ф. М., Кимбелл Д. Е. Методы исследования операции. М., 1956.
Москаева А. С. К анализу способа решения арифметических задач //Тез. докл. на II съезде Общества психологов. Вып. 2. М., 1963.
Москаева А. С. Анализ знаковых средств, необходимых для активного усвоения способов деятельности // Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащихся (тез. докл. на межвуз. конф.). М., 1964.
Москаева А. С. Алгоритмы и «алгоритмический подход» к анализу процессов обучения // Вопросы психологии. 1965. № 3.
Москаева А. С. Об одном способе исследования употребления моделей // Метод моделирования в естествознании. Тарту, 1966.
Москаева А. С. Математика и философия //Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967.
Москаева А. С. Логический анализ способов решения арифметических задач // Педагогика и логика. М., 1968.
Москаева А. С., Розин В. М. К анализу строения систем знания типа «Начал» Евклида. Сообщения I–II// Новые исследования в педагогических. Вып. 8 и 9. М., 1966.
Надежина Р. Г. Совместная деятельность детей и их взаимоотношения // Вопросы психологии. Тезисы докладов на республиканской психологической конференции. Киев, 1964 а.
Надежина Р. Г. Игра и взаимоотношения детей //Дошкольное воспитание. 1964 Ь. № 4.
Надежина Р. Г. Анализ детских групп как малых неоднородных систем // Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции. М., 1965.
Наторп П. Философия как основание педагогики. Спб., 1905.
Наука и учебный предмет // Советская педагогика. 1965. N 7.
Наука — техника — управление. Интеграция науки, техники и технологии // Организация и управление в Соединенных Штатах Америки. М., 1966.
Нейман Дж. Теория самовоспроизводящихся автоматов. М., 1971.
Непомнящая Н. И. О путях анализа проблемы усвоения и развития на основе логических и психологических методов // Тез. докл. на II съезде Общества психологов. Вып. 2. М., 1963.
Непомнящая Н. И. О методе генетического исследования в психологии // Вопросы психологии. Тез. докл. на республиканской психологической конференции. Киев, 1964 а.
Непомнящая Н. И. К вопросу об активности и самостоятельности учащихся в процессе обучения // Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащихся. Тез. докл. на межвуз. конф. М., 1964 b.
Непомнящая Н. И. Анализ некоторых понятий психологической концепции Жана Пиаже // Вопросы психологии. 1964 с. № 4.
Непомнящая Н. И. Отношение методов структурного генетического исследования в психологии // Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции. М., 1965.
Непомнящая Н. И. Состояние проблемы обучения и развития и задачи дальнейшей ее разработки // Обучение и развитие (материалы к симпозиуму). М., 1966 а.
Непомнящая Н. И. Теория Л. С. Выготского о связи обучения и развития // Обучение и развитие (материалы к симпозиуму). М., 1966 Ь.
Непомнящая Н. И. Понятия развития и научения в теории Ж. Пиаже // Обучение и развитие (материалы к симпозиуму). М., 1966 с.
Непомнящая Н. И. Педагогический анализ и конструирование способов решения учебных задач // Педагогика и логика. М., 1968.
Николаев В. В. Состояние и некоторые проблемы развития системотехники // Методологические проблемы системотехники. Л., 1970.
Ньюэлл А., Саймон Г. А. Имитация мышления человека с помощью электронно-вычислительной машины // Психология мышления. М., 1965.
Ньюэлл А. и др. Процессы творческого мышления //Психология мышления. М., 1965.
Обучение и развитие (материалы к симпозиуму). М., 1966.
Общая теория систем. М., 1966.
Овчинников Н. Ф. Понятия массы и энергии в их историческом развитии и философском значении. М., 1957.
Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М., 1969.
Организация и управление (вопросы теории и практики). М., 1968.
Остов Г. В. Техника и общественный прогресс. М., 1959.
О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960.
Пантина Н. С. Процесс возникновения сюжетной игры и его значение для умственного развития детей раннего возраста (формирование деятельности элементарного планирования) // Докл. АПН РСФСР. 1962. № 5.
Пантина Н. С. Умственное развитие ребенка в процессе возникновения сюжетной игры // Дошкольное воспитание. 1963. № 2.
Пантина Н. С. Исследование умственного развития детей в процессе деятельности с дидактическими игрушками // Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников. М., 1965.
Пантина Н. С. Исследование строения детской деятельности (на материале действий с дидактическими игрушками) // Психология и педагогика игры дошкольника. М., 1966.
Папуш М. П. К анализу концепции индикационного поля панели пульта управления как информационной модели //Проблемы инженерной психологии. Вып 1. М., 1971.
Папуш М. В. Проблема единства семиотики и схема «семиозиса» Ч. Морриса // Проблемы семантики. М., 1974.
Пископпель А. А. Экспериментальный метод и системное инженерно-психологическое проектирование // Проблемы инженерной психологии. Вып. 1. М., 1971.
Поварнин С. И. Логика. Пгр., 1916.
Поварнин С. И. Введение в логику. Пгр. 1921.
Поваров Г. Н. Логика на службе автоматизации и технического прогресса // Вопросы философии. 1959. № 10.
Пристли Дж. Избранные сочинения. М., 1934.
Проблема распределения функций в системах «человек — машина» // Инженерно-психологическое проектирование. Вып. 1. М., 1970.
Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции. М., 1965.
Проблемы исследования структуры науки (материалы к симпозиуму). Новосибирск, 1967.
Проблемы методологии системного исследования. М., 1970.
Проблемы прогнозирования материально-предметной среды // Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 2. 1972.
Проблемы рефлексии в научном познании. Куйбышев, 1983.
Проблемы теории проектирования предметной среды // Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 8. М., 1974.
Программно-целевой подход и деловые игры //Тез. докл. и сообщ. ко 2-й науч. — практ. науковедч. конф. Новосибирск, 1982.
Психология и педагогика игры дошкольника. М., 1966.
Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975.
Рамишвили Д. И. О психологической природе донаучных познаний (докл. на совещ. по вопросам психологии (1–6 июля 1953 г.). М., 1954.
Раппапорт А. Г. Методологический анализ трансформации функций прогнозирования // Проблемы прогнозирования материально-предметной среды. Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 2. М., 1972.
Раппапорт А. Г. Проектирование без прототипов // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975.
Раппапорт А. Г., Сазонов Б. В. Проблемы будущего и трансформация проектирования //Техническая эстетика. 1972. № 1.
Рашевский П. К. «Основания геометрии» Гильберта и их место в историческом развитии вопроса // Д. Гильберт. Основания геометрии. М. — Л., 1948.
Рашевский П. К. Геометрия и ее аксиоматика // Математическое просвещение. 1960. № 5.
Рефлексия // Филос. словарь. Philosophisches Worterbuch. M., 1961.
Рефлексия // Филос. энцикл. Т. 4. М., 1967.
Рефлексия в науке и обучении (тез. докл. и сообщ. к науч. — метод, конф.). Новосибирск, 1984.
Рождественский Ю. В. От редактора//Семиотика и восточные языки. М., 1967.
Розенбергер Ф. История физики. М. -Л., 1937.
Розин В. М. Логический анализ функций чертежа в геометрии // Тез. докл. на II съезде Общества психологов. Вып. 2. М., 1963.
Розин В. М. Анализ знаковых средств в геометрии // Вопросы психологии. 1964 а. № 6.
Розин В. М. Анализ способов деятельности в геометрии, представленных в виде сложной системы // Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащихся (тез. докл. на межвуз. конф). М., 1964 b.
Розин В. М. Функции символических и модельных средств в точных науках // Проблемы методологии и логика наук. Томск, 1965.
Розин В. М. Логический анализ происхождения функций моделей, употребляемых в естественных науках // Метод моделирования в естествознании. Тарту, 1966.
Розин В. М. Об изображении структуры науки // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967 а.
Розин В. М. Семиотический анализ знаковых средств математики // Семиотика и восточные языки. М., 1967 Ь.
Розин В. М. Структура современной науки // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967 с.
Розин В. М. Логико-семиотический анализ знаковых средств геометрии // Педагогика и логика. М., 1968
Розин В. М. Смысл прогностической деятельности в проектировании // Проблемы прогнозирования материально-предметной среды. Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 2. М., 1972.
Розин В. М., Москаева А. С. Предметы изучения структуры науки // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967.
Рузавин Г. И. К вопросу об отношении современной формальной логики и логики математической // Вопросы философии, 1964. № 2.
Румянцев A. M., Еремин A. M. К вопросу о науке управления социалистической экономикой // Вопросы экономики. 1967. № 1.
Руткевич М. Н. Развитие, прогресс и законы диалектики // Вопросы философии. 1965. № 8.
Садовский В. Н. Кризис неопозитивистской «логики науки» и современная зарубежная логика //Диалектический материализм и современный позитивизм. М., 1961.
Садовский В. Н. Аксиоматический метод построения научного знания // Философские вопросы современной формальной логики. М., 1962.
Садовский В. Н. Некоторые принципиальные проблемы построения общей теории систем // Системные исследования. Ежегодник 1971. М., 1972.
Садовский В. Н. Основания общей теории систем. М., 1974.
Сазонов Б. В. К критике неопозитивистского анализа «естественного» языка науки // Диалектический материализм и современный позитивизм. М., 1961.
Сазонов Б. В. Научное исследование, прогнозирование и конструирование в градостроительном проектировании (история и состояние проблемы) // Проблемы прогнозирования материально-предметной среды. Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 2. М., 1972.
Сазонов Б. В. К определению понятия «проектирование» // Методология исследования проектной деятельности. Всесоюз. науч. конф. «Автоматизация проектирования как комплексная проблема совершенствования проектного дела в стране». Сб. 2. М., 1973 а.
Сазонов Б. В. Методологические проблемы организации проектной деятельности // Техническая эстетика. 1973 Ь. № 3–4.
Сазонов В. В. Методологические проблемы в развитии теории и методики градостроительного проектирования // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975.
Сазонов Б. В. Деятельностный подход к инновациям // Социальные факторы нововведений в организационных системах. М., 1980.
Сазонов Б. В. Проект новшества и программирование инновационной деятельности (к программе исследований) // Структура инновационного процесса. М., 1981.
Саймон Г. Науки об искусственном. М., 1972.
Самсонова Е. Г., Воронина Л. А. Анализ строения эмпирической науки (на материале исследования физики) // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967.
Семенов Ю. Н. Общественный прогресс и социальная философия современной буржуазии. М., 1965.
Семиотика и восточные языки. М., 1967.
Сент-Дьердьи А. Введение в субмолекулярную биологию. М., 1964.
Серрюс Ш. Опыт исследования значения логики. М., 1948.
Сеченов И. М. Предметная мысль и действительность // Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947.
Сидоренко В. Ф. Прогнозирование как процедура проектирования// Проблемы прогнозирования материально-предметной среды. Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 2. М., 1972.
Симоненко О. Л. Особенности строения «технических» наук // Проблемы исследования структуры науки. Новосибирск, 1967.
Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962.
Системные исследования. М., 1969.
Смирницкий А. И. Объективность существования языка М., 1954.
Смирницкий А. И. Значение слова // Вопросы языкознания. 1955. № 2.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933.
Современная научно-техническая революция. Историческое исследование. М., 1967.
Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1971.
Спиркин А. Г., Сазонов Б. В. Обсуждение методологических проблем исследования систем и структур // Вопросы философии. 1964. № 1.
Степин B. C., Томильчик Л. М. Практическая природа познания и методологические проблемы современной физики. Минск, 1970.
Строгович М. С. Логика. М., 1949.
Стяжин Н. И. Формирование математической логики. М., 1967.
ТарскийА. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М., 1948.
Таубе М. Вычислительные машины и здравый смысл. Миф о думающих машинах. М., 1964.
Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке. М., 1962.
Тезисы докладов симпозиума «Логика научного исследования» и семинара логиков. Киев, 1962.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1965.
Телегина Э. Д. Взаимодействие человека и ЭВМ (обзор современных зарубежных работ) // Человек и компьютер. Вып. 1. М., 1972.
Теория речевой деятельности (проблемы психолингвистики). М., 1968.
Тода М., Шуфорд Э. Х. (мл.). Логика систем: введение в формальную теорию структуры // Исследование по общей теории систем. М., 1969.
Томсон Дж. Предвидимое будущее. М., 1958.
Трапезников В. Предприятие будущего // Известия, 1967, 18 мая.
Трубецкой И. С. Основы фонологии. М., 1961.
Труды по знаковым системам. Тарту, 1964.
Тьюринг А. Может ли машина мыслить? М., 1960.
ТюргоА. Р. Последовательные успехи человеческого разума //Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. М., 1937 а.
Тюрго А. Р. Рассуждение о всеобщей истории // Тюрго А. Р. Избранные философские произведения. М., 1937 b.
Уемов А. И. Методы построения и развития общей теории систем //Системные исследования. Ежегодник 1973. М., 1973.
Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978.
Усова А. П. Воспитание общественности у детей в игре // Дошкольное воспитание. 1964 а. № 4.
Усова А. П. Общественная жизнь детей в играх // Дошкольное воспитание. 1964 Ь. № 5.
ФайнбургЗ. И. К вопросу о планировании компонентов личности // Человек в социалистическом и буржуазном обществе. Материалы симпозиума. Вып. 1. М., 1966.
Федосеев П. Общественный прогресс на базе социализма // Коммунист. 1957. № 15.
Фихте И. Г. Факты сознания. Спб., 1914.
Формы превращенные // Филос. энцикл. Т. 5. М., 1970.
Фрадкина Ф. И. Развитие сюжета в игре ребенка раннего детства // Психология и педагогика игры дошкольника. М., 1966.
Хайкин С. Э. Механика. М., 1947.
Холл А. Л., Фейджин Р. Е. Определение понятия системы // Исследования по общей теории систем. М., 1969.
Человек в социалистическом и буржуазном обществе (материалы симпозиума). М., 1966.
Черчмен Ч. и др. Введение в исследование операций. М., 1967.
ЧестнатГ. Техника больших систем (средства системотехники). М., 1969.
Шатанштейн А. И. Теория кислот и оснований. М. — Л., 1949.
Швачкнн Н. Х. Экспериментальное изучение ранних обобщений ребенка // Известия АПН РСФСР. 1954. Вып. 54 а.
Швачкнн Н. Х. Психологический анализ ранних суждений ребенка // Известия АПН РСФСР. 1954. Вып. 54 Ь.
Швырев B. C. К вопросу о каузальной импликации // Логические исследования. М., 1959.
Швырев АС. К вопросу о путях логического исследования мышления) // Докл. АПН РСФСР. 1960. № 2.
Швырев B. C. О неопозитивистской концепции логического анализа науки //Диалектический материализм и современный позитивизм. М., 1961.
Швырев B. C. Некоторые проблемы применения символической логики к анализу естественнонаучного знания (на материале эволюции неопозитивистской «логики науки») // Методология и логика наук. Ученые зап. Том. ун-та. № 41. Томск, 1962.
Шинкарук В. М. Марксистский гуманизм и проблемы смысла человеческого бытия // Вопросы философии. 1969. № 6.
Шор Р. Краткий очерк лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX (послесловие) // В. Томсен. История языковедения до конца XIX века. М., 1938.
Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М. — П., 1923.
Эйнштейн А. Сущность теории относительности. М., 1955.
Эллис Д., Людвиг Ф. Строгое определение понятия системы // Исследования по общей теории систем. М., 1969.
Эльконин Д. Б. Детская психология (развитие ребенка от рождения до семи лет). М., 1960.
Эльконин Д. Б. Основные вопросы теории детской игры // Психология и педагогика игры дошкольника. М., 1966.
Энгельс Ф. Антидюринг. М., 1957.
Энгельс Ф. К. Маркс «К критике политической экономии» // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М., 1959.
Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М., 1959 а.
Эшби У. Р. Применение кибернетики в биологии и социологии // Вопросы философии. 1959 Ь. № 12.
Юдин Б. Г. Становление и характер системной ориентации // Системные исследования. Ежегодник 1971. М., 1972.
Юдин Э. Г. О некоторых аспектах логического исследования содержания обучения в зависимости от целей образования // Тез. докл. на II съезде Общества психологов. Вып. 2, М., 1963.
Юдин Э. Г. Деятельность как объяснительный принцип и как предмет научного изучения // Вопросы философии. 1976. № 5.
Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978.
Юркевич П. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта. М., 1865.
Юшкевич А. П. История математики в средние века. М., 1961.
Язык // Краткий философский словарь. 3-е изд. 1952.
Язык как знаковая система особого рода. Материалы к конференции. М., 1967.
Якобсон С. Г., Прокина Н. Ф. Организованность и условия формирования ее у младших школьников. М., 1967.
Янг С. Системное управление организацией. М., 1972.
Яновская С. А. О так называемом «определении через абстракцию» // Философия математики. М., 1936.
Янч 3. Прогнозирование научно-технического прогресса. М., 1970.
* * *
AckoffR. 1. The revolutions we are in. Preprint. 1972. Acta psychologica. Vol. X. 1954. N 1, 2, 4.
Ajdukiewicz K. Three concepts of definition // Logique et Analyse. Vol. 1. 1958. N 3–4.
Anderson I. E. Dynamics of development. System in process // The concept of development. Minneapolis, 1957.
Ansoff H. J. A quasi — analytic method for long range planning // Management sciences: models and techniques. Proceedings of the Sixth international meeting of the institute of management sciences. Vol. 2. N. Y., 1960.
Ansoff H. J. Corporate strategy. An analytical approach to business policy for growth and expansion. N. Y. etc., 1965.
Ansoff H. J., Brandenburg R. C. A program of research in business planning // Management science. Vol. 13. Baltimore, 1967. N 6.
Bar-Hillel Y. Logical syntax and semantics // Language. Vol. 30. 1954. N 2.
Beck Th. Leonardo da Vincis Ansicht vom frein falle schwerer Korper // ZVDY. 1907. N35. Behavioral Sciences Division. Report. N. Y., 1953.
Berelson B. Behavioral sciences // International encyclopedia of social science. Vol. III. N. Y., 1968.
Berelson В., Steiner G. A. Human behavior. An inventory of scientific findings. N. Y. etc., 1964.
Bertallanffy L. Zu einer allgemeinen systemlehre // Biologia Generalis. Bd. 19. Wien, 1949. H. 1.
Bertalanffy L. von. General system theory // General Systems. Vol. I. Ann Arbor, 1956.
Bertalanffy L. von etal. General system theory. A new approach to unity of science // Human biology. Vol. 23. Baltimore, 1951. N 4.
Board R. The psychoanalysis of organizations. L, 1977.
Bochenski I. M. Formale Logik. Freiburg-Munchen, 1956
BoisaeqE. Dictionaire etymologique de la langue grecque. P., 1916.
Boole G. The mathematical analysis of logic, being an essay toward a calculus of deductive reasoning. L., 1847.
Boole C. An Investigation of the laws of thought. L., 1854.
Boole G. Logic and reasoning // Collected logical works. Vol. 2. Chicago-London, 1940. Boston Studies in the philosophy of science. Vol. VIII. Symposium: History of science and its rational reconstruction. Dordrecht, 1971.
Branch M. C. Planning aspects and applications. N. Y., 1966.
Brosses Ch. Traite de la formation mecanique des langues et des principes physiques de Petymologie. 2 vols. P., 1765 (русск. перевод: Бросс Ш. Рассуждение о механическом составе языков и физических началах этимологии. Ч. 1–2. Спб. 1821–1822).
Brouwer L. E. J. Intuitionistische Betrachtungen uber den Formalismus. Berlin, 1928. BurksA. The logic of causal proposition // Mind. Vol. V. 1951.
BuryJ. B. The idea of progress. L., 1924.
Carnap R. Abriss der Logistik. Wien, 1 929.
CarnapR. Die alte und neue Logik // Erkenntnis. Bd. I. 1930-31.
Carnap R. Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934.
CarnapR. Introduction to semantics. Cambridge, Mass., 1946.
CarnapR. Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit. Wien, 1958.
Chomsky N. Logical syntax and semantics: their linguistic relevance // Language. Vol. 31. 1955.
Church A. Rudolf Carnap. Introduction to semantics // The philosophical review. Vol. III. 1943. N3. Criticism and the growth of knowledge. Cambridge, 1970.
Deitz £. Picture theory of meaning // Essays in conceptual analysis. L., 1956.
Dale E. Long range planning. L., 1967.
Dubislav V. W. Die Definition. Lpz., 1931. Exploring individual and organizational boundaries. A Tavistock open systems approach. Chichester, 1979.
Friedmann G. La crise du progres. P., 1936.
Ford Foundation. Report of the study for the Ford Foundation in policy and program. N. Y., 1949.
Frege G. Begriffschrift, eine der arithmetischen nachgebildeten Formelsprachen des reinen Denkens. Halle. 1879.
Frege G. Ьber Sinn und Bedeutung // Zeitschrift fьr Philosophie und philosophische Kritik. Neue Folge. Bd. 100. 1892.
Frege G. Der Gedanke. Eine logische Untersuchung // Beitrдge zur Philosophie des deutschen Idealismus. Bd. I. 1918.
Frege G. Logik // Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem NachlaЯ. Hamburg, 1971.
Gosling W. Design of engineering systems. N. Y. -L., 1962. Gersch W.,
Lдhning G. Probleme der Systemuntersuchungen bei der Modellierung des Informationprozesses // Fertigungstechnik und Betrieb. 19 Jg. Berlin, 1969. H. 6.
GulleyN. Plato's theory of knowledge. L., 1962.
Hall A. R. The scientific revolution. 1500–1800. L, 1954.
Harris D. B. Problems in formulating a scientific concept of development // The concept of development. Minneapolis, 1957.
Heinzmann G. Analyse von Dokumenten auf Systemtheoretischer Grundlage // Nachrichten fьr Dokumentation in Technik und Wissenschaft. 18 Jg. Frankfurt a. M., 1967. H. 3–4.
Hempel K. Studies in the logic of confirmation // Mind. Vol. 54. 1945.
Herder J. G. Abhandlung ьber den Ursprung der Sprache. Berlin, 1772.
Herders Werke. Bd. 1–5. Weimar, 1957.
Hielmslev L. Dans quelle mesure les significations des mots peuvent elles etre consideres comme formant une structure? // Report for the Eighth international congress of linguists. Vol. I. Oslo, 1957.
Historical and philosophical perspectives of science // Minnesota. Studies in the philosophy of science. Vol. V. Minneapolis, 1971.
HollA. D. Methodology for system engineering. Princeton, 1962.
Husserl E. Ideen zu einer reinen Phдnomenologie und phдnomenologischen Philosophie. Bd. 1. Haag, 1950 а.
Husserl E. Allgemeine Einfьrug in die reine Phдnomenologie // Gesammelte Werke. Bd. 3. Buch 1. Haag, 1950 b.
Jacobson R. Linguistics glosses to Goldstein's «Wortbegriff» //Journal of individual psychology. Vol. 15. 1959. N 1.
Kцhler W. Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationдren Zustand. Eine naturphilosophische Untersuchung. Braunschweig, 1920.
Kцhler W. Gestaltpsychologie. N. Y., 1929.
Kцhler W. Psychologische Probleme. Berlin, 1933.
Kuhn T. The Structure of scientific revolutions. Chicago, London. 1962.
Lakatos I. Infinite regress and the foundations of mathematics // Aristotelian society for the systematic study of philosophy. Vol. 36. L., 1962.
Lakatos I. Criticism and the methodology of scientific research programs // Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 69. 1968.
Lakatos I. Falsification and the methodology of scientific research programs // Criticism and the growth of knowledge. Cambridge, 1970.
Lakatos I. The changing logic of scientific discovery. 1972.
LaszloE. Introduction to systems philosophy: toward a new paradigm of contemporary thought. N. Y., 1972.
LickliderJ. Problems in man-computer communication // Communication processes. N. Y., 1965.
Licklider J. Man-machine communication // Annual review of information science and technology. Vol. 3. Chicago, 1968.
March J. G., Simon H. A. Organizations. N. Y. etc., 1965. Materna P. Zu einigen Fragen der modernen Definitionslehre. Praha, 1959.
Mead C. H. The philosophy of act. Chicago, 1945.
Miller J. G. Toward a general theory for the behavioral sciences // American psychologist. Vol. 10. Lancaster, 1955. N 9.
MonboddoJ. B. On the origin and progress of language. Vol. I–V1. 1773–1792.
Morgan A. Formal logic or the calculus of inferens, necessery fnd probable. L., 1847.
Nagel E. Determinism and development // The concept of development. Minneapolis, 1957. New perspectives in organization research. N. Y., 1964.
Ogden C., Richards I. The meaning of meaning. L., 1953.
Parsons T. The structure of social action N. Y., 1937.
Parsons T. Essays in sociological theory pure and applied. Glencoe, 1949.
Parsons T. An approach to psychological theory in terms of the theory of action // Psychology: A study of a science. Vol. III. N. Y., 1959.
Parsons T. The general interpretation of action // Theories of society. Vol. I. N. Y., 1961 a.
Parsons T. The point of view of the author // The social theories of Talcott Parsons. A critical examination. N. Y., 1961 b.
Parsons T. Essays in sociological theory. L., 1964 a. Parsons T. The social structure and personality. L., 1964 b.
Parsons Т., Bales R. F. Family, socialization and interaction process. Glencoe, 1955.
Parsons T. et al. Working papers in the theory of action. N. Y., 1953.
Parsons Т., Smelser N. J. Economy and society. A study in the integration of economic and social theory. L.,1956.
Peano K. Arithmetices principia, nova methodo expуsita. Torino, 1889.
Popper K. Logik der Forschung. Wien, 1935.
Popper K. The Logic of scientific discovery. L, 1959.
Popper K. Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge. N. Y. L., 1963.
Popper K. Epistemology without a knowing subject // Proceedings of the Third International Congress for logic, methodology and philosophy of science. Amsterdam, 1970.
Prakseologia (N 1-22. Materialy prakseologiczne). Warszawa, 1966.
Priestley J. The course of lectures about the theory of language and universal grammar. 1762.
RaynalC. T. Histoire philosophique et politique… // Oeuvres. V. 1–4. Genйve, 1784.
Reichenbach H. Elements of symbolic logic. N. Y., 1944.
Reichenbach H. Theory of probability. Los Angeles, 1949.
Rйvйsz C. Ursprung und Vorgeschichte der Sprache. Bern, 1946.
Rйvйsz G. Denken und Sprechen // Acta psychologica. Vol. 10. 1954. N 1–2.
Robinson R. Definition. Oxford, 1954.
Rousseau J. J. Discours sur l'origine et les fondements de l'inйgalitй parmi les hommes. Amsterdam, 1755 (русск. перевод: Руссо Ж. Ж. 0 причинах неравенства. Спб., 1907).
Russell В. An inquiry into meaning and truth. N. Y., 1940.
ScholzH. Geschichte der Logik. Berlin, 1931.
Schopenhauer A. Die Welt als Wille und Vorstellung. Lpz., 1819 (русск. пер.: Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1901).
Schrцder E. Der Operationskrise des Logikkalkьls. Lpz., 1877.
Simon H. A. Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organization. N. Y., 1947.
Smith A. Consideration concerning the first formation of language and the different genins og original and compound languages. L., 1759.
Specht E. K. Ьber die primдre Bedeutungder Wцrter bei Aristoteles //Kant-Studien. Bd. 51. 1959/6O. H. I.
Spengler O. Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens. Mьnchen, 1931.
Steinthal H. Der Ursprung der Sprache im Zusammenhange mit den letzten Fragen alles Wissens. Berlin, 1877.
Studer R. G. Human systems design and the management of change // General Systems. Vol. XVI. Ann Arbor, 1971.
Systems thinking. Hamondsworth, 1969.
The behavioral sciences today. N. Y. etc., 1964.
The planning of change. Reading in the applied behavioral sciences. N. Y., 1961.
Toynbee A. J. A study of history. Vol. 1-12. L., N. Y., 1 934- 1961.
Toward a general theory of action. Oxford, 1951.
Trends in general systems theory. N. Y., 1972.
Unfinished tasks in the behavioral sciences. Baltimore, 1961.
Vasspeg AT. On organizing of systems // Information processing machines. Prague, 1965. N 11.
Vico G. Vom Wesen und Weg der Geistigen Bildung. Bonn, 1947.
Weber M. Theories of social and economic organizations. N. Y., 1947.
Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Kцln-Berlin, 1964.
WeiЯgerber L. Sprachwissenschaft und Philosophie zum Bedeutungsproblem // Blдtter fьr deutsche Philosophie. Bd 4. 1930.
Wilson C. William Heytesbury. Medieval logic and the rise of mathematical physics. Madison, 1956.
Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen. 1953.
Wohlwill E. Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes // Zeitschrift fьr Vцlkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Bd. X1V–XV. 1883–1884.
Wohlwill E. Ein Vorgдnger Galileis im 6 Jahrhundert // Physikalische Zeitschrift. 1906. H. 1.
Wright G. H. von. The logical problem of induction. Oxford, 1957.
ZieleniewskyJ. Stan i osiagnecia prakseologii oraz teorii orgarizacji w Polsce // Prakseologia. Warszawa, 1971. N 37.
Zinovcv А. К problem u abstraktnнho a konkrйtnнho poznatku // Filosoficky Casopis. Praha. 1958. N 2.
Указатель имен
Абеляр П. - 554
Бродский И. Н. — 357
Авксентьев В. Л. — 132
Бросс Ш. - 504
Айдукевич К. — 629, 630
Аккерман В. — 27,36
Бруно Дж. — 510
Буль Дж. — 9, 21. 497, 661
Акофф Р. — 57, 88, 90, 93, 236,
Буряк А. П. - 132 281, 288, 404, 408, 417,
Бутлеров A. M. — 3 420–421, 423, 425, 433
Бэкон Р. - 151
Александр Афродизийский — 355
Бэкон Ф. - 9, 16, 37, 145, 148, 184,
Алексеев И. С. — 661 292, 508
Алексеев Н. Г. — 1, 243, 684, 703,
Бюлер К. - 363,516 711
Аристотель — 7, 8, 9, 11–16, 20–21,
Вайсгербер Л. — 516, 546, 554 31–33, 35, 151, 160, 233,
Вазина К. Я. — 132 253,256,271,290,354,485,
Валла Л. — 510 498–499, 504, 554, 560, 579,
Вебер М. — 237 583, 584, 616, 619
Вернадский В. И. — 502
Аросьев Д. А. — 118
Ветров А. А. — 357
Архимед — 451
Вивес X. — 392
Асмус В. Ф. - 27–31, 184, 606
Вико Дж. — 414, 504–506, 508
Астахов В. И. — 118
Виндельбанд В. — 26–27, 29, 36
Афанасьев В. Г. — 420, 427, 433
Винер Н. — 301, 438
Ахманов А. С — 14, 17,30,497, 504
Виноградов В. В. — 594
Витгенштейн Л. — 14–15, 25,
Бакрадзе К. — 606 516, 662
Бардо Б. — 201
Войшвилло Е. К. — 30
Беккер Г. — 345
Волков Г. Н. — 93, 418
Бенеке Ф. Э. — 30
Воробьев Ю. Л. - 132
Бернштейн Н. А. — 579
Воронина Л. А. — 247, 649
Бернулли Д. — 252
Выготский Л. С. — 303, 451–453.
Бернулли И. — 178, 301 510, 516, 637, 688
Берталанфи Л. фон — 57, 156, 249
Бертолле К. Л. — 588
Гаврилов М. А. — 16
Бир С. — 170, 173
Гален — 9
Блауберг И. В. — 57, 88, 249
Галилей Г. - 148, 160–161, 178, 292.
Блонский П. П. — 688, 715 580, 583–588, 661
Богданов А. А. — 90
Гальперин П. Я. — 626
Бойль Р. — 186, 188
Гвишиани Д. М. — 90, 404, 420, 432
Больцман Л. — 661
Гегель Г. - 4, 162, 180–181, 195,
Борджану К. — 504–506 233, 241. 272, 275, 303–304,
Босков А. — 345 486,491,498,506,510,525, 554
Гейтинг А. — 661
Джонсон Ф. — 90
Гелернтер Г. А. — 562
Джордан Н. — 399
Генисаретский О. И. — 99, 117,
Диксон Дж. — 236 133,135,228,243,256,262,
Дубовская В. И. — 352, 389, 702, 704 283,288,292,317,329,370,
Дубровский В. Я. — 90, 105, 230–231, 379, 383, 489, 501, 555, 564–236, 246, 254, 360, 404–405, 565, 570, 650, 654, 663 433, 562, 650
Гербарт И. — 682
Дудченко В. С. — 132
Гердер И. Г. — 504
Дунс Скотт — 561
Гершель Дж. Ф. — 184
Дынин Б. С. — 547
Гессе Г. — 137
Гильберт Д. — 27, 36, 48, 65, 90,
Евенко Л. И. — 90 164, 516, 554, 619, 661
Евклид — 48, 151
Глушков В. М. — 402–403, 407
Ельсмлев Л. — 25, 50, 234–235,
ГоббсТ. — 15, 372–373, 513 286, 516, 518
Головняк В. В. — 281
Емельянов С. В. — 406, 409, 418,
Гординер А. — 363 420, 422–425, 432, 434
Горохов В. Г. — 138, 143
Епископосов Г. Л. — 418
Гослинг У. — 236, 259
Еремин A. M. — 420
Греневский Т. — 237
Григорьев Э. П. — 432
Жимерин Д. Г. — 420
Гропп P. O. — 38
Жолковский А. К. - 557–558, 564
Грушин Б. А. — 39, 181, 303, 314, 569, 708–709
Заде Л. — 88, 90
Гуд Г. Х. — 65, 90, 170, 236
Замошкин Ю. А. — 345
Гудожник Г. С. — 418
Зигварт X. - 612, 659
Гуковский М. А. — 214, 224, 561,
Зиновьев А. А. — 1, 4–5, 9, 18, 586–587, 661 31–32, 42, 46, 181–186, 217,
Гумбольдт В. — 233, 241, 575 224, 260, 300–301, 303, 305,
Гуссерль Э. — 41,236,272,486, 516 355, 357, 379, 503, 559, 569,
Гущин Ю. Ф. — 90, 231, 236, 246, 593, 602, 619–621 254, 405, 500, 563
Зинченко А. П. — 132, 283, 293
Гэлбрейт Дж. — 269 Зинченко П. И. — 510
Д'Аламбер — 178, 301
Ильенков Э. В. — 217, 354, 357, 503
Дворецкий И. Х. — 612
Иннокентий III — 510
Дезоер Ч. — 88, 90
Дейнеко О. А. — 420, 426–427
Казарновский А. С. — 132
Дейтц Е. — 14
Калман Р. — 90
Декарт Р. — 37, 148, 151, 508
Каменицер С. Е. — 420
Демокрит — 160
Кант И. — 26, 36, 235, 271, 485–486,
Демосфен — 611 634
Джеммер М. — 550
Кантор Г. — 159–160
Карнап Р. — 21–22, 24–27, 31, 34,
Леонтьев А. А. — 234 36, 41, 497, 608, 661
Леонтьев А. Н. — 303, 404, 688
Касымжанов А. Х. — 498
Лефевр В. А. — 50, 247, 256, 262,
Квейд Э. — 57, 88, 90, 236 273, 277, 352, 379, 389, 395,
Кёлер В. — 70, 301 472–473, 487, 489, 493–494,
Кимбелл Д. Е. — 236 503, 523, 688, 702, 704
Клини С. К. — 65, 90, 164
Линус Ф. — 188
Климовская Г. И. — 263
Лисицин В. Н. — 420
Клир Дж. — 106, 249
Лисичкин В. А. — 432
Коменский Я. — 392
Локк Дж. — 15,271,390,485,518,
Кон И. С. — 504, 506, 508 638
Кондильяк Э. Б. — 70, 518, 634, 638
Ломов Б. Ф. — 404
Кондорсэ Ж. А. — 414, 504–505,
Лосев А. Ф. — 504 508, 511–514
Лосский Н. — 3
Кондрашов И. А. — 454
Луканин Р. К. — 498
Копнин П. В. — 354, 357
Лукасевич Я. — 22, 30, 34, 43, 355,
Костеловский В. А. — 1 497
Крымский СБ. — 354, 357
Любищев А. А. — 90
Коссериу Э. — 50
Людвиг Ф. — 249
Косыгин Ю. А. — 90
Котарбиньский Т. — 224, 237
Маковельский А. О. — 497, 504
Крейк К. — 399
Макол Р. Э. - 65, 90, 170
Кремянский В. И. — 301
Максвелл Дж. К. — 661
Кузнецов Б. Г. — 526
Мамардашвили М. К. — 275, 279,
Кузьмин В. П. — 90 490, 503,510–511, 525–526
Кун Т. — 510, 549
Манетти Дж. — 510
Курилович Е. — 518
Маре Ж. — 201
Кутта Ф. — 418
Мариотт Э. — 186
Кутюра Л. — 27, 629–630
Марков И. Б. — 418
Куффиньяль Л. — 157
Маркс К. — 2, 4, 39, 61, 67, 91, 96, 144, 164, 180–181, 195, 241,
Лавуазье А. — 229 279–280, 302–304, 324,
Ладенко И. С. — 21, 47, 527–528, 454–455, 462, 488, 505–506, 588, 598, 670, 672 525, 555, 566, 577, 588,
Лакатос И. — 253,496,510,549, 661 641–642, 688
Ланге О. — 249
Мартине А. — 50
Лапин И. И. — 294
Матерна П. — 629
Лейбниц Г. — 271, 442, 485, 518,
Мах Э. — 550 587, 638
Меерович М. Г. — 284–285
Лекторский В. А. — 156, 301,
Мелещенко Ю. С. — 418 509–510
Мельников Г. П. — 249, 252, 254
Лем С. — 241
Мельчук И. А. — 557–558, 562, 564
Ленин В. И. — 13, 417, 641
Менделеев Д. И. — 229
Месарович М. — 88, 90
Пеано Д. — 9, 21, 516, 661
Мид Дж. Г. — 237
Петти В. — 645
Милль Дж. Ст. — 9, 16, 184, 616
Пикко делла Мирандола — 510
Минский М. — 404
Пирс Ч. — 9, 21
Минто В. — 184
Пископпель А. А. — 405
Мирский Э. М. — 115, 120, 138, 143
Пифагор — 299 293
Платон — 151, 440, 485, 498
Михеев Ю. М. — 132
Плутарх — 611
Моисеев Н. Н. — 402–403
Поварнин СИ. — 30, 182
Монбоддо Дж. Б. — 504
Поваров Г. Н. — 14, 16, 71–72
Монтень М. — 510
Попов Г. Х. — 420
Морган А. де — 9
Поппер К. — 253, 510, 549, 608
Морено Дж. Л. — 345
Порциг В. — 516
Морз Ф. М. — 236
Пригожий А. И. — 294
Моррис Ч. - 516, 554
Пристли Дж. — 504, 506
Москаева А. С. — 203, 217,
Прокина Н. Ф. — 236, 268, 389, 685 243, 247, 283, 352, 472–473,
Пру (Пруст) Ж. Л. — 588 501, 532, 573, 649–650, 654,
Птолемей К. — 151 661, 665, 698, 703–704
Мур Дж. — 16, 516
Рабле Ф. — 510
Рамишвили Д. И. — 591
Надежина Р. Г. - 117,345,679, 682
Раппапорт А. Г. — 432, 650 715
Раппопорт А. — 57, 84
Накасима А. — 16
Рассел Б. — 9, 14–15, 21, 516
Наторп П. — 389
Ратихиус (Ратке) В. — 392
Нейман Дж. фон — 404
Рашевский П. К. — 27
Непомнящая Н. И. — 226–227, 243
Ревеш Г. — 299, 311,456 343, 360, 375, 392, 473
Ревзин И. И. — 301 702–703, 711, 714
Рейналь Г. Т. — 504
Николаев В. В. — 90
Рейхенбах Г. — 37, 608
Ньютон И. — 587
Реформатский А. Н. — 78
Ньюэлл А. — 562
Рид Т. — 616
Рикардо Д. — 280, 645
Овчинников Н. Ф. — 550
Рождественский Ю. В. — 553
Огден С. — 37, 40
Розенбергер Ф. — 188
Оптнер С. — 88, 90, 236
Розин В. М. — 202–203, 211, 217
Орем Н. — 151, 561 243, 247, 263, 283, 352, 389
Осипов Г. В. — 418 432, 469, 473, 489, 501, 532–533, 547, 649–650, 654
Пантина Н. С. — 211, 243, 389, 698, 661, 663, 665, 698, 713 713,715
Рочестер Н. — 562
Папуш М. П. — 405, 639
Рузавин Г. И. — 357
Парсонс Т. — 237–238, 243
Румянцев A. M. — 420
Руссо Ж. Ж. — 504
Уайтхед А. - 21, 516
Руткевич М. Н. — 418
Уемов А. И. — 57, 88, 90
Ульдалль X. — 75, 516, 518
Садовский В. Н. — 34, 57, 88, 90, 92
Уарте X. - 392 106, 156, 301, 515
Усова А. П. — 345, 673, 677, 715
Сазонов Б. В. — 90, 117, 133, 238
Ушаков Н. А. — 417 281, 288, 360, 428, 433, 650
Ушинский К. Д. — 213
Саймон Г. — 90, 501, 562
Самсонова Е. Г. — 247, 649
Файнбург З. И. — 208
Семенов Ю. Н. — 418
Федосеев П. Н. — 418
Сент-Дьердьи А. — 655
Фейджин Р. Е. — 249
Серебрянников О. Ф. — 357
Фейербах Л. — 279
Серрюс Ш. — 14, 17, 354, 357
Фейнман Р. — 86
Сеченов И. М. — 579
Фитс П. — 399
Сидоренко В. Ф. — 117, 133, 432
Фихте И. Г. — 233, 271–272, 274
Симоненко О. Л. — 247, 650 277, 486, 490, 494
Синглтон У. — 399
Фонтенель Б. де — 508
Смит А. — 504, 645
Фрадкина Ф. И. — 708
Смирницкий А. И. — 50, 453, 456
Фреге Г. — 9, 21, 497, 516, 554
Солнцев В. М. — 639 566–567, 661
Соссюр Ф. де — 50, 234, 516, 518, 568, 570, 576
Хайкин С. Э. — 169
Спиркин А. Г. — 90, 117, 238
Харкевич А. Д. — 16
Степин B. C. — 661
Холл А. Л. — 249
Строгович М. С. — 30
Холл С. — 688
Стяжин Н. И. — 497
Суайнсхед Р. — 561
Черри К. — 363
Черчмен Ч. — 236
Талызина Н. Ф. — 626
Честнат Г. — 236
Тарский А. — 27, 36
Чуковский К. И. — 55
Таубе М. — 404
Тейяр де Шарден П. — 502
Шатанштейн А. И. — 612
Телегина Э. Д. — 404–405
Швачкин Н. Х. — 591, 594–598
Теппер Ю. Н. — 132
Швырев В. С. — 3, 34, 37, 215, 281
Тода М. — 251 300, 621, 628
Томильчик Л. М. — 661
Шеллинг Ф. В. — 70, 233
Томсон Дж. — 34
Шеннон К. — 16, 438
Трапезников В. А. — 410
Шестаков В. И. — 16
Трубецкой И. С. — 234
Ши С. Л. — 428
Тьюринг А. — 404
Шинкарук В. М. — 280
Тюрго А. Р. — 414, 504, 506
Шор Р. — 504 508, 513
Шпенглер О. — 506
Шредер Э. — 21
Штентайль Г. — 299
Эренфельс X. фон — 70
Шулпе В. — 3
Эшби У. Р. - 18, 173, 301
Шуфорд Э. Х. - (мл.) 251
Шухардин С. В. — 418
Юдин Б. Г. — 57, 88
Щедровицкий Л. П. — 90, 105
Юдин Э. Г. - 50, 57, 88, 282, 342, 230–231, 236, 404–405, 433, 347, 466, 714 650
Юм Д. — 15
Щерба Л. В. - 55
Юркевич П. Д. — 504
Юшкевич А. П. — 561
Эйнштейн А. — 526
Эллис Д. — 249
Якобсон С. Г. - 236, 268, 389, 685
Эльконин Д. Б. — 688, 708
Янг С. — 433
Энгельс Ф. — 67, 91, 415, 455, 506
Яновская С. А. — 629
Янч Э. — 432
Ackoff R. L. — см. Акофф Р. Dale E. — 433
Ajdukiewicz К. — см. Айдукевич
К. Dcitz E. — см. Дейтц Е.
Andcrson I. E. — 708–709
DubislavV. W. — 629
Ansoff H. J. - 236, 433
FricdmannG. — 415
Bales R. F. — 238
Fregc G. — см. Фреге Г.
Bar-Hillcl Y. - 301
BcckTh. -216,224
Gcrsch W. — 249
Bcrclson B. — 238
Gosling W. — см. Гослинг У.
Bertallanffy L. von — см. Берталанфи Л. фон
Gullcy N. — 504
Board R. dc — 294
Hall A. R. -214
Bochcnski I. M. — 497
Harris D. B. — 708
BoisacqE. — 612
Hcinzmann G. — 249
Boole G. — см. Буль Дж.
Hcmpcl K. - 37
Branch M. C. — 433
Herder J. G. — см. Гердер И. Г.
Brandenburg R. C. — 236, 433
Hiclmslcv L. — см. Ельмслев Л.
Brosscs Ch. — см. Бросс Ш.
Holl A. D. - 236, 258
BrowcrL. E. J. — 661
Husscrl E. — см. Гуссерль Э.
BurksA. — 215
BuryJ. B. — 414, 415, 504, 506
Jacobson R. — 557
Carnap R. — см. Карнал Р.
KohlcrW. — см. Кёлер
Chomsky N. - 25,301
Kuhn T. — см. Кун Т.
Church A. — 557
Lahning G. — 249
Scholz H. — 497–498
Lakatos I. — CM. Лактос И.
Schopenhauer A. — 506
Licklidcr J. — 405
SchrodcrE. — 661
Laszlo E. — 90
Simon H. A. — 404, 433
Smclscr N. J. — 238
March J. G. — 404, 433
Smith A. — см. Смит А.
Materna P. — см. Матерна П.
Spccht E. K. — см. Шпехт Е. К.
Mead G. H. — см. Мид Дж. Г.
Spenglcr О. — см. Шпенглер О.
Miller J. G. — 238
Stcincr G. A. — 238
Monbodd J. B. — см. Монбоддо Дж. Б.
Stcinthal H. — 299 StuderR. G. — 417
Morgan A. — см. Морган А. де
ToynbccAJ. — 415
Nagcl E. — 708
Vasspcg K. — 249
Vico G. — cm. Вико Дж.
Ogdcn С. — см. Огден
Weber M. — cm. Вебер М.
Parsons T. — см. Парсонс Т.
WciBgcrbcr L. — см. Вайсгербер Л.
Popper К. — см. Поллер К.
Wilson С. — 587
Priestley J. — см. Пристли Дж.
Wittgenstein L. — см. Витген
Raynal G. T. — см. Рейналь Г. Т. тейн Л.
Rcichenbach Н. — см. Рейхенбах Г.
Wohlwill E. — 214
Rcvesz G. — см. Ревеш Г.
Wright G. H. — 607
Richards I. — 37, 40
Robinson R. — 629
Zinovev A. — см. Зиновьев А. А.
Rousseau J. J. — см. Руссо Ж. Ж.
Ziclcnicwsky J. — 237
Russell B. — см. Рассел Б.
Примечания
1
При подготовке этого текста использованы автобиографические материалы из архива Г. П. Щедровицкого и воспоминания участников методологических семинаров разных лет.
(обратно)2
Отец, Петр Георгиевич Щедровицкий (1899–1972) — крупный инженер и организатор авиационной промышленности. Мать, Капитолина Николаевна Щедровицкая, в девичестве Баюкова (1904–1994) — врач-микробиолог.
(обратно)3
Честно говоря, трудно встретить другого человека со столь же серьезным отношением к себе и к своему делу (что, впрочем, для него было одно и то же), как у Георгия Петровича.
(обратно)4
Пропагандист, редактор курсовой стенгазеты, член бюро комсомола курса, заместитель председателя спортклуба МГУ…
(обратно)5
Подобного рода общественная активность была свойственна Г. П. и в более поздние годы. В 1955 г. он становится членом Ленинского райкома ВЛКСМ и кандидатом в члены КПСС, а в следующем, 1956 г. — членом КПСС. Пробыл он в ее рядах до своего исключения в 1968 г.
(обратно)6
Отсюда тянутся нити к исследовательским циклам, посвященным взаимоотношениям педагогики и логики, социологии и психологии, объективной структуре мыслительной деятельности, способам решения детьми арифметических задач, роли игровой деятельности в детском сообществе и т. п. — вплоть до разработки оргпроекта вуза нового типа и образовательных программ, что стало одним из основных направлений работы Г. П. в последние годы жизни.
(обратно)7
А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин, Г. П. Щедровицкий и чуть позже М. К. Мамардашвили.
(обратно)8
Наличие собственных идей не помешало ему быть отличником: в дипломе — 26 «отлично» и 5 «хорошо».
(обратно)9
Результаты, полученные в дипломной работе, были опубликованы в журнале «Вопросы философии» в статье «О некоторых моментах в развитии понятий» [1958 а*] [с. 577–589 наст. изд.).
(обратно)10
Согласно воспоминаниям И. С. Ладенко, к концу 1954 г. роль лидера Кружка перешла к Георгию Петровичу.
(обратно)11
См. по этому поводу воспоминания М. К. Мамардашвили, Б. А. Грушина и И. С. Ладенко, опубликованные в «Вопросах методологии» (1991, № 1; 1991, № 3; 1994, № 1–2).
(обратно)12
Сам Георгий Петрович, размышляя над историей МЛК, отмечал два обстоятельства, во многом определившие судьбу первого объединения: 1) именно он больше всех настаивал на том, что «новая» логика должна быть построена в виде «теории мышления» и 2) он единственный стремился придать такой «теории» вид и форму «научного предмета». Его же тогдашние единомышленники были ориентированы более традиционно и подобных целей перед собой не ставили.
(обратно)13
Основные черты замысла подобной логики обсуждались Г. П. в целом ряде публикации конца 50-х начала 60-х годов.
(обратно)14
Это были контакты как с уже известными (А. Н. Леонтьевым, Б. М. Тепловым и др.), так и с молодыми психологами (Л. А. Веккером, В. В. Давыдовым, В. П. Зинченко, Я. А. Пономаревым и др.)
(обратно)15
«Языковое мышление и методы его анализа» — тема кандидатской Диссертации Георгия Петровича. Защитить эту диссертацию ему удалось только в 1964 г.
(обратно)16
В этой работе в те годы принимали участие Н. Г. Алексеев, В. В. Давыдов, В. И. Дубовская, В. А. Лефевр, А. С. Москаева, Н. И. Непомнящая, Н. С. Пантина, Б. В. Сазонов, С. Г. Якобсон и др. Часть полученных результатов была затем обобщена в коллективной монографии «Педагогика и логика». Книга была подготовлена к изданию в 1968 г., но набор был рассыпан, и лишь некоторое количество копий верстки разошлось «на правах рукописи». В своей части этой коллективной монографии Георгий Петрович отстаивал представление о педагогике как комплексной дисциплине, в которой ведущее место принадлежит методологическим исследованиям.
(обратно)17
Дальнейшая разработка содержания этой категории проходила в рамках категориальных и теоретических схем и представлений о воспроизводстве Деятельности как основном системообразующем для нее процессе. Результату этой работы отражены в публикациях середины 60-х годов («О методе семиотического исследования знаковых систем» [1967а], «"Естественное" и «искусственное» в семиотических системах» [1967 г.] {с. 50–56 наст, изд. } и др.).
(обратно)18
Так, для удовлетворения своих интересов в области изучения речи-языка он организует (совместно с А. А. Леонтьевым) работу междисциплинарного семинара по психолингвистике.
(обратно)19
Программа разработки системно-структурных представлений как особых методологических средств была встречена в штыки официальным марксизмом. Философский официоз и раньше относился с большим недоверием к идеям Г. П., теперь же он удостоился отлучения из уст академика Тодора Павлова — одного из главных философов-охранителей.
(обратно)20
В частности, в работах «О принципах классификации наиболее абстрактных направлений методологии структурно-системных исследований» [1965 d] и «О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки» [1967 г.] {с. 350–359 наст. изд. }.
(обратно)21
В частности, в работах «Методологические замечания к педагогическому исследованию игры» [1966 г.] {с. 687–715 наст, изд. }., «"Естественное" и «искусственное» в семиотических системах» [1967 g* }(с. 50–56 наст, изд. }., «О методе семиотического исследования знаковых систем» [1967 г.].
(обратно)22
В этой методологической группе, входящей в лабораторию, руководимую сначала К. М. Кантором, а потом самим Г. П. (1968), с ним непосредственно работали, в частности, О. И. Генисаретский, И. Б. Даунис, В. Я. Дубровский, А. С. Москаева, Н. С. Пантина.
(обратно)23
В ходе разработки специализированных методологических средств и представлений о проектировании, интенсивных междисциплинарных исследований, обсуждения и уточнения их результатов к 1967 г. сотрудниками лаборатории было подготовлено два развернутых монографических исследования: «Дизайн в сфере проектирования. Методологическое исследование» и «Мышление дизайнера. Средства и методы исследования проектировочной деятельности». В них был затронут широкий круг вопросов: цели и программа создания теории дизайна, возможности «науки о дизайне», структура и функции деятельности проектирования, проектная картина дизайна, дизайнерское проектирование и художественное конструирование, и т. п.
(обратно)24
Результаты исследования науки, научно-познавательной деятельности в Рамках ММК на этом этапе развития были в концентрированном виде представлены в работах «О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки» [1967 г.] {с. 350–359 наст, изд. } и «Научное исследование в системе методологической работы» (совместно с В. Я. Дубровским) [1967 г].
(обратно)25
Сюда в первую очередь следует отнести работу «К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании» (совместно с В. Н. Садовским) [1964 г.] {с. 515–539 наст, изд. }, посвященную анализу основных направлений изучения знака и возможностям выработки единого представления о нем.
(обратно)26
В этот цикл входят такие работы Георгия Петровича, как «Методологические замечания к проблеме происхождения языка» [1963 г.] {с. 299–316 наст, изд. }, «Методологические замечания к проблеме типологической классификации языков» [1965 г], «Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий» [1969 г].
(обратно)27
К этому циклу относятся, прежде всего, работы участников семинаров ММК, опубликованные в сборнике «Семиотика и восточные языки» В их числе такие работы Георгия Петровича, как «О методе семиотического исследования знаковых систем» [1967 г], «"Естественное" и «искусственное» в семиотических системах» (совместно с В. А. Лефевром и Э. Г. Юдиным) [1967 г] {с. 50–56 наст, изд. }, «Концепция лингвистической относительности Л. Уорфа и проблемы исследования "языкового мышления"» [1967 г].
(обратно)28
Здесь были лекции на разные темы: «Проблемы методологии исследования взаимоотношений в малых группах», «Процессы и структуры в мышлении», «Технология научного мышления», «Эмпирические исследования и теория в социологии», «К проблеме проектирования предмета социологии» и др.
(обратно)29
Репрессивная политика в отношении «подписантов» была простой — партийные были исключены из партии, беспартийные уволены с работы.
(обратно)30
Последовали и другие санкции: был рассыпан набор книги «Педагогика и логика», задержана публикация книги Ж. Пиаже «Избранные психологические труды», ответственным редактором которой был Г. П., легли на архивную полку и две вышеупомянутых монографии по методологии дизайна.
(обратно)31
В последующие 20 лет он вынужден был сменить семь мест работы.
(обратно)32
Основные результаты этой работы отражены в таких публикациях, как «Заметки к определению понятий «мышление» и "понимание"» [973 г.] {с. 481–484 наст, изд.), «Структура знака: смыслы и значения» [1973 г], «Смысл и значение» [1974 г.] {с. 545–576 наст. изд. }.
(обратно)33
См.: «Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии» [1974b*] (с. 57–87 наст, изд.), «Методологическая организация мышления и деятельности как условие и средство комплексной организации НИР» [1979], «Принципы и общая схема организации системно-структурных исследований и разработок» [1981 а*] {с. 88-114 наст. изд. }.
(обратно)34
См.: «Проблемы построения системной теории сложного «популятивного» объекта» [1976], «Проблема исторического развития мышления» [1975b*] {с. 496–514 наст, изд. }, «Системно-структурный подход в анализе и описании эволюции мышления» [1973 а*] {с. 477–480 наст. изд. }.
(обратно)35
Наряду с чтением лекций по месту службы он по-прежнему читает в эти годы циклы лекций на разные темы: педагогика, основы современной теории знания, структура знака, мышление и понимание, смысл и значение, и т. д. в проектных и учебных организациях.
(обратно)36
Опыт этой работы в определенной степени отражен в таких публикациях Г. П., как «Проблематизация и проблемы в процессах программирования решений задач» (совместно с П. Г. Щедровицким) [1977], «Методологический подход как средство объединения знаний из разных научных предметов» [1978а], «Комплексная организация научно-исследовательских работ как социотехническая система» [1979 а].
(обратно)37
В это время ушли О. И. Генисаретский, В. Я. Дубровский, А. Г. Раппапорт, В. М. Розин и др. Одной из причин их дистанцирования от ММК могло быть желание социальной адаптации и профессионализации, которые были невозможны в условиях «полуподпольного» существования.
(обратно)38
Она была проведена с коллективом специалистов, разрабатывавших программы комплексных исследований и разработок для обеспечения рационального планирования ассортимента товаров широкого потребления в Уральском регионе.
(обратно)39
В это время в ММК-движении наряду с «ветеранами» (Н. Г. Алексеев, Б. В. Сазонов, А. А. Тюков) начинает принимать участие новое поколение «игровых методологов» — Ю. В. Громыко, А. П. Зинченко, С. В. Наумов, В. А. Никитин, П. Г. Щедровицкий и др.
(обратно)40
Выходит с 1991 г. Главный редактор журнала — Г. П. Щедровицкий, ответственный секретарь — М. С. Хромченко, редактор — Г. А. Давыдова.
(обратно)41
Межрегиональная методологическая ассоциация (С. В. Попов), Независимый методологический университет (Ю. В. Громыко), Сеть методологических лабораторий (А. П. Зинченко), Школа культурной политики (П. Г. Щедровицкий). Межрегиональная методологическая ассоциация издает методологический и игротехнический альманах «Кентавр».
(обратно)42
Н. Г. Алексеев, О. С. Анисимов, А. П. Буряк, Ю. В. Громыко, А. П. Зинченко, С. В. Попов, Б. В. Сазонов, П. Г. Щедровицкий и др.
(обратно)43
В соавторстве с Н. Г. Алексеевым и В. А. Костеловским. Источник: [1960 с].
(обратно)44
Заметим, кстати, что впервые черточки для изображения связей были применены, по-видимому, в химии, причем один из создателей этого способа изображения — Бутлеров — специально указывал, что раскрыть природу связей — значит раскрыть природу определенных динамических процессов [Бутлеров, 1875. с. 12, 13].
(обратно)45
«…Силлогизм же есть высказывание, в котором при утверждении чего-либо из него необходимо вытекает нечто отличное от утвержденного и <именно> в силу того, что это есть. Под словами же «в силу того, что это есть» я разумею, что это отличное вытекает благодаря этому, а под словами «вытекает благодаря этому» — что оно не нуждается ни в каком постороннем термине, чтобы следовать с необходимостью» [Аристотель, 1952, с. 10].
(обратно)46
Следует заметить, что подобные языковые рассуждения не бывают резко отделены от «необходимых», и в частности силлогистических, умозаключений. Наоборот, они, как правило, органически связаны с последними и часто — например, в элементарной геометрии — образуют необходимую составную часть в процессах доказательства; это описания преобразований различных фигур, новых построений и т. п.
(обратно)47
«…Если три термина так относятся между собой, что последний целиком содержится в среднем, а средний целиком содержится или не содержится в первом, то необходимо, чтобы «для двух» крайних «терминов» образовался совершенный силлогизм. Средним «термином» я называю «тот», который сам содержится в одном, в то время как в нем самом содержится другой и по положению он является средним…» [Аристотель, 1952, с. 14].
(обратно)48
«…Так что в истине пребывает тот, кто полагает разделенное разделенным, а соединенное — соединенным, а в заблуждении — тот, чье мнение противоположно действительному положению вещей» [Аристотель, 1937 а, кн. IX, гл. 10, 1051b].
(обратно)49
См. также, к примеру, статью Е. К. Шпехта [Specht, 1959-60].
(обратно)50
«Нет сомнения в объективности познания», — заметил В. И. Ленин [Ленин, 1958, с. 366].
(обратно)51
В связи с соображениями, изложенными в п. 6, это утверждение может рассматриваться как положение, выводимое из самого определения логики, другими словами, как оправдываемое нашим способом задания предмета формальной логики. Недостаток места не позволяет нам дать одновременно эмпирическое подтверждение правильности этого положения путем ссылок на основные логические работы; мы приведем здесь только одну из наиболее резких формулировок: «3. 2. В предложении мысль может быть выражена так, что объектам мысли будут соответствовать элементы пропозиционального знака. 3. 21. Конфигурации простых знаков в пропозициональном знаке соответствует конфигурация объектов в положении вещей. 4. 04. В предложении должно быть в точности столько различимых частей, сколько их есть в положении вещей, которое оно изображает» [Витгенштейн, 1959, с. 38, 47]. Ср. [Russell, 1940, с. 437–438; Серрюс, 1948, с. 58–60; Ахманов, 1955, с. 33; Поваров, 1959, с. 56]. См. также критику так называемой «картинной» теории значения в статье Е. Дейтца [Deitz, 1956].
(обратно)52
Нередко вводится и несколько таких обозначаемых: например, специфически мысленный образ — понятие, и наряду с ним — объективное положение дел и чувственные образы. Вопрос о том, к каким затруднениям и противоречиям приводит такое понимание, мы намерены рассмотреть в специальной статье; частично он уже затрагивался [1957а*].
(обратно)53
Есть единственный пункт, в котором традиционная логика частично вышла за границы принципа параллелизма: это «методы индуктивного исследования» Бэкона — Милля. Но этот факт нисколько не противоречит выдвинутому нами положению. Разработка этой части логики связана не с аристотелевой классической силлогистикой и ее дальнейшим развитием в математической логике, а с так называемыми «методологическими» направлениями, развивавшимися, в противоположность учению Аристотеля, а вместе с тем и в противоположность принципу параллелизма.
(обратно)54
Можно сказать без преувеличения, что положения, так характеризующие предмет логики, имеются во всех без исключения систематических работах, и поэтому выделять какие-либо из них и специально ссылаться здесь не имеет смысла. Логика, по-видимому, была первой областью знания, где особым и специальным предметом исследования стали именно связи элементов и где впервые были выработаны простейшие исчисления связей. Представленные в чисто формальном, математическом виде эти исчисления могут быть применены и были применены (Гаврилов, Шенон и Мур, Шестаков, Накасима, Поваров и др.) для анализа и синтеза систем простейших объективных связей (см. [Поваров, 1959], а также статьи Поварова, Шестакова, Харкевича и др. в [Лог. исслед… 1959]. Это обстоятельство играет, по-видимому, важную роль в наметившейся к настоящему времени тенденции онтологизировать логику и представить ее как наиболее общее изображение и исчисление связей объективной действительности.
(обратно)55
Здесь и в дальнейшем надо все время иметь в виду, что в традиционной терминологии «логическая форма», или просто «форма», означает то, что мы называем строением знаковой формы мышления и схемами преобразования ее. Во всех приводимых ниже текстах она употребляется именно в этом смысле.
(обратно)56
Кстати, из приведенных выше высказываний одного из представителей формализма — В. Виндельбанда, мы можем заметить, что он тоже считал, что отвлекаться при исследовании форм мышления от связи с «содержанием вообще» невозможно. Но чего стоит тогда вся критика «формализма», проводимая наряду с защитой принципа всеобщности форм мысли?
(обратно)57
Краткий обзор и критика наиболее существенных из этих попыток даны в книге С. И. Поварнина [Поварнин, 1921]. В другом месте в этой же книге, оценивая возможности аристотелевой логики, С. И. Поварнин пишет: «Обычно в учебниках и руководствах логики до сих пор излагается старинное, дошедшее к нам из прошлых веков учение об умозаключениях в виде категорических, условных и разделительных силлогизмов. Но оно давно и с разных сторон не удовлетворяет многих логиков. Самый важный недостаток его тот, что оно не может объяснить множества умозаключений, несомненно играющих огромную роль в мышлении и в познании. Подобные умозаключения принято называть несиллогистическими или внесиллогистическими… и таких несиллогистических умозаключений очень много… Подобные умозаключения настолько важны для мышления, что по мнению некоторых исследователей "именно этими-то умозаключениями движется вперед наука" (Бенеке)» [Поварнин, 1921, с. 31–33].
(обратно)58
«Логические правила в понимании логиков XIX–XX вв. не были простым повторением или разъяснением правил логики Аристотеля, — пишет В. Ф. Асмус, — они представляли, с одной стороны, расширение области логических объектов, а с другой — уточнение логической характеристики этих объектов» [Асмус, 1948, с. 10]. Р. Карнап в одной из своих программных статей писал: «Новая логика отличается от старой не только формой изображения, но прежде всего распространением на другие области. Важнейшей новой областью логики является теория предложений об отношении…» [Сагпар, 1930-31, с. 16]. В той же работе, оценивая старую аристотелеву логику, Р. Карнап замечает: «Косвенной формой предложений (суждений) в старой логике была предикативная форма "Сократ есть человек", "все (или некоторые) греки — люди". Здесь понятию субъекта приписывается понятие предиката, какое-то качество. Уже Лейбниц выставил требование, что логика должна учитывать также и предложения формы отношений… Старая логика понимала предложение отношений тоже как предложения предикативной формы. Но благодаря этому стали невозможными многие выводы между предложениями об отношениях, которые для науки были необходимы. Конечно, можно интерпретировать, например, предложение "а больше чем b" так: субъекту а приписывается предикат "больше чем b". Но тогда этот предикат образует единство и нет возможности извлечь b по каким-либо правилам вывода. Поэтому нельзя заключить из названного предложения к предложению "меньше чем а"» [Саrnaр, 1930-31, с. 16–17].
(обратно)59
Вот, например, характерное замечание В. Ф. Асмуса: «Аристотелевская логика все суждения сводила в последней инстанции к атрибутивным суждениям. Логика отношений охватывает не только атрибутивные, но и все возможные другие виды отношений» [Асмус, 1948, с. 28].
(обратно)60
Это обстоятельство только наводит на подозрения относительно истинной природы самой формальной логики. Если в ее понятиях не только нельзя адекватно описать процессы мышления, совершающиеся в числах, буквенных выражениях, геометрических чертежах, математических и химических уравнениях, но и вообще не имеет смысла описывать, так как уже существующие математические, химические и др. специально-научные понятия уже решили те задачи, которые могло бы решить описание в формально-логических понятиях, то это служит веским основанием для того, чтобы сказать, что сама формальная логика не является, по-видимому, наукой о мышлении, о познании, т. е. логикой в точном смысле этого слова (ср. раздел III, [1961 а]).
(обратно)61
Источник: [1962 а]
(обратно)62
В соавторстве с В. А. Лефевром и Э. Г. Юдиным. Источник: [1967 g]
(обратно)63
Источник: [1974 b]. Доклад на межинститутской методологической конференции молодых ученых и специалистов. Обнинск, 31 мая 1974 г.
(обратно)64
Это выражение мы употребляем здесь для указания на все те явления, факты, действия, мнения и знания, которые по тем или иным основаниям будут характеризоваться нами как «системные»; практически это все, к чему можно отнести эту характеристику, причем взятое через простое указание, т. е. в том самом виде, в каком оно существует реально; это значит, что когда мы говорим о «системной области», то не предполагаем никакого субъективного (или формального) способа освоения и представления. Этим, в частности, понятие «системная область» будет отличаться от понятия «системное движение».
(обратно)65
Конечно, в этом пункте у исследователя, воспитанного на образцах натуралистического мышления, могут возникнуть сомнения: ведь мы формируем понятие и предмет изучения одновременно, хотя говорим, что первое нужно для построения второго. Но так происходит всегда, когда мы имеем эмпирическую область описания и не имеем средств для ее описания; поэтому мы одновременно формируем как сам эмпирический предмет — в данном случае «системное движение», так и понятие, позволяющее сформировать и описать этот предмет. И другого пути работы нет. Важно лишь уяснить себе эту двойственность всякого научного исследования и понять ее необходимость.
(обратно)66
Здесь нужно специально отметить, что я противопоставляю «объект» и «аппарат мыслительных средств», следуя традиции критикуемой точки зрения. Если бы я рассуждал безотносительно к чужим воззрениям, то ни в коем случае не стал бы так грубо противопоставлять «объект» и «формальные структуры мышления», а, наоборот, показал бы связи и зависимости между ними в процессах мышления; но об этом речь пойдет дальше.
(обратно)67
Вопрос о виде и характере представления объекта как системы требует специального обсуждения, и сейчас я сознательно оставлю его в стороне.
(обратно)68
Источник: [1981 а]
(обратно)69
Источник: [1983 с]
(обратно)70
Источник: [1991].
(обратно)71
«Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно» [Маркс, 1955 b, с. 1].
(обратно)72
С современной критикой натурализма в науках о языке и мышлении можно познакомиться по работам [1969 b; 1972а; 1974 а*; Разработка… 1975, с. 143–147].
(обратно)73
Источник: [1964 а].
(обратно)74
«Искусство» в том значении этого слова, которое оно имело в средние века: искусное, т. е. очень умелое, совершенное выполнение работы, основанное на богатом эмпирическом опыте; в таком смысле это слово сейчас часто употребляют кибернетики, например Л. Куффиньяль [Куффиньяль, 1963].
(обратно)75
Понятие «мощности» множества было введено знаменитым немецким математиком Г. Кантором [Кантор, 1914].
(обратно)76
Здесь нужно заметить, что, кроме ситуаций антиномий, существует еще ряд других ситуаций, в которых точно так же ставится задача исследовать познавательную деятельность и выделяются ее составляющие. Мы не анализируем их, так как с интересующей нас стороны они ничем не отличаются от ситуации антиномии.
(обратно)77
Под онтологией в данном случае понимается построение специальных изображений объектов как таковых.
(обратно)78
Источник: [1966 а].
(обратно)79
Благодаря этому каждое новое состояние социума и каждая деятельность в нем оказываются связанными с деятельностями из предшествующих состояний.
(обратно)80
В некоторых случаях это знание будет выражаться в совершенно неспецифической для него форме вещественного образца продукта [Пантина, 1965], но это не меняет сути дела.
(обратно)81
В одних случаях знания о средствах и знания о действиях разделены и могут существовать даже без всякой связи друг с другом; в других случаях, наоборот, средства и действия слиты в одно целое, в «операции», и тогда они, естественно, фиксируются в одном знании. Это особенно отчетливо выступает в тех случаях, когда продуктом деятельности должны быть определенные знания, а средства деятельности существуют в виде «оперативных систем» [1965с; Розин, 1965, 1964 b].
(обратно)82
Здесь термин «технический» употребляется не в смысле современной «техники» и инженерного производства машин, а в смысле древнегреческого «искусства» или «искусности». Именно отсюда идет характеристика педагогики как «искусства» в работах К. Д. Ушинского и других авторов.
(обратно)83
По-видимому, конструктивно-технические знания исторически предшествуют научным. Как и многие другие составляющие органических систем, они до какого-то момента «живут» и развиваются независимо от научных знаний, лишь порождая внутри себя условия для появления последних. Но затем, когда научные знания уже появились, они во многих областях как бы захватывают и подчиняют себе конструктивно-технические знания, перестраивая всю их систему и процедуры выработки: с этого момента конструктивно-технические знания начинают строиться на основе научных и в соответствии с ними. Говоря о исходных и специфических формах конструктивно-технических знаний, мы имеем в виду формы, развертывающиеся до подчинения их научными знаниями.
(обратно)84
Вопрос о различии типов научных знаний почти не изучен и не изучается в современной логике; можно сказать, что в этом направлении делаются лишь самые первые шаги и пока получены не столько результаты, сколько множество трудных проблем (см. [Швырев, 1959], там же библиогр.; [Burks, 1951], там же библиогр.).
(обратно)85
Это не значит, что в той же механике нет более сложных знаний, в которых сделана попытка учесть при выявлении законов движения тел также и механизмы взаимодействия со средой [Beck, 1907]. Но успех в решении этой задачи, надо сказать, пока невелик.
(обратно)86
Ясно, что суть дела не меняется, если на первых порах поиском причин начинают заниматься те же самые люди, которые до этого проделывали практическую и инженерно-конструктивную работу; все равно это выступает в качестве особой и новой деятельности.
(обратно)87
Вопрос о том, что в таких условиях можно считать «причиной» и причиной чего, сам по себе очень сложен, в частности большие трудности здесь возникают из-за того, что в анализе и изображении подобных ситуаций приходится пользоваться образованиями двоякого рода — объектами, с одной стороны, и свойствами (различиями), представляемыми как идеальные объекты — с другой; в знании и в представляемой в них действительности эти образования лежат в разных плоскостях замещения, и соотносить их друг с другом в процессах рассуждения можно только по особым, весьма сложным логическим схемам; в этой статье мы не анализируем всех этих тонких моментов и ограничиваемся самой простой и грубой схемой (некоторые дополнительные соображения излагаются ниже).
(обратно)88
Отзвуком этой революции уже в сфере философского осознания был декартов тезис о том, что материя есть причина самой себя.
(обратно)89
Источник: [1974 с]
(обратно)90
К сожалению, в опубликованной автором работе схема отсутствует.
(обратно)91
Источник: [1975с]
(обратно)92
См. следующие разделы, а также [1969 b].
(обратно)93
Сходную историю попыток ввести понятие деятельности в психологии описали С. Г. Якобсон и В. Ф. Прокина [Якобсон, Прокина, 1967]; то же самое демонстрирует нам история логики тех периодов, когда ее пытались трактовать и развивать в качестве теории мышления (см., в частности, [Гуссерль, 1909]).
(обратно)94
Более подробно объектно-онтологическая структура категории процесса разобрана в работе [1968 а, с. 141–150].
(обратно)95
Мы не рассматриваем здесь тех механизмов, которые делают возможной постепенную реализацию одной структуры в последовательном процессе, в частности сознание и его собственные внутренние механизмы.
(обратно)96
Это положение противостоит многим подходам в изучении деятельности, и в частности тому подходу, который развивает в своей «Общей теории действий» Т. Парсонс [Parsons, 1937; Toward… 1951]. Но, чтобы пояснить подлинный методологический смысл этого различия, нужно продемонстрировать особую логическую природу категории деятельности.
(обратно)97
О понятиях «предмет» или «научный предмет» см. [1964а*, (с. 157–170, 172–178, 182–193); 1964 h*; 1966с*; 1971 i].
(обратно)98
Более подробно строение научных предметов и функция разных эпистемологических единиц рассматриваются в [Пробл. иссл. структуры… 1967].
(обратно)99
В этой схеме пока никак не различаются функциональные структуры и организованности материала; принципиальное различие этих двух планов представления систем будет обсуждаться ниже.
(обратно)100
О различии системных представлений и их иерархии мы будем говорить ниже; см. также [Гущин и др., 1969; Дубровский, 1969].
(обратно)101
Об отношениях рефлексии см. раздел VIII, а также [1967 d; Лефевр, 1967].
(обратно)102
В общем виде отношение управления, существующее между философией и специальными дисциплинами, рассматривается в [Розин, Москаева, 1967; Розин, 1967 с; Москаева, 1967]. Состав методологии и ее управляющие воздействия на научные предметы рассматривались более подробно в работах [1967 d; 1969 b].
(обратно)103
Именно это мы и сделали выше при обсуждении проблем анализа и описания деятельности.
(обратно)104
Представление о современном состоянии системно-структурных исследований можно получить по работам [1964 а*; Пробл. иссл. систем… 1965; Блауберг и др., 1969; Общая… 1966; Исследования… 1969; Системные… 1969–1973; Пробл. методологии… 1970].
(обратно)105
В этом плане очень интересны тексты авторов, работающих в различных областях науки и техники и стремящихся там прикладывать общие понятия системно-структурной методологии, например [Gersch, Lahning, 1969; Heinzmann, 1967; Мельников, 1967, 1969]. Но точно такие же определения можно найти и во многих работах, специально посвященных системной проблематике, например [Bertelanffy, 1949, 1956; Bertalanffy et. al., 1951; Vasspeg, 1965; Ланге, 1969; Холл, Фейджин, 1969; Эллис, Людвиг, 1969; Клир, 1969].
(обратно)106
Весьма интересной для характеристики того, как все эти моменты понимаются в современной теории систем, является работа [Года, Шуфорд, 1969].
(обратно)107
О логической структуре понятия связи см. [1964а*, {с. 182–193}].
(обратно)108
Прекрасное по своей непосредственности изложение этой проблемы дает Г. П. Мельников: «Элементы конкретной системы, как правило, физически так или иначе ощутимы, во что-то воплощены. Это могут быть и металлические детали станка, и живые люди, между которыми установилась определенная схема отношений, и фразы, так или иначе зависящие друг от друга. Поэтому введем еще одно понятие — субстанция, подразумевая под этим термином все то конкретное физическое, во что воплощены элементы сложного объекта. Следовательно, субстанцией может быть и строительный материал, и живой организм, и цепочка букв на бумаге, и любые другие формы внешнего проявления материальности элементов системы. Поэтому при структурном анализе системы открывается возможность избежать полного «обескровливания» индивидуальных субстантных свойств элементов, поскольку и эти свойства при необходимости удается понять как структурные, усложнив исходную структуру системы отражением «микроструктурных» свойств элементов» [Мельников, 1967, с. 6–9].
(обратно)109
Примечательно, что уже Аристотель выдвигал именно эту проблему в качестве важнейшей: «Трудно также по отношению к частям определить, какие части по своей природе отличаются от других и нужно ли первоначально исследовать части или же их деятельность, — например, мышление или ум, ощущения или ощущающую способность. Так же обстоит дело с прочими» [Аристотель, 1937 b, 402 b-10].
(обратно)110
Подобно тому, как это сделал Г. П. Мельников, сведя процессы к «доминантам» и «детерминантам» [Мельников, 1967, 1969].
(обратно)111
Здесь возникает ряд сложных вопросов, касающихся средств и способов изображения процессов; но мы их не обсуждаем, поскольку логически они следуют много спустя за всеми теми вопросами, которые рассматриваются в этой работе.
(обратно)112
Конечно, этот перечень не исчерпывает всех категорий системно-структурного мышления; кроме того, в связи с системно-структурной методологией и отчасти в ее контексте нужно рассматривать еще ряд неспецифических для нее категорий, которые претерпевают из-за нее существенные изменения, например такие, как категории субстанции и закона.
(обратно)113
Эта иллюстрация специфического отношения наложения формы на материал, прозрачная и очень убедительная, принадлежит В. А. Лефевру.
(обратно)114
Конкретной иллюстрацией этих положений могут служить рассуждения из многих работ, посвященных системному исследованию и проектированию. В одних из них переход от процессов к структурам происходит помимо какой-либо сознательной фиксации этого: говоря о процессах (преобразования, передачи информации, изменения и т. п.), исследователь параллельно рисует статические структурные изображения их в виде отношений и связей между элементами или блоками системы [Holl, 1962, Gosling, 1962]. В таких случаях структурное изображение непосредственно отождествляется с изображением процессов. В других работах процессы изображаются в виде структур с четким пониманием категориального различия изображаемого и изображения, и тогда переход от процессов к структурам носит сложный и опосредованный характер, как правило, предполагает апелляцию к методу построения изображений (см., в частности, наши рассуждения, посвященные структурному изображению процессов воспроизводства деятельности [1967а, с. 30–42] и структурному изображению процессов понимания [1974а*].
(обратно)115
Схема разложения объекта на функцию и структурированный материал описана в нашей работе {1957а*, {с. 460–462}].
(обратно)116
Характерные примеры таких связей дают нам механизмы сознания [Лефевр, 1967; Генисаретский, 1968].
(обратно)117
Применение этой схемы анализа к различному материалу описано в работах [1958 b*; 1966 b*; Розин, 1967 b; Клиневская, 1969].
(обратно)118
«Живые» процедуры деятельности индивидов (а вместе с тем умение осуществлять эти процедуры) являются необходимым условием воспроизводства, ибо без них сейчас невозможно производство объектов по заданным эталонам как образцам [1966 а*, {с. 199–202}] (заметим мимоходом, что так происходило до сих пор и так происходит сейчас, но это не значит, что такое необходимо и будет происходить всегда). Если же индивид не может произвести необходимые процедуры (либо потому, что у него нет соответствующих средств, либо потому, что он просто не умеет осуществлять адекватные действия), а процесс воспроизводства тем не менее должен осуществляться, то основной путь и средство, к которому он может прибегнуть, — обращение за помощью к другим и создание с ними систем кооперации. В зависимости от того, в чем была причина и источник затруднений у первого индивида, назначение и функция деятельности других индивидов, привлекаемых в кооперацию, будут состоять либо в том, чтобы дать первому необходимые для деятельности средства, либо в том, чтобы научить его соответствующей деятельности. И соответственно этому будут развертываться одни или другие структуры социальной кооперации [1966 а*, (с. 202–211}; 1967 g*, {с. 52–53}; 1970].
(обратно)119
Ср.: «Под техникой понимают последовательное применение научных и иных видов систематизированных знаний для решения практических задач. Наиболее важное следствие применения современной техники, по крайней мере с точки зрения экономической науки, заключается в том, что она заставляет разделить любую такую задачу на ее составные части. Таким и только таким образом можно добиться воздействия систематизированных знаний на производство.
(обратно)120
«Рефлексия (reflexio) не имеет дела с самими предметами и не получает понятий прямо от них; она есть такое состояние души, в котором мы приспособляемся к тому, чтобы найти субъективные условия, при которых мы можем образовать понятия. Рефлексия есть сознание отношения данных представлений к различным нашим способностям познания и только при ее помощи отношение их друг к другу может быть правильно определено. Раньше всякой дальнейшей обработки своих представлений мы должны решить вопрос, в какой способности познания они связаны друг с другом… Не все суждения нуждаются в исследовании, т. е. во внимании к основаниям их истинности… Но все суждения и даже все сравнения требуют рефлексии, т. е. различения той способности познания, которой принадлежат данные понятия…
Да будет позволено мне называть место, уделяемое нами понятию или в чувствительности, или в чистом рассудке, трансцендентальным местом. Соответственно этому оценку места, принадлежащего всякому понятию согласно различиям в его применении, и руководство для определения места всякого понятия, согласно правилам, следовало бы называть трансцендентальною топикою; эта наука основательно предохраняла бы от всяких подтасовок чистого рассудка и возникающей отсюда шумихи, так как она всегда различала бы, какой познавательной способности принадлежат понятия…» [Кант, 1907, с. 185, 189].
(обратно)121
«Рефлексия, которая должна происходить в том же сознании, есть состояние совершенно отличное от внешнего восприятия, отчасти даже противоположное ему… Знание в своей внутренней форме и сущности есть бытие свободы… Об этой свободе я утверждаю, что она существует сама по себе… И я утверждаю, что это самостоятельное, особое бытие свободы есть знание… В знании действительного объекта вне меня как относится объект ко мне, к знанию? Без сомнения, так: его бытие и его качества не прикреплены ко мне, я свободен от того и другого, парю над ними, вполне к ним равнодушен… Свободу, необходимую для того, чтобы сознание носило хотя бы форму знания, оно получает от объективирующего мышления, благодаря которому сознание, хотя и связанное с этим определенным построением образов, подымается по крайней мере над бытием и становится свободным от него. Таким образом, в этом сознании соединяются связанная и освобожденная свобода: сознание связано в построении, свободно от бытия, которое поэтому переносится мышлением на внешний предмет… Рефлексия должна поднять знание над этой определенной связанностью, имеющей место во внешнем восприятии. Оно было связано в построении, следовательно, оно должно стать свободным и безразличным именно по отношению к этому построению, подобно тому как раньше оно стало свободным и безразличным по отношению к бытию… В рефлексии есть свобода относительно построения, и поэтому к этому первому сознанию бытия присоединяется сознание построения. В восприятии сознание заявляло: вещь есть, и больше ничего. Здесь новое возникшее сознание говорит: есть также образ, представление вещи. Далее, так как это сознание есть реализованная свобода построения, то знание высказывает о себе самом: я могу создать образ этой вещи, представить ее, могу также и не создавать» [Фихте, 1914, с. 8–10].
(обратно)122
«Я описал внешнее восприятие как такое состояние сознания, причина которого лежит просто в самом существовании сознания, а то новое состояние, которое вызывается рефлексией, как такое, которое задерживает поток причинности, и тогда жизнь становится принципом благодаря возможности свободного акта» [Фихте, 1914, с. 15] (см. также с. 138–140).
(обратно)123
Ср., например: рефлексия — «название для актов, в которых поток переживания со всеми его разнообразными событиями… становится ясно постигаемым и анализируемы!» [Husserl, 1950, с. 181].
(обратно)124
Решающую роль сыграли два момента: 1) необходимость объяснять специфику и происхождение методологических знаний [1967 d] и 2) полемика с В. А. Лефевром по поводу предложенных им схем и формальных описаний рефлексии [Лефевр, 1965].
(обратно)125
Ср.: «Чтобы схематизировать себя как таковой, для созерцания ей (способности. — Г. Щ.) необходимо раньше своей деятельности увидеть возможность этого действия, и ей должно казаться, что она может его совершить, а может и не совершать. Это возможное действие она не может увидеть в абсолютном долженствовании, которое на этой ступени еще невидимо, поэтому она его видит в также слепо схематизированной причинности, которая, однако, не есть непосредственно причинность, а кажется, что она становится таковой вследствие видимого выполнения способности. А такая причинность есть влечение. Способность должна чувствовать влечение к тому или иному действию, но это не определяет непосредственно ее деятельности, так как такая непосредственность заслонила бы от нее проявление ее свободы, а в ней-то весь вопрос… Если способность должна видеть себя как долженствующую, то необходимо, чтобы раньше этого определенного видения себя как принцип, она видела бы вообще, а так как она видит только через посредство собственного саморазвития, то необходимо, чтобы она развивалась…» [Фихте, 1914, с. 139–140, 138].
(обратно)126
Объяснение гносеологического принципа «изолированного индивида» и детальную критику его см. в [Мамардашвили, 1968 а].
(обратно)127
Последняя характеристика получает свой смысл и значение рефлексии только через первую, сама по себе она не содержит ничего специфически рефлективного. Если мы правильно понимаем Гегеля, то именно это он имел в виду, когда ввел понятие о внешней рефлексии и характеризовал ее как чисто формальное действие: «И мыслительная рефлексия, поскольку она ведет себя как внешняя, равным образом безоговорочно исходит из некоторого данного, чуждого ей непосредственного и рассматривает себя как лишь формальное действие, которое получает содержание и материю извне, а само по себе есть лишь обусловленное последней движение» [Гегель, 1937, с. 474]. Вообще, интересно и поучительно, хотя бы в плане анализа языка диалектики, рассмотреть гегелевские определения рефлексии с точки зрения вводимых нами схем и моделей.
(обратно)128
«Хотя сознание освободилось от первого состояния, оно все может свободно в него возвращаться. Оно может себя делать таким сознанием, причинность которого заключается только в его бытии. Это возвращение известно всякому под именем внимания. К первому бытию, которое продолжает существовать, не поглощая всецело бытия сознания, прибавилось второе, властвующее над первым. Это второе, раз появившись, не может быть уничтожено, но оно свободно может снова отдаваться первому…» [Фихте, 1914, с. 14].
(обратно)129
Точнее, нужно было бы говорить о рефлексии, успокоившейся в предмете, ибо здесь стираются Все следы его рефлексивного происхождения и дальнейшее развитие предмета может происходить без помощи и посредства знаний, получаемых в заимствованной позиции; сама рефлектируемая деятельность превращается при этом в «чистую практику», оторванную от каких-либо процедур получения знаний.
(обратно)130
Хорошим примером принципов, сохраняющих рефлексивные отношения в знаниях, могут служить, во-первых, принцип двойного знания [1964а*, (с. 175–178}; 1966*], а во-вторых, принцип и схемы конфигурирования [1964 h*; 1971 І; Лефевр, 1967, с. 4–11].
(обратно)131
С приведенными формулировками интересно сравнить другие, написанные К. Марксом более чем через 15 лет (1861–1863 гг.) в связи с анализом другого, более узкого вопроса: «Своим анализом политическая экономия разбивает те кажущиеся самостоятельными по отношению друг к другу формы, в которых выступает богатство. Ее анализ (даже уже у Рикардо) идет настолько далеко, что исчезает самостоятельная вещественная форма богатства, и оно просто выступает скорее как деятельность людей. Все, что не является результатом человеческой деятельности, результатом труда, есть природа и в качестве таковой не является социальным богатством. Призрак товарного мира рассеивается, и этот мир выступает всего лишь как постоянно исчезающее и постоянно вновь создаваемое обьективирование человеческого труда» [Маркс, 1964, с. 446]. Эта сторона марксовых воззрений в последнее время все больше выдвигается на передний план. Весьма примечательна с этой точки зрения статья В. М. Шинкарука [Шинкарук, 1969J. Приведя известные слова Маркса о том, что человек формирует материю также и по законам красоты и что «практическое созидание предметного мира, переработка неорганической природы есть самоутверждение человека как сознательного родового существа» [Маркс, 1956, с. 566], он комментирует эти положения словами: «Человеческий мир есть мир вещей и явлений, прежде всего созданных самим человеком. Не бог, а человек является устроителем мира, бог есть только иллюзорное, отчужденное отражение собственной роли и собственной миссии Человека» [Шинкарук, 1969, с. 62].
(обратно)132
Источник: [1987 а].
(обратно)133
Р. Акофф называет это смысловое облако «проблемным месивом» (см. [Акофф, 1985, 1982]).
(обратно)134
По поводу процессов и механизмов соорганизации и конфигурирования знаний и схем см. [1964 h*; 1967 е; 1972 b; 1984*].
(обратно)135
Источник: [1963 с]
(обратно)136
Почти во всех работах по логике и специальным наукам термины «связь» и «отношение» употребляют в настоящее время как синонимы. До самого последнего времени не было выявлено никаких точных критериев для различения знаний об отношениях и знаний о связях и, соответственно, самих отношений и связей. В резкой и достаточно общей форме этот вопрос впервые поставлен и решен А. А. Зиновьевым (см. [Зиновьев, 1959 а, b, 1960 b, с], а также [Швырев, 1959]. О том, как складываются связи знаний вида «береза — белая» или «металл — электропроводен», не отражающие связей объектов, см. [1958 b*]).
(обратно)137
См., в частности, [Kohler, 1920,1929, 1933; Винер, 1958; Кремянский, 1958; Эшби, 1959 а; Зиновьев, Ревзин, 1960; Лекторский, Садовский, 1960].
(обратно)138
Различение структур функционирования и генезиса существенно отличается от традиционного различения «синхронии» и «диахронии». «Функционирование» в такой же мере кинематический процесс, как и развитие. Схемы того и другого одинаково предполагают время и одинаково независимы от него. Различить функционирование и развитие можно только относительно структурного изображения объекта. Функционированием являются все движения, оставляющие исходную структуру неизменной. Сюда входят и те изменения структуры, которые происходят по циклической схеме, т. е. через некоторое время и через ряд промежуточных положений возвращают ее в прежнее состояние. Развитием, в противоположность этому, являются изменения, приводящие структуру к новому виду.
(обратно)139
См. по этому поводу [Зиновьев, 1954; Грушин, 1957,1955, 1958, 1961; Выготский, 1960; Леонтьев А. Н., 1959].
(обратно)140
Отметим еще раз, что, употребляя термины «ставший предмет» и «последнее состояние», мы не имеем в виду законченности процесса развития предмета ни в смысле метафизической «остановки» его, ни в смысле достижения «высшей точки» в развитии предмета. Эти термины включают в себя понятие о развитии предмета, о любой точке этого развития, но именно о точке, т. е. о связях функционарных (независимо от степени их развития), а не генетических.
(обратно)141
Здесь нужно заметить, что и знание эмпирической истории происхождения рассматриваемого предмета не всегда может нам помочь в выяснении последовательности рассмотрения «сторон», так как объективная историческая последовательность возникновения «сторон» какого-либо целого часто не совпадает с логической последовательностью их рассмотрения при исследовании процесса происхождения этого целого (см. по этому поводу [Грушин, 1955, с. 41–53, 1961]).
(обратно)142
В соавторстве с О. И. Генисаретским. Источник: [1965 f]
(обратно)143
В соавторстве с О. И. Генисаретским. Источник: [1965 g].
(обратно)144
Источник: [19661}.
(обратно)145
В соавторстве с Э. Г. Юдиным. Источник: [1966 i].
(обратно)146
Продолжение этой работы не публиковалось.
(обратно)147
Источник: [1967 b]
(обратно)148
Т. е. научная дисциплина, рассматривающая объекты, преобразуемые научно-исследовательской деятельностью, как обладающие «естественной» жизнью, независимой от человеческой деятельности.
(обратно)149
См. схему 7 на с. 265.
(обратно)150
Говоря об этом, мы совершенно не касаемся вопроса о структуре логики как науки, строении ее предмета, характере средств, принципах организации ее теории и соотношения с ее собственной методологией.
(обратно)151
Источник: [1968 f]. Кроме основного автора (Г. П. Щедровицкого), в работе над текстом участвовали В. Я. Дубровский, Н. И. Непомнящая и Б. В. Сазонов.
(обратно)152
Источник: фрагмент из [1968 а].
(обратно)153
Интересно, что определение общей логики сочетания указанных конструктивных принципов при построении комплексных систем разного рода является сейчас общей проблемой почти всех современных наук и нигде пока нет достаточно обнадеживающих результатов в решении ее.
(обратно)154
Все зависимости, указанные в этом перечне, имеют «предметный» характер, т. е. являются зависимостями мышления, проявляющимися в развертывании предметов изучения, и их ни в коем случае нельзя трактовать в объектном плане как связи природной или социальной детерминации.
Существенно также, что порядок перечисления предметов не соответствует последовательности их развертывания: все предметы зависят не только от предшествующих им в перечне, но также и от последующих. При этом, конечно, зависимости имеют разный характер, но это в данном рассмотрении несущественно.
(обратно)155
Мы не затрагиваем здесь вопросов об обратном влиянии сфер производства, потребления и обучения на «личностные» и личные отношения людей; нам важно подчеркнуть факт существования особой области таких отношений и ее роль в образовании системы, которая называется «обществом».
(обратно)156
Здесь нужно специально отметить, что этические и эстетические отношения могут быть представлены в точно таких же «нормах» деятельности, как и мышление. С этой точки зрения этика и эстетика представляют собой лишь виды «логики», и некоторые исследователи уже обращали на это внимание (см., например, [Наторп, 1905]). Поэтому мы не говорим особо об этике и эстетике, но если бы такой разговор зашел, то их нужно было бы поместить именно здесь, рядом с логико-педагогической частью исследования, скорее всего как ее элемент.
(обратно)157
Заметим, что речь здесь идет о теоретическом и собственно научном ответе на все эти вопросы: на практическом уровне педагогика описывает все то, что должен сделать учитель или воспитатель, чтобы получить известный уже, традиционный результат.
(обратно)158
Наверное, нужно заметить, что у «человека» среди прочего есть и отношения последнего типа, в частности его «поведение» обеспечивается морфологическими структурами, т. е. тем, что получается после погружения функциональных систем на материал и объединения их с собственными структурами материала. Но именно потому, что у человека есть отношения того и другого типа, важно различать их и в методологическом анализе достаточно резко противопоставлять друг другу.
(обратно)159
Источник: [1969 а].
(обратно)160
Источник: [1975 а]
(обратно)161
«С повышением объема памяти и быстродействием ЭВМ стало возможным решение многих, когда-то безнадежно трудных задач» [Автоматизация… 1972, с. 9]. «Роль ЭВМ трудно переоценить. Вряд ли без них был бы возможен в 50-е годы тот прогресс в физике, в создании ракет и в других областях науки и техники, которые мы наблюдаем. Таким образом, ЭВМ первого поколения сыграли революционизирующую роль в технологии инженерных расчетов и исследований в физике» [Моисеев, 1973, с. 12–13]. Академик В. М. Глушков рассматривает то же самое в проектно-императивном плане и называет «принципом новых задач»: «Главное состоит в том, чтобы находить новые задачи» [Глушков, 1972, с. 74].
(обратно)162
«В связи с техническим прогрессом человечество стало создавать конструкции все более и более сложные. Создание и ввод в эксплуатацию сверхзвукового пассажирского самолета типа Ту-144 или «Конкорд» требует 12–15 лет. При нынешних темпах развития научных знаний идеи, заложенные в его конструкцию в начале проектирования, будут уже безнадежно устаревшими в тот момент, когда этот самолет выйдет на линию. На помощь приходят имитационные модели, которые снимают с коллектива конструкторов всю тяжесть рутинной работы по расчетам и предварительным экспериментам модели, которые оставляют за конструктором только творческий акт анализа вариантов, их сравнение и оценки» [Моисеев, 1973, с. 12–13].
Но есть намеки и на возможность прямо противоположной организации дела, например: «Мы попытались избавиться от выражения computer-aided-design — машинное проектирование. Этот термин означает, что ЭВМ просто заменяет инженера-проектировщика, оставляя ему лишь рутинную работу. Напротив, вычислительной машине предназначена уникальная роль в процессе проектирования: она дополняет проектировщиков, а не заменяет их» [Автоматизация… с. 8].
(обратно)163
«Это такое повышение производительности труда, аналогичных примеров которому трудно найти в других областях. Колоссальное повышение производительности труда в области выполнения арифметических и других логических операций» [Глушков, 1972, с. 79].
«С точки зрения пользования ЭВМ важны прежде всего быстродействие и память. БЭСМ-6, классическая машина второго поколения может производить миллион операций в секунду. Таким образом, мощность БЭСМ-6 примерно во столько же раз превосходит мощность первых машин первого поколения, во сколько ЭВМ первого поколения превосходили человека (2–3 тысячи операций БЭСМ-1 и 2–3 операции в секунду, которые способен производить человек).
Как ни велико было значение ЭВМ второго поколения, однако настоящая революция в методах научного анализа, как мне кажется, будет связана с освоением машин третьего поколения, которые начали создаваться в конце 60-х годов.
Уже сегодня объем памяти каждой из действующих систем третьего поколения позволяет хранить информацию, которой располагает публичная библиотека средних размеров. Причем поиск необходимой информации, нужной цифры и т. д. занимает неизмеримо меньше времени, чем требуется самой квалифицированной, налаженной библиотеке» [Моисеев, 1973, с. 12–13].
(обратно)164
«ЭВМ, в отличие от средств автоматизации прошлого, обладают способностью перестраиваться от одной работы к другой, выполнять разные правила и процедуры управления» [Глушков, 1972, с. 73].
(обратно)165
Здесь мы затрагиваем очень сложный и многоплановый вопрос, обсуждение которого потребует, среди прочего, разделения «машинизации» и «автоматизации», ибо анализ теоретических основ машинизации начался уже по крайней мере 200 лет назад, а теоретические основы автоматизации стали предметом внимания лишь в последние 30 лет. Кроме того, при обсуждении этой темы мы должны будем разделить, во-первых, разные практические задачи и установки, в свете которых рассматривались эти проблемы, а во-вторых, разные картины мира и разные методологические средства, с помощью которых их пытались решать.
Одно из важнейших направлений в этой области — исследования, связанные с созданием так называемого «искусственного разума» (см. [Минский, 1967] с подробной библиографией) или, в еще более общей формулировке, с разработкой «теории автоматов» (см. [Нейман, 1971]; сюда же должны быть отнесены работы такого типа, как нашумевшая статья А. Тьюринга [Тьюринг, 1960], а также книга М. Таубе [Таубе, 1964], по форме напоминающая публицистику, но в существе своем строго научная).
Другое направление, связанное с разработкой систем «человек — машина», развивалось в идеологии «передачи» некоторых частей деятельности и функций человека машинам (обзор основных идей этого направления дан в работах [Телегина, 1972; Проблема… 1970], анализ и критика — в работах [1973 с; Дубровский, Щедровицкий Л., 1970 а, 1971 а]).
Третье направление, приобретающее в последнее время все большее значение, сформировалось в контексте проблем рационализации руководства и управления и поэтому никогда не придавало ЭВМ самостоятельного значения — они всегда рассматривались как средства оптимизации деятельности и функционирования организации (см. [Гаишиани, 1972, с. 490–518; Simon, 1947; March, Simon, 1965; Акофф, 1972]).
Четвертое направление, развивавшееся в русле психологии, исходит из общих представлений о деятельности и мышлении как субъективных отправлениях человека; оно рассматривает ЭВМ и другие технические устройства в качестве средств и орудий человека и, соответственно этому, в принципе отрицает возможность использовать машины в качестве материала — носителя деятельности и мышления (см. [Ломов, 1966; Леонтьев А. Н., 1967, 1970] и критику этой точки зрения в работе [1971 b]).
Пятым направлением можно считать теоретико-деятельностный подход с характерным для него системным представлением всех протекающих в деятельности процессов (см. [1973 с; 1975 с; Дубровский, Щедровицкий Л., 1970 а, 1971 а; 1971 b; Проблема… 1970] и работу [Дубровский, Щедровицкий Л., 1973], специально посвященную понятию машинизации мыслительной деятельности).
(обратно)166
Можно даже сказать, что все эти многочисленные разрозненные элементы собственно теоретических представлений о машинизации и автоматизации и не могли превратиться в целостное теоретическое представление, ибо для этого необходимо как минимум методологическое объединение технических, социальных и гуманитарных знаний — задача, впервые осознанная и поставленная с необходимой резкостью лишь в последние 15 лет, а как максимум — создание «теории деятельности» (или «комплекса бихевиоральных наук» в американской терминологии), которая бы связала и объединила технические, социальные и гуманитарные представления и методы анализа в плоскости единой идеальной действительности «деятельности» и в рамках единого научного предмета (см. [1975 с] и приведенную там литературу).
(обратно)167
При этом почти всегда отмечают, что в системе общественного производства появляется новая сфера деятельности — разработка и внедрение технических устройств, — но этим и исчерпывается, в представлении авторов многих работ, изменения в системе общественной деятельности, вызванные автоматизацией. Именно поэтому акад. В. М. Глушков вынужден был формулировать «принцип новых задач», но и это, как нетрудно видеть, касается совершенно иного аспекта проблемы: ведь здесь мы говорим не о возможностях решения новых задач с помощью ЭВМ, а об изменениях структуры деятельности, возникающих естественно и необходимо в силу самого факта использования ЭВМ для решения любых задач.
(обратно)168
Ср.: «Сложность современной жизни объясняется не только головокружительным ростом ее темпов. Необычайно возросли масштабы человеческой деятельности, и одно это поставило множество новых, неизвестных ранее, проблем. Сегодня все увязано в единое целое, и каждое действие вызывает огромное число побочных явлений, которые нельзя не принимать во внимание» [Емельянов, 1972, с. 106].
(обратно)169
Ср.: «Одна из важных сторон специфики управления организационными системами связана с тем, что цели, преследуемые системой, часто формулируются недостаточно точно. Цель системы часто не только можно трактовать по-разному, но от нее ждут совсем не того, чего от нее требуют на словах» [Емельянов, 1972, с. 106].
(обратно)170
Ср.: «ЭВМ и АСУ, основанная на ее использовании, не может мыслиться просто как инструмент, который установили, а потом начинают им пользоваться. Здесь коренное отличие от того, что было раньше, когда счеты заменяли арифмометр, а процедуры оставались прежними.
Для эффективного внедрения автоматизированных систем управления и электронных вычислительных машин надо не только решать задачи покупки ЭВМ и остального оборудования, не только разработать процессы в самой ЭВМ, так называемые программы, но и разработать в целом комплекс мероприятий экономического характера, выработать те критерии, по которым оцениваются результаты действия отдельных подразделений, новые системы стимулирования, решать различного рода специальные, организационные и психологические вопросы, ибо использование ЭВМ даст возможность по-новому решать все эти проблемы. Как правило, изменяется и организационная структура, особенно функциональные обязанности различных звеньев управленческого аппарата.
Это делает внедрение ЭВМ и автоматизированных систем управления чрезвычайно сложным делом, требующим концентрации на создании этой системы специалистов различного профиля — в области электронно-вычислительной техники, математики, программирования, математических методов управления, экономики, психологов, социологов, организаторов производства и даже технологов, поскольку нужно знать нормативное хозяйство» [Глушков, 1972, с. 77].
(обратно)171
Ср.: «Мудрость — это способность предвидеть отдаленные последствия совершаемых действий, готовность пожертвовать сиюминутной выгодой ради больших благ в будущем и умение управлять тем, что управляемо, не сокрушаясь из-за того, что неуправляемо. Таким образом, мудрость обращена в будущее. Но она относится к будущему не как гадалка, которая старается предсказать будущее. Мудрый человек пытается управлять 6удущим»[Акофф, 1972, с. 14].
(обратно)172
Конечно, социотехническая переформулировка целей и задач какой-либо системы мероприятий сама по себе не обеспечивает еще превращения этих мероприятий в подлинно социотехническое действие: нужно также заново спланировать и осуществить все эти мероприятия как социотехническое действие, но правильная формулировка целей и задач является первым и необходимым условием всего этого.
(обратно)173
Ср.: «Непрерывные и стремительные перемены — главная черта современного мира. Время, в которое мы живем, как никакой другой период истории, насыщено коренными революционными изменениями. Быстрая смена ситуаций стала характерной для всех сторон нашей жизни: стремительно меняется все — от международного положения до спроса на конкретный вид товара, от уровня науки и техники до структуры промышленности. От того, насколько быстро современное руководство улавливает происходящие перемены, насколько эффективно оно реагирует на них и какие меры принимает сегодня, зависят успех и процветание завтра» [Емельянов, 1970, с. 40].
«В ближайшем будущем эффективнее будет работать не тот, у кого лучше организована система управления, а тот, у кого создана и лучше организована система по разработке и совершенствованию организационных систем управления, тот, у кого лучше развивается наука об управлении, тот, у кого более эффективная система подготовки кадров в области управления, постоянно впитывающая в себя все новое, что создает наука об управлении» [Емельянов, 1972, с. 99].
(обратно)174
В этом плане очень интересна характеристика подобных «отживших», но вместе с тем совершенно реальных и массовых ситуаций в проектировании, которую дал несколько лет назад акад. В. Трапезников: «Воротами для выхода новой техники в народное хозяйство служат проектные и конструкторские организации. Именно они всей своей деятельностью должны обеспечить технический прогресс, быть проводниками новых идей, разработанных наукой, они призваны играть существенную роль в прогнозировании. Каково же действительное положение? Быстрый рост промышленности вызывает перегрузку проектных организаций и зачастую отвлекает их от перспективных разработок. В силу ряда обстоятельств и жестких сроков эти организации ориентируются в своих проектах главным образом на серийно выпускаемое оборудование. Это приводит к печальному результату. Серийное производство нового оборудования можно организовать лишь после того, как будет выявлена достаточная потребность в нем. А чтобы выявить потребителей и обеспечить нужное количество заказов, в проекты надо закладывать новое оборудование. Получается заколдованный круг. Новое оборудование не выпускают, пока оно не появится в проектах, а в проекты можно закладывать лишь оборудование, выпускаемое промышленностью. Это существенно сдерживает темпы технического прогресса и нередко на новом предприятии уровень техники и производительности труда оказывается почти таким же, как на старом, и иногда ниже. Как видите, движение есть, только не вперед, а назад, и в этом немалая доля вины лежит на проектантах… Заколдованный круг следует разорвать» [Трапезников, 1967].
(обратно)175
15 Не случайно, что и исторически первые распространенные и устойчивые представления о прогрессе (искусства, техники, разума) появляются после эпохи Возрождения, индивидуализировавшей человека [Вико, 1940; Vico, 1947; Кондорсэ, 1936; Тюрго, 1937; Bury, 1924]. То обстоятельство, что в своем содержании они фиксировали как раз не эти, искусственные моменты, а, наоборот, естественное и не зависящее от человека течение всех процессов, объясняется, во-первых, тем, что понятие прогресса наряду с искусственной компонентой предполагает также естественную — те процессы и механизмы, которые происходят в рассматриваемом объекте сами собой и определяют преемственность и непрерывность его существования, — и без этой компоненты немыслимо, а во-вторых, тем — и это было решающим фактором, — что людям эпохи Возрождения для оправдания их действий нужна была необходимость, независимая от воли Бога, и они нашли ее в процессах, имманентных природе. Но какой бы ни была эта теоретическая и идеологическая трактовка понятия прогресса, в узловых моментах содержания и, главное, в способах употребления это понятие было неразрывно связано с деятельностью человека, приспосабливающегося к социально-историческим условиям своего существования и активно изменяющего их.
(обратно)176
Правда, в последнее время некоторые исследователи в США (см., к примеру, [Studer, 1971]) стали выдвигать на передний план задачу сознательного развития систем деятельности, но и они, как правило, хорошо понимают, что сама эта установка резко расходится с устоявшейся практикой естественной организации этих процессов и основными идеологическими принципами деятельности, господствующими сейчас в капиталистическом обществе; см. также [Акофф, 1972], приведенную там аннотированную литературу и замечания редактора перевода Н. А. Ушакова: «Само по себе возникновение таких видов деятельности, как прогнозирование и планирование, несвойственных традиционным условиям "свободной конкуренции", нельзя считать случайным. Развитие производительных сил "втаскивает… капиталистов, вопреки их воле и сознанию, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению" [Ленин, 1962, с. 320–321]… Это неизбежно приводит к тому, что «технология» экономической жизни крупной монополии начинает приобретать черты, несвойственные ей ранее. И возможно, одной из основных таких черт является зарождение планирования. В то же время само существо капиталистического общества неизбежно приводит к ограниченности функций планирования, его локальному характеру, а главное — иному целевому назначению… Основное различие заключается в наличии четко выраженной общественной цели у такой огромной системы, какой является социалистическое общество, и в отсутствии антагонистических противоречий на любых и между любыми уровнями организационной структуры этой системы. Эти факторы определяют возможность построения стройной и непротиворечивой иерархии планов, реализация которых на каждом уровне организационно-экономической структуры социалистической системы является естественной целью» [Акофф, 1972, с. 5–6].
(обратно)177
Ср., к примеру: «Задача специалистов по управлению заключается в создании такой системы управления процессом развития коллектива людей, чтобы темп его при наличии ограничений в отношении количества людей (членов коллектива) и количества материальных ресурсов, которыми они располагают, был максимальный» [Емельянов, 1972, с. 100].
(обратно)178
Ср.: «В настоящее время не существует готовых рецептов для решения всех этих проблем в полном объеме. Попытки скороспелых решений могут причинить только вред. Необходимо искать научно обоснованные решения, а это возможно только в результате серьезной, широко поставленной научно-исследовательской работы» [Емельянов, 1970, с. 41].
«Разработка методологических вопросов науки управления — дело сложное и трудное. Несмотря на усилившееся за последние годы внимание к проблемам управления народным хозяйством, в области теории управления сделано пока еще немного. Если в области организации, методов и особенно техники управления производством появились серьезные научные работы, то в области теории такие работы исчисляются единицами, а по проблемам методологии науки управления, к сожалению, нельзя назвать ни одной крупной работы. Вместе с тем вопросы, относящиеся к теоретическому осмысливанию всей нужной системы знаний об управлении производством, становятся сегодня тем "узким местом" в развитии научных исследований, которое тормозит движение вперед на пути к созданию советской теории управления производством.
Необходимость развития исследований по проблемам управления производством требует резкой активизации методологических разработок в этой области» [Дейнеко, 1971, с. 20].
«Методология науки управления — тема, наименее освещенная в литературе. Здесь имеется еще очень много "белых пятен", раскрытие которых в большой степени обусловливает развитие этой важной области знаний. Увлечение прикладными исследованиями, уход от теоретического обоснования проблем управления производством отрицательно влияли в последние годы на изучение методологических вопросов науки управления. А то, что методология — фундамент марксистско-ленинского подхода к познанию общественных явлений, нет необходимости доказывать» [Гвишиани, 1971].
В прошлой пятилетке недостаточно велись работы по методологическим вопросам систем управления…» [Жимерин, 1972, с. 10].
(обратно)179
Ср.: «Наука, занимающаяся вопросами планирования, бурно развивалась в последние годы. Однако даже лучшие имеющиеся образцы планирования являются, по крайней мере, в такой же степени творениями искусства, как и науки. Я заинтересован в развитии этого искусства так же, как и в развитии этой науки. Здесь как нигде важно их гармоническое сочетание.
Главный вклад ученых в планирование состоит, вероятно, не в разработке и применении соответствующих средств и методов, а скорее в систематизации этих методов, организации процесса планирования и в более глубоком осознании этого процесса и его оценке» [Акофф, 1972, с. 15]. Это весьма определенная концепция науки и ее отношения к социотехническому действию, но наряду с ней есть и много других (см., например, [Дейнеко, 1971; Жимерин, 1972; Афанасьев, 1965; Гвишиани, 1963; Гвишиани, Каменицер, 1965; Лисицин, Попов, 1968; Румянцев, Еремин, 1967]).
(обратно)180
Ср.: «Самый серьезный порок такого способа планирования заключается в том, что он редко приводит к углубленному пониманию системы, для которой ведется планирование, и самого процесса планирования. Удовлетворенец стремится использовать только уже полученные знания и уже достигнутое понимание системы, он редко занимается исследованиями, направленными на расширение этих знаний и этого понимания. Его планирование не носит исследовательского характера. По этой и по другим причинам его работа требует меньше времени, денег и технических навыков, чем другие способы планирования. В этом, конечно, одно из объяснений притягательной силы удовлетворенческого планирования» [Акофф, 1972, с. 24].
(обратно)181
Ср.: «Человек в отличие от элементов, из которых состоят технические объекты управления, представляет собой очень сложную систему, способную формировать цели и задачи, самоприспосабливаться и обучаться, а также предугадывать стратегию «противника» в конфликтных ситуациях…
(обратно)182
Ср.: «Даже самый детальный оптимизаторский план может быть сорван многочисленными мелкими действиями (или воздействием) работников, которые поодиночке или коллективно не стимулируются так, чтобы их деятельность соответствовала запланированным целям… Поэтому стимулирование личностей и групп в организации должно быть (хотя и редко бывает) важной составной частью процесса планирования» [Акофф, 1972, с. 29].
(обратно)183
Ср.: «Как отмечалось, в каждом коллективе, а следовательно, и в каждой подсистеме автоматически формируются ее собственные коллективные цели. В результате подсистема будет преследовать некоторую цель, существенно отличающуюся от заданной» [Емельянов, 1972, с. 106].
(обратно)184
Ср.: «Система управления должна обеспечить максимально быстрый рост "деревьев потребностей" всех людей и максимальное их удовлетворение. Одновременно с этим процессом система управления должна воздействовать и на качественный состав "деревьев растущих потребностей" и "меняющихся целей" отдельных индивидуумов, препятствуя возникновению в "кроне деревьев" потребностей, а следовательно, и целей, выполнение которых отрицательно сказывается на развитии коллектива в целом…
Более того, цель системы во многих случаях может оказаться неконкретной, отдаленной от людей, образующих эту систему. Поэтому, сформировав и уточнив основную цель, необходимо построить целую иерархию подцелей, доведя их до уровня конкретности, и определить важность каждой цели одного уровня» [Емельянов, 1972, с. 100–101, 106].
(обратно)185
Ср.: «При формировании целей важен выбор критериев эффективности работы организационных систем. Действительно, именно цели определяют направление процессов развития, возникающих в результате управления организационными системами. Цели, согласованные с основной, должны быть и у каждой подсистемы организационной системы управления. Но просто задать подсистеме цель невозможно. Как отмечалось, в каждом коллективе, а следовательно, и в этой подсистеме автоматически формируются ее собственные коллективные цели. В результате подсистема будет преследовать некоторую цель, существенно отличающуюся от заданной. Можно измерять это отклонение с помощью критериев оценки эффективности работы подсистемы и управлять им путем изменения системы стимулов (материальных и моральных). Стимулы оказывают очень сильное воздействие на формирование собственных целей подсистемы и при правильном использовании могут обеспечить совпадение собственных целей с желаемыми даже без того, чтобы желаемые цели точно задавались сверху» [Емельянов, 1972, с. 106].
(обратно)186
Ср.: «Проблемы формирования целей и определения критериев оценки эффективности не могут быть решены без создания эффективных методов прогнозирования. Дело в том, что все основные процессы, происходящие в организационной системе и обеспечивающие успех ее работы, рассчитаны на более или менее длительное время. Но направление развития или эффективность работы можно оценить лишь по достигнутым результатам. Поэтому и для формулировки цели, и для оценки уже проделанной работы необходимо знать, к чему это приведет в будущем» [Емельянов, 1972, с. 107].
(обратно)187
Ср.: «Действия, приводящие к желаемому состоянию (цели) могут иметь последствия, которые не содержатся в формулировке данной цели. Люди и организации всегда преследуют множество целей. Поэтому, для того чтобы узнать, являются ли последствия некоторого способа действия желательными, требуется знание всего диапазона соответствующих целей. Чем выше уровень, на котором составляются цели, тем более широкими они, скорее всего, являются… Постановка комплексных целей иногда происходит со слишком низкой степенью общности. Это часто приводит к тому, что план частично или целиком отвергается без видимых причин. Однако здесь могут быть веские основания, и эти основания кроются в целях более общих, чем те, которые изучались плановиками» [Акофф, 1972, с. 50–51].
(обратно)188
Ср.: «"Управление" — многозначное понятие. Оно применяется везде, где нужно выразить определенное воздействие на объект в целях сохранения его устойчивости (организации) либо перевода системы из одного состояния в другое» {Дейнеко, 1971, с. 26].
(обратно)189
«При исследовании структуры отношений управления необходимо учитывать их различный характер и масштабы. Так, неодинаковые отношения управления существуют в макроструктуре экономической системы (пространственные отношения между людьми и коллективами) и в микроструктуре этой системы (отношения внутри социальных групп-предприятий). В микроструктурных отношениях управления их характер усложняется наличием межличностных отношений (отношений между людьми)» (там же, с. 240).
«Некоторые ученые сводят отношения управления лишь к отношениям межличностного характера» (там же, с. 243).
Но, с другой стороны: «Отношения управления тесно связаны с отношениями исполнения, более того, они неразрывны в рамках производственного процесса. Отношения исполнения не могут быть реализованы без отношений управления, а управленческие отношения не могут существовать сами по себе, вне отношений исполнения» (там же, с. 220).
«Управление — это такое производственное отношение между руководителями и исполнителями, которое заключается как в обеспечении определенных организационно-технических связей между участниками кооперированного процесса труда (техническая сторона управления), так и в обеспечении роста эффективности производства для достижения цели, объективно обусловленной формой собственности на средства производства (экономическая сторона управления)» [Афанасьев, 1965, с. 6 (цитируется по [Дейнеко, 1971])].
«Отношения управления находят свое выражение в планировании производственного процесса во времени и пространстве, организации всего производственного комплекса (средства труда, предметы труда, совместный труд), координации (гармонизации) производственного дела, учете и контроле производства» [Дейнеко, 1971, с. 227].
«Хозяйственное руководство и управление производством охватываются одним видом отношений — отношениями управления. Однако хозяйственное руководство более тесно взаимодействует с рядом других общественных отношений, в частности политическими, национальными, экономическими… С другой стороны, управление производством более тесно соприкасается с правовыми, социальными, морально-этическими, семейно-бытовыми отношениями» (там же, с. 215).
И, наконец: «Сущность отношений управлення производством. Этому вопросу в нашей философской и экономической литературе не уделено пока должного внимания. Высказывания отдельных специалистов о характере отношений управления без методологического анализа их сущности и природы не могут, по нашему мнению, внести ясность в раскрытие этой базовой категории науки управления производством. Такого рода опережение этапов научного исследования, рассмотрение внешних свойств предмета ранее их внутренних свойств не могут быть, на наш взгляд, верным подходом к методологии исследования отношений управлени» (там же, с. 218).
(обратно)190
Различие «управления» и «руководства» стало осознаваться впервые после того, как в некоторых крупных американских корпорациях сложились так называемые «административные службы». В течение поколений «высшее американское руководство постоянно требовало повышения эффективности промышленного производства… Недавно высшее руководство начало смотреть на административные службы с тем же пристальным вниманием, с которым оно рассматривало производственные процессы и планирование, поточность производства, размещение предприятий и измерение труда. Именно такова точка зрения современного администратора — нового лидера в новой эре… Он появился как специалист по административным вопросам, отвечающий за комплексную структурную единицу по обслуживанию, руководству и планированию, функционирующий в тесном контакте с руководителями исполнительных подразделений для выполнения задач компаний. Его задача — обеспечить эффективное управление при наименьших затратах» [Курс… 1970, с. 12]. Возникновение административных служб с их специфическим функционированием привело к реальному разделению «администрирования», осуществляемого ими, и общего руководства или управления, оставшегося за президентом и вице-президентами компаний (см. рис. 1 и 2 в работе [Курс… 1970, с. 14–15]), и это потребовало специального анализа и уточнения целей, средств и техники того и другого. Естественно, что разные авторы пытались сделать это исходя из разных оснований и с помощью разных средств, что породило целый ряд различающихся между собой проектных предложений. Вдобавок к этому часто то, что одни называли руководством (или администрированием), другие называли управлением и наоборот. Поэтому возникла крайняя разноголосица как в употреблении этих терминов, так и в определении существа различаемых процессов (см. [1973d; Курс… 1970, с. 13; Сазонов, 1973 а]). Но, как бы мы ни обозначали различие того и другого, необходимость такого различия и практического учета его признается сейчас многими специалистами. Во введении к докладу Американской ассоциации по управлению «О создании новой концепции административного управления» вице-президент отдела административных служб этой ассоциации С. Л. Ши писал: «Не признавать административное управление как функциональную специальность сегодня для коммерческого предприятия означает такую же катастрофу, как и отказ от новой технологии. Быстрые и полные изменения являются наиболее важным продуктом нашего поколения, и управление должно приспосабливаться к ним со всем необходимым рвением, поскольку альтернативой является гибель» [Курс… 1970, с. 16].
(обратно)191
Ср.: «В условиях американской экономической системы нет концепции внедрения в том смысле, в каком мы понимаем внедрение у нас. Например, если вопрос ставится о внедрении нового метода производства в рамках взаимоотношений между начальником и его подчиненными, то никакой американский начальник не будет заниматься «втискиванием» и «вдавливанием» (а именно так наше понятие «внедрение» звучит для американцев) нового метода производства, а просто прикажет его применять. Если же речь идет о свободном предпринимателе, то никто в США не может заставить его принять этот новый метод и никто, по существу, даже не будет заинтересован в условиях конкуренции в применении этого нового метода своим конкурентом; в лучшем случае правительственные органы, органы пропаганды или просветительные организации могут информировать о новом методе; успеть же вовремя поймать и использовать такую информацию будет уже делом самого предпринимателя, который знает, что если он своевременно этого не сделает, то обанкротится» [Курс… 1970, с. 9].
(обратно)192
Ср.: «В начальной стадии, когда развивающийся объект достаточно мал и просі, структура его не содержит специального звена — организационной системы управления. Затем, по мере его увеличения и усложнения связей между отдельными элементами, темп развития начинает замедляться. Если не принять мер, то процесс развития может остановиться или перейти из развивающегося в затухающий. Чтобы этого не произошло, нужно решение о создании специального звена — организационной системы управления.
(обратно)193
Ср.: «Каждая система управления, совершенствующая структуру управления предыдущего уровня, не должна быть сложной, но должна обладать большими полномочиями для изучения существующей структуры и внесения предложений ее совершенствования» [Емельянов, 1972, с. 102].
(обратно)194
Источник: [1992]. Доклад в Институте проблем управления 26 марта 1975 г.
(обратно)195
Источник: [1957а]
(обратно)196
При таком подходе отпадают как логически неправомерные вопросы, вызвавшие в последнее десятилетие массу споров: всегда ли мышление выражается в языке или существуют мышление, не связанное с языком, и язык, не выражающий мышления (см., например, дискуссию в журнале «Acta psychologies» [Acta… 1954]).
(обратно)197
Л. С. Выготский употребляет термин «речь», по-видимому, в том смысле, который мы обычно вкладываем в термин «язык». Излагая взгляды Л. С. Выготского, мы оставляем его термин «речь», хотя сами бы сказали «язык».
(обратно)198
См. [Маркс, Энгельс, 1955 а, с. 448]. См. также: «Язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание…» (там же, с. 29).
(обратно)199
Ср.: «… я понимаю под словом любой знак, а под языком — любую знаковую систему, поскольку то и другое употребляется с той же направленностью и с теми же задачами, что и слова звукового языка. Таким образом, алгебраические символы, письменные знаки любого вида и геометрические фигуры будут рассматриваться как язык специального вида…» [Kevesz, 1954, с. 11].
(обратно)200
Источник: [1964 с].
(обратно)201
Источник: [1966 с].
(обратно)202
Источник: [1973 а].
(обратно)203
В соавторстве с С. Г. Якобсон. Источник: [1973 е].
(обратно)204
Источник: фрагмент из [1974 d].
(обратно)205
«Рефлексия не имеет дела с самими предметами и не получает понятий прямо от них; она есть такое состояние души, в котором мы приспособляемся к тому, чтобы найти субъективные условия, при которых мы можем образовать понятия. Рефлексия есть сознание отношения данных представлений к различным нашим источникам познания, и только при ее помощи отношение их друг к другу может быть правильно определено. Раньше всякой дальнейшей обработки самих представлений мы должны решить вопрос, в какой способности познания они связаны друг с другом… Не все суждения нуждаются в исследовании, т. е. во внимании к основаниям их истинности… Но все суждения и даже все сравнения требуют рефлексии, т. е. различения той способности познания, которой принадлежат данные понятия…
Да будет позволено мне называть место, уделяемое нами понятию или в чувственности, или в чистом рассудке, трансцендентальным местом. Соответственно этому оценку места, принадлежащего всякому понятию согласно различиям в его применении, и руководство — для определения места всякого понятия согласно правилам, следовало бы называть трансцендентальною топикою; эта наука основательно предохраняла бы от всяких подтасовок чистого рассудка и возникающей отсюда шумихи, так как она всегда различала бы, какой познавательной способности принадлежат понятия…» [Кант, 1907; с. 185, 189].
(обратно)206
«Рефлексия, которая должна происходить в том же осознании, есть состояние совершенно отличное от внешнего восприятия, отчасти даже противоположное ему… Знание в своей внутренней форме и сущности есть бытие свободы… Об этой свободе я утверждаю, что она существует сама по себе… И я утверждаю, что это самостоятельное, особое бытие свободы есть знание… В знании действительного объекта вне меня как относится объект ко мне, к знанию? Без сомнения, так: его бытие и его качества не прикреплены ко мне, я свободен от того и другого, парю над ними, вполне к ним равнодушен… Свободу, необходимую для того, чтобы сознание носило хотя бы форму знания, оно получает от объективирующего мышления, благодаря которому сознание, хотя и связанное с этим определенным построением образов, подымается по крайней мере над бытием и становится свободным от него. Таким образом, в этом сознании соединяются связанная и освобожденная свобода: сознание связано в построении, свободно от бытия, которое поэтому переносится мышлением на внешний предмет. Рефлексия должна поднять знание над этой определенной связанностью, имеющей место во внешнем восприятии. Оно было связано в построении, следовательно, оно должно стать свободным и безразличным именно по отношению к этому построению, подобно тому, как раньше оно стало свободным и безразличным по отношению к бытию… В рефлексии есть свобода относительно построения, и поэтому к этому первому сознанию бытия присоединяется сознание построения. В восприятии сознание заявляло: вещь есть, и больше ничего. Здесь новое возникшее сознание говорит: есть также образ, представление вещи. Далее, так как это сознание есть реализованная свобода построения, то знание высказывает о себе самом: я могу создать образ этой вещи, представить ее, могу также и не создавать» [Фихте, 1914; с. 8–10].
(обратно)207
«Я описал внешнее восприятие как такое состояние сознания, причина которого лежит просто в самом существовании сознания, а то новое состояние, которое вызывается рефлексией, как такое, которое задерживает поток причинности, и тогда жизнь становится принципом, благодаря возможности свободного акта» [Фихте, 1914; с. 15] (см. также с. 138–140).
(обратно)208
Ср., например: Рефлексия — «название для актов, в которых поток переживания со всеми его разнообразными событиями… становится ясно постигаемым и анализируемым» [Husserl, 1950 а, с. 181].
(обратно)209
О понятии конфигурирования см. [1964h*; 1967е; 19711;Лефевр, 1969].
(обратно)210
О принципах такого развертывания и сочетании в них «естественного» и «искусственного» см. наши работы [1967а, с. 30–38; 1966а*, {с. 211–227}; 1968а, с. 141–150].
(обратно)211
На значение кооперации в развитии разных форм человеческой культуры и сознания человека указывали многие философы. Огромное значение фактору кооперации придавал К. Маркс, подчеркивавший, в частности, что именно в нем надо искать ключ к объяснению всех форм самосознания человека. Кооперация рассматривалась в политэкономии и социологии, но преимущественно как факт разделения труда, оказывающий влияние на формирование социальных групп и классов. В таких дисциплинах, как производственная технология, теория организации производства (менеджмент) и НОТ, кооперация бралась либо в плане влияния ее на организацию машинных систем, либо же в плане определения норм действия и деятельности отдельного человека.
Мы не перечисляем здесь других подходов, в которых кооперативные связи деятельности выступали в том или другом аспекте — их было достаточно много, — важно, что, несмотря на обилие разных подходов, сами связи кооперации так и не стали предметом специального научного изучения. Объясняется это, в первую очередь, тем, что ни одно из развившихся к настоящему времени научных направлений не выделило ту абстрактную идеальную действительность, в которой связи кооперации могли бы существовать и выступать для исследователя имманентно. И наоборот, лишь задание деятельности в качестве особой и самостоятельной идеальной действительности дает, на наш взгляд, основание для подобного подхода и развертывания собственно научных исследований кооперативных связей самих по себе и для себя.
(обратно)212
Решающую роль здесь сыграли два момента: 1) необходимость объяснять специфику и происхождение методологических знаний (см. [1967 d}) и 2) полемика с В. А. Лефевром по поводу предложенных им схем и формальных описаний рефлексии (см. [Лефевр, 1965], а также для сравнения [Лефевр, 1967; Генисаретский, 1968]).
(обратно)213
По поводу методических предписаний как особой формы знаний см. [1966 а*, {с. 211–218}; Разин, 1967 b].
(обратно)214
Ср.: «Чтобы схематизировать себя как таковой, для созерцания ей (способности — Г. Щ.) необходимо раньше своей деятельности увидеть возможность этого действия, и ей должно казаться, что она может его совершить, а может и не совершать. Это возможное действие она не может увидеть в абсолютном долженствовании, которое на этой ступени еще не видимо, поэтому она его видит в так же слепо схематизированной причинности, которая, однако, не есть непосредственно причинность, а кажется, что она становится таковой вследствие видимого выполнения способности. А такая причинность есть влечение. Способность должна чувствовать влечение к тому или иному действию, но это не определяет непосредственно ее деятельности, так как такая непосредственность заслонила бы от нее проявление ее свободы, а в ней-то весь вопрос… Если способность должна видеть себя как долженствующую, то необходимо, чтобы раньше этого определенного видения себя как принцип, она видела бы вообще, а так как она видит только через посредство собственного саморазвития, то необходимо, чтобы она развивалась…» [Фихте, 1914, с. 139–140, 138].
(обратно)215
Объяснение гносеологического принципа «изолированного индивида» и детальную критику его см. в работе [Мамардашвили, 1968 а].
(обратно)216
Последняя характеристика получает свой смысл и значение рефлексии только через первую, сама по себе она не содержит ничего специфически рефлексивного. Если мы правильно понимаем Гегеля, то именно это он имел в виду, когда ввел понятие о внешней рефлексии и характеризовал ее как чисто формальное действие: «И мыслительная рефлексия, поскольку она ведет себя как внешняя, равным образом безоговорочно исходит из некоторого данного, чуждого ей непосредственного и рассматривает себя как лишь формальное действие, которое получает содержание и материю извне, а само по себе есть лишь обусловленное последним движение» [Гегель, 1937, т. 5, с. 474]. Вообще было бы интересным и поучительным, хотя бы в плане анализа языка диалектики, рассмотреть гегелевские определения рефлексии с точки зрения вводимых нами схем и моделей.
(обратно)217
«Хотя сознание освободилось от первого состояния, оно все же может свободно в него возвращаться. Оно может себя делать таким сознанием, причинность которого заключается только в его бытии. Это возвращение известно всякому под именем внимания. К первому бытию, которое продолжает существовать, не поглощая всецело бытия сознания, прибавилось второе, властвующее над первым. Это второе, раз появившись, не может быть уничтожено, но оно свободно может снова отдаваться первому…» [Фихте, 1914, с. 14].
(обратно)218
Точнее, нужно было бы говорить о рефлексии, успокоившейся в предмете, ибо здесь стираются все следы его рефлексивного происхождения и дальнейшее развитие предмета может происходить без помощи и посредства знаний, получаемых в заимствованной позиции; сама рефлектируемая деятельность превращается при этом в «чистую» практику, оторванную от каких-либо процедур получения знаний.
(обратно)219
Хорошим примером принципов, сохраняющих рефлексивные отношения в знаниях, могут служить, во-первых, принцип двойного знания (см. [1964 а, (с. 175–178); 1966 с*]), а во-вторых, принцип и схемы конфигурирования (см., например, [1964 h *; 1971 і; Лефевр, 1967, с. 4–11]).
(обратно)220
Источник: [1975 b].
(обратно)221
Различие между «предметом» и «объектом» и соответственно между предметными и объектными утверждениями обсуждается в нашей работе [1964 а *, {с. 165–170, 172–178}].
(обратно)222
Представление о «программе исследований» и их роли в развитии естественных наук дается в работах И. Лакатоса [Lakatos, 1968, 1970].
(обратно)223
Вопросы о том, что такое «логика», когда она сложилась и оформилась в том виде, который кажется нам сейчас привычным, каковы ее предмет и метод, можно ли считать логику наукой, в частности — наукой о мышлении, и многие другие вопросы, связанные с этими, являются крайне сложными и запутанными. Исторические работы самого разного типа (такие, скажем, как [Bochenski, 1956; Маковельский, 1967; Стяжнн, 1967]) дают заведомо модернизированное представление; их нельзя в этом упрекать, ибо основная цель и задача всех этих работ в том, чтобы снять исторический процесс и представить все его достижения в единой «системе логической культуры», пригодной для функционального употребления, но создаваемая таким образом «историческая» картина оказывается в результате столь искаженной, что ею нельзя пользоваться именно в историческом плане. Некоторые авторы обращают на это внимание (см., например, [Scholz, 1931; Ахманов, 1960]), но и они, как правило, не могут построить исторического представления, ибо не обладают необходимыми средствами и методами исторической реконструкции (см. по этому поводу [Historical… 1971; Boston… 1971]). В ряде работ мы изложили фрагменты своего представления о логике [1958 b*; 1960с*; 1966е; 1967 f; 1968 d; 1962а*; 1967b*}, из которого, в общем, исходим и в этой статье; но в дополнение ко всему, что там было сказано, здесь мы должны отметить еще три момента.
(1) «Логика» как таковая не является и никогда не была наукой в прямом и точном смысле этого слова: это — инженерия норм (разъяснение этого тезиса и необходимая аргументация проведены для языковедения — см. [1964а*; 1966 j], но «логика» может и должна рассматриваться целиком по аналогии с языковедением — см. [1971 е]).
(2) В «логике» имеются элементы научных представлений, возникающие вокруг нормативных схем (ср. [1971а, d; 1974а*]); одни из этих элементов являются методическими и конструктивно-техническими и ведут к образованию систематизированных методик и конструктивно-нормативных дисциплин, другие элементы — естественнонаучными в собственном смысле этого слова; в той мере, в какой мы рассматриваем эти последние, мы должны интерпретировать «логику» на какие-то реальные и подчиняющиеся естественным закономерностям предметы (см. [1967 b*]); одним из таких предметов может быть «мышление». И хотя Р. Карнап и Я. Лукасевич категорически отрицали какую-либо связь логики с «мышлением» (см. [1966 е, с. 64; Сатар, 1958, с. 31–32; Лукасевич, 1959, с. 48–51]), чтобы уравновесить их суждения, достаточно указать на то, что работы Дж. Буля и Г. Фреге были бы немыслимы без прямой и непосредственной ориентации на исследование «мышления» [Boole, 1854, 1940; Frege, 1879, 1918, 1971].
(3) То, что мы сейчас называем «логикой», — это предмет, выделенный из общей системы методологии сравнительно поздно: в качестве нормативно-конструктивной дисциплины — по-видимому, где-то в позднем средневековье, а в качестве научной (или квазинаучной) дисциплины — впервые у Гегеля (см. [Гегель, 1934, 1937], и ср. также [Scholz, 1931, с. 2–12]). Во всяком случае, у Аристотеля не было «логики» как таковой и, соответственно этому, — логического представления мышления (ср. [Луканин, Касымжанов, 1971]); более того, сам он, по сути своих воззрений и своей борьбы с софистами, должен был бы категорически возражать против идеи «чистого языка» или «чистой техники» мышления; Аристотеля, как и Платона, интересовали, прежде всего, проблемы истины, а потому его концепция мышления была не столько методической и технологической, сколько онтологической: «метафизика» для Аристотеля была в такой же мере «органоном» мышления, как и «аналитики», а «истолкование» давало механизм объединения того и другого в мышлении.
Все эти моменты нашей трактовки «логики» и «логического» надо иметь в виду, чтобы понимать дальнейшее обсуждение проблемы.
(обратно)224
Мы совершенно отвлекаемся здесь от обсуждения вопроса, насколько точно и полно были зафиксированы эти процессы в схемах традиционной логики: на этот счет у нас есть много возражений, и часть из них мы уже изложили в других публикациях [1958b*; 1960с*; 1962а*; 1962с; 1965с; 1974е]; в частности, мы показали, что если исходить из задачи изображения процессов и актов формального мышления, то схемы должны быть существенно иными. Однако независимо от степени своей адекватности реальным процессам мышления схемы традиционной логики практически организовывали и нормировали формальные умозаключения и в этой своей функции осознавались всеми.
(обратно)225
Здесь могут возразить, что «мышление» — в точном соответствии с введенным нами выше понятием системы — это и есть формальные рассуждения, осуществляемые в соответствии с зафиксированными в логике схемами умозаключений, что вне и помимо этого в «мышлении» вообще больше ничего нет, а поэтому не имеет смысла говорить о каких-то иных процессах, протекающих в мышлении, помимо процессов формального рассуждения.
У этого возражения могут быть два принципиально разных основания. Одно из них — догматизм, приверженность к старым, хорошо выученным схемам; в этом случае опровергать что-либо и доказывать просто бессмысленно. Вторым основанием может быть искусственный подход к духовным явлениям [1966 а *, {с. 211–227); 1967 g*; Генисаретский, 1971; Саймон, 1972]; в этом случае базу для возражений дает то бесспорное положение, что «мышлением» можно считать лишь те проявления и процессы в деятельности и поведении человека, которые определенным образом нормированы и, следовательно, зафиксированы и существуют в определенных культурных нормах (ср. [1966а*; 1967а; 1971 d, e; 1972 а]); к этому положению добавляют второе, что-де до сих пор в логических нормах были выражены и зафиксированы только процессы формального вывода и поэтому только их и можно считать относящимися к мышлению.
Считая такого рода соображения весьма серьезными, мы все же рискуем утверждать, что они не учитывают, по меньшей мере, двух существенных обстоятельств, которые должны кардинальным образом изменить наши выводы. Во-первых, здесь производится отождествление норм мышления с логическими нормами, а это не только сомнительно, но и просто неверно: существует масса норм, уже много столетий регулирующих мышление, которые до сих пор никак не охвачены логикой, а охватываются, скажем, математикой (см. [19513 b*, V, {с. 614–620}; I960 b; 1960 с*, IV; Москаееа, Розин, 1966, Розин, 1964 а]), естественными науками и методологией. Во-вторых, в этой аргументации совершенно не учитывается различие нормативных, конструктивно-технических и собственно научных предметов (ср. [1966 а*, {с. 211–227}]), которые различаются между собой условиями и критериями полноты и целостности. Дело в том, что при естественнонаучном подходе к предмету мы не можем ограничиться одними лишь организованностями норм (т. е. парадигматическими системами) и рассматривать материал, на котором реализуются эти нормы, как совершенно пассивный, не привносящий ничего своего в предмет изучения, а должны рассматривать сложный объект, конституируемый связью между нормами и материалом; при этом как нормы, так и материал должны браться в своих специфических структурах и процессах, а кроме того, должен быть зафиксирован и исследован процесс, создающий объединяющую их связь (см. [1971 d, е; 1975 с*], а также [1971 b]).
Особенности такого подхода к предмету изучения полностью учитываются тем понятием системы, которым мы пользуемся, в частности наличием в системном представлении слоя морфологии[1974с*]. Так как мышление должно быть представлено нами в виде системы и, следовательно, будет содержать веселой, в том числе и слой морфологии, то в нем необходимо должны быть и такие процессы, которые пока еще не отражены и не зафиксированы в соответствующих нормах: без них мышление просто не сможет существовать как естественный или искусственно-естественный объект (ср. [1973 а *]).
Вообще здесь надо заметить, что существует большая разница между предметами нашей конструктивно-технической деятельности и предметами научного исследования: то, что достаточно полно и замкнуто для конструктивно-технической деятельности, может оказаться и, как правило, оказывается неполным и незамкнутым в отношении научно-исследовательской деятельности. Именно это и проявляется в данном случае: к мышлению подходят с конструктивно-технической точки зрения — ибо в этом суть логического подхода — и на основе этого объявляют мышлением только то, что описано и зафиксировано в логике; но нужно еще специально выяснить, имеет ли этот описанный в логике предмет самодостаточное естественное или искусственно-естественное существование и можно ли выделить естественные законы, описывающие его жизнь; если окажется, что таких законов нет и, следовательно, «логическое мышление», т. е. формальные рассуждения, не является целостным предметом, то нам неизбежно придется расширять этот предмет и искать для мышления такие процессы, которые смогут конституировать его целостность и обеспечить ему естественное или искусственно-естественное существование.
(обратно)226
От греческого слова νουσ — «ум»; ср. с выражением «ноосфера», употреблявшимся В. И. Вернадским и Тейяр де Шарденом [Тейяр де Шарден, 1965]).
(обратно)227
Нетрудно заметить, что такая формулировка задачи соответствует идее восхождения от абстрактного к конкретному [1975 d*; Ильенков, 1960; Зиновьев, 1954, 1960 a; Zinovev, 1958]); но сама эта задача возникла и стала решаться до того, как появилось осознание ее в качестве специфической задачи восхождения, и это обстоятельство трансформировало не только процесс решения, но и саму задачу, скажем, позволяло трактовать ее как задачу объединения знаний, синтеза или конфигурирования их и т. п. (ср. [1964 h, /*; 1971 і; Мамардашвили, 1958; Лефевр, 1962, 1969]).
(обратно)228
Характеризуя эту сторону воззрений Дж. Вико, К. Маркс писал, что «… по выражению Вико, человеческая история тем отличается от естественной истории, что первая сделана нами, вторая же не сделана нами» [Маркс, 1955 а, с. 378, примеч. 89]. Но одновременно и параллельно с этим Дж. Вико настаивал на объективном характере исторических закономерностей и единстве процессов и законов мировой истории [Борджану, 1960, с. 126–128]. И эту двойственность мы находим в воззрениях буквально всех мыслителей XVIII столетия; ср., например: «Эти наблюдения над тем, чем человек был, над тем, чем он стал в настоящее время, помогут нам затем найти средства обеспечить и ускорить новые успехи, на которые его природа позволяет ему еще надеяться.
Такова цель предпринятой мной работы, результат которой должен заключаться в том, чтобы показать путем рассуждений и фактами, что не было намечено никакого предела в развитии человеческих способностей, что способность человека к совершенствованию действительно безгранична, что успехи в этом совершенствовании отныне независимы от какой бы то ни было силы, желающей его остановить, имеют своей границей только длительность существования нашей планеты, в которую мы включены природой. Без сомнения, прогресс может быть более или менее быстрым, но никогда развитие не пойдет вспять…» [Кондорсэ, 1936, с. 5–6].
«Если существует наука, с помощью которой можно предвидеть прогресс человеческого рода, направлять и ускорять его, то история того, что было совершено, должна быть фундаментом этой науки. Философия должна была, конечно, осудить то суеверие, согласно которому предполагалось, что правила поведения можно извлечь только из истории прошедших веков и что истины можно познать, только изучая воззрения древних. Но не должна ли она в этом осуждении видеть предрассудок, который высокомерно отбрасывал уроки опыта? Без сомнения, одно лишь размышление при удачных комбинациях может привести нас к познанию общих истин гуманитарных наук. Но если наблюдение отдельных личностей полезно метафизику, моралисту, почему наблюдение человеческих обществ было бы менее полезным? Почему оно не было бы полезно философу-политику?.
Все говорит нам за то, что мы живем в эпоху великих революций человеческого рода. Кто может лучше нас осветить то, что нас ожидает, кто может нам предложить более верного путеводителя, который мог бы нас вести среди революционных движений, чем картина революций, предшествовавших и подготовивших настоящую? Современное состояние просвещения гарантирует нам, что революция будет удачной, но не будет ли этот благоприятный исход иметь место лишь при условии использования всех наших сил? И для того чтобы счастье, которое эта революция обещает, было куплено возможно менее дорогой ценой, чтобы оно распространилось с большей быстротой на возможно большем пространстве, для того чтобы оно было более полным в своих проявлениях, разве нам не необходимо изучить в истории прогресса человеческого разума препятствия, которых нам надлежит спасаться, и средства, которыми нам удастся их преодолеть?» (там же, с. 14–16).
(обратно)229
Ср., к примеру, тезис Дж. Пристли, относимый им не только к природе, но и к истории: «Ни одно событие не могло быть иначе, чем оно было или будет» [Пристли, 1934, с. 86].
(обратно)230
Ср.: «Идея исторического прогресса родилась не из христианской эсхатологии, а из ее отрицания» [Кон, 1967, с. 381]. Более того, здесь нужно все время помнить, что хотя мыслители XVIII века, формируя понятие общественного прогресса, ставили задачу соединить исторические представления с идеей развития, однако, из-за отсутствия теоретически заданного предмета, способного развиваться, им это не удалось сделать и еще в течение половины столетия исторические представления развивались в общем независимо от идеи развития; это дало право Ф. Энгельсу сказать, что Гегель «первый пытался показать развитие, внутреннюю связь истории» [Энгельс, 1959, с. 496]; еще более выразительны в интересующем нас плане замечания в «Святом семействе»: «Гегелевское понимание истории предполагает существование абстрактного, или абсолютного, духа, который развивается таким образом, что человечество представляет собой лишь массу, являющуюся бессознательной или сознательной носительницей этого духа. Внутри эмпирической, экзотерической истории Гегель заставляет поэтому разыгрываться спекулятивную, эзотерическую историю. История человечества превращается в историю абстрактного и потому для действительного человека потустороннего духа человечества» [Маркс, Энгельс, 1955 b, с. 93].
(обратно)231
Дело в том, что первые формы идеи «истории» формировались совершенно независимо от каких-либо предметных представлений: такая «история» охватывала ряд независимых друг от друга «явлений» и выстраивала их в хронологической последовательности; были ли эти явления однородными, принадлежали ли они к одному предмету или к нескольким, охватывались ли эти явления единым механизмом функционирования или не охватывались — все эти вопросы первоначально не ставились и не обсуждались. Такого рода «история» была всегда в прямом смысле этого слова «историей с географией»: не было никаких внутренних критериев и оснований для включения или, наоборот, исключения каких-либо явлений из «исторического предмета»; принципом объединения и организации разных явлений в целое была внешняя для этих явлений идея хронологии, и в «исторический предмет» соответственно этому попадало все, что по тем или иным соображениям связывалось между собой через отнесение к оси хронологии. При этом, конечно, всегда действовали определенные содержательные, интуитивно фиксируемые ограничения: в «историю» включалось только то, что было так или иначе связано с миром человеческой жизни и деятельности, но сюда попадали (и располагались в одном ряду) как астрономические и географические, так и экономические или собственно политические события; подлинные связи и зависимости между этими явлениями оставались скрытыми, и даже более того, вопрос о них в рамках такой идеи истории вообще и не мог ставиться.
А в той мере, в какой он все же ставился, это вело к разложению первой идеи и к образованию новой. Всякая попытка раскрыть и описать внутренние процессы, связывающие между собой уже выделенные явления человеческого мира, приводила, с одной стороны, к выделению из этого мира отдельных предметов — «государства», «народа», «языка», «разума», «духа», «науки» и т. п., а с другой стороны — к отрицанию значимости самой хронологии, а вместе с тем и первой идеи истории. И ровно настолько, насколько шло проникновение в эти внутренние закономерности устройства и жизни отдельных предметов, их функционирования или развития, настолько же при объяснении того, что происходит в истории, отвергалась идея историко-хронологической связи и историко-хронологической последовательности. Наверное, поэтому все становление отдельных предметных наук проходило под знаком активного антиисторизма.
Это не означало, что идея истории и исторического процесса была совсем отброшена. Нет, она сохранялась и продолжала существовать как принципиально иная точка зрения и принципиально иной подход к тем же самым явлениям, нежели естественнонаучная предметность. А это, в свою очередь, постоянно приводило к вопросу о возможностях объединения и синтеза этих двух разных представлений. Но только теперь движение должно было начинаться не с представлений об истории, а с представлений о том или ином предмете, с его внутренних процессов и механизмов жизни, и уже на них затем должно было быть «наложено» представление об истории и специфически исторических изменениях; иначе говоря, представления об истории должны были быть соединены и склеены с представлениями о функционировании предмета и его качественных изменениях. При таком подходе, естественно, не могло быть и речи о какой-то единой и общей для всех предметов истории; наоборот, для каждого предмета нужно было искать свою особую структуру исторического процесса и свой особый механизм исторических изменений, соответствующий устройству и специфическим механизмам функционирования этого предмета. «История», таким образом, распадалась на множество линий и потоков исторического изменения отграниченных друг от друга, автономных предметов, она приобретала сугубо предметный характер. Но это, естественно, должно было породить оппозицию и привести затем к выделению «общей истории».
(обратно)232
Поэтому отнюдь не случайно, как нам кажется, И. С. Кон пишет, что «прежде всего был замечен прогресс в сфере научного познания; уже Бэкон и Декарт учат, что не нужно оглядываться на древних, что научное познание мира идет вперед. Фонтенель систематизирует эти идеи. Затем идея прогресса распространяется и на сферу социальных отношений следует ссылка на А. Тюрго и Ж. А. Кондорсэ» (Кон, 1967, с. 381)). Такая трактовка явно не соответствует всему тому, что мы знаем по истории этого периода: во-первых, указанный тезис Бэкона и Декарта заведомо не совпадал с идеей прогресса и потому даже при самых сильных натяжках не может с ней отождествляться, а во-вторых — и это общеизвестно, — идея общественного (или социального) прогресса в совершенно отчетливой и детализированной форме была сформулирована Дж. Вико за четверть века до доклада А. Тюрго (ср. (Вико, 1940; Vico, 1947) и (Тюрго, 1937 а)), и притом в контексте предельно широкого исторического анализа; таким образом, общеизвестные факты прямо противоречат тому, что пишет И. С. Кон. Но суть дела совсем не в том, что именно появилось и было сказано раньше, а что позднее, а в том, откуда и как это появилось. А когда мы начинаем анализировать развитие идей с этой точки зрения, то выясняется, что идея общественного прогресса не могла возникнуть из существующих представлений об истории вообще и истории общества в частности и в их контексте. И, наверное, именно для того, чтобы зафиксировать и объяснить это отнюдь не тривиальное обстоятельство, И. С. Кон и вынужден был написать, что «прогресс был замечен, прежде всего, в научном познании», хотя существовавшие в то время представления о научном познании не давали и не могли дать никакого материала и никакого основания для того, чтобы «заметить» прогресс. К этому можно добавить, что задача, которую в то время решали Дж. Вико, А. Тюрго и др., заключалась совсем не в том, чтобы «заметить» прогресс, а в том, чтобы выработать принципиально новую идею, новую категорию, позволяющую видеть и замечать то, что раньше увидеть было просто невозможно; и такого рода задачи решаются на совсем иных путях, нежели озарения (см. в этой связи (1958 а; 1966 а* (с. 219–227); 1974а*)).
(обратно)233
Здесь нужно акцентировать два слова — «ретроспективная» и «сложный», ибо каждое из них несет свой особый смысл и предъявляет свои особые требования к методу реконструкции истории.
(обратно)234
«К XVI–XVII вв. вся европейская культура подверглась глубочайшим трансформациям, социально-экономическим выражением которых явилось утверждение капиталистического общественного строя. Главная из этих трансформаций связана с радикальным изменением характера социальной практики. Социально-культурные истоки этого изменения коренятся в сдвигах, порожденных эпохой реформации и отразивших серьезную духовно-ценностную переориентацию европейской цивилизации. Если классическое христианство ориентировало социальную активность человека, прежде всего на сферу духовной жизни, на поиски спасения души, то протестантизм выразил аксиологически существенно иной идеал, признав правомерность и важность направления активности человека на повседневное, практическое бытие. Эта новая ориентация привела к тому, что социальная практика утратила свойственный ей прежде устойчиво-циклический характер, ее определяющим моментом начала становиться направленность на продуктивную, преобразовательную деятельность.
Такое изменение характера практики явилось главным источником, который питал развитие науки нового времени: именно наука оказалась необходимым средством рационализации практики, а в качестве такого средства она не только получила стимул к развитию, но и стала превращаться во все более значимый компонент культуры. С возникновением новоевропейской науки утвердилась такая форма познавательной деятельности, для которой характерен постоянный кумулятивный рост, подкрепляемый совершенствованием производства и других форм социальной практики на основе результатов науки. Благодаря этому наука начала выступать как высшая ценность, как основной ориентир жизнедеятельности человека» [Лекторский и др., 1970, с. 336].
(обратно)235
«Становление буржуазных отношений формирует новый тип личности, в котором на первый план выдвигаются инициативность, предприимчивость и пр…
(обратно)236
«Единственным фундаментом веры в естественных науках является идея, что общие законы, известные или неизвестные, регулирующие явления Вселенной, необходимы и постоянны; и на каком основании этот принцип был бы менее верным для развития интеллектуальных и моральных способностей человека, чем для других операций природы?» [Кондорсэ, 1936, с. 220–221].
(обратно)237
Здесь интересно отметить, что предшественник и в известном смысле идейный вдохновитель Кондорсэ — А. Р. Тюрго, следуя за Т. Гоббсом, относил логику, «являющуюся наукой об операциях нашего ума и о происхождении наших идей», к физическим наукам [Тюрго, 1937 b, с. 118], а потому, естественно, должен был считать ее непричастной к истории.
(обратно)238
Ср.: «Если ограничиваться наблюдением, познанием общих фактов и неизменных законов развития этих способностей, того общего, что имеется у различных представителей человеческого рода, то налицо будет наука, называемая метафизикой.
Но если рассматривать то же самое развитие с точки зрения результатов относительно массы индивидов, сосуществующих одновременно на данном пространстве, и если проследить его из поколения в поколение, то тогда оно нам представится как картина прогресса человеческого разума…
Эта картина, таким образом, является исторической, ибо, подверженная беспрерывным изменениям, она создается путем последовательного наблюдения человеческих обществ в различные эпохи, которые они проходят» [Кондорсэ, 1936, с. 4–5].
(обратно)239
В соавторстве с В. Н. Садовским. Источник: [1964 h].
(обратно)240
Этот перечень, конечно, не сможет исчерпать тех направлений, которые нужно было бы перечислить при систематическом исследовании нынешнего состояния проблемы; но для наших целей его пока вполне достаточно.
(обратно)241
При этом, конечно, важное значение имеет вопрос о способах и средствах изображения системы понятия. Но мы его здесь опустим, так как обсуждение потребовало бы иного, более широкого контекста; мы будем пользоваться блок-схемами такого же типа, какие применяли в первом разделе (см. также [1964а*, i]).
(обратно)242
Источник: [1967с].
(обратно)243
Источник: [1974а].
(обратно)244
Уже после того как эта статья была написана, мы познакомились с очень интересной и тонкой работой Б. С. Дынина, в которой демонстрируется специфически методологическая и конструктивная природа галилеевского закона инерции и показывается, что первоначально по своему происхождению этот закон не мог иметь никаких эмпирических референций [Дынин, 1972, с. 45–53].
(обратно)245
Ту объективную структурную связь всякого научного мышления и исследования, которую мы выражаем в оппозиции «знания» (всегда ориентированного на тот или иной объект) и «средства», Т. Кун частично схватил и выразил (к сожалению, в синкретической склейке со многими другими моментами социологического и психологического порядка) в понятии парадигмы, или образца [Kuhn, 1962]. Используя это понятие, Т. Кун различил научное исследование, осуществляемое при фиксируемой парадигме и не затрагивающее ее, — нормальная наука, и работу, приводящую к свержению существующей парадигмы, к замене ее новой, — революционная наука. Такая постановка вопроса привела к дискуссии: можно ли, не нарушая реальности исторических фактов, провести четкую грань между «нормальными» и «революционными» процессами в науке, «нормальной» и «революционной» исследовательской работой [Criticism… 1970]. Недостатком дискуссии, на наш взгляд, было то, что в ней не различались в достаточной мере (1) исторические процессы в науке, (2) ситуации отдельного научного исследования, и это привело к нечеткости в постановке исходной проблемы; кроме того, над многими исследователями по-прежнему довлела классическая схема линейного развертывания истории и они хотели упорядочить нормальные состояния и революции по этапам, или фазам исторического потока. Но даже если мы отвергнем возможность четкого разделения «нормальных» и «революционных» процессов в истории науки, это не помешает нам выделить две разные ориентации в организации и проведении конкретных научных исследоваваний: одну — направленную на получение знания об объекте при фиксированных средствах и другую — направленную на критику и изменение самих средств. Выбор той или иной ориентации будет определяться ценностями каждого отдельного ученого, его научной идеологией и философскими воззрениями. А в науке как целом эти два типа исследований будут развертываться и идти параллельно (часто на одном и том же материале, хотя и в разном историческом времени).
(обратно)246
Возникая и складываясь первоначально как система методологических средств языковедческого предмета, семиотика и после того, как она оформляется в самостоятельный предмет, сохраняет по отношению к языковедению эту функцию средства и управляющей системы. Но то обстоятельство, что теперь она выступает в качестве особого научного или методологического предмета, ориентированного на определенный объект, ставит ее в один ряд с языковедением и заставляет соотносить эти два предмета не только через отношение управления, но также через их объекты и эмпирический материал. Вся проблема переводится в чисто онтологический план — отсюда вопрос, является ли речь-язык знаковой системой (см. [Язык как… 1967]), а после положительного решения ее, когда речь-язык объявляется особым видом знаковых систем, начинается работа по интегрированию и объединению обоих предметов в рамках одного, более широкого предмета, и происходит «сплющивание» понятий со знаниями (являвшимися первоначально лишь продуктами этих понятий) на базе единой онтологии и в рамках одной теоретической системы.
(обратно)247
В этом, собственно, и состоит суть разногласий между двумя семиотическими направлениями, развивающимися в нашей стране (если принять членение на два направления, декларированное Ю. В. Рождественским (Рождественский, 1967)). Представители так называемого «структурального» направления (Симпозиум, 1962; Труды, 1965-73, II–VI) почти совсем не рефлектирует по поводу используемых ими понятий-средств и совсем в принципе не допускают того, что разработка и развитие средств могут вылиться в особое научное исследование и породить свои особые научные предметы. Именно поэтому в поиске средств и метода семиотических исследований они обращаются к тому единственному, что им хорошо известно и чем они владеют, — к лингвистике «Бесспорно, что всякая знаковая система (в том числе и вторичная) может рассматриваться как особого рода язык… Отсюда вытекает убеждение, что любая знаковая система в принципе может изучаться лингвистическими методами, а также особая роль современного языкознания как методологической дисциплины» [Труды… 1965, с. 6] и просто не могут понять методологической трактовки семиотики как конструктивно разрабатываемой системы средств «… каждое конкретное описание той или иной знаковой системы обогащает наше представление о сущности знаковости, — сказано в программном заявлении структуралистского направления. — В этом смысле можно высказать сомнение в плодотворности противопоставления некой «чистой» семиотики (мыслимой недостаточно конкретизированно как синтез лингво-логико-психологических представлений о знаке) — описаниям и изучениям знаковых систем, реально данных в истории человеческих взаимоотношений» (там же, с. 5). Нетрудно заметить, что возражения против «чистой» семиотики основываются на одном-единственном постулате: конкретные описания знаковых систем сами собой приводят к развитию средств описания («обогащают наше представление о сущности знаковости»), и поэтому достаточно усомниться в его очевидности, чтобы в корне подорвать подобный способ аргументации.
(обратно)248
Конечно, чтобы сделать эти утверждения убедительными, нужно систематически изложить и детально проанализировать все основные попытки ввести понятия смысла и значения, зафиксированные в истории, описать приемы и схемы абстракции, лежащие в их основе, и далее — показать те парадоксы, к которым приводит пользование этими понятиями, и объяснить их, описав несоответствия между самим объектом и применяемыми к нему средствами анализа; весь этот материал оправдывал бы затем те принципы методологии и конкретные представления об объекте, которые мы выдвигаем взамен существующих. Но вместить все это в рамки одной статьи невозможно физически, и поэтому в этой части статьи мы ограничились предельно кратким и совершенно догматическим изложением некоторых основных идей и принципов нашего подхода, рассчитывая в дальнейшем, когда представится возможность, опубликовать и всю критическую часть нашего исследования.
(обратно)249
Основные представления о деятельности и механизмах ее воспроизводства изложены в работах [1966а*; 1967a, g*; 1970; Генисаретский, 1970].
(обратно)250
Ср. это с исходными утверждениями К. Маркса в «Тезисах о Фейербахе»: «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно…» [Маркс, 1955 b, с. 1].
(обратно)251
«Смысл — это то, что мы схватили, чтобы понять выражение, когда нам его сказали. С другой стороны, значение выражения нужно еще открывать посредством эмпирического исследования или каким-либо иным путем — и это необходимо помимо того, что у нас есть знание языка; можно — и это весьма вероятно — понимать выражение, но не знать его значения» [Church, 1943, с. 301] (ср. также | 1965с, с. 212–220, 244–252, 280–288; Jacobson, 1959, с. 62]).
(обратно)252
В частности, при таком подходе почему-то не обращают внимания на то, что вторичные тексты и изображения сами должны быть поняты, и «смысл», по исходному определению, есть то, что мы понимаем, читая их, и поэтому правильно было бы говорить, что «смысл» исходного текста есть то, что мы понимаем при чтении второго текста или изображения (поскольку мы с самого начала постулировали, что смыслы их тождественны). Но эти теоретически очевидные соображения не принимаются во внимание, и на вопрос, в чем смысл исходного текста, просто отвечают вторым текстом или изображением. Во многих практических ситуациях, например при толковании текстов, переводе с одного языка на другой и т. п., этого вполне достаточно, как способ работы в определенных ситуациях такая практика, следовательно, вполне оправданна, но она ровно ничего не дает нам для выявления смыслов как таковых и задания понятия «смысл». Поэтому ошибка здесь состоит не в том, что так работают, а в том, что из этой практики работы пытаются выводить собственно научные представления. Такими же, лишь имитирующими форму научного знания, конструкциями являются и все определения следующего рефлексивного уровня, вводящие «смысл» в качестве инварианта синонимического перефразирования (см. [Jacobson, 1959, с. 62; Жолковский и др, 1961; Мельчук, 1974, с. 11]).
(обратно)253
Нередко, когда говорят о «смысле», реально имеют в виду и подразумевают «содержание знаний»; в частности, именно так чаще всего употребляют слово «смысл» А. К. Жолковский и И. А. Мельчук. Конечно, если бы речь шла только о том, как назвать одинаково выделяемое всеми явление, то по этому поводу вообще не стоило бы спорить, но здесь, как это следует из всего изложенного выше, встает вопрос, затрагивающий само существо дела. И поэтому, в принципе, необходимо подробно описать и объяснить, как происходит и чем обусловлена такая подмена смысла содержанием. Не имея возможности обсуждать все это в деталях, мы отметим лишь два момента, на наш взгляд, наиболее существенных: во-первых, сами знания формируются на том же самом материале, который охватывается пониманием, и в силу этого нередко они заменяют понимание, а во-вторых, процессы понимания, в особенности у исследователей, организуются знаниями и идут так, как того требуют знания. Именно эти два момента в первую очередь приводят к тому, что в процессе понимания очень часто приходят к тому, что уже знают, а исследователи склонны отождествлять смысл с содержанием.
(обратно)254
Выражение «простая коммуникация» обозначает в этом контексте особый идеальный объект, сконструированный в соответствии с принципами исследования сложных системных объектов методом генетического восхождения (см. [1958 b*; 1967а, с. 30–38; Зиновьев, 1954;Zinovev, 1958]). Этот идеальный объект ни в коем случае нельзя трактовать как результат простого вычленения некоторой структурной единицы из сложного целого; наряду с таким вычленением мы производим одновременно упрощение всех элементов и связей этой единицы, убирая в них все свойства, обязанные своим происхождением системному окружению этой единицы, и оставляя только те свойства, которые связаны с независимым ее функционированием и развитием. Характер абстракции, которую мы осуществляем, конструируя этот идеальный объект, делает совершенно бессмысленной проверку его путем сравнения с эмпирическими актами коммуникации, которые, в этой терминологии, все — «непростые».
(обратно)255
Делая это утверждение в отношении «смысла», мы исходим из общего принципа деятельностного подхода: каждая организованность деятельности может быть порождена только строго определенной системой социально-производственной кооперации.
(обратно)256
В исключительно тонком и глубоком исследовании по истории механики [Гуковский, 1947] М. А. Гуковский убедительно показал, что теория свободного падения тел стала возможной лишь после того, как Дунс Скотт, Ричард Суайнсхед и Орем нашли способ изображать отношения меняющихся характеристик движения в чертежах геометрических фигур (см. также [Юшкевич, 1961, с. 395–403]).
(обратно)257
Здесь используются два принципа деятельностного подхода: (1) всякая чисто познавательная позиция должна рассматриваться как позиция в системе социально-производственной кооперации и (2) всякое знание задает особую Действительность деятельности — «практической» или мыслительной.
(обратно)258
Вариантом такого представления является одно из представлений «смысла», предлагаемое И. А. Мельчуком: «Предварительно можно мыслить себе «смысл»… как некоторый сложный граф, вершины которого помечены символами "смысловых атомов" (некоторых порций смысла, выбранных в данном описании в качестве элементарных), а дуги — символами связей между ними» [Мельчук, 1974, с. 11]. Правда, это представление, наряду с собственно структурными моментами, указанными нами выше, содержит еще и морфологические моменты — «смысловые атомы», но это обусловлено и вполне объясняется, с одной стороны, практической установкой автора (см. ниже п. 5), а с другой стороны, характером используемого им понятия системы (см. [1974 с*]).
(обратно)259
Здесь мы используем еще один принцип деятельностного подхода: после своего возникновения организованности деятельности могут передаваться в нижележащие места системы кооперации (хотя их использование там возможно лишь при условии соответствующих изменений деятельности, специфической для этих тест).
(обратно)260
О методах анализа подобных сверток и фокусировок систем см. [1958 b*; 1965а; Генисаретский, 1965].
(обратно)261
Хорошей иллюстрацией этих положений могут служить некоторые из определений «смысла», даваемые А. К. Жолковским и И. А. Мельчуком, поскольку в них еще отчетливо видна связь с ядерным представлением «смысла» как структуры: «Смысл предстает как конструкт — пучок соответствий между реальными равнозначными высказываниями, фиксируемый с помощью специальной символики — семантической, или смысловой, записи; здесь имеется полная аналогия с реконструкцией праформ в сравнительно-историческом языкознании» [Жолковский, Мельчук, 1969, с. 7]; «владение смыслом… проявляется у говорящего в способности по-разному выразить одну и ту же мысль, а у слушающего — в понимании смыслового тождества или сходства внешне различных высказываний» [Жолковский, 1964, с. 4].
(обратно)262
Утверждение, что «значение» есть конструкция, носит принципиальный характер: если Г. Фреге [Frege, 1892] и др. искали значения в природе, или в мире «естественного», то мы, наоборот, обращаемся к миру культуры, к «искусственному», к созданному человеческой деятельностью.
Могут возразить, что в этом тогда нет подлинной оппозиции: то, что Г. Фреге называл «значением», мы называем «объектом отнесения», «объектом оперирования», «объективным содержанием» и т. п., а слово «значение» употребляем для обозначения некоторой принципиально иной и, с точки зрения традиции, новой сущности — связки между словами и «объектами» (или «предметами», выраженными в других словах). Но в том-то и дело, что для нас существование этих связок является исходным и основным — именно они образуют первую реальность человеческой деятельности и для человеческой деятельности (см. [1964а*, {с. 165–170); Маркс, 1955 b, т. 3, с. 1]), именно они задают и определяют существование всего остального в деятельности. Это — первый важный момент. А второй — и это может служить уже непосредственным ответом на возражение — заключается в том, что «объекты» (денотаты) и «объективное содержание», т. е. «значение» по Г. Фреге, являются лишь моментами или элементами конструкций значения и, следовательно, точно так же существуют в деятельности и в культуре, а не «природно», хотя природа также присутствует в них в качестве материала или «морфологии» систем Деятельности и отдельных элементов в конструкциях значений (см. [1973 е*]).
(обратно)263
В рамках деятельностного подхода такой тип совмещения разных позиций называется обычно «заимствованием» [1964h"; 1971 с].
(обратно)264
Принятый нами план расчленения изучаемого предмета и порядок изложения всего материала могли возбудить в читателе неправильное представление, что сначала вырабатываются структурные представления смысла, а уже потом создаются конструкции значений, разлагающие структуру смысла на компоненты и элементы. В реальной истории дело обстоит, по-видимому, как раз наоборот: именно конструкции значений дают первое структурное представление процессов понимания, во всяком случае — их отдельных моментов, и именно «значения» первоначально рассматриваются как то, что порождается процессами понимания. Но затем постепенно выявляются специфические моменты деятельности, в первую очередь — различие парадигматических и синтагматических систем и необходимость одновременного различения и отождествления их элементов (см. [1971 d; Соссюр, 1933]), — и это заставляет рассматривать конструкции значений в качестве особых сущностей, имеющих самостоятельное существование в речевой деятельности помимо процессов понимания и всего того, что они создают. Таким образом, конструкции значений приобретают две разные интерпретации: одна, автонимная, задает «значение» как таковое, а другая — «смысл» как то, что создается самими процессами понимания и существует в них; а дальше, чтобы окончательно развести «значения» и «смыслы», представить их в качестве разных элементов и компонентов речемыслительной деятельности, нужно сделать всего один шаг — создать для «смыслов» особые изображения, отличающиеся от изображений «значений».
(обратно)265
Слова «разлагают» и «собирают» относятся лишь к тому условному плану описания, который мы принимаем для внешней исследовательской позиции; их ни в коем случае нельзя понимать как характеристику механизмов понимания.
(обратно)266
Источник: [1958 а].
(обратно)267
Здесь и в дальнейшем, говоря о движении, мы всегда будем иметь в виду механическое движение.
(обратно)268
«Естественным» эталоном и измерителем скорости движения для человека служат движение его глаз и «упражненное мышечное чувство, сопровождающее передвижение глаз» [Сеченов, 1947, с. 348]. Наличие такого «естественного» эталона, возможность фиксировать «мышечные восприятия» и сохранить их в памяти позволяют нам сопоставлять различные движения и относить их к движению глаза даже в том случае, когда эти движения не совпадают во времени и пространстве [Бернштейн, 1957, с. 87]. Но это ничего не меняет в строении понятия скорость, оставляя его чувственно-непосредственным.
(обратно)269
Механических часов, пригодных для измерения небольших промежутков времени, тогда еще не было. Создание их стало возможным лишь на основании данных динамики, разработанной Галилеем. В то время в употреблении были по большей части водяные и песочные часы. И вот Галилей сумел приспособить такого рода часы к измерению небольших промежутков времени. Примененные им часы состояли из наполненного водой сосуда большого поперечника с маленьким отверстием в дне, которое он закрывал пальцем. Когда какое-либо тело в эксперименте начинало свое движение, Галилей, отняв палец, открывал сосуд и выпускал воду на весы. Когда тело достигало конца своего пути, он закрывал сосуд. Так как давление жидкости вследствие большого поперечника сосуда мало изменялось, то вес вытекшей воды был пропорционален времени истечения и последнее можно было таким образом измерять.
(обратно)270
Их нельзя смешивать с процессами мышления, которые мы разбирали в [1957 b].
(обратно)271
В статье И. С. Ладенко [Ладенко, 1958 а] разобран пример такого прошедшего незаметно в истории науки расщепления понятия длина линии.
(обратно)272
Источник: [1958 b].
(обратно)273
Мыслительная деятельность как основание анализа типов знания должна быть задана алфавитом операций и правилами их соединения в сложные процессы [1957 b].
(обратно)274
Так как категориальная характеристика и «экстенсивность» выделяемого содержания, в свою очередь, зависят от характера деятельности мышления, то в конечном счете как строение формы, так и строение знания в целом определяются деятельностью мышления.
(обратно)275
Следуя за А. А. Зиновьевым, мы будем обозначать реальные предметы и их свойства просто буквами, а знаки, выражающие знание об этих предметах и свойствах, — буквами в круглых скобках.
(обратно)276
Здесь сразу же, забегая несколько вперед, заметим, что всякое замещение не просто «принимает» на себя, «впитывает», определенные свойства замещаемого, но и обязательно в определенных отношениях отличается от него: во-первых, оно принимает на себя не все свойства замещаемого (и поэтому является его абстрактным замещением), во-вторых, содержит такие свойства, которых у замещаемого не было. Эти два момента являются обязательным условием всякого замещения [Ладенко, 1958 а], и если в настоящем разделе при анализе взаимоотношений между синтагмой и номинативным знанием мы останавливаемся только на первой стороне дела — на тождестве синтагмы и номинативного знания в определенном отношении, — то в следующем разделе основным предметом рассмотрения будет вторая сторона отношения замещения — различие между номинативным знанием и синтагмой.
(обратно)277
Еще раз заметим, что мы употребляем термины формальный и реальный в несколько ином смысле, чем это было до сих пор принято: в смысле существования формальные знания являются ничуть не менее действительными, чем собственно реальные знания, и даже наоборот, в реальном мышлении и общении подавляющее большинство знаний носит формальный характер. Точно так же формальные знания ничуть не менее содержательны (в обычном смысле этого слова), чем реальные знания; только их содержание является другим, нежели содержание реальных знаний. Это обстоятельство мы и хотим подчеркнуть, вводя различение формальных и реальных знаний.
(обратно)278
О приемах, необходимых для выявления объективных связей, смотри в [Зиновьев, 1959 а].
(обратно)279
Общее описание этого процесса мышления см. в [Асмус, 1947, с. 253–256; Бакрадзе, 1951, с. 364–371].
(обратно)280
Общее описание этого процесса мышления см. в [Асмус, 1947, с. 253–256; Бакрадзе, 1951, с. 364–371].
(обратно)281
В последние десятилетия в зарубежной логике сложилось особое направление (Г. Рейхенбах, Р. Карнап, К. Поппер и др.), которое сосредоточило свое внимание на анализе вероятностного характера общих формальных знаний и считает это основной задачей индуктивной логики. Нетрудно показать, что это направление исследования не имеет никакого отношения к исследованию строения знаний и процессов их образования и использования, хотя оно и возникло из-за непонимания этих последних сторон мышления.
(обратно)282
См., например, [Дворецкий, 1958, т. 2, с. 1081]. Ср. также [Boisaeq, 1916, с. 630].
(обратно)283
В средние века неопределенность абстрактного значения слова металл привела к появлению уродливого по своему логическому смыслу понятия полуметалл. В XIX веке в связи с расщеплением понятий элемента и простого тела слово металл получило два различных абстрактных выделяющих значения, что привело к двойственности соответствующего понятия, сохраняющейся, к сожалению, и до настоящего времени (см. [Металлы, 1954]).
(обратно)284
В дальнейшем на более высокой ступени развития атрибутивного знания, при так называемой «родо-видовой» организации его, формальная часть процесса соотнесения осуществляется в виде так называемых «силлогистических выводов» и как таковая была исследована уже Аристотелем. Однако в теории силлогистического вывода никогда не анализировалась первая практически-предметная часть процесса соотнесения, а следовательно, не анализировался и действительный процесс мышления, так как формальная часть этого процесса, взятая без первой, практически-предметной части, перестает быть целостным процессом мышления и теряет значение и смысл познавательного процесса. Отсюда, в частности, проходящая через всю историю логики дискуссия о том, дает ли силлогизм новое знание или нет. Выход из парадоксального положения был указан еще Ридом и Д. С. Миллем (силлогизм есть переход от одного частного к другому частному через посредство общего), однако в рамках принципов традиционной логики невозможно было формализовать первую практически-предметную часть процесса и включить ее в единую систему соотнесения. Поэтому догадка Рида и Д. С. Милля не получила настоящего развития.
(обратно)285
Характерными образцами таких систем формы (языка) являются различные исчисления: собственно математические — арифметическое, дифференциально-интегральное, «алгебры» разного рода; логико-математические — исчисление классов, высказываний, различные исчисления предикатов. Менее выраженными в своих формальных моментах, но в принципе такими же системами формы являются силлогистика Аристотеля, геометрия, формализованная Д-Гильбертом, формулы реакций в химии, дополненные «рядами активности» веществ, и др.
(обратно)286
Мы не разбираем здесь все условия, необходимые для утверждения о наличии причинной связи, т. е. не указываем точно ее выделяющий признак. Подробнее об этом см. [Зиновьев, 1959 а; Швырев, 1959].
(обратно)287
Подробная библиография дана в работах [Dubislav, 1931] и [Robinson, 1954]. Из более поздних работ мы можем назвать книгу [Materna, 1959] и весьма интересную статью [Ajdukicwicz, 1958].
(обратно)288
Источник: [1966 g].
(обратно)289
Источник: [1984].
(обратно)290
Здесь очень важно иметь в виду, что речь идет не о возможности (или невозможности) научного исследования и описания этих «многосторонних» и «комплексных» объектов, а лишь о возможности получить целостное научно-теоретическое изображение объекта путем синтеза различных представлений его, полученных в разных научных дисциплинах.
(обратно)291
Именно в этом пункте отчетливо проявляется отличие эпистемологии от гносеологии, которая строится на основе категориальной оппозиции «субъект — объект».
(обратно)292
Например, как она выражена у К. Маркса в «Тезисах о Фейербахе»: «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно» [Маркс, 1955 b, с. 1].
(обратно)293
«Животное, — писал К. Маркс, — формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты.
(обратно)294
Мы оставляем сейчас в стороне обсуждение социальных аспектов формирования предмета, которым обычно придают весьма важное значение. Эти подходы и связанные с ними мнения требуют особого анализа.
(обратно)295
Более подробно строение научных предметов и функции разных эпистемологических единиц рассматриваются в [Пробл. иссл. структуры… с. 106–190].
(обратно)296
В этой схеме пока никак не различаются функциональные структуры и организованности материала.
(обратно)297
В общем виде отношение управления, существующее между философией и специальными дисциплинами, рассматривается в {Москаева, 1967; Розин, Москаева, 1967; Розин, 1967 с]. Состав методологии и ее управляющие воздействия на научные предметы разбирались более подробно в [1967 d].
В последней из этих статей была приведена схема, характеризующая состав методологических дисциплин и их функции по отношению к анализируемым предметным знаниям, зафиксированным в научных текстах. Заданная без учета направлений и тенденций развития самой методологии, она в слишком категорической форме представила существующую сейчас частную организованность методологии как единственную и безусловную. При этом не получили специального выражения в схеме такие исключительно важные и бесспорно необходимые методологические дисциплины, как «феноменология и теория сознания» и «теория знания», описывающие одни из самых существенных организованностей деятельности. В схеме была выделена в отдельный блок «теория науки», что соответствует значению этой дисциплины в современной методологической работе, но ничего не было сказано о том, что рядом с ней сейчас формируются, постепенно выделяясь из «теории мышления» и «теории деятельности», такие дисциплины, как «теория инженерии», «теория проектирования» и «теория управления» [Дубровский, Щедровицкий Л., 1971 а; Раппапорт, Сазонов, 1972; Пробл. прогнозирования… 1972; Методология… 1973; Генисаретский, 1975; Дубровский, Щедровицкий Л., 1975; Сазонов, 1975; Раппапорт, 1975; Пробл. теории… 1974].
(обратно)298
Решение этой задачи в принципе невозможно без предварительного задания достаточно полного и целостного системного представления научного предмета, включающего среди прочего описание основных процессов его функционирования и развития.
(обратно)299
Это достаточно очевидное обстоятельство до последнего времени не осознавалось в теоретической эпистемологии и не учитывалось в практике научных исследований прежде всего потому, что при такой процедуре порождения «практических знаний» объекты практики не только рассматривались сквозь призму идеальных объектов, но и, как правило, отождествлялись с ними. В этом случае практические знания по сути дела склеивались с теоретическими, становились неотличимыми от него, и поэтому на них переносились все представления об истинности и все критерии истинности, выработанные в логике для теоретических знаний.
(обратно)300
Поэтому глубоко неверными являются все попытки реконструировать «подлинную» структуру мира исходя из структуры языка, или, что то же самое, из смысловых организованностей формальных знаний, делаемые, по сути дела, постоянно с момента возникновения европейской культуры и цивилизации, но получившие свое отчетливое рефлексивное и идеологическое выражение впервые в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна [Витгенштейн, 1958]. Совершенно оправданный в процедурах схематизации смысла знаний и конструирования идеальных объектов, этот принцип в первый период работы Л. Витгенштейна и его учеников понимался и трактовался слишком широко, вне необходимого здесь различения сфер теории и практики, соответственно — теоретического и практического мышления. Это, естественно, приводило к ошибочным и парадоксальным формулировкам. Но все эти парадоксы легко снимаются, а принципы приобретают оправданные области применения, как только мы начинаем учитывать в эпистемологии сложность и неоднородность научных предметов, наличие в них разных знаковых форм, пo-разному связанных с идеальными и практическими объектами (см. схемы 8 и 10), а в методологии и в организации собственного мышления соответственно этому начинаем пользоваться схемами многих знаний.
(обратно)301
Источник: [1960 а].
(обратно)302
Источник: [1964 b].
(обратно)303
Мы не затрагиваем здесь вопросов об обратном влиянии сфер производства, потребления и обучения на личные отношения людей: нам важно подчеркнуть факт существования особой области таких отношений и ее роль в образовании системы, которая называется «обществом».
(обратно)304
В соавторстве с Р. Г. Надежиной. Источник: [1966 h].
(обратно)305
Источник: [1966 b].
(обратно)306
В последующем изложении (в схемах) используются те же условные обозначения.
(обратно)307
Случай, когда предполагаемое последующее состояние вообще не будет сводиться по своей структуре к предыдущему, будет поставлен под сомнение и потребует дополнительных исследований.
(обратно)308
Само понятие «разрыв», а также виды разрывов в деятельности требуют дальнейших уточнений, особенно в применении к игре и игровым процессам. Нам представляется, что обычно отмечаемый при изучении игр переход ребенка из собственно игрового, «подразумеваемого» плана в так называемый «реальный», использование того и другого в одном, казалось бы, процессе деятельности имеют место именно в случаях разрывов в игровых ситуациях и связаны с преодолением их. Поэтому объяснение их будет требовать изучения способов осознания разрывов, способов формулирования новых задач и т. п.
(обратно)



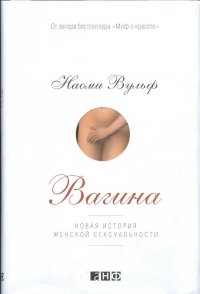
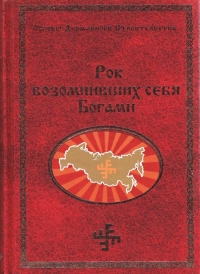
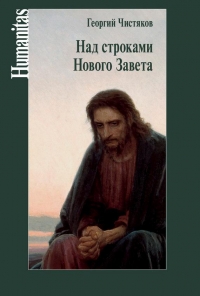
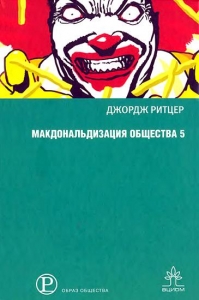
Комментарии к книге «Избранные труды», Георгий Петрович Щедровицкий
Всего 0 комментариев