БИОГРАФИЯ ДУШИ
Издаваемая книга — не исследование творчества Карамзина в целом и не биография в смысле перечня внешних фактов его жизни. Это биография души, попытка раскрыть внутренний пафос исканий писателя, который, как считает Ю. М. Лотман, всю жизнь выковывал себя. Есть писатели, стихийно идущие по жизни, есть, наоборот, сознательно творящие свою личность, не только художественную, но и человеческую, житейскую. Есть и литературоведы, пренебрегающие этим и даже отрицающие сознательное становление личности большого писателя, есть, наоборот, очень последним интересующиеся. К таковым относится Ю. М. Лотман, который даже у Пушкина раскрыл подобное становление. Тем большие основания для такого подхода дает Карамзин. Отсюда и название книги «Сотворение Карамзина», взятое у П. Я. Чаадаева, подчеркнувшего в 1830-х гг. в письме к А. И. Тургеневу, что Карамзин — талантливый человек, который «сотворил себя писателем» (цитата из этого письма взята эпиграфом к книге).
Смысл книги — в показе исторической значительности морального «самосотворения».
Но проникновение во внутренний мир — всегда реконструкция. И Ю. М. Лотман не скрывает этого, а принципиально делает реконструкцию своим методом. Одновременно он — враг домыслов и вымыслов. Проникнуть во внутренний мир (жанр книги я бы определил как биографию души) можно лишь через изучение внешней биографии и творчества. И такая работа была проделана в течение многих лет.
Автор воистину стал карамзинистом.
Как меняются в истории понятия! В начале пушкинской эпохи «карамзинист» — значит писатель, последователь творческих принципов Карамзина, в противовес «шишковистам», сторонникам «архаической» школы. В наши же дни это просто исследователь Карамзина. Но просто ли? Вернее — просто ли быть исследователем Карамзина?
Автор этой книги Юрий Михайлович Лотман известен широким кругам читателей, интересующихся литературоведением, как теоретик литературы и пушкинист. Можно было подумать, что изданные им в «Литературных памятниках» «Письма русского путешественника» Карамзина (1984) не находятся на магистральном пути ученого. На самом деле Ю. М. Лотман занимается Карамзиным всю свою творческую жизнь. Демобилизовавшись после шести лет армейской службы (из которых четыре приходятся на передний край фронтов Великой Отечественной войны), Ю. М. Лотман вернулся в 1946 г. в родной Ленинградский университет, где начинал учиться еще в 1939 г., и поступил в спецсеминар профессора Н. И. Мордовченко, замечательного ученого и замечательного человека, отличавшегося кристальной честностью, отзывчивостью и внимательно-терпимым отношением к индивидуальным склонностям учеников. В семинаре Мордовченко Юрий Михайлович в 1947 г. написал курсовую работу о журнале Карамзина «Вестник Европы», а в 1948 г. — большое исследование «Карамзин и масоны».
Вульгарно-социологическое отношение к Карамзину как к «монархисту» и «реакционеру» протянулось, к сожалению, в нашей науке и до первых послевоенных лет. Нужна была научная принципиальность Н. И. Мордовченко и заведующего кафедрой русской литературы проф. Г. А. Гуковского (вскоре его сменил на этом посту Н. И. Мордовченко), чтобы положительно оценить интерес молодого ученого к сложному и немодному писателю, одобрить первые труды Ю. М. Лотмана. Г. А. Гуковский, тогда — ответственный редактор сборников «XVIII век», принял работу о Карамзине и масонах к печати в 3-й том этого издания, но в последующие трудные годы рукописи обеих статей Ю. М. Лотмана были утрачены. Частично материалы были в дальнейшем использованы автором в работах о друге Радищева А. М. Кутузове и новиковском кружке.
В 1957 г. вышла статья Ю. М. Лотмана «Эволюция мировоззрения Карамзина» (Ученые записки Тартуского университета, вып. 51), где впервые, если не считать краткой, но ценной статьи Б. М. Эйхенбаума 1916 г., Карамзин как мыслитель и писатель был рассмотрен в процессе становления и изменения. В 1961 г. в статье «Пути развития русской прозы 1800-х—1810-х гг.» (там же, вып. 104) впервые был поставлен вопрос об «Истории государства Российского» как о своеобразном художественном произведении. Затем Ю. М. Лотман подготовил для Большой серии «Библиотеки поэта» том стихотворений Карамзина (1966) и опубликовал еще целый ряд прямо или косвенно посвященных Карамзину работ. Так что «карамзинский» путь ученого — отнюдь не периферийный. Ю. М. Лотман стоит у истоков современного карамзиноведения, он первооткрыватель «настоящего» Карамзина, точнее, он реабилитировал выдающегося русского писателя.
В данной книге биография Карамзина во многом оставлена за текстом. Объективная трудность для всех изучающих жизнь и творчество писателя заключается в том, что Карамзин не вел дневников, писем его сохранилось немного, а официальных документов о событиях его жизни тоже почти нет: ведь он не арестовывался, не ссылался, не был под полицейским надзором. А русский писатель, как правило, получал биографию только в этих случаях. Ю. М. Лотман отметил в одном докладе, что самые спокойные русские писатели — Крылов и Карамзин — с биографической стороны нам фактически неизвестны. Так, например, когда исследователи Карамзина подходят к заграничному периоду его жизни, то они просто пересказывают «Письма русского путешественника», видя в этом сугубо литературном произведении лишь биографический источник.
Поэтому Ю. М. Лотман вынужден был искать новые источники. Им были, например, обнаружены важная политическая статья Карамзина (1797) во французском журнале, издававшемся в Гамбурге, «Le Spectateur du Nord» («Северный зритель») и уникальная, сохранившаяся в одном экземпляре французская брошюра, изданная Карамзиным в Москве в 1797 г. и содержащая неизвестные тексты.
А внимательное прочтение ряда известных источников позволило увидеть их в новом свете. Так, например, именно представление, что «Письма русского путешественника» являются продуктом свободного литературного творчества, позволило на их основании создать совершенно новую картину «Карамзин в Париже», а это повлекло за собой пересмотр проблемы «Карамзин и французская революция» — об этом читатель подробно узнает из книги.
Реконструкция внутреннего мира человека очевидно невозможна без своеобразного синтеза научного и художественного подхода, и предлагаемая книга — явление особого жанра научно-художественной литературы. Однако синтез творчества писателя и ученого бывает разный. Писатель может художественно сочинить те недостающие факты, которые призваны осветить и объяснить туманное, выстроить хаос дошедших до нас реальностей в стройную систему. Так, Тынянов для убедительной мотивировки тегеранской трагедии («Смерть Вазир-Мухтара») выдумал любовь престарелого евнуха к пятнадцатилетней девочке или (в неоконченном романе) придал крайне сомнительной версии «утаенной любви» Пушкина к Карамзиной статус чуть ли не реального факта.
В предлагаемой книге этот путь решительно отвергается. Автор избрал метод, предложенный самим Карамзиным, который создал свою «Историю государства Российского» на основе тщательно проверенного фактического материала. Возможность вымысла он принципиально отвергал (за что его упрекал декабрист М. Ф. Орлов!). Но сам Карамзин называл свою историю «поэмой», и мы с основанием видим в ней научно-художественное произведение. Художественность «Истории» достигается стройной группировкой фактов, ибо искусство всегда «стройнее» жизни, и наглядностью изложения.
С. М. Соловьев в своей «Истории» с презрением отверг «литературность» Карамзина и — утонул в подробностях, массе тропинок и перепутий. А В. О. Ключевский, вернувшись к «искусству композиции» реальных фактов, вновь сделал историю художественной. Автор предлагаемой книги позволяет себе реконструкции и композицию фактов, но решительно отвергает выдумку, даже «художественную», оставаясь на твердом фундаменте реальной истории.
Книга Ю. М. Лотмана исторична и в других аспектах: и в смысле вписывания жизненного и творческого пути Карамзина в сложную историю России и Западной Европы конца XVIII — начала XIX в., и в перспективном отношении (показана роль Карамзина в истории русской культуры), и в связывании времен (автор размышляет на существенную тему: чем вызвана нынешняя растущая популярность Карамзина, обусловившая своеобразный издательский «бум», когда непрерывно выходят в свет однотомники и двухтомники писателя и проектируется издание многотомной «Истории государства Российского»).
Б. А. Воронцов-Вельяминов, автор прекрасной популярной книги «Вселенная», включил в одно из ее изданий предисловие под интригующим заглавием «Не читайте этого!». В конце раздела следует объяснение: так написано для привлечения читателей, ибо иначе, может быть, и в самом деле не прочтут… Книга Ю. М. Лотмана не нуждается в подобных уловках, и о ней можно прямо сказать: «Читайте ее!»
Б. Егоров
РОМАН-РЕКОНСТРУКЦИЯ
…чего стоит у нас человеку, родившемуся с великими способностями, сотворить себя хорошим писателем.
Чаадаев о КарамзинеНа зеленый остров посреди темно-синего моря пришел человек. Он решил здесь поставить храм. Он ломал и возил глыбы мрамора, тесал их, резал капители и фризы, возводил колонны и стены. Но до этого он построил храм в своем воображении, и все, что он возводил в камне, было лишь воссозданием созданного им идеала. Идеал этот не был мертвым и неподвижным: в голове строителя роились планы, варианты теснили друг друга, вид с вершины холма или форма мраморной глыбы вносили поправки в планы строения или фигуру бога. Строитель был связан и свободен: он строил не первый храм и в многолетних странствиях обошел сотни строений, созданных другими гениями. Он знал, как надо строить храмы, и уйти от этого знания никуда не мог. Но он знал и то, что чужой опыт не только помогает, но и связывает. А он хотел создать свободный храм, такой, какого еще не было. Росло здание, но рос, менялся и идеал, который недостижимо — впереди замысла.
О чем думал строитель, что привело его на остров, что хотел он сказать своим трудом, и к кому он обращался? Это могут понять лишь те, кто вместе с ним шли по трудным и пыльным дорогам его жизни, в долгие ночи передумали его думы, пережили его потери и надежды, тяжелые унижения и высокое горение души…
Прошли века. Храм упал, зарос, обломки занесло землей, и на его месте возвысился зеленый холм.
На зеленый холм посреди темно-синего моря пришел человек. У него были книги, карты, лопата. Он решил восстановить храм. Он копал, извлекал и расчищал куски стен и статуй, раскладывая на зеленой поляне сверкающие обломки мрамора. Он был ученый и знал цену прозаическому труду. До этого он совершил промеры пропорций многих других храмов. Он понимал язык чертежей, такой сухой для непосвященных, для тех, кто требует результатов и не хочет знать, какой ценой они добываются. И вот теперь, когда все, что можно было извлечь из земли, она отдала, надо было сложить разбросанные части воедино.
Но в руках у человека — лишь жалкие остатки: многого недостает — на берегу выросла целая деревня, выстроенная из камней бывшего храма, а десятки колонн разбили в щебень, когда строили автомобильное шоссе. Труд человека получает название — «реконструкция». Чтобы обломки обрели вновь единство, надо увидеть мысленным взором храм в его целостности. И здесь требуется союз самого точного расчета, многочисленных «скучных» профессиональных навыков и воображения, иногда даже фантазии. Реконструкция никогда не бывает бесспорной и окончательной: ведь надо восстановить не типовую казарму, а создание индивидуального гения, угадать не только то, что было сделано строителем, но и то, что он отверг, не захотел сделать или хотел, но не смог. Построенное было лишь частью непостроенного, воплощенное — невоплощенного. Труд реконструктора — сотворчество. Для того чтобы восстановить храм, ему надо воссоздать и весь душевный мир строителя. Воскресить его.
Человек, «родившийся с великими способностями», решил «сотворить себя хорошим писателем». Этому предшествовал долгий путь размышлений и поисков. Но и решение это было лишь началом. Последовали годы работы. Он строил себя как храм, ломал и тесал камни, резал карнизы, возводил стены. А воображение и мысль развивали и изменяли планы, заставляли ломать уже построенное и начинать все заново. Он часто отвергал сделанное, как тот строитель, который отбрасывал как ненужный камень, коему предназначено в будущем стать краеугольным, ибо здание культуры никогда не строится одним и никогда не бывает законченным. Но вот он умер и унес с собою большинство своих замыслов, свою личность, которая и есть тот храм, который он строил всю жизнь и который придавал единство и смысл его сочинениям.
…Храм упал; А руин его потомок Языка не разгадал…Но рано или поздно приходит биограф. Он тщательно собирает источники: листы книг, писем, дневников, листы воспоминаний современников. Но это не жизнь, а лишь ее отпечатки. Их еще предстоит оживить. И биограф становится реконструктором. Он встает на трудный и опасный путь воссоздания утраченного целого, реконструкции личности по документам, всегда неполным, двусмысленным, всегда несущим в себе субъективную позицию своего создателя. Филигранный труд интерпретатора здесь должен сочетаться с умением найти детали ее место. А это достигается сочетанием точного знания с интуицией и воображением. Исследователь и романист на равных правах соавторствуют в создании биографического романа-реконструкции. И оба они находятся в необычных условиях. Исследователь, вооруженный привычными навыками анализа документа, все время должен помнить о синтезе, соединять свои наблюдения в единое и живое целое. И методы работы у него синтетические — весь круг «наук о человеке» не должен быть ему чужд. Но и романист в необычном положении. Он не имеет права создавать — он должен воссоздавать.
Когда-то наивные историки докритической эпохи расцвечивали свой текст «речами», которые они влагали в уста историческим деятелям, или даже описаниями невысказанных мыслей. Автор биографического романа может позволить себе эту роскошь. Он имеет право измышлять детали, речи и мысли. Так, Ю. Н. Тынянов в своих романах, для того чтобы объяснить роковое для Грибоедова и русского посольства решение приближенного шахского евнуха Мирза-Якуба (урожденного Маркаряна) попросить убежище в русской миссии, имел право создать фигуру влюбленного евнуха, а сердечную жизнь Пушкина построить вокруг «утаенной любви» к Карамзиной. Автор романа-реконструкции таких прав не имеет. Он не может дополнять нехватающие куски колонн камнями своего производства, как бы он ни был убежден в том, что верно угадал потерянное. Его творчество имеет иную природу и совершается в другой сфере: активность его направлена на воссоздание того целостного идеала личности, который создавал в своей душе герой биографии. Это был план, по которому он строил себя. Мы должны раскрыть, обнаружить этот план, угадать его среди других, возможных и невозможных, тех, которые следует отбросить, потому что они не были реализованы, и тех, которые по этой самой причине заслуживают особого внимания, и этим оживить сохранившиеся обломки, придать им смысл, заставить заговорить.
Реконструктор не измышляет — он ищет, сопоставляет. Он похож на кропотливого расшифровщика. И вот под его руками разрозненное и лишенное жизни и смысла обретает целостность, наполняется мыслью, и мы вдруг слышим пульс того, кто давно уже ушел из жизни, физически рассеявшись в биосфере, а духовно влившись каплей в поток культуры.
Итак, роман-реконструкция — особый жанр. Сюжет его создается жизнью и только жизнью. Домысел в нем не может иметь места, а вымысел должен быть строго обоснован научно истолкованным документом. Документальные, имеющие характер разысканий и исследований, главы в нем неизбежны и закономерно чередуются с такими, где анализ должен уступить место воображению. Может быть, лучше всего было бы писать произведения этого жанра в форме диалога между ученым и романистом, попеременно предоставляя слово то одному, то другому.
Роман-реконструкция строже и в чем-то беднее биографического романа. Но у него есть одно существенное преимущество — стремление максимально приблизиться к реконструируемой реальности, к подлинной личности того, на ком он сосредоточил свое внимание.
Роман-реконструкция — археология культуры. Он призван воссоздать с максимально доступной полнотой ее ушедшие и растворившиеся в небытии звенья. Но культура — это и произведения искусства, и работа рук, ума, души целых поколений, общественных групп и течений. Ее изучают различные науки, стремящиеся в своих описаниях дать полную и объективную картину того или иного явления. Но культура — это и люди, живые человеческие личности. И как судьба Гамлета или Отелло, занимающая всего несколько часов сценического времени, подобна и равнозначительна судьбе всего человечества, так и участь одного деятеля культуры равна по значению судьбам всей культуры в целом.
Важно понять, что самые общие исследования исторических процессов и самое конкретное описание мыслей, чувств и судеб человеческой единицы — не высшее и низшее звенья постижения прошлого, а два плеча одного рычага, невозможные друг без друга и равные по значению. И тогда труд биографа перестает быть второстепенным и вспомогательным. В общем строительстве культуры он получает достойное место.
Но чем ближе к отдельной человеческой личности, тем важнее роль интуиции, то вторжение тщательно контролируемого воображения, без которого реконструкция невозможна. И одновременно, чем важнее роль интуиции, тем строже, точнее, научнее должны быть контролирующие ее тормоза.
Биографическая реконструкция имеет еще один смысл — нравственный. В свое время Владимир Маяковский в поэме «Про это», не без влияния идей Н. Ф. Федорова, мечтал о воскрешении:
Вот он, большелобый тихий химик, перед опытом наморщил лоб. Книга — «Вся земля», — выискивает имя. Век двадцатый. Воскресить кого б? — Маяковский вот… Поищем ярче лица — недостаточно поэт красив. — Крикну я вот с этой, с нынешней страницы: — Не листай страницы! Воскреси![1]К сожалению, надежды на «большелобого химика» плохи. Чудо воскрешения должен совершить историк. И произойдет оно не в тигле или колбе, а на страницах биографического романа-реконструкции.
Жанр этот по-настоящему еще не родился, и автор далек от честолюбивой надежды считать, что ему удалось «воскресить» Карамзина — одного из сложнейших и тончайших деятелей русской культуры. Но если читателю, который возьмет на себя труд досмотреть книгу до конца, Карамзин предстанет чуть-чуть «более живым», автор будет считать свою задачу выполненной.
НЕ УНИЖАЯ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ…
Эрнест Ренан в «Диалогах и философских фрагментах» сказал: «Цель человечества — создавать великих людей». Карамзин был современником великих исторических событий: первые его сознательные впечатления были связаны с восстанием Пугачева, предсмертные размышления — с 14 декабря 1825 года. Решающий этап его политического развития совпал с Великой французской революцией. Возвышение и падение Наполеона совершилось на его глазах. Убежденный противник войн, он готовился сражаться у стен Москвы и был в числе последних, покинувших ее стены.
Был век бурный, дивный век, Громкий величавый; Был огромный человек, Расточитель славы. То был век богатырей! — [2]писал Денис Давыдов. Пушкин мог иронизировать над тем, что «мы все глядим в Наполеоны», или над преклонением перед «историческими личностями»:
Что нет, к тому же, перевода Прямым героям; что они Совсем не чудо в наши дни — и лукаво оправдываться: Иль разве меж моих друзей Двух, трех великих нет людей? [3]Однако и сам он в дни своей романтической юности завидовал участи вождя греческого восстания, который «отныне и мертвый или победитель принадлежит истории».
Друзья Карамзина, его единомышленники и ученики, равно как и его враги, недоброжелатели или завистники, делили свою жизнь между искусством и государственной службой. Поэты Державин и Дмитриев были министрами, видный литературный деятель, противник Карамзина, адмирал Шишков в разное время занимал посты государственного секретаря, члена Государственного совета, министра. Литература тех лет одета в гвардейские мундиры и дипломатические фраки. На этом фоне «безмундирная» фигура Карамзина резко выделяется. Прослужив лишь год в Преображенском полку, он восемнадцати лет снял зеленый мундир преображенца, чтобы никогда уже не облачаться в форменную одежду. На самые лестные служебные предложения, которые делал ему в дальнейшем Александр I, он неизменно отвечал отказом.
Его общественным идеалом была независимость, его представление о счастье неизменно связывалось с частным существованием, тесным кружком друзей, семейной жизнью. В эпоху, когда самый воздух был пропитан честолюбием, когда целое поколение повторяло слова Наполеона о том, что «гениальные люди — это метеоры, предназначение которых — жечь, чтобы просветить свой век», когда с прибавкой эпитета «благородное» честолюбие становилось неотделимым от патриотизма и борьбы за свободу, Карамзин мог бы подписаться под словами, сказанными другим поэтом через сто тридцать лет после его смерти: «Быть знаменитым некрасиво».
Но отказ от роли «великого человека» не лишает ли Карамзина права «иметь биографию»? Вопрос, на который биограф Карамзина должен ответить. К счастью, Карамзин на него ответил сам. За несколько месяцев до смерти он писал бывшему министру иностранных дел России графу Каподистрия: «Приближаясь к концу своей деятельности, я благодарю Бога за свою судьбу. Может быть, я заблуждаюсь, но совесть моя покойна. Любезное Отечество ни в чем не может меня упрекнуть. Я всегда был готов служить ему не унижая своей личности, за которую я в ответе перед той же Россией. Да, пусть я только и делал, что описывал историю варварских веков, пусть меня не видали ни на поле боя, ни в совете мужей государственных. Но поскольку я не трус и не ленивец, я говорю: «Значит так было угодно Небесам» и, без смешной гордости моим ремеслом писателя, я без стыда вижу себя среди наших генералов и министров»[4].
Первая из глубоких мыслей этого письма — утверждение литературы как высокого патриотического дела. Жизнь, отданная литературе, — общественное служение, которое ставит человека выше государственных служб. Однако Карамзин высказывает здесь и другую мысль: соглашаясь на унижение своей личности, человек совершает преступление не только перед собой, но и перед своей родиной. Россия нуждается в человеческом достоинстве, и именно ей — никакого более низкого суда он в этом случае не признает — он, Карамзин, даст отчет о том, не унизил ли он когда-либо своей личности.
Но для того, чтобы так высоко поставить достоинство человека, надо было, пользуясь словами Чаадаева, «сотворить себя» — и не только хорошим писателем, но и человеком в самом высоком значении этого слова. Художественное усовершенствование писателя и этическое самосовершенствование личности были для Карамзина всегда неразрывны. В 1793 году он писал: «Говорят, что Автору нужны таланты и знания: острой, проницательный разум, живое воображение, и проч. Справедливо; но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе нежное сердце, естьли он хочет быть другом и любимцем души нашей; естьли хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; естьли хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Творец всегда изображается в творении, и часто против своей воли» [5].
Жизнь Карамзина — непрерывное самовоспитание. Духовное «делание» и историческое творчество, сотворение своего «я» и сотворение человека своей эпохи сливаются здесь воедино.
Карамзин всю жизнь «творил себя».
Этому и будет посвящен наш рассказ. Внешние же обстоятельства его биографии потребуются нам лишь как описание мастерской, в стенах которой это творчество совершалось.
КАРАМЗИН ТВОРИТ КАРАМЗИНА
Почти все произведения Карамзина воспринимались читателями как непосредственные автобиографические признания писателя. Даже шуточное стихотворение с рефреном «лишась способности грешить» Андрей Тургенев и его молодые друзья сочли подлинным свидетельством и противопоставляли «истощенного Карамзина» полным мужской мощи героям штюрмерской литературы и молодого Шиллера. Даже в Эрасте «Бедной Лизы» усматривали черты автора повести. Современники, начиная с Н. И. Новикова, и исследователи вплоть до наших дней безоговорочно приравнивают путешественника из «Писем русского путешественника», Филалета или Мелодора из их переписки, Чувствительного из очерка «Чувствительный и Холодный», «я» повествователя из «Сиерры-Морены» и «Острова Борнгольм» — автору (столь же определенно видят не только в Агатоне из «Цветка на гроб моего Агатона», но и в Мелодоре и Леониде («холодном») прямые портреты Петрова). И Карамзин, безо всякого сомнения, не только предчувствовал, но и стимулировал такое восприятие.
Однако Карамзин завещал русской культуре не только свои произведения и не только созданный им новый литературный язык — он завещал ей свой образ, свой человеческий облик, без которого в литературе пушкинской эпохи зияла бы ничем не заполнимая пустота. Природа этого образа была весьма сложной. Внутренняя сфера личности Карамзина герметична. Почти никого из своих современников и друзей он не впускал в святая святых своей души. Можно полагать, что туда был открыт доступ Катерине Андреевне — второй жене писателя, однако это навсегда останется областью предположений. Парадоксально, но один из самых нуждавшихся в дружбе русских писателей, писатель, создавший подлинный культ дружбы, всегда окруженный учениками и поклонниками, не только был глубоко одинок — это удел слишком многих, — но и был чрезвычайно скуп на душевные излияния и ревниво хранил свою душу от внешних, даже дружеских, вторжений. Представлять себе Карамзина «сентименталистом жизни» — значит глубоко заблуждаться. Карамзин не вел дневников. Письма его отмечены печатью сухости и сдержанности. На любые душевные излияния или отвлеченные рассуждения в них наложен запрет. Но все современники чувствовали, что за этим опущенным забралом таится трагическое лицо, холодно-спокойное выражение которого говорит лишь о силе воли и глубине разочарования.
Как это ни покажется странным, но по тому, как соотносятся его внутренняя и внешняя биография, Карамзин был близок к, казалось бы, самому далекому из своих современников, к тому, кто во всех отношениях скорее мог бы считаться его антиподом, — к Крылову. Оба были писателями, обращавшими свой труд к наиболее широкому для того времени читателю. Ни тот, ни другой не писали «для немногих» (Жуковский). Карамзин даже в большей мере, чем Крылов. От «Московского журнала» до «Вестника Европы» и «Истории государства Российского» он стремился к тому, чтобы число «пренумерантов» (подписчиков) постоянно росло. И как журналист, и как писатель он был профессионалом и умел обеспечивать себе широкую аудиторию. И одновременно оба они берегли свою душевную закрытость. Ни «простодушие» Крылова, ни «нежность» Карамзина не означали, что доступ в их внутренний мир был легким. Показателен отзыв о Карамзине проницательного и глубокого наблюдателя, который, однако, во-первых, встречался с Карамзиным очень краткое время, т. е. мог схватить именно внешние и наиболее бросающиеся в глаза черты, и, во-вторых, полностью был свободен от гипноза обожания, которым был окружен Карамзин в эту пору. Речь идет о Жермене де Сталь. Изгнанная Наполеоном из Франции, писательница посетила в 1812 году Россию, была в Москве и встречалась с Карамзиным. В своей записной книжке она оставила слова: «Сухой француз — вот и всё». Поразительно здесь и то, что французская писательница упрекает одного из первых русских писателей словом «француз». Причем она имеет в виду не то, что вложили бы в это слово Шишков или Сергей Глинка, — спор «галлорусов» и «славян» ей, конечно, просто не известен. Суть в другом: автор книги «О Германии» видела в северных народах носителей духа романтизма. Французы же для нее были заражены рационализмом и скепсисом, испорчены логикой Кондильяка и «бездушием» Гельвеция. Она простила бы московскому писателю самую экзальтированную фантастику, самый необузданный алогизм, любые оригинальные чудачества, но не могла простить сухости хорошего тона, отточенности сдержанной речи, всего, что отдавало слишком известным ей миром парижского салона. Москвич показался ей французом, а чувствительный писатель — сухим. Карамзин не выставлял душу напоказ — Жермена де Сталь решила, что у него нет души.
Совпадение упреков, которые адресовали Карамзину столь несходные между собой литераторы, как г-жа де Сталь и адмирал Шишков («француз»), слишком знаменательно, чтобы мы могли просто пройти мимо.
Как мы уже говорили, современники легко переносили особенности литературной позиции Карамзина на его человеческую природу. Так, когда Карамзин готовился вступить в свой первый брак (с Елизаветой Ивановной Протасовой), А. С. Кайсаров, член Дружеского литературного общества, кружка начинающих московских литераторов, воспитанных на произведениях Карамзина и ревниво его критиковавших, с пылом, с каким дети осуждают своих родителей, напирал пародию «Свадьба Карамзина». Вся она представляла чин свадебного богослужения, смонтированный из стихотворений жениха. Поэзия Карамзина непосредственно переносилась на его личность.
«Новобрачные имели в руках по букетику ландышей. Жрец Природы предшествуя им, пел с обеими ликами следующий псалом с припевом:
Лишась способности грешить. И другу, недругу закажем Кого нибудь в соблазн вводить; Лишась способности грешить, Прямым раскаяньем докажем, Что можем праведными быть, Лишась способности грешить. Отныне будет все иное, Чтоб строгим людям угодить Лишась способности грешить Мужей оставим мы в покое, А жен начнем добру учить, Лишась способности грешить <…>По окончании слова жрец вопросил:
Кроткий юноша! хочешь ли ты соединить судьбу свою с судьбою этой прекрасной девицы? На что К<арамзин> отвечал:
Чином я не генерал, И богатства не имею; Но любить ее умею. Потом жрец вопрошал о том же и невесту. Тут прекрасная вздохнула, На любезного взглянула, И сказала: я твоя! <…>После чего жрец читал следующее воззвание к Купидону:
Жрец: Природе помолимся! Лик: Мать любезная, помилуй! Жрец: Очарован я тобою Бог играющий судьбою, Бог коварный — Купидон! Ядовитою стрелою Ты лишил меня покою. Коль ужасен твой закон, Мудрых мудрости лишает! —И паки другое воззвание к природе.
Жрец: Природе помолимся! Лик: Мать любезная, помилуй! Жрец: Священная природа! Твой нежный друг и сын Не винен пред тобою. Ты сердце мне дала; Твои дары благие Украсили ее — Природа! ты хотела, Чтоб я ее любил.По окончании воззваний две горлицы принесли венки для новобрачных. <…>
Абие малая эктения и Грации приносят чашу с слезами чувствительности. Жрец Природы подносит ее трижды сперва мужу, а потом жене, в которую нежные их сердца прибавляют еще по нескольку капель сего небесного дара. — Грации отдают чашу зефирам, которые и относят ее в святилище. <…>
По сем жрец ведет их вокруг жертвенника и поет настоящие тропари, а за ним и оба лика:
Тропарь глас А. вместо Исайя ликуй!: Пора, друзья, за ум нам взяться, Беспутство кинуть, жить путем, Не век за бабочкой гоняться, Не век быть резвым мотыльком. Иний тропарь. Глас Д. вместо слава тебе и проч. Какой закон святее Врожденных сердца чувств? Какая власть сильнее Любви и красоты? Иний тропарь. Глас N вместо святии мученици. Я неволен, Но доволен, И желаю пленным быть…»[6]Слияние биографически-документальной личности автора и чувствительного героя лирики порождало первое из лиц Карамзина, обращенных к читателю, — чувствительное: «нежной женщины нежнейший друг», удалившийся от государственной службы, честолюбия и чинов, но также удаленный от общественной борьбы и ее страстей. Однако это не была просто литературная маска или пародийный образ, созданный полемистами. В биографии Карамзина такой человек вполне реален. Таким его знали и любили Плещеевы. Для Настасьи Ивановны Плещеевой, с которой Карамзин в юные годы был связан нежной платонической дружбой и сестра которой стала первой женой писателя, это и был истинный Карамзин. И когда, после возвращения писателя из европейского путешествия, она увидела другие черты его личности, ей показалось, что подлинный «лорд Рамзей» затерялся под какими-то чужими и наносными чертами. Она винила путешествие, «проклятые чужие краи». Однако тот идиллический Карамзин не исчез бесследно. Отступив на задний план, он остался в личности Карамзина, как остается молодость в личности повзрослевшего человека. Но враги Карамзина — литературные и личные — долго еще будут полемически отождествлять этого Карамзина с Карамзиным как писателем и личностью. В пародиях и памфлетах его будут выводить под именем Ахалкина.
Другой облик получил Карамзин в читательском сознании после публикации «Писем русского путешественника». Это произведение для создания «карамзинского мифа» было особенно важно. Не случайно слово «путешественник» сделалось надолго полемической кличкой, которой наделяли Карамзина его враги. Одновременно и сам Карамзин, видимо, пользовался этим псевдонимом.
«Письма русского путешественника» создали особенно емкий и сложный образ повествователя. Оценить его в полной мере мы сможем только после того, как попытаемся реконструировать факты реального путешествия писателя и на их фоне обнаружить природу литературного замысла и структуры текста. Пока лишь отметим некоторые очевидные тенденции. Карамзин до заграничного путешествия во всех сферах жизни занимал позицию ученика. Из самоуверенного щеголя, каким его застал в Симбирске И. И. Дмитриев («играл ролю на себя надежного»), он, переехав в Москву, круто превратился в ученика. Настасья Ивановна учила его искусству нежной дружбы. Она как бы продолжала ту роль более взрослой женщины, друга и учителя, с которой познакомила мальчика Карамзина их соседка по имению, графиня Пушкина. Томная сладость этих отношений была связана с тем, что юноша играл роль мальчика, а его наставница примешивала к нежной дружбе нежную строгость матери.
В кругу Н. И. Новикова и А. М. Кутузова он тоже был учеником. Здесь его учили науке самопознания, готовили к принятию мудрости и ко вступлению на путь добродетели и общественного служения. Даже дружба была окрашена в тона учительства. Ближайший друг Карамзина этих лет А. А. Петров был старше возрастом и опытнее как литератор. Он давал Карамзину уроки литературного стиля и вкуса. Склонный к язвительной насмешке, он порой больно задевал самолюбие друга, принимая откровенно дидактический тон.
Бесспорно, одним из импульсов к путешествию было стремление Карамзина порвать эту сеть опек и самостоятельно определять свое поведение.
Однако для конструкции литературного путешествия поза ученика оказалась весьма удобной. Прежде всего, за ней была литературная традиция: юный герой, совершающий путешествие в поисках истины и странствующий от одного великого мужа к другому, — эта фигура была знакома читателям по многочисленным романам — от Фенелона и «Нового Киранаставления» Рамзея до «Путешествия юного Анахарсиса» Бартелеми. Последнее было особенно важно. Героем этого романа был юный скиф, посещающий мудрецов Греции. За юным героем вставала юная нация, вступающая на путь европейского просвещения. Этот образ легко накладывался на биографию юного москвича, отправившегося в заграничное путешествие, и столь же легко мог стать стержнем этого путешествия.
Путешественнику в «Письмах русского путешественника»
Карамзин сознательно придал подчеркнутые черты молодости. Характерно для его психологической установки: отмечая свой день рождения («Женева, Декабря 1, 1789. Ныне мне минуло двадцать три года!» <167>), Карамзин — быть может, подсознательно — убавил себе год и в следующих изданиях книги был вынужден внести поправку.
Молодость путешественника как бы объясняла его беспечность, способность от одной увлекающей его мысли легко переходить к другой. Герой «Писем» как бы ослеплен калейдоскопом событий, встреч и достопримечательностей, со всех сторон бросающихся ему в глаза, в уши, в объятья. Каждое новое сильное впечатление, кажется, бесследно вытесняет предшествующие или, по крайней мере, отодвигает их. Молодость объясняла несколько поверхностный взгляд путешественника: из текста он встает перед нами скорее как человек чувствительный, чем глубокомысленный. Ни наклонности к усиленным размышлениям, ни привычки к постоянному, непрерывному умственному труду — и то и другое составляло характернейшие свойства биографической личности Карамзина! — путешественнику не дано. Зато, особенно во время путешествия по Германии и Швейцарии, в его образе подчеркнуты свойства ученика. Отчетливая и часто сквозящая в подтексте параллель между путешественником и юным Анахарсисом из романа Бартелеми позволяет видеть в юности и ученичестве героя две стороны: это юный представитель юной цивилизации, прибегающий в поисках мудрости к старым мыслителям старой Европы.
Позже Пушкин подхватит этот образ, создавая в стихотворении «К вельможе» обобщенный тип русского путешественника в Европе XVIII века:
…И скромно ты внимал За чашей медленной афею иль деисту, Как любопытный скиф афинскому софисту[7].Тип этот был новым для русской литературы. Он сменял устойчивую для XVIII века сатирическую маску щеголя, набивающего пустую голову «парижским воздухом». Такой образ был закреплен сатирами Фонвизина и Новикова. Молодой российский «поросенок», поехавший «для просвещения ума и сердца» в Париж и вернувшийся оттуда «совершенной свиньей», был настолько распространенной маской, что образ его вставал за каждой фигурой «россиянина в Европе», если это не был герой заграничных писем Фонвизина — Стародум, мудрец, Диоген, умудренный годами и жизненным опытом, критическим оком взирающий на европейскую «ярмарку тщеславия».
Путешественник Карамзина сменил литературный образ странствующего петиметра фигурой чувствительного россиянина. Однако, сменив, он не отменил его и не вычеркнул из памяти читателей. Отождествление сентиментального путешественника и пустоголового щеголя, слияние этих двух литературных масок в одну и перенесение их на биографическую личность Карамзина сделались устойчивым полемическим приемом его противников. Начало этому положил А. М. Кутузов, едко высмеявший Карамзина в эпистолярном памфлете под именем Попугай Обезьянин.
Карамзин не только предвидел такую возможность, но и сознательно подыграл ей. Черты щеголя действительно проступают в образе его путешественника. Они видны в его речи, пересыпанной иностранными словами, в легкости переходов его мысли, в приверженности к «пустякам» и уклонении от «важных» размышлений. Однако, приняв щит и герб этого осмеянного персонажа, Карамзин повязал его шлем совершенно неожиданным шарфом: его щеголь, странствующий российский петиметр, неожиданно оказывается достойным собеседником не только швейцарских трактирщиков и парижских «нимф радости», но и Канта и Виланда, Бонне и Лавуазье, Платнера и Гердера. Он неожиданно обнаруживает массу учености, энциклопедическую образованность. Мы нигде не видим его работающим — он порхает по дорогам Европы, гостиным и ученым кабинетам. Но плоды огромного умственного труда он как бы невзначай рассыпает на каждой странице своих писем. Как бы подключая к его образу черты еще одной сатирической маски — педанта, Карамзин влагает в его уста целые страницы из путеводителей и ученых описаний путешествий. Причем источники эти не только обнажены, но порой и прямо названы — опознание их входит в авторский расчет. Таким образом как бы сочетаются в одном лице литературные амплуа чувствительного человека, щеголя и педанта. Уже сама несовместимость такого совмещения делает его исполненным значения. А кроме того, это дает создаваемому таким способом образу большую внутреннюю свободу, непредсказуемость его поведения для читателя.
Карамзин всю жизнь был сторонником прогресса. У него бывали периоды сомнений и даже отчаяния, и все же он упорно возвращался к вере в постепенное улучшение человека и человеческого рода. Однако само содержание понятия «прогресс» у него менялось. В период жизни в Москве, в кружке Новикова — Кутузова, он разделял мнение своих наставников о том, что прогресс — это улучшение рода человеческого путем нравственного возрождения каждого отдельного человека. К этой вере, хотя и в несколько других формулировках, он вернулся в конце жизни. В речи при приеме его в Российскую Академию Карамзин сказал: «Жизнь наша и жизнь Империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь всё для души, всё для ума и чувства; всё бессмертно в их успехах!»[8]
Однако в начале 1790-х годов Карамзин думал иначе. Исторический прогресс мыслился им не как суровое моральное восхождение, а как путь к счастью. Основным двигателем здесь является не мораль, а искусство. Именно искусство, приобщая человека к прекрасному, делает его добрым и общественным. Роман более способствует прогрессу человечества, чем проповедь; художник успешнее действует на людей, чем моралист. Но если моралисту приписывалось суровое и героическое поведение (равно как и почтенный возраст), то художник виделся в облике беспечного ребенка — увлекающийся, легко переходящий от энтузиазма к унынию, способный проникаться величественным и прекрасным в разных его формах, равно любующийся подвигом героя и идиллией мирного быта пастухов, доступный ошибкам и заблуждениям, порой суетный, но всегда добрый и вдохновенный. Именно такой образ повествователя создавали «Письма», таким Карамзин хотел предстать перед своими современниками в жизни. Так литературный персонаж, сходя со страниц книги, формировал и реальное поведение автора, и восприятие его личности современниками.
Идеал человека-художника имел для Карамзина глубокое значение. Понятие прогресса ~он неизменно, во все периоды жизни, связывал с представлением о свободе, о ее росте и расширении. Однако содержание понятия «свобода» менялось. Либерально-просветительское наполнение его, представление о свободе как отсутствии насилия, о праве личности на неотъемлемые, вытекающие из Природы права было прочно усвоено Карамзиным и никогда не покидало его, воспринимаясь как самоочевидная и даже тривиальная истина. Однако в определенные периоды творчества внимание переносилось на внутреннюю свободу духа, стоящего выше неизбежных материальных стеснений, накладываемых на него жизнью. Иногда обострялся мучительный вопрос о соотношении свободы человека и воли Провидения. Законы истории, общее благо, необходимость… Право на свободу и высшее право на самоограничение свободы — таков был круг размышлений Карамзина — современника Французской революции и Отечественной войны 1812 года, собеседника Канта и Пушкина, Жильбера Ромма и Александра I.
Образ человека-артиста давал совершенно особое решение проблеме свободы. Это была свобода в игре, возведение жизни до уровня высокой игры.
Внесение в жизнь и поэзию элементов игры может показаться унижением и того и другого. Такие упреки в адрес Карамзина высказывались неоднократно. Игра, казалось, противоречила привычному взгляду на литературу как на «серьезное» и «торжественное» занятие, язык богов и поприще общественного служения. Вопреки этим мнениям, «игра», «легкомыслие» были продуманными и вполне серьезными элементами системы Карамзина. Это были средства дедогматизации мышления. Игра несла свободу, раскрепощая человека от гнета рационализма «философского века». Она не отрицала познания, а освобождала его от догматизма. Это было, по словам Канта, «состояние свободной игры <курс. Канта> познавательных способностей»[9].
Артистическая свобода личности, художественная игра против догматизма теорий — такова литературная поза Карамзина в эти годы. В соединении со свойственной ему же ориентацией на европейскую культуру, эта поза «читалась» его врагами как привычный сатирический стереотип щеголя-галломана. И Карамзин дерзко подыгрывал своим противникам, соединяя в своих произведениях такие запретные темы, как инцест или любовное самоубийство, с мнимо-автобиографической манерой повествования.
Однако историческая обстановка менялась с кинематографической скоростью. «Великая весна 90-х годов», как назвал эту эпоху надежд А. И. Герцен, сменилась временем глубокого разочарования. Казнь Робеспьера была воспринята Карамзиным как торжество эгоизма над республиканской утопией. Но и утопия оказалась неожиданно кровавой. Европа была ввергнута в войну. Смерть Екатерины II, столь долгожданная, связанная с надеждами на воспитанника Никиты Панина великого князя Павла Петровича, в котором мечтали найти монарха прямого и честного, просвещенного врага деспотизма и — может быть — конституционалиста, не принесла облегчения. Надежды не сбылись — на троне оказался психически больной человек, пораженный страхом, мучимый комплексом неполноценности, добрая натура которого была безнадежно изуродована годами унижений, испуга и ожидания. Бесконтрольность российского деспотизма довершила остальное.
Читателю явился новый Карамзин — Карамзин «Аглаи», «Аонид» и «Пантеона иностранной словесности». А еще дальше — Карамзин молчащий, принужденный цензурными преследованиями сделаться переводчиком Мармонтеля и практически прекратить литературную деятельность.
Это был Карамзин разочарованный, пронизанный горьким скептицизмом. Проповедник горьких утешений, которые могло дать неучастие в общем безумии:
Глупцы Нерону не опасны: Нерон не страшен и для них… …Они судьбу благословляют И быть умнее не желают. Раскроем летопись времен: Когда был человек блажен? Тогда, как, думать не умея, Без смысла он желудком жил (курс. Карамзина) Для глупых здесь всегда Астрея И век златой не проходил(Гимн глупцам)
Мудрец, который знал людей, Сказал, что мир стоит обманом; Мы все, мой друг лжецы: Простые люди, мудрецы; Непроницаемым туманом Покрыта истина для нас (К бедному поэту). Пусть громы небо потрясают, Злодеи слабых угнетают, Безумцы хвалят разум свой! Мой друг! не мы тому виной.(Послание к Дмитриеву[10])
Но мы допустили бы большую ошибку, если бы решили, что реальный Карамзин жил в это время именно по такой программе. Напротив. Именно в труднейших условиях 1793–1801 годов он проявляет исключительное упорство в борьбе за сохранение себя как писателя, проявляет цепкость и мастерство журналиста. В годы павловского царствования число журналов и альманахов резко сократилось: всего их выходило менее десятка, и четыре наименования из них («Аониды», «Аглая» — второе издание, «Пантеон иностранной словесности», «Пантеон российских авторов») публиковались Карамзиным или при самом ближайшем его участии. Кроме того, он еще публиковал свои произведения в интересном журнале «Муза». Он завязал отношения с выходившим в Гамбурге французским журналом «Le Spectateur du Nord» («Северный зритель») и, очевидно, связывал с участием в нем определенные планы. Он перепечатывает старые произведения, выпускает вторым изданием «Детское чтение» — перед нами картина активной деятельности профессионального журналиста и писателя.
Но вот Павел Первый во гробе. На престоле Александр Павлович. И перед читателем — новый Карамзин. Это — homo politicus. Автор политических статей, для которого литература — нечто второстепенное. И в том, как глубоко и тонко он разбирается в оттенках европейской политики, как компетентно судит о первом консуле Бонапарте и о волнениях в Турции, и о событиях в Швейцарии, и о прениях в английской Палате, виден человек, давно и много интересовавшийся этими вопросами. Никто и не подозревал в беспечном госте швейцарских пастухов или разочарованном отшельнике, проповедующем сельское уединение, одного из компетентнейших и осведомленнейших политиков России.
И, наконец, перед читателями появляется Карамзин-историк. То простодушный Нестор-летописец, неведомыми судьбами заброшенный в XIX век, то гневный Тацит, судящий царей-тиранов. «Бессмертный гений», «наш Тацит», «быта русского хранитель», «один из великих наших сограждан» — так называл Карамзина в разное время Пушкин.
Трудно найти другого писателя, чья внутренняя жизнь была бы от нас настолько скрыта и чей образ так последовательно подменялся бы образами его литературных созданий. Грибоедов еще в 1819 году, когда воинский начальник в еще персидской Эривани сказал ему восточную любезность, пометил в путевом дневнике: «Карамзин бы заплакал» [11] — он все еще отождествлял автора IХ-го тома «Истории государства Российского» с повествователем «Бедной Лизы». И их обоих с Карамзиным-человеком!
Карамзин творил Карамзина. Творил всю свою писательскую жизнь. Творил сознательно и упорно. Создавая произведения и создавая читателю образ их автора, он одновременно создавал читателя. Он создавал тип нового русского культурного человека. Ценность этого творчества неизмерима. Поколению Толстого и Достоевского повести его уже казались наивными и архаическими. Но его человеческий облик и созданный им читательский образ вошли в личности людей русской культуры последующих эпох. При этом замечательно, что уже для младших современников Карамзина определяющей чертой его личности сделалась именно цельность. Разные лики слились, спаялись в единство. Основой его было единство писательской и читательской честности. Карамзин вошел в русскую культуру как писатель и человек, не подверженный обстоятельствам и стоящий выше их.
ДВА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
18 мая 1789 года (старого стиля) по петербургской дороге из Москвы выехала карета. В ней сидел молодой путешественник. До петербургской заставы его проводил друг. Расстались они в слезах. «Колокольчик зазвенел, лошади помчались…» Что было дальше, читатель знает и сам: все очень просто, надо взять в руки «Письма русского путешественника» Карамзина и листать книгу. Но именно здесь и придется остановиться. Дело в том, что в карете, хотя всем кажется, что там сидит один пассажир, на самом деле находятся двое. Один из них вполне реален: в кармане у него лежит выданный московским губернским правлением паспорт на имя Николая Михайловича Карамзина, дворянина, отправляющегося в чужие края. Именно его провожал друг — молодой литератор Александр Андреевич Петров, именно его видит, когда оборачивается с козел, крепостной слуга Илья («добродушный Илья», как его называет Карамзин в «Письмах»). Однако в карете незримо присутствует и другой. Верней, еще не присутствует. Скорее всего, только тень его слабо мелькает где-то в глубинах сознания Карамзина.
Но через некоторое время он превратится в реальность и начнет свое путешествие — путешествие по тем же почтовым станциям и городам, но уже превращенным в страницы книги. Это будет литературное путешествие, и сам он — его герой — будет литературным путешественником. На первый взгляд может показаться, что оба путешественника — двойники. У них одно имя. Хотя литературный путешественник всегда говорит о себе в первом лице, но от читателя не скрывают, что тот, кого женевские синдики в выданном ими паспорте именуют «г-н К[12]» (в журнальной редакции было «г-н NN»), «русский дворянин, 24-х лет от роду», носит то же имя, что и его реальный двойник. На них, судя по иллюстрациям, сделанным к немецкому переводу «Писем» и одобренным автором, одинаковые фраки, и в груди их бьется одно и то же сердце. Любая хирургическая операция, целью которой было бы рассечь их на два независимых существа, видимо обречена на провал.
И все же они разные. Начать с того, что литературный путешественник сентиментален. Он часто вспоминает в трогательных выражениях своих московских друзей и при каждом удобном случае пишет им письма. Именно эти письма и составят потом «Письма русского путешественника». Реальный путешественник — Николай Михайлович Карамзин, — наверное, тоже с нежностью вспоминал своих московских друзей, но писал им редко и, судя по всему, не те большие письма, описывающие дорожные впечатления и европейские достопримечательности, на которые был так щедр его литературный двойник, а сухие записки. 20 сентября (1 октября по европейскому счету), т. е. четыре с лишним месяца спустя после отъезда Карамзина, ближайший друг его А. А. Петров писал Карамзину, что получил от него письмо — из Дрездена. Письмо это, видимо, было весьма кратким. Это видно из слов Петрова: «Я не ожидаю от тебя подробных описаний твоего путешествия»[13]. Другой ближайший друг — поэт Иван Иванович Дмитриев — получил за все время одно письмо — из Лондона, написанное за несколько дней перед отъездом на родину. Все описание путешествия уместилось здесь в несколько строк: «Я пишу к вам на скорую руку, только для того, чтобы подать вам о себе весть, будучи уверен, что вы, друзья мои, берете участие в моей судьбе. Я проехал через Германию; побродил и пожил в Швейцарии, видел знатную часть Франции, видел Париж, видел вольных (курсив Карамзина) французов, и наконец приехал в Лондон. Скоро буду думать о возвращении в Россию»[14].
Несколько больше писем, видимо, получила семья Плещеевых: Алексей Александрович Плещеев был близким приятелем Карамзина, а жену его Настасью Ивановну с писателем связывала длительная и нежная сентиментальная дружба. Но и Плещеевы жалуются на редкость и краткость писем Карамзина-путешественника. 7 июля 1790 года Настасья Ивановна писала Карамзину (письмо было отправлено в Берлин через их общего друга А. М. Кутузова — Плещеевы даже не знали, где находится Карамзин): «…я уверена и уверена совершенно, что проклятые чужие краи сделали с тебя совсем другого: не только дружба наша тебе в тягость, но и письма кидаешь, не читав! Я в том столько уверена, как в том, que j'existe[15], потому что с тех пор, как ты в чужих краях, я не имела удовольствия получить ни единого ответа ни на какое мое письмо; то я самого тебя делаю судьею, что я должна из оного заключить: или ты писем не читаешь, или так уже презираешь их, что не видишь в них ничего, достойного ответа» [16].
Но самое поразительное, что эти путешественники вернулись на родину не одновременно: литературный путешественник прибыл в Кронштадт в сентябре, а его создатель сошел на родную почву уже в середине июля. Дальше мы выскажем предположения, почему писателю потребовалось создание своего творческого воображения задержать на лишние месяц-полтора в чужих краях. Но сейчас для нас важен сам факт: «я» карамзинского произведения — совсем не реальная, эмпирическая личность автора, а «Письма русского путешественника» — не дорожные письма Карамзина. Последнее было установлено еще сто лет тому назад В. В. Сиповским [17]. Однако стремление отождествить путешествие по листам бумаги с реальным странствием по дорогам Европы было настолько сильным, что Сиповский выдвинул осторожную гипотезу о существовании дорожного дневника Карамзина, который мог лечь в основу «Писем русского путешественника» [18]. А некоторые современные исследователи уже безо всяких оговорок говорят о некоем «путевом журнале» Карамзина, в котором он, «подражая Стерну, записывал все, что видел, слышал, о чем думал и мечтал»[19].
Внимательное чтение «Писем русского путешественника» убеждает и в том, что маршруты обоих путешественников также не всегда совпадали: иногда автор посылал своего героя туда, где не бывал сам, иногда же предпочитал не пускать его как раз в те места, которые наиболее привлекали его самого.
Главное же различие между двумя путешественниками заключается в их духовной зрелости: хотя по возрасту они ровесники, но по страницам книги путешествует милый, любознательный, но довольно легкомысленный молодой человек, с живыми, но не глубокими интересами. Сам же Карамзин в эту пору был уже много передумавшим и перечитавшим человеком, проявлявшим важнейшую черту духовной зрелости — самостоятельность интересов и суждений. Герой книги только начинает жизненный путь — никаких решений не принято, ничего еще не определилось. Он, как уже говорилось, странствует от мудреца к мудрецу, подобно героям философских романов XVII–XVIII веков, вроде Телемака Фенелона или Кира Рамзея, в поисках жизненных руководителей и благих советов. Автор же книги только что принял и твердо осуществил важное решение — порвал с мудрецами-руководителями из кружка Новикова и московских масонов, определил свой собственный жизненный путь и решительно на него вступил.
Карамзин отличался свойствами характера, делавшими его прирожденным ученым: склонностью к усидчивому систематическому труду, постоянством интересов, умственной самостоятельностью и необычайным умением быстро накапливать знания. Так, не получив никакого специального образования историка, он позже за несколько лет овладел не только обширным кругом источников, в ту пору в основной массе не опубликованных, но и сложными навыками во вспомогательных дисциплинах: палеографии, хронологии, археографии, нумизматике, генеалогии, исторической географии, истории языка. За четыре года, проведенные им в Москве в доме Типографической компании Новикова, молодой симбирский франт превратился в образованного человека, начитанного и в философии, и в художественной литературе на немецком, французском и английском языках, живо осведомленного, «своего человека» в умственной жизни России и Европы того времени.
Отношения двух путешественников, как мы сказали, были непростыми. Из окна почтовой кареты нам показывается то одно, то другое лицо. Часто один из них как бы выглядывает из-за плеча другого. А иногда еще сложнее: черты одного как бы проступают в лице другого. В этом таятся для нас многие трудности. Но это же и источник материалов для биографа, если уметь их искать.
Целые периоды в жизни Карамзина остаются для нас совершенно темными. К ним относится его заграничное путешествие. Основной источник здесь — «Письма русского путешественника». Исследователи так и поступают — видят в этой книге документальное свидетельство о реальном путешествии писателя, забывая, что «Письма» — литературное произведение со всеми характерными чертами художественного текста: замыслом и вымыслом, комбинацией и перестановкой реальных впечатлений в угоду идейно-художественным задачам, композицией и законами жанра, стилизацией, цензурными соображениями и т. п. Чтобы стать источником биографических сведений, «Письма» должны быть подвергнуты сложной процедуре дешифровки. И тогда многие привычные представления, возможно, придется пересмотреть.
Для современников, знавших Карамзина лично, бывших в курсе причин и обстоятельств его путешествия, реальностью был Карамзин, а герой книги — его тенью, созданием его пера. Для последующих поколений читателей все произошло, как в сказке Андерсена: литературный персонаж стал реальностью, и реальностью единственной, как только речь заходила о «заграничном» периоде жизни Карамзина, а сам реальный автор как бы превращался в его тень. Второй путешественник вытеснил первого и, развалясь на подушках кареты, отправился в путь по стране, именуемой история русской литературы.
Попытаемся пристальнее всмотреться в оба лица.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Один из путешественников — беззаботный юноша, чувствительный и добрый, отправляющийся путешествовать без какой-либо ясно обдуманной цели. В душе его господствует нежная меланхолия, вызванная разлукой с «милыми». Настроение другого, надо думать, более серьезное и более сложное. Прежде всего, решение его отправиться в «вояж» ускорено какими-то неизвестными нам, но, видимо, весьма неприятными обстоятельствами. Об этом писала его «нежный друг» Настасья Плещеева в Берлин Алексею Михайловичу Кутузову: «Не все <…> вы знаете причины, которые побудили его ехать. Поверите ль, что я из первых, плакав пред ним, просила его ехать; друг ваш Алексей Александрович (Плещеев) — второй; знать сие было нужно и надобно. Я, которая была вечно против оного вояжа, и дорого мне стоила оная разлука. Да, таковы были обстоятельства друга нашего, что сие непременно было должно сделать. После этого скажите, возможно ли мне было и будет любить злодея, который всему почти сему главная причина? Каково расставаться с сыном и другом и тогда, когда я не думала уже увидаться в здешнем мире. У меня тогда так сильно шла горлом кровь, что я почитала себя очень близкой к чахотке. После этого скажите, что он из упрямства поехал». И приписала: «А того, кто причиной сего вояжу, вообразить без ужаса не могу, сколько я зла ему желаю! О, Тартюф!»[20] Даже если сделать скидку на то, что Настасья Ивановна была женщина эмоциональная и чувствительная, ситуация, предшествовавшая заграничной поездке Карамзина, рисуется в достаточно драматических тонах. Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, кого Плещеева называла «злодеем» и «Тартюфом», но мы вряд ли ошибемся, если предположим связь этих событий с гонениями, обрушившимися в это время на московский круг единомышленников Н. И. Новикова, к которому принадлежал и Карамзин.
Связи Карамзина с этим миром к моменту его отъезда за границу сделались запутанными и мучительными.
Пушкин писал о той эпоха: «В то время существовали в России люди, известные под именем мартинистов. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философского вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия, ярко отличали их от поколения, к которому они принадлежали»[21].
Именно с этим кругом было связано начало литературной деятельности Карамзина.
Карамзины происходили от татарского князька Кара-Мурзы, который, как многие его собратья, «вышел» в Москву, крестился и был «испомещен» московскими великими князьями. В начале XVI века Карамзины числились костромскими помещиками, но в 1600 году они уже владеют поместьем в Нижегородской губернии. Отец писателя служил капитаном в Оренбурге, в полевом батальоне при известном Неплюеве, выученике Петра Великого, до конца дней своих благоговевшем перед его памятью. За службу отец писателя получил поместье в Симбирской губернии, где и прошло детство Карамзина.
Мир, давший Карамзину первые сознательные впечатления, был коренной мир русской провинции, и в будущем Карамзин всегда ощущал свое родство с московской и провинциально-дворянской образованной помещичьей средой. Придворно-чиновный Петербург был ему чужд даже в те — последние — годы, когда занятия историей и воля императора приковали его к Петербургу. Мир, окружавший Карамзина в детстве, был красочен: связанный с национальными традициями, с няньками и дядьками, с тщательным соблюдением церковной обрядности, церковных и календарных праздников, он был одновременно овеян воздухом новой культуры. Здесь мы встречаем и раннее обучение немецкому языку у местного медика, и француза-гувернера, и — особенно — обильное раннее чтение: в доме много книг — от рано умершей матери осталась библиотека романов, образованный сосед Пушкин дает мальчику «Древнюю историю» Ш. Ролленя в 10 томах, «ныне с французского переведенную чрез Василия Тредиаковского, профессора элоквенции и члена Санктпетербургския имп. Академии Наук».
Провинциальные дворяне, наполнявшие в дни праздников дом отца будущего писателя, не были ни богаты, ни знатны. Они не принадлежали к тем «новым людям», которые в XVIII веке роились около двора, быстро богатели, хватали в передних Зимнего дворца чины, деревни, ленты и ордена. Но это была среда, где любили учиться, много думали (не случайно из нее вышли родственники Карамзина — поэт И. И. Дмитриев, известный издатель П. П. Бекетов, потомки которого стали людьми науки: ботаниками, химиками, а один из них, Андрей Николаевич Бекетов, был ректором Петербургского университета и дедом по матери Александра Блока). Здесь служили, но не любили прислуживаться. Не случайно в автобиографической повести «Рыцарь нашего времени» Карамзин изобразил общество провинциальных дворян конца XVIII века, заключивших между собой «братский договор», по которому они обязывались «не бояться ни знатных, ни сильных, а только бога и государя; смело говорить правду губернаторам и воеводам; никогда не быть прихлебателями их и не такать против совести»[22].
Карамзину шел 14-й год, когда возможности провинциального образования оказались исчерпанными и его отправили в Москву, в пансион Шадена, вместе с братьями П. П. и И. П. Бекетовыми. Около трех лет провел Карамзин в пансионе. Обучение было гуманитарным — в основном изучались языки: немецким и французским он овладел в совершенстве, читал по-английски и по-итальянски, занимался древними языками. Карамзин ходил слушать какие-то лекции в университет. В эту же пору он познакомился с молодым литератором А. А. Петровым.
По обычаю тех лет Карамзин был записан в службу еще при рождении — в гвардейский Преображенский полк. Вспомним рассказ Гринева из «Капитанской дочки»: «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта и дело бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук»[23]. Это узаконенное обычаем злоупотребление избавляло имеющих в столице протекцию дворянских сынков от положенной по петровским законам солдатской службы: они сразу получали стаж, необходимый для первого офицерского звания. По окончании пансиона Карамзин явился в полк, но военная служба, видимо, его не привлекала — он тут же взял годичный отпуск.
Однако в 1782 году ему все же пришлось надеть мундир.
Дмитриев, с которым Карамзин сошелся в эту пору (Дмитриев служил в Семеновском полку), вспоминает его как «румяного, миловидного юношу»[24]. Юноша этот еще только раздумывал над возможностью литературного труда, который, по представлениям того времени, ни в коем случае не мог быть ни профессией, ни источником существования. Пусть потомки видят его в лавровом венке — для современников нужны мундир и орденские ленты. Но именно они-то не прельщали Карамзина. Сохранился рассказ о том, что военный пыл Карамзина охладила неудачная попытка перевода в действующую армию. Вот что рассказывает об этом ранний биограф Карамзина М. Погодин, имевший возможность опираться не только на документы, но и на устные рассказы современников: «В то время такое назначение зависело много от полкового секретаря, а секретарь брал взятки, и от того назначение доставалось всегда только богатым офицерам. Он, к счастью, отказал Карамзину, не могшему располагать лишними деньгами. У него было всего на все сто рублей в кармане, с трудом сбереженных. Неудача, благотворная для Карамзина, охладила его воинский жар. К тому же у него не было возможности сшить себе хороший офицерский мундир»[25].
Рассказ этот красочен, но едва ли до конца достоверен. Карамзин, видимо, действительно был стеснен в средствах, однако уже то, что он был записан в первый полк гвардии, свидетельствует, что у него были в столице покровители, которые могли бы оказать ему, незначительную в сущности, материальную поддержку. Между тем продолжение службы в гвардии сулило блестящую карьеру.
Но в том-то и дело, что ни карьера, ни придворная атмосфера, ни все те блага, которые мог ему предложить екатерининский Петербург, Карамзина не привлекали. Зная его характер и всю последующую жизнь, можно с уверенностью сказать, что сколько бы денег ни было у Карамзина в кармане, он не дал бы взятки ни полковому секретарю, ни кому-либо другому, ибо путь взяток не был его путем. Характер Карамзина еще не сложился, твердые убеждения ему еще предстояло выработать. Но ту нравственную брезгливость, которая заставляла его инстинктивно сторониться моральной грязи, он вынес из дома. Жизнь в соответствии с нормами чести была для него не поступками и действиями, совершаемыми сознательно, а условием существования, естественным, как дыхание.
Воспользовавшись первым же предлогом (в 1783 году скончался отец Карамзина), он вышел в отставку и уехал в Симбирск[26].
«Малый» свет привлекал его больше, чем «большой». Он уехал в провинцию.
Дмитриев, встретившийся после этого с Карамзиным в Симбирске, увидал новое его лицо; перед ним был светский лев и салонный оратор: «Я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в обществе: опытного за вистовым столом; любезного в дамском кругу и оратором перед отцами семейств, которые, хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали»[27]. Эта способность меняться, гибкость, позволяющая быть в мире с миром, оставаясь при этом собой, также была характерной чертой личности Карамзина. И именно она позволила Карамзину быстро и без какого-либо внутреннего излома сменить жизненную колею.
В Симбирске он встретился с масоном и суровым моралистом Иваном Петровичем Тургеневым, отцом четырех братьев [28] Тургеневых, известных по истории русского освободительного движения и пушкинской биографии. Тургенев увез Карамзина в Москву.
В Москве Карамзин оказался в кругу, так выразительно охарактеризованном Пушкиным. Здесь господствовали серьезность, строгие правила морали, работа над собой и искание истины. В центре кружка стоял Николай Иванович Новиков.
Новиков соединял в себе практика и мечтателя. Любое дело горело в его руках. Он умел и любил заниматься практическим организаторством, создавал типографии и журналы, научные общества и аптеки. Практическая хватка его была исключительной. Он мог, начав с копейки, взятой в долг, в короткий срок организовать дело, оборот которого исчислялся сотнями тысяч. Однако вся эта кипучая практическая деятельность имела для него смысл лишь потому, что с ее помощью он надеялся превратить Россию в прекрасное царство просвещения и братства. Просвещая помещиков и крестьян, распространяя нравственность, приучая всех и каждого видеть в другом человеке брата, а в своей душе — поприще для непрерывных подвигов самовоспитания, Новиков надеялся мирно, без крови и ненависти, решить общественные вопросы, грозно выступавшие на горизонте России и Европы конца XVIII столетия.
Новиков по характеру и складу личности был, прежде всего, общественным деятелем. Люди, воспитанные Петровской эпохой, считали, что служение обществу и государственная служба — одно и то же. Новиков не предполагал, что польза общества требует борьбы с государством. Он исходил лишь из того, что следует научиться в жизненно важных вопросах обходиться без помощи дворянской государственности. Его лозунг — общественная самодеятельность, идущая не за и не против, а мимо государственной машины. Но именно этого ему не могла простить Екатерина II. Вся государственная пирамида с нею во главе оказывалась даже не врагом. Она — и это делалось очевидным — была просто лишняя, нужная лишь самой себе. С ее помощью нельзя было сделать для общества ничего. Деятельность Новикова была эффективна и утопична — противостоящая ей государственность реальна, но бесплодна и фантасмагорична.
Новиков был прирожденный организатор. Замыслы один шире другого непрерывно кипели в его голове. И он умел их претворять в жизнь — он был именно организатор, а не прожектер. Его практическая хватка опиралась на фундамент бескорыстного и пламенного энтузиазма. От умел увлекать людей жарким красноречием. Но не красноречие привлекало к нему его последователей, а необычность пути, который он открывал перед ними. Он практик, хозяин, даже делец. Его обвиняют в корыстолюбии, и он, действительно, умеет зарабатывать деньги не хуже гоголевского Костанжогло. Но только с одним условием: тут же отдать эти деньги в бесплатную аптеку, на производство книг, доходы от продажи которых пойдут на стипендии студентам училищ и переводческой семинарии, на обучение в заграничных университетах бедных, но способных молодых людей, на помощь голодным. Он богатеет, оставаясь сам почти нищим. И этот энтузиазм добра, добра деятельного и практического, составляет основу его обаяния. Так, например, сын разбогатевшего и ставшего миллионером уральского ямщика Г. М. Походяшин, увлеченный речью Новикова, передал ему огромные суммы на помощь голодающим, а затем на типографские расходы и другие общественные начинания (всего, видимо, около миллиона рублей). После ареста Новикова и конфискации его книг и типографского имущества Походяшин разорился и умер в нищете. Но до последних минут он считал встречу с Новиковым самым большим счастьем в жизни и скончался, умиленно глядя на его портрет.
Организаторские способности Новикова сказались и в другом: он умел находить и привлекать к себе талантливых людей. Пожалуй, во всей русской истории XVIII века только Петр I мог соперничать с ним в умении с одного взгляда определить, в чем состоит талант человека и к какому делу его лучше всего привлечь. Именно эта способность помогла Новикову разглядеть в приехавшем из Симбирска молодом человеке писателя-журналиста.
Однако Новиков был не только практиком. Он не был бы человеком XVIII века, если бы его не манили таинства Натуры и загадки судеб человечества. Все это в конечном итоге привело Новикова в ряды масонов. Здесь сказались утопическое стремление мирно достичь на земле царство всеобщей гармонии и братство путем просвещения и самовоспитания, а также вера в мощь объединенных неофициальных усилий.
Новикову удалось сплотить в Москве тесную группу единомышленников. Их соединяла общая вера в необходимость просвещения народа, личного усовершенствования, практической филантропии. Все они отрицали насилие — и правительственное и революционное — и стремились заменить политическую борьбу моральным воспитанием. Искренняя религиозность сочеталась в их кругу с мистическим интересом к «таинствам Натуры». К французской материалистической философии, вольтерьянству и вообще к французскому влиянию на русскую культуру они относились враждебно. Гуманность и альтруизм, любовь к ближнему и патриотическое воспитание призваны были, по их мнению, разрешить противоречия русской жизни [29]. На деньги организованной на счет «братских» пожертвований Типографической компании был куплен в Кривоколенном переулке дом, где находилась типография и проживали многие «братья». Здесь помещались С. И. Гамалея, А. М. Кутузов, А. А. Петров и нашедший приют у московских масонов полубезумный немецкий поэт, друг Шиллера и Гёте, Якоб Ленц. Здесь же, в мансарде третьего этажа, разделенной перегородками на три светелки, вместе с А. А. Петровым поселился Карамзин.
Карамзин оказался в кругу совершенно новых для него людей. Масонским наставником его был С. И. Гамалея, о котором красочно пишет В. Ключевский: «…для изображения Сем. Ив. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика». И далее: «Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 р. на табак, которую считал похищением у бедных» [30].
Но особенно большую роль в жизни Карамзина сыграл Алексей Михайлович Кутузов. Радищев назвал его «сочувственником», подчеркивая общность чувств при различии мнений, и посвятил ему две свои главные книги. Сам Кутузов так писал о своей дружбе с Радищевым Екатерине Ильиничне Голенищевой-Кутузовой, жене своего дальнего родственника, будущего фельдмаршала Михаила Илларионовича: «Радищев <…> был со мною вместе пажом, в Лейпциге и в сенате с которым был я 14 лет в одной комнате» [31]. Между Радищевым и Кутузовым возникла искренняя и глубокая дружба. Затем судьба их развела: Радищев женился, а Кутузов поступил в армию под начало М. И. Голенищева-Кутузова, который тогда командовал пикинерским полком. Когда-то, студентами Лейпцигского университета, друзья вместе переводили Гельвеция и штудировали французских материалистов. Теперь воззрения их начали расходиться: Кутузов все больше склонялся к агностицизму, его влекли моральные вопросы, Радищева — социальные. Друзья переписывались. Их обширная философская переписка не найдена. Кутузов писал: «Не взирая, что во время нашей разлуки образ наших мыслей сделался весьма различен, однако ж мы спорили, но тем более друг друга любили, ибо оба видели ясно, что разность находилась в наших головах, а не в сердце» [32].
Характеры друзей были различны. Радищев — статный красавец, соединявший независимую гордость античного республиканца с живостью философа XVIII века, любивший женщин и любимый ими [33]. Когда Радищев был схвачен, он был вдов. Свояченица его бесстрашно бросилась в дом к следователю-палачу Шешковскому, при одном имени которого бледнели и нетрусливые мужчины (Потемкин называл его кнутобойцем). Говорили, что, отдав Шешковскому все свои драгоценности, она спасла Радищева от пытки. А затем она приехала к нему в Сибирь, презрев сплетни и церковное осуждение, запрещавшее браки при такой степени родства, стала его второй женой и нашла себе могилу в сибирской земле [34].
Достаточно сравнить гордый, порывистый и нетерпеливый, размашистый почерк Радищева с мелким, филигранным, скорей похожим на какой-то таинственный узор и заставляющим часто прибегать к увеличительному стеклу почерком Кутузова, чтобы почувствовать разницу характеров. Кутузов, которого Карамзин называл «любезный меланхолик», был застенчив и склонен к печальным размышлениям. Через всю жизнь он пронес одну неразделенную любовь — к Екатерине Ильиничне Кутузовой, жене своего полкового командира. Екатерина Ильинична писала ему чувствительно-кокетливые письма, упрекала за молчание («Молчание ваше не есть целительное средство для чувствительных нерв моих, которые и так довольно уже расстроены» [35]), советовала, «чтоб вы были благополучны», жениться, но тут же, переходя на французский язык, добавляла: «Je sens que je parle contre moi» [36]. «С некоторого времени, я не знаю отчего, je me reproche de vous savoir si isole commes vous etes, vous qui meritez tant a avoir une compagne a vivre heureux [37] [38]. Кутузов так и остался до смерти холостяком. Свое печальное одиночество он скрашивал сентиментальной дружбой с семьями Плещеевых и Голенищевых-Кутузовых, в каждой из которых у него было по «невесте» 6–8 лет, писавшей ему сентиментальные французские письма.
Кутузов был одним из образованнейших людей своего времени: знаток философии и литературы, он был поклонником английского предромантизма, переводчиком Юнга, пропагандистом Шекспира, Мильтона в ту эпоху, когда ни знание английского языка, ни влияние английской литературы еще не было распространено в России.
Кутузов оказал сильное воздействие на молодых литераторов Петрова и Карамзина, для которых он, несмотря на разницу возраста, скоро сделался не только «братом» и масонским наставником, но и близким другом. Именно благодаря ему, в доме Типографической компании установилась предромантическая атмосфера и определилось направление литературных вкусов.
С Александром Петровым Карамзин познакомился, вероятно, еще во времена пребывания в пансионе Шадена. Есть основания полагать, что они вместе бегали в университет слушать лекции Шварца по философии и педагогике, о которых тогда говорила вся Москва. Петров был старше Карамзина, и его литературные вкусы сложились раньше. У него был бесспорный талант критика, чему способствовал острый, насмешливый ум и развитое чувство иронии, которой явно не хватало «чувствительному» Карамзину. От Петрова осталось лишь несколько переводов и 9 писем к Карамзину. Архив его был сразу же после его ранней смерти сожжен его братом — осторожным чиновником. Шел 1793 год, и хранить дома лишние бумаги не рекомендовалось.
Бывают яркие таланты, обещающие много, но мало или почти ничего не успевающие создать. Тепло и свет их таланта передаются потомству не прямо, а через творчество тех, кто зажег от них свой огонь. Таков был Андрей Тургенев, таковы были Станкевич и отчасти Веневитинов. Таков был и Александр Андреевич Петров.
Предромантическую атмосферу «масонского дома» поддерживал и доживавший там полугений-полуюродивый, друг Гёте, ученик и поклонник, а потом враг и противник Канта, литературный бунтарь и демократ Якоб Ленц. Разговоры с ним донесли до Карамзина ту живую, непосредственную атмосферу, тот «воздух» бурлившей тогда немецкой литературы, который не передается через страницы книг, а постигается лишь в непосредственном общении.
Организационный талант Новикова проявлялся, как мы уже сказали, в том, что он умел найти каждому именно то место, на котором тот мог лучше всего развернуть свои способности. Карамзина он привлек к участию в составлении и редактировании первого русского журнала для детей «Детское чтение». Соредактором Карамзина был Петров.
Но у Новикова был еще один талант — тактичность. Его бурная активность не тяготила его друзей, поскольку не теснила ничьей воли. В хаосе крепостнического деспотизма, стяжательства, погони за чинами, той узаконенной безнравственности, о которой писал Фонвизин:
…всякий, чтоб набить потуже свой карман, За благо рассудил приняться за обман [39],мир Новикова — Кутузова представлял нравственный оазис. Бескорыстие было здесь естественной нормой, самопожертвование — бытовым явлением. То, что Кутузов отдал все свое имущество Новикову на общее дело (после ареста Новикова он умер в Берлине в долговой тюрьме — не в переносном, а в прямом смысле от голода!), или то, что он, когда Радищев, посвятив ему «Путешествие из Петербурга в Москву», отрезал тем самым ему пути возвращения на родину (его было велено арестовать на границе), не только не упрекнул своего друга, а имел смелость посылать ему письма в Сибирь и в других письмах, зная, что их читают в «черном кабинете», писать: «Я разлучен от моего друга, может быть, навсегда; но его дружба пребывает со мною» [40], — никого не удивляло.
Когда позже Карамзин, сам находясь в весьма стесненных материальных обстоятельствах, отдал почти все свое состояние попавшему в долги Плещееву (Карамзину пришлось продать братьям свою часть имения), хлопотал по этому делу и после никогда об этих деньгах не вспоминал, когда, находясь уже в разладе с Новиковым и масонами, он единственный имел смелость печатно возвысить голос в защиту гонимого Новикова, и всякий раз, когда он обнаруживал благородство, вошедшее в самое сущность его натуры, мы невольно вспоминаем атмосферу новиковского окружения в Москве 1780-х годов.
Литературных занятий Карамзина никто не стеснял. Карамзин переводил для «Детского чтения», писал стихи, перевел и опубликовал «Юлия Цезаря» Шекспира и «Эмилию Галотти» Лессинга. Но более всего он учился.
Позже М. Погодин, понимая, какие знания нужны историку, недоумевал, как светский писатель, историк-дилетант, никогда не получивший никакого специального образования, сделался высоко профессиональным историком: «Что другой узнавал двадцатилетним опытом, при пособиях бесконечной начитанности, с советами целых факультетов, в ученой атмосфере, то Карамзин схватывал на лету, усматривал сразу, счастливо угадывал. Между тем он (курсив Погодина) беспрестанно учился» [41]. И дальше: «На удивительные, необыкновенные способности Карамзина, в этом отношении, не было обращено у нас достаточного внимания» [42].
Четыре года в новиковском кругу были заполнены для Карамзина упорной работой по самообразованию, и, когда он отправился в заграничное путешествие, в почтовую карету сел не робкий ученик, школяр, отправляющийся «людей посмотреть, себя показать», а молодой литератор, которому «удивительные, необыкновенные способности» помогли «в просвещении стать с веком наравне».
Но четыре года — долгий срок. Этот срок на четыре года приблизил Великую французскую революцию — в истории часто приходится вести отсчет от событий назад для того, чтобы восстановить правильную перспективу.
В России крестьяне бунтовали, императрица старела, Радищев писал «Путешествие из Петербурга в Москву»…
Над домом в Кривоколенном переулке собирались тучи.
В то время, как в кругу московских мартинистов радели о просвещении и искали глубокие истины, в мире европейского масонства кипели интриги. Разнообразные возникавшие «системы», как правило, оставались на бумаге или в воспаленных головах их фантастов-сочинителей. Однако масонские ложи, которые часто представляли собой нечто вроде филантропических клубов или своеобразного развлечения пресыщенных вельмож и ищущих смысла жизни интеллектуалов, вбирали в себя и авантюристов, и просто обманщиков, и честолюбцев, стремившихся таким образом сблизиться с влиятельными «братьями», и, наконец, фанатиков-мечтателей. Русские ложи в середине XVIII века придерживались «английской системы» и находились под руководством поэта и вельможи И. П. Елагина. Немецкие ложи, стремясь утвердить в России свое влияние, направили в Россию барона Рейхеля. В 1776 году «елагинская» и «рейхелевская» системы объединились. Наместным мастером был избран Н. И. Панин. В том же году приближенный и друг Павла Петровича кн. А. Б. Куракин привез из Стокгольма «шведскую систему», в которую был посвящен братом короля Карлом, герцогом зюдерманландским.
Новиков, который вступил в масонство еще в 1775 году, вместе с другими московскими «мартинистами», видимо, тяготился этими связями. В результате за границу был послан профессор Иван Егорович Шварц с целью добиться для русского масонства статуса самостоятельной провинции. В 1782 году конвент в Вильгельмсбадене провозгласил Россию самостоятельной масонской провинцией, освободив ее от шведского «ига». Однако положение московских искателей истины от этого только ухудшилось: они оказались в зависимости от берлинского масонства, во главе которого стояли честолюбивые проходимцы Вёльнер и Бишофсвердер. После скоропостижной смерти тридцатитрехлетнего Шварца связи с Берлином оказались в руках темного авантюриста барона Шредера.
Екатерина II давно уже не любила Новикова. Его стремление к общественной деятельности, независимой от правительственной бюрократии, его энергия и эффективность его мероприятий (в частности, широко поставленная и исключительно успешная помощь голодающим в неурожайные годы), резко оттенявшая бездеятельность и неспособность государственных чиновников, казались ей опасным подрывом правительственного авторитета. Тем более важно было попытаться дискредитировать его, обвинив в корыстолюбии, жажде личного обогащения или в преступных связях с иностранными государствами. Чем лживее были обвинения, тем более правдоподобный вид им следовало придать. С середины 1780-х годов начали все чаще проявляться симптомы надвигающегося разгрома.
Но главная причина тревог и сомнений, охвативших новиковский круг во второй половине 1780-х годов, заключалась в предчувствии грозных исторических катастроф. Давно уже сказано, что великие исторические события бросают тень впереди себя. Тень Французской революции легла на Европу.
События надвигались с угрожающей быстротой. Руссо писал в 1762 году: «Вы полагаетесь на существующий общественный порядок, не думая о том, что этот порядок подвержен неизбежным революциям и что вам невозможно ни предвидеть, ни предупредить ту, которая заденет ваших детей. Великий становится малым, богатый — бедным, монарх — подданным. <…> Мы приближаемся к кризису и к веку революций. Кто может ответить на вопрос, что станется с вами тогда?» [43] А в начале 1788 года Казот, по уверению Лагарпа, уже предсказал обществу парижских дам и философов гибель на эшафоте.
Напряжение, охватившее чуткие души, особенно острым было для тех, кто чаял мирного преобразования и хотел бы построить храм мудрости, избежав насильственного разрушения существующего. Именно в таком положении был круг Новикова — Кутузова. В. Ключевский исключительно точно и образно сказал, что для своего строительства соратники Новикова не могли «ничего найти на Западе… кроме раскаленной лавы да гнилых развалин» [44]. Раскаленная лава идей, подготовивших революцию, так же не могла их привлечь, как и гнилые развалины старого порядка. А между тем время требовало ответов — и не теоретических раздумий, а практических действий. Это заставляло хвататься за утопические проекты. Утопия всеобщего самовоспитания стала дополняться утопиями мистического общественного преобразования.
Трезво мыслящему гельвецианцу Радищеву таинственные поиски масонов казались «бредоумствованием». Современный читатель недоумевает, как мог образованный и умный человек, вроде Новикова, Кутузова или Тургенева, всерьез заниматься «герметическими науками»: алхимией, поисками гомункулуса (искусственного человека).
Однако не следует забывать, что в перспективе научных воззрений XVIII столетия не все выглядело так абсурдно, как оно стало представляться позитивному мышлению XIX века [45]. В научном отношении идея трансмутации элементов еще не была окончательно опровергнута. Однако важнее ее социально-экономический аспект: представление о том, что изобилие золота может стать ключом для решения проблемы бедности и богатства и тем самым устранить трагические противоречия общества, казалось в XVIII веке вполне убедительным. Когда Джон Ло изобрел ассигнации, современники ликовали, считая, что с бедностью навсегда покончено. Гёте во второй части «Фауста» сделал Мефистофеля изобретателем бумажных денег, прямо связав это «чудо» с алхимией. Карамзин в Париже стал свидетелем веры в магическую силу изобилия денег как экономической панацеи: «В тот самый день, когда Собрание определило выдать ассигнации, я был в театре. Играли старую оперу башмачника, которому во втором акте надлежало петь известный водевиль. Вместо того он запел новые стихи, в похвалу Короля и Народного Собрания, с припевом:
L'argent cache ressortira Par le moyen des assignats [46].Зрители были вне себя от удовольствия, и заставили актера десять раз повторять: l'argent cache ressortira. Им казалось, что перед ними уже лежат кучи золота!» (319).
Если мы вспомним, что исчезновение золота, опустошенность государственной казны, частные и государственные долги были наиболее бросающимися в глаза признаками общего кризиса феодальной Европы и проблема налогов и государственных финансов стала непосредственным предлогом начала Французской революции, то попытки решить социальные проблемы с помощью алхимии покажутся нам наивными, но не необъяснимыми. Что же касается опытов с гомункулусом, то они были связаны с многовековой мечтой о создании робота, искусственного интеллекта, усовершенствованного человека. Это мечта о чистом и прекрасном человеке, который заменит отягощенного «животностью» реального человека. Гёте во второй части «Фауста» отнесся к этой идее без тени насмешки как к научной мечте:
Нам говорят «безумец» и «фантаст», Но, выйдя из зависимости грустной, С годами мозг мыслителя искусный Мыслителя искусственно создаст[47].Такова была историко-психологическая основа поисков мудрости в «тайных науках». Кроме того, поскольку предполагалось, что человек («микрокосм») и вселенная («макрокосм») изоморфны, то таинства Натуры помогут понять тайну человеческой души, а психология поможет проникнуть в сокровенные тайны Природы. Результатом будет разумное и гармоническое преобразование земной жизни без какого-либо насилия.
Разнообразные линии силового напряжения сходились в доме в глубине сада на Кривоколенном переулке: надо было отбиваться от правительственных преследований, надо было выплачивать значительную сумму потребовавшему обратно свои деньги Шредеру (это был удар в спину, нанесенный в самую трудную минуту), надо было посылать в Берлин Кутузова для контактов с прусскими «братьями» — Шредеру уже нельзя было верить. А главное, возникали глубокие сомнения в правильности избранного пути и — на этой почве — личные конфликты, недоверие, ссоры. Атмосфера отравлялась.
В этих условиях Карамзин принял смелое решение: он порвал с масонством и со всем новиковским кругом. Разрыв был корректным, но твердым. Карамзин сохранил навсегда новиковский вкус к просветительству, распространению знаний, уважительное и серьезное отношение к популяризаторству, влечение к профессиональному труду писателя и журналиста, но решительно отказался от любых форм тайной организации и вручения своей воли какому-либо руководству. Кроме того, он разуверился в действенности моралистических проповедей. Искусство — от высших созданий гения до самых плохих романов — больше приносит добра и лучше воспитует гуманные чувства, чем самая искусная дидактика. Он отверг мистицизм и поиски таинственной истины ради истины явной и ясной, свет, который получают из рук «просвещенных начальников» в награду за слепую веру, — ради света, который ищут и который рождается из сомнений.
Свое право сомневаться он не хотел уступать никому.
Он перестал себя чувствовать учеником — он понял, что он писатель.
НАЧАЛО ПУТИ
Самый простой и безболезненный вид разрыва был отъезд. Тем более, что планы путешествия Карамзин строил давно, и эти планы были известны в масонской среде и даже, видимо, первоначально одобрялись. Первый биограф Карамзина, опиравшийся, в частности, на устную традицию, А. Старчевский, упоминал об участии Гамалеи в выработке плана путешествия, а Ф. Глинка даже ссылался на слова самого Карамзина, якобы доверительно сообщавшего ему, что он был направлен за границу на деньги масонов[48]. Последнее более чем сомнительно: даже следствие над московскими масонами, упорно искавшее улик причастности Карамзина к их заграничным связям, должно было признать, что он путешествовал «не от общества», а вольным «вояжером», — на собственные деньги. Однако разрыв, видимо, произошел вполне мирно. Карамзин даже говорил Гречу: «Сожалели, но не удерживали, и на прощание дали мне обед. Мы расстались дружелюбно» [49]. Это существенно отметить, потому что вскоре мы увидим открытую вражду московских мартинистов к Карамзину.
Итак, когда автор «Писем русского путешественника» садился в почтовую коляску, это не был тот любознательный, чувствительный юноша, делающий первые шаги в жизни, каким был его литературный двойник. Перед нами — рано созревший, много передумавший и избравший уже жизненный путь молодой писатель. И отправляется он в мир, трагическое положение которого не скрыто от его умственного взора так же, как и богатство его вековой культуры.
Путь лежит в Петербург…
Кстати, почему в Петербург? Карамзин объяснит это своим читателям желанием отправиться морем. Однако довольно подозрительно, чтобы человек, прибывший в столицу с единственной целью сесть на корабль, не разузнал заранее в Москве, какие для сего потребуются формальности и, потратив время и деньги на совершенно излишнюю поездку, с такой легкостью отказался бы от этого плана и отправился в карете, что вполне можно было предпринять и прямо в Москве.
Что делал в Петербурге литературный путешественник?
Он был печален.
«В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д**, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он нещастлив!» (6). «Открыть сердце» другу сделалось в дальнейшем штампом сентиментального поведения. Пушкин из Одессы писал брату: «Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет — напр. он пишет в П.<етер> Б.<ург> письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и port-feuille — любовь и пр. — фраза, достойная В. Козлова» (XIII, 67). Василий Иванович Козлов — поэт плохой, и Пушкин над ним смеялся. Карамзинский стиль победил, и образы его сделались общими местами.
А кто такой Д**? Это Александр Иванович Дмитриев, брат поэта И. И. Дмитриева. Он в эту пору был влюблен в М. А. Пиль, на которой позже женился. Чувство это считалось в дружеском кругу эталоном нежной страсти. «Нетерпеливо желаю знать историю его нежного сердца», — писал позже Карамзин Дмитриеву [50].
Трудно предположить, однако, что у реального Карамзина не было в Петербурге других дел и для того, чтобы А. И. Дмитриев открыл ему свое сердце, стоило делать крюк в несколько сотен верст, тем более что денег у Карамзина было в обрез.
Здесь мы можем только гадать. Однако очевидно, что пускаться в такой путь, да еще с намерением проникнуть в дома европейских знаменитостей, нельзя было, не запасшись рекомендательными письмами. Одно, по крайней мере, можно предположить: в Лондоне Карамзин был принят в доме русского посла Семена Романовича Воронцова сразу же как близкий и заслуживающий доверия человек. Никаких данных о предварительном знакомстве Карамзина с Воронцовым у нас нет, а положение и состояние начинающего писателя не давали ему никаких прав на столь высокое знакомство. Поэтому вполне вероятно, что в Петербурге Карамзин получил рекомендательное письмо от достаточно близкого лондонскому посланнику человека. Это мог быть брат его Александр Романович, вельможа, президент коммерц-коллегии, человек богатый, образованный и, как и его брат, критически настроенный по отношению к личности и политике правящей императрицы. Рекомендательное письмо было Карамзину тем более нужно, что Англия была «любимой мечтой» путешественника, и, видимо, в Лондоне он собирался пробыть достаточно долго. Плещеев писал Кутузову 7 июля/18 июля 1790 года: «Любезный наш Николай Михайлович должен уже месяц назад быть в своем любезном Лондоне». А 22 июля/2 августа: «Наш Николай Михайлович уже, надеюсь, возвращается от англичан к русским» [51]. То есть по расчетам друзей, бывших, бесспорно, в курсе планов путешествия, составленных в Москве, Карамзин рассчитывал пробыть в Англии месяц-полтора или даже два.
Однако разница в социальном положении, возрасте, несоприкасаемость миров, в которых вращались Воронцов и Карамзин, была столь велика, что для встречи с А. Р. Воронцовым тоже нужен был посредник.
Имя этого посредника легко предположить.
В Берлине путешественник встретился с неким Д***. Они быстро сдружились. Мотивы были следующие: «Он любит свое отечество и я люблю его; он любит А*** (т. е. А. М. Кутузова… — Ю. Л.), и я люблю его» (34). В Петербурге был человек, про которого можно было сказать то же самое: это был А. Н. Радищев. Если справедлива поговорка «друзья наших друзей — наши друзья», то Карамзину надо было больше мотивов, чтобы не встретиться с Радищевым, чем чтобы с ним увидаться: оба они были ближайшими друзьями Кутузова, для обоих Кутузов был самым близким человеком. Кроме того, они принадлежали к одному кругу: Радищев был членом Общества друзей словесных наук в Петербурге, а общество это в значительной мере состояло из воспитанной Новиковым молодежи; оба они были масонами, хотя оба уже полностью охладели к этим увлечениям. Наконец, Карамзин собирался ехать за границу морем, и на бирже он искал английских моряков, которые взяли бы его на борт. И в этом отношении приезжему москвичу было естественно обратиться за помощью и советом к видному и опытному чиновнику петербургской таможни [52].
Не нужно думать, что Карамзин в мае 1789 года видел в Радищеве того, кто возникает в нашем сознании сразу же при упоминании этого имени: «Путешествие из Петербурга в Москву» было написано, но еще не напечатано, и Радищев не имел никаких резонов посвящать в эту тайну мало знакомого ему молодого человека из Москвы. Карамзин, если их встреча и состоялась, видел перед собой человека, старше себя возрастом и чином, о каких-то сочинениях которого он слыхал, но вряд ли их читал, уважаемого за образованность и твердость характера, известного своей неподкупностью и республиканским нравом, друга своего друга. Предполагать более тесное сближение у нас нет оснований. Однако нельзя не заметить, что имя Радищева нет-нет да и выплывет в дорожных впечатлениях Карамзина. В Лейпциге он будет в беседе с профессором Платнером вспоминать о студенческих годах Радищева и Кутузова, в Париже он сойдется с приятелем и корреспондентом Радищева П. П. Дубровским, известным собирателем рукописей, замышлявшим в 1789 году основать в Париже русскую типографию и… печатать в ней «Декларацию прав» на русском языке! [53]
Однако наиболее убедительный довод в пользу предположения о том, что в Петербурге Карамзин как-то соприкоснулся с кругом Воронцова — Радищева, ждет нас не в Лейпциге и не в Париже, а значительно ближе.
Литературный путешественник пережил следующее происшествие: «На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: Г. З**, едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним, и нашел в нем любезного человека».
Попытаемся реконструировать, что же произошло с реальным путешественником.
Прежде всего, кто такой этот З**? Личность его расшифровать легко: это Василий Николаевич Зиновьев, товарищ Радищева и Кутузова по Лейпцигскому университету. Запись туманна: неточно, что встреча З*** и путешественника произошла как бы случайно на почтовой станции. Обращает внимание и нарочито небрежное «на одной станции за Дерптом». Зиновьев возвращался из-за границы вместе с известным Родионом Александровичем Кошелевым и его женой Варварой Ивановной. Кошелев — вельможа, барин, масон, долгие годы проживавший в Париже. Е. Ф. Комаровский, в будущем генерал-адъютант, любимец Александра и Константина, воплощенная заурядность, а в ту пору — молодой офицер-измайловец, ездивший курьером в Париж, перечислял в своих записках русский аристократический Париж 1780-х годов: «Княгиня Н. П. Голицына с мужем и со всем семейством, — я у нее несколько раз обедал, — Р. А. Кошелев с женою, В. Н. Зиновьев, А. П. Ермолов, бывший фаворит, и граф Бобринский (сын Екатерины II и Г. Орлова. — Ю. Л.)» [54]. Между Ригой и Нарвой Варвара Ивановна заболела, Кошелев уехал в Петербург, а Зиновьев остался с больной. 31 мая Карамзин был уже в Риге, следовательно, встреча его с Зиновьевым произошла до этого числа. Но, согласно ведомости петербургского обер-полицмейстера Рылеева, «из Риги отставного гвардии ротмистра Кошелева жена Варвара Ивановна» прибыла в Петербург «сентября 8 дня 1789» [55]. По данным дневника Зиновьева, около месяца пришлось задержаться в Нарве. Следовательно, «за Дерптом» Зиновьев провел с больной женщиной около двух месяцев. Если учесть, что Зиновьев был родственником Воронцовых (С. Р. Воронцов доводился ему свояком) и был, несмотря на разницу возраста, в тесной дружбе с братьями, то естественно предположить, что встреча была предусмотрена еще в Петербурге.
А им было о чем поговорить на темы, о которых лучше было не уведомлять посторонних.
Литературный двойник беседовал с З** о плохих дорогах, Карамзин и Зиновьев имели более важные темы для разговоров. Дело было не только в том, что Карамзин отправлялся в Европу, а Зиновьев ее всю изъездил, и даже не в том, что оба они приходились друзьями А. М. Кутузову, на свидание к которому Карамзин спешил. Они были людьми одного круга и сходных интересов. Как и Карамзин, Зиновьев пережил сближение с масонством и сейчас был охвачен сомнениями. Кроме того, хорошо осведомленный в политической жизни Европы, Зиновьев, как свидетельствует его путевой дневник, был полон серьезных раздумий о будущем России.
В тот год, когда Карамзин родился, Зиновьев одиннадцатилетним мальчиком был послан в Лейпцигский университет учиться. Он был самым юным среди товарищей: Радищева, Кутузова, Ушакова и других. В Лейпциге молодые люди читали и обсуждали Гельвеция, Руссо, Мабли. Ко времени отъезда Радищева и Кутузова из Лейпцига Зиновьеву исполнилось шестнадцать, и, вероятно, в первую очередь именно к нему относятся слова Радищева в «Житии Федора Васильевича Ушакова»: «Дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна» [56]. Однако вряд ли в этом возрасте его увлечение энциклопедистами и материалистической философией могло быть глубоким. Тем более что жизнь, казалось бы, готовила ему поприще отнюдь не философское: двоюродный брат фаворита Г. Орлова, он мог рассчитывать на быструю придворную карьеру и пустую и беспечальную жизнь «случайного человека», как называли в XVIII веке фаворитов и их родню.
Жизнь готовила ему иное.
Сестра Зиновьева Екатерина, фрейлина Екатерины II, беззаботная хохотушка, которой Екатерина II в шутливой записке сулила «смерть от смеха» [57], сделалась жертвой придворных нравов. По словам кн. Щербатова в трактате «О повреждении нравов в России», Г. Орлов «тринадцатилетнюю двоюродную сестру свою Екатерину Николаевну З<иновьеву> [58], иссильничал, и, хотя после на ней женился, но не прикрыл тем порок свой, ибо уже всенародно оказал свое деяние, и в самой женитьбе нарушал все священные и гражданские законы» [59]. Слова о нарушении «священных законов» имеют серьезный смысл: православная церковь не признает браков между двоюродными родственниками. Орлов венчался летом 1776 года. Брак этот вызвал скандал. Синод принес императрице официальную жалобу, и дело разбиралось в Совете. Однако подоплека дела была не морально-религиозная, а придворно-политическая: «случай» Орлова кончился, на царскосельском небосклоне взошла звезда Потемкина. Одновременно произошел резкий конфликт Орлова с Екатериной. Об этом рассказывает анонимный его биограф: «Когда ее величество Зиновьеву, бывшую при дворе фрейлиной, за ее непозволительное и обнаруженное с графом обращение при отъезде двора в Сарское Село с собою взять не позволила, то граф был сим до крайности огорчен и весьма в том досадовал. Так, что однажды при восставшей с императрицею распре отважился он выговорить в жару непростительно грубые слова, когда она настояла, чтобы Зиновьева с нею не ехала: «Чорт тебя бери совсем»» [60].
Члены Совета, мстя павшему временщику, требовали развода супругов и церковного покаяния для обоих. Екатерина разрешила им выехать за границу, где Екатерина Орлова умерла. Ее похоронили в Лозанне.
Смерть сестры так подействовала на Зиновьева, что он круто переменил стиль жизни, удалился от света и погрузился в поиски тайны жизни и смерти. Он уехал за границу и вскоре вступил в масонскую ложу.
Зиновьев был хорошо принят при прусском дворе, и его орденские связи вначале были прусскими. В масоны его принимал сам герцог Брауншвейгский, бывший в то время великим мастером всего европейского Востока. Однако вскоре дух политического интриганства и темное шарлатанство, господствовавшие здесь, его оттолкнули: он переехал в Лион, где сблизился с тем, кто сам себя именовал «неизвестным философом» и по имени кого Новикова и его друзей прозвали «мартинистами» — с Луи-Клодом де Сен-Мартеном. В «Письмах русского путешественника» сказано, что З** едет из Италии, но обойдено молчанием, что это путешествие он совершил в обществе никого иного, как именно Сен-Мартена. Более того: он стал за это время ближайшим другом и доверенным собеседником Неизвестного Философа. Это не могло не заинтересовать Карамзина. Ведь это был тот самый Сен-Мартен, книга которого «О заблуждении и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания», изданная «иждивением Типографической компании» в типографии И. В. Лопухина в 1785 году, была настольным сочинением всего кружка московских мартинистов, а в 1786 году, в самом начале преследований, была изъята по требованию церковных властей. И, конечно, Карамзин и Петров были ее внимательными читателями.
Попытаемся реконструировать гипотетическое содержание разговора Карамзина с Зиновьевым. Прежде всего, речь, вероятно, зашла о Сен-Мартене. А Неизвестный Философ переживал в этот период крутую и весьма любопытную для Карамзина ломку взглядов. Если в книге «О заблуждении и истине» (французский текст опубликован в 1775 году) он категорически осуждал любой бунт против властей и считал, что воля Провидения говорит с народами устами властей, то в «Письмах к другу» (1795), в шуточной «поэме» «Крокодил, или Война Добра и Зла в царствование Людовика XV» (1792) он утверждал, что Революция — это меч Провидения, обрушивающийся на нечестивые правительства, своекорыстно задерживающие движение народов к совершенству. В одном из итоговых своих произведений, опубликованном лишь в 1961 году, «Мой портрет», Сен-Мартен писал: «Все наши преимущества, все наши доходы должны быть плодами наших трудов и талантов; и наша Революция, разрушив богатства, приближает нас к естественному и истинному состоянию, заставляя стольких людей пускать в ход их способности и умения» [61].
Во время путешествия с Зиновьевым по Италии Сен-Мартен находился в процессе перестройки своих воззрений. Особенно же могло заинтересовать Карамзина то, что именно в этот момент Неизвестный Философ, авторитет которого среди его сторонников был так же велик, как авторитет Вольтера в противоположном лагере, почувствовал необходимость резко сменить свое окружение: он порвал с лионскими масонами, тяготился масонскими связями вообще и явно обратил свои взоры к России, в бурном движении которой он усматривал очевидный перст Провидения. Исследователи Сен-Мартена не обратили внимание на явное стремление его в этот период окружить себя русскими. В дневниковой книге «Мой портрет» Сен-Мартен писал: «Кашелов <конечно, Кошелев. — Ю. Л.>, князь Репнин, Зиновьев, графиня Разумоски <Разумовская. — Ю. Л.>, другая княгиня, о которой мне говорил Д. в одном из своих писем <вел. кн. Мария Федоровна, жена Павла Петровича, в будущем императора. — Ю. Л.>, двое Голицыных, господин Машков, господин Скавронский, посол в Неаполе, господин Воронцов, посол в Лондоне — таковы главные русские, которых я знал лично, исключая князя Репнина, с которым я был знаком лишь по переписке» [62]. Машков — первый секретарь русского посольства в Париже, с которым Карамзин сблизится во время пребывания в столице Франции, о близости Карамзина к С. Р. Воронцову речь пойдет в дальнейшем [63].
Зиновьев был настроен критически по отношению к берлинским связям московских масонов и, видимо, советовал Карамзину не заезжать в столицу Пруссии, а ехать через Вену. Вероятно, так следует понимать слова в тексте «Писем» о том, что он «стращал» путешественника плохими «песчаными Прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу на Вену».
Однако разговор естественно должен был коснуться и другого вопроса: Карамзин выехал из Москвы поклонником Англии и собирался провести там много времени. Зиновьев был знатоком английской жизни и хорошо изучил разные ее стороны. И сейчас он, после поездки по Италии, заехал в Англию, где способствовал сближению своего друга и родственника С. Р. Воронцова с Сен-Мартеном.
Что мог рассказать Зиновьев Карамзину, можно реконструировать на основании дневника, в котором он изложил итоги своих мыслей о различиях в путях России и Европы. Дневник Зиновьева (в форме писем Воронцову) сохранился в копии в архиве «Русской старины», однако опубликован он с купюрами. Поэтому обратимся к архивному тексту:
«Гантгет 16/27 июля 1786-го г.
Обещал тебе сказать о желании моем видеть мануфактуры в нашем отечестве и несколько дней назад, быв в Шефильде, я очень сожалел, что туда наше железо привозят, оное там обрабатывают, обратно к нам присылают и с нас вдесятеро, а может и более, за самое то же железо берут; но теперь я, по некоторым рассуждениям, которые мне представились, совсем иного об оном мнения, и именно, что в нашем отечестве, в его теперешнем положении совсем иной главный предмет быть должен, нежели мануфактуры или торговля. Забудем сие и следуй, пожалуй, порядку моих мыслей. Итак, я скажу тебе, что бы ты со мной предпринял, что мы в колонию приехали на пустынный остров; я спрошу тебя: о чем будет состоять наше первое попечение на нашем пустынном острове с нашею колониею? Без всякого сомнения, мы примем меры завести хлебопашество и будем стараться приискать лучшие средства для умножения оного [64]. Вот, любезный мой, положение нашего отечества, и оно в рассуждении сего совершенно на предположенный мной остров походит». Из этого Зиновьев делал вывод о том, что «первый по сему предмет нашего правительства я поставляю, чтобы оно устремляло всю свою власть поощрять и размножать хлебопашество». А для этого «все меры правительство должно взять, чтобы <…> сделать учреждение, которое бы препятствовало помещикам употреблять во зло их власть и быть губителями и тиранами их подданных». Далее Зиновьев настаивал на облегчении рекрутской повинности и улучшении условий содержания солдат, что позволит, сократив армию, улучшить положение крестьян.
Из политических вопросов Зиновьева более всего волновала необходимость твердых, непременных и ясных законов, т. е. конституционного порядка. Отсутствие их порождает, подчеркивает он, в России состояние беззакония: «Тебе известно, что у нас тьма законов, между которыми немалое число противоречащих, что, напр.<имер>, гражданина судят часто по морским или военным уставам, что законы ни судье, ни преступнику, ни большей части публики, ни самим стряпчим секретарям очень часто неизвестны и что они чрез беспорядок как бы находятся в закрытии и, по моему мнению, некоторым образом, на инквизицию походят» [65].
Зиновьев — ненавистник деспотизма; стоит ему увидеть, что «во дворце Harwood одна из зал украшена бюстами Карракалы, Коммода, Гомера и Фаустина», как он разражается тирадой: «Есть ли тут какой-нибудь смысл, видеть в Англии двух чудовищ рода человеческого и делать ими украшение великолепной комнаты! Досадно! До крайности досадно! Что я с бюстами сих тиранов и оным подобными сделал бы — писать здесь длинно (сказывается опыт: запись сделана в Англии, в городе Лидсе, обращена к другу и единомышленнику С. Р. Воронцову, хранится в интимных бумагах — а все же осторожность не мешает! — Ю. Л.); но не лучше ли было бы вместо двух сих possedes [66] поставить бюст л<орда> Чатама и достойного его сына В. Питта, а вместо Гомера и Фаустина — Мильтона и королевы Елизаветы?» [67]
Но приверженность к конституционности английского типа и сознание, что Россия находится в начальной стадии своего развития, не наносит ущерба патриотическим чувствам Зиновьева, писавшего в итоге рассуждений о необходимости ограничить крепостное право: «Я нахожу весьма сходным состояние нашего государства с пустым островом; но обесчестив, так сказать, свое отечество сим сравнением, быв гражданином оного и далеким о<т> сожалений об оном, — напротив, по своей воле ни за что не соглашусь оное на другое переменить» [68].
Можно предположить, что размышления Зиновьева встретили сочувствие Карамзина: по крайней мере, даже краткие заметки о Лифляндии свидетельствуют о внимании к участи крестьян.
Среда, с которой Карамзин, видимо, соприкоснулся перед началом путешествия, внимательно следила за положением крестьян в Прибалтике, поскольку видела здесь модель рабства в чистом виде: разноплеменность прибалтийского «рыцарства» и крестьян — эстонцев и латышей, с одной стороны, и эффективность использования рабского труда, с другой, являли собой как бы модель крепостничества как такового. А. Р. Воронцов еще в 1784 году, когда он в составе сенатской комиссии был командирован в Лифляндию для расследований обстоятельств крестьянского бунта, повлекшего кровавые жертвы, непосредственно наблюдал крестьян в Прибалтике. Архивы Воронцовых в Ленинграде и генерал-губернатора Рижского и Ревельского Броуна в Тарту хранят переписку, исполненную сведений об этом [69]. Возможно, под влиянием прибалтийских впечатлений Воронцова вопрос этот заинтересовал и Радищева. В «Памятнике дактилохореическому витязю» Радищев писал, что Простаковы переселились в Прибалтику. «Итак, известные лютым своим обхождением с крепостными своими в одном углу Российского пространного государства, жили как добрые люди в другом углу и, сравнивая обряды новые, которым они учились у своих соседей, с обрядами тех мест, где они жили, они, находили (по мнению своему), что они оглашены в жестокостях несправедливо» [70].
Карамзин так охарактеризовал положение крестьян в Прибалтике: «Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на леность, и называют их сонливыми людьми, которые по воле без принуждения [71] ничего не сделают: и так надобно, чтобы их принуждали, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии, или в Эстляндии, приносит господину вчетверо более нашего Казанского или Симбирского» (9 и 395–396). В русском тексте Карамзин называет прибалтийских крестьян «бедные люди, работающие господеви со страхом и трепетом во все будничные дни» (9). Эта фраза — переделка стиха из второго псалма: «Работайте господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом» — в авторизованном немецком переводе была, явно самим Карамзиным, высказана неприкрыто: «работающие <…> из нужды и по принуждению».
Конечно, можно было бы спросить: каким образом Карамзин успел получить эти сведения, если, как это следует из «Писем», между Нарвой и Ригой у него не было остановок? Когда у него успело сложиться то отрицательное отношение к Ливонии, о котором сообщал Кутузову Багрянский: «Бедную Лифляндию он (Карамзин. — Ю. Л.) третирует до последней степени. Ее надо проехать, говорит он, зажмурив глаза» (оригинал по-франц.) [72]?
Ответом на эти вопросы будет резонное предположение, что в Дерпте Карамзин задержался. Для этого были основания. В Москве, как мы уже отмечали, Карамзин длительное время жил в одном доме с Якобом Ленцем. Исследователь жизни Ленца М. Н. Розанов, анализируя текст «Писем», пришел к убедительному выводу, «что Карамзин слышал из уст Ленца много рассказов об его жизни. Ему известны и лифляндские его родственные связи, и дружба с Виландом и Гёте, и то, что Ленц подружился с Гёте в Страсбурге, и то, что он жил при веймарском дворе; известны и интимные дела его сердца» [73]. Надо иметь в виду, что разговоры с Ленцем производили на Карамзина глубокое впечатление. Если мы застаем его широко и не по-книжному, а как-то лично, «по-домашнему» осведомленным в немецкой литературной жизни, свободно ориентирующимся в оттенках мнений и программ, то тут, кроме гениальной легкости усвоения, составлявшей черту таланта Карамзина, чувствуются и многие беседы с живым участником литературного процесса. Именно пламенный и полусумасшедший Ленц был способен перенести под крышу дома Типографической компании дыхание штюрмерства и атмосферу уже откипевших для веймарских советников горячих споров их юности.
В какой мере произведения Ленца — не те, без упоминания которых не обходится ни одна солидная история немецкой литературы, а мелкие и мельчайшие, мало известные современникам и забытые историками, — были на памяти Карамзина, свидетельствуют две детали. Первая: в письме из Риги, помеченном «31 маия 1789», он упоминает «Поэму шестнадцатилетнего Л**» (9). Эта написанная в 1769 году поэма «Народные бедствия» была в 1780-е годы уже забыта даже на родине поэта. Вторая: в 1792 году скончался А. А. Петров, и Карамзин посвятил его памяти прочувствованную элегию в прозе «Цветок на гроб моего Агатона». Однако исследователи не заметили, что заглавие произведения — перекличка с затерянным на страницах провинциального немецкого журнала «Для читателей и читательниц», выходившего в Митаве, надгробным словом, которое Ленц посвятил своему другу барону Фитингофу, «Нечто о Филотасе. Фиалка на его гроб» (скрытая смысловая игра: имя Филотаса отсылает к одноименной драме Лессинга, а Агатона — к роману Виланда «История Агатона»).
Когда Карамзин покидал Москву, Ленц направил в Дерпт брату письмо с просьбой: «Если проедет господин Карамзин, то окажи мне дружбу, дорогой мой, и постарайся сделать ему, насколько возможно, пребывание совершенно приятным. Он особенно любит немецкий язык; говорит и пишет на нем, как природный немец» [74]. Вряд ли будет слишком смело предположить, что и Карамзин получил рекомендательное письмо для вручения брату Ленца. Для встречи была специальная причина: больной и одинокий Ленц в Москве страшно бедствовал. Через несколько лет он умер буквально под забором — труп был утром найден на улице. Между тем брат его Фридрих-Давид был человеком хорошо обеспеченным, и напомнить ему о горестной участи несчастного «бурного гения» было бы естественным для московских друзей Ленца. Проехать же через Дерпт и даже не попытаться встретиться с Фридрихом-Давидом было бы со стороны Карамзина более чем странно.
В «Письмах» по этому поводу встречаем лишь лаконичную фразу: «Здесь-то живет брат нещастного Л***. Он главный Пастор, всеми любим, и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата?» (9). Последнюю фразу можно истолковать, зная карамзинскую манеру всячески избегать прямых осуждений кого бы то ни было, как утверждение, что брат забыл Ленца. При таком истолковании можно предположить, что Карамзин виделся в Дерпте с Фридрихом-Давидом, но не добился успеха в своей миссии [75].
Ленд был другом Гёте, Шиллера, Виланда и Лафатера, одним из «бурных гениев», потрясших немецкую литературу в конце XVIII века. Но он же был уроженцем Лифляндии, юные годы его прошли в Тарту, а последние дни — в Москве. Своей судьбой он как бы связывал тот мир, который Карамзин покинул, и тот, в который он стремился.
Наконец и Лифляндия осталась за спиной — русский путешественник вступил на земли Германии. Мы вправе сказать «на земли Германии». Мы прекрасно помним, что Германии как единого политического тела в конце XVIII века не существовало — политической реальностью были многочисленные королевства, княжества и герцогства. Однако немецкая литература и немецкая философия уже сделались фактом европейской культуры именно как нечто единое. И именно это царство — царство Мысли в первую очередь интересовало Карамзина. К встрече он был хорошо подготовлен.
В Петербурге Карамзин, надо полагать, запасся рекомендательными письмами и адресами, которые могли пригодиться за границей юному путешественнику. Но гораздо более важный пропуск он подготовил себе еще в Москве. Пропуск этот был — широкое знание текущей европейской литературы, та глубокая внутренняя культура, которая делала его понимающим собеседником мыслителей разных направлений и открывала перед ним двери ученых кабинетов, мастерские художников и рабочие комнаты писателей. Чехов занес в записную книжку пословицу: «Умный любит учиться, дурак учить». Любить учиться не только признак ума — это признак культуры. Именно потому, что Карамзин еще до поездки был уже на уровне современной ему европейской культуры, он готов был учиться. Он ехал свободным от догм и предубеждений, открытым для новых мыслей и впечатлений.
Отправляясь в путешествие, Карамзин сравнивал себя с Дон Кихотом и называл «рыцарем веселого образа». Действительно, в отличие от ламанчского рыцаря, он был молод, здоров и весел. Но и у него была своя Дульцинея. Она называлась вера в человека, его доброе сердце и высокий Разум. Он ехал на свидание со своей Дульцинеей.
В ГЕРМАНИИ У КАНТА
В том, что свое интеллектуальное путешествие Карамзин начал именно с Канта, был глубокий смысл. Конечно, здесь играли роль и географические обстоятельства. Но и для художественной композиции книги, и для идеологической «композиции» реального путешествия такое начало было знаменательно. В конце концов, можно было отправиться, как советовал Зиновьев, в Вену. Да и вообще, какой бы он ни избрал путь, Кенигсберг, скорее всего, лежал у него в стороне, а не на дороге. Но для того, чтобы рассуждать о том, что было «по пути», надо представить себе этот «путь», т. е. восстановить маршрут, сложившийся в голове путешественника в начале его «вояжа». Как мы увидим, обстоятельства, которых Карамзин не мог предполагать в Москве, внесли в его планы существенные коррективы. Об этом речь, пойдет в дальнейшем. Но ведь и маршрут — дело производное. Определяется он задачей, которую ставит перед собой путешественник. Какую же цель имел Карамзин, какую задачу он перед собой ставил? И вот у читателя, задумывающегося над этим, возникает впечатление, что цели-то определенной и не было, что вместо осознанной задачи было любопытство, т. е. чувство поверхностное и довольно праздное. Попробуем разобраться…
Отступление о праздном любопытстве
«…Да скажите пожалуйте, как вы к нам заехали?»
— Из любопытства, сударыня.
«Надобно, чтобы вы были очень любопытны». (За две мили от Дрездена 10 июля, 1789.)
«…Желание видеть вас привело меня в Веймар, — сказал я. «Это не стоило труда!» — отвечал он с холодным видом и с такою ужимкою, которой я совсем не ожидал от Виланда» (Июля 21. 1789).
Надо думать, что выслушивать подобные вопросы и встречать такой прием Карамзину доводилось довольно часто. Д. Д. Благой заключает: «Карамзин без всяких церемоний являлся к тому или другому прославленному европейскому культурному деятелю и, настойчиво преодолевая подчас имевшееся противодействие, как это было в случае с Виландом, добивался знакомства и бесед с ним» [76].
Создается образ настойчивого, но не очень вдумчивого и неразборчивого в средствах собирателя впечатлений. Приходят на память сегодняшние коллекционеры автографов. Нечто неприятно-туристическое начинает мелькать для современного читателя в образе карамзинского путешественника. И когда тот же Д. Д. Благой пишет про Карамзина (он не отличает его от литературного героя «Писем»): «Своим путешествием он продолжал давнюю традицию, начатую еще нашими путешественниками петровского времени» [77], мы вправе не согласиться с ученым автором. Путешественник Петровской эпохи, посланный за границу «железной волею Петра» и часто мечтавший лишь о том, чтобы возвратиться в родную семью, от которой он был насильно оторван, был служилым человеком на государевой и государственной службе. Он искал не впечатлений, а пользы, знания его интересовали практические, а праздное любопытство он почитал убытком казенному интересу. Петровский путешественник получал инструкцию вроде той, которую царь своей рукой написал 24 января 1715 года Конону Зотову: «Все, что ко флоту надлежит, на море и в портах, сыскать книги, также, чего нет в книгах, но чинится от обычая, то помнить и все перевести на славянский язык нашим штилем, а за штилем их не гнаться» [78].
Но и сменивший петровского путешественника молодой «российский парижанец» второй половины XVIII века мало походил на карамзинского путешественника: он спешил в Париж, чтобы за зеленым сукном Пале-Рояля и в объятиях «нимф радости» растратить оброк калужских или ярославских крестьян. У него была ясная цель — Париж, и всякую задержку в пути он почел бы досадной потерей времени.
Карамзинского путешественника можно было бы назвать отдаленным предшественником современных туристов. Но и это сопоставление режет глаз неточностью. Чтобы разобраться, видимо, прежде всего, надо понять цель, которую имел в виду Карамзин, отправляясь в реальное путешествие.
Некоторые московские друзья Карамзина планов отправиться в путешествие не одобряли. Кутузов был убежден, что сосредоточенное самонаблюдение, требующее пребывания на месте, — лучшая форма воспитания души и разума. С этой точки зрения, «вояж» Карамзина был делом «щегольским» и легкомысленным. Плещеевы, со своей стороны, боялись, что чувствительный молодой человек, «сын и друг», как его называла Настасья Ивановна, развратится и что «проклятые чужие краи» сделают из него «совсем другого» [79].
Легкомысленным выглядело путешествие Карамзина, если мерить его мерками учено-образовательных поездок, которые предпринимали стремящиеся к наукам молодые люди. В этом случае молодой человек поступал в какой-либо прославленный университет или записывался слушать курсы лекций у каких-либо известных ученых. Так, например, в это самое время два пенсионера новиковского кружка: Невзоров и Колокольников — изучали медицину в Страсбургском университете. Когда юный Павел Строганов со своим воспитателем, математиком и философом, а в будущем знаменитым якобинцем, Жильбером Роммом, осенью 1786 года приехал в Женеву, он начал немедленно брать приватные уроки истории у престарелого Верне и записался на курсы химии и физики, к которым вскоре прибавилась астрономия. Карамзин, если верить «Письмам», провел в Женеве длительное время, но никаких сведений о его систематических ученых занятиях у нас нет.
И все же то, что мы знаем об итогах путешествия и о его роли в быстрой эволюции писателя в последующие годы, противоречит тому облику поверхностного наблюдателя, который возникал в сознании современников и которому, в определенной мере, способствовал текст «Писем». Но тут же следует отметить одну важную особенность этого произведения Карамзина: писатель не фотографирует действительность, а творчески ее переосмысляет, группирует фигуры, подмалевывает декорации и — вдруг — как бы невзначай отводит уголок этой декорации, позволяя внимательному оку взглянуть за нее и увидеть не стилизованные, а подлинные события. Так, прощаясь с Гердером, он сказал: «Дух ваш <…> известен мне по вашим творениям; но мне хотелось иметь ваш образ в душе моей, и для того я пришел к вам — теперь видел вас, и доволен» (75).
Здесь приоткрывается интересная и необычная особенность «легкомысленного» вояжера: при каждой из встреч его со знаменитыми деятелями культуры выясняется, что путешественник уже предварительно прочел все важнейшие сочинения этого автора и теперь хочет дополнить знание его идей впечатлением от его личности. Не говоря уж о том, что такой замысел требовал колоссальной предварительной подготовки (достаточно хотя бы составить перечень книг, знакомство с которыми обнаруживает путешественник, беседуя с их авторами, чтобы понять: четыре года в доме Типографической компании были потрачены не только на составление статей о кофе и табаке для «Детского чтения»), он обнаруживает последовательный и весьма оригинально осуществленный принцип: оценивать теории и системы в связи с оценкой личности их авторов.
На этом принципе следует задержаться.
Потребность «посмотреть в глаза» писателя, «который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям» (75), имеет глубокий смысл. Блок однажды написал: «Конечно, и Достоевский, и Андреев, и Сологуб — по-одному — русские сатирики, разоблачители общественных пороков и язв; но по-другому-то, и по самому главному, — храни нас господь от их разрушительного смеха, от их иронии; все они очень несходны между собою, во многом — прямо враждебны. Но представьте себе, что они сошлись в одной комнате, без посторонних свидетелей; посмотрят друг на друга, засмеются и станут заодно… А мы-то слушаем, мы-то верим» [80].
Недоверие и вера не случайно имеют общий корень: там, где нет веры, не может возникнуть и недоверие, боязнь того, что вера окажется обманутой, доверие — поруганным. Вера — безоговорочное вручение себя в чью-то власть, и с ней органически связано желание понять: в чью власть я себя вручаю?
Петровские реформы резко изменили строй русской культуры. Но чем резче бросаются в глаза внешние перемены, тем порой глубже неизменность скрытого ядра. В русской средневековой культуре высшим авторитетом было боговдохновенное слово. Оно выражалось в текстах, святость которых ставила их истинность вне сомнения и обеспечивала церковной культуре иерархически высшее место в духовной жизни общества. Реформы Петра секуляризовали культуру. Церковь потеряла монополию духовного авторитета. Однако именно в вихре всеобщих перемен обнаружилась устойчивая черта русской культуры: изменилось все, но авторитет Слова не был поколеблен. По-прежнему на вершине духовной жизни стояло Слово. Это привело к совершенно неизвестному в Европе авторитету словесного искусства — литературы.
В Европе литература числилась в ряду свободных искусств и, подобно им, составляла род ремесла. Начиная с Ренессанса, искусный поэт, как и искусный художник, предлагал свои услуги «потентату», менял меценатов в зависимости от выгод, которые ему сулило пребывание при том или ином дворе. На хранящейся в Эрмитаже картине Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» капризный тиран развалился на троне, вельможа Меценат с брезгливой гримасой показывает ему на угодливо расположившихся у подножья его престола живопись, музыку и др. в образах придворных дам, склонившихся в глубоких реверансах. А над всей группой возвышается Гомер — грязный и ободранный слепой старик с мальчиком-поводырем. Оба они также выражают позами готовность развлекать цезаря своим искусством.
Конечно, было и искусство бунтарское, приводящее на эшафот. Искусство, как и наука, имело своих мучеников. Но противопоставление поэзии как высокого занятия другим видам художественной деятельности Европе неизвестно. Между тем именно это было характерно для послепетровской культуры России. Если занятия живописью, музыкой, архитектурой или ваянием в России XVIII — начала XIX века осознаются как профессии и ремесла и в этом качестве передаются или наемным иностранцам, или выученным ими крепостным интеллигентам, то поэзия — не ремесло, а призвание, не профессия, а дар свыше. Она становится на освободившееся место божественного Слова. Высший общественный авторитет передается Слову человеческому.
С этим связано то преувеличенное значение, которое придается в русской культуре XVIII — начала XIX века поэтическому Слову. Утверждение, что поэт — пророк истины, а поэзия — язык богов, бывшее в западной культурной традиции чаще всего стершейся метафорой, которой придавали не больше реального значения, чем «амурам», «стрелам любви» или «богиням красоты», в России воспринималось буквально.
Но представление о том, что поэзия — не профессия, не источник существования, не игра или забава, а миссия, ко многому обязывало. За высокий авторитет надо было дорого платить. В средние века вместилищем, «сосудом божественного Слова», мог быть не всякий — только строгая, святая жизнь, вплоть до мученичества, давала право на боговдохновенное Слово. В новой, полностью мирской, человеческой культуре XVIII — начала XIX века это представление о том, что право на Слово покупается столь высокой ценой, сохранилось.
В западной культурной традиции XVIII века текст мыслился как отделенный от автора. Враги упрекали Вольтера во многих человеческих слабостях, смешных, а иногда и жалких поступках, но это не вредило ни его славе, ни его высокой общественной роли единоборца с предрассудками. Жизнь Вольтера воспринималась как легкая интермедия, которая дается в промежутках между сценами высокой трагедии его гения. Недоброжелатели могли бросить Руссо упрек в том, что он, автор глубоких и темпераментно изложенных педагогических идей, отдавал своих детей в воспитательные дома и никогда не интересовался их дальнейшей судьбой. Но читатель «Эмиля» никогда не отбрасывал книги со словами: «Не верьте этому человеку: он проповедует одно, а делает другое!»
Между тем по отношению к русскому писателю вопрос «како живеши?» был неотделим от «како веруеши?».
Рылеев в итоговой думе «Державин», посвященной роли поэта, писал:
О так! нет выше ничего Предназначения Поэта: Святая правда — долг его; Предмет — полезным быть для света. Служитель избранный Творца, Не должен быть ничем он связан; Святой, высокий сан Певца Он делом оправдать обязан. Ему неведом низкий страх; На смерть с презрением взирает, И доблесть в молодых сердцах Стихом правдивым зажигает [81].То, что поэт должен «делом оправдать» свою миссию, что он «на смерть с презрением взирает», — цена, которую он платит за право «глаголом жечь сердца людей». «Зри, что может слово», — писал Радищев, но тотчас же добавлял: «Но се слово мужа тверда». И это справедливо не только для писателей-революционеров: и Гоголь, и Лев Толстой не сомневаются, что только соответствие Слова и Жизни делает их достойными их миссии и читательского доверия. Пушкин выходит на дуэль потому, что убежден: «Имя мое принадлежит России».
Поэтому, только посмотрев в лицо того, кому доверено Слово, узнав Человека, можно поверить Поэту.
Карамзин отправился в путешествие, чтобы заглянуть в лицо европейской культуры. Его интересовали не знаменитости. Он не был туристом, спешащим увидеть неизвестное. Ему надо было увидеть хорошо известное, поверить впечатления от книг личным знакомством так же, как он поверял хорошо изученные по книгам и описаниям пейзажи и исторические памятники непосредственными впечатлениями. Отправляясь в путь, он уже знал Европу. Надо было выяснить, можно ли ей верить.
Но у Карамзина была и более непосредственная цель. Когда он стучался в дверь столь неприветливо принявшего его вначале Виланда, он не просто был уже внимательным читателем его произведений. Своего лучшего друга он в честь героя романа Виланда именовал Агатоном. А сам этот Агатон-Петров в письмах к Карамзину, подразумевая «Историю абдеритов» Виланда, уподоблял весь мир виландовской Абдере — царству дураков. Когда Петров поступил секретарем к некоему сенатору, то Карамзину он писал: «Абдеритской мой сенатор был некогда крайне обижен, и с горя частенько попивает» (507). А сообщая о скупости и лицемерии одного из масонских «братьев», который «почитался за философа», он, по собственным словам, «восклицает»: «О проклятыя лягушки! зачем выгнали вы абдеритов из их гнезда и заставили рассеяться по всему свету!» (508). (В финале «Истории абдеритов» Виланда жители города дураков, абдериты, изгнанные из родного города войной мышей и лягушек, расселяются по свету.)
И вот в этой книге Карамзин прочел строки, глубоко его взволновавшие. Виланд описывает свидание двух философов: Демокрита и Гиппократа, встретившихся в стране дураков: «Их взаимное удовольствие от этой неожиданной встречи было достойно величия их обоих, и Демокрит выражал его тем более оживленно, что в своем уединении он уже давно был лишен возможности общения с человеком, близким ему по духу».
Существует род людей, «которые без всякого договора между собой, без орденских отличий, не будучи связанными ни ложей, ни клятвами, составляют своеобразное братство, объединенное прочней, чем какой-нибудь орден в мире». Если встречающиеся два члена братства мудрых, «один — с Востока, другой — с Запада, впервые видят друг друга», они «сразу становятся друзьями. И не благодаря какой-нибудь тайной симпатии[82], существующей, вероятно, лишь в романах, и не потому, что их связывают принесенные ими обеты». «Их сообщество не нуждается в том, чтобы отделить себя от непосвященных всякими таинственными церемониями и устрашающими обрядами». «Их дружба не требует времени, чтобы укрепиться, она не нуждается в испытаниях. Она основывается на самом необходимом из всех законов природы — на необходимости любить себя в том человеке, который духовно ближе всего к нам самим» [83].
Карамзин, видимо, затвердил это место наизусть. По крайней мере, в 1803 году он, конечно, не по книге, процитировал его в своей повести «Рыцарь нашего времени», сказав о своем герое: «…долго сердце его не отвыкнет от милой склонности наслаждаться собою в другом сердце» [84].
Особенно же должна была привлечь внимание Карамзина мысль о тайном союзе мудрецов: число их «во все времена было очень невелико», но «несмотря на незаметность их сообщества, они оказывают влияние на ход вещей во всем мире, и следствия этого влияния прочны и устойчивы, потому что совершаются без всякого шума и достигаются средствами, внешние проявления которых вводят в заблуждение профанов» [85].
Можно представить, с каким чувством читали это рассуждение Карамзин и Петров в мансарде московского «масонского» дома. Прежде всего, их должна была поразить острая насмешка над масонскими ложами и их тщетной таинственностью. А затем внимание их, конечно, привлекла мысль о том, что писатели всего мира составляют братство, дружно работающее на пользу человечества. И не моральные сочинения и таинственные обряды, а создания художественного вкуса и таланта, «внешние проявления которых вводят в заблуждение профанов», исподволь исправляют человечество.
Идея братства людей культуры, республики философов в XVIII веке носилась в воздухе. Об этом писали и Клопшток, и Лессинг. Однако для Карамзина было важно, что сходные идеи высказывал и А. Рамзей, имя которого Карамзин носил в дружеском кругу именно потому, что был увлечен утопической картиной такого союза. Позже Карамзин в письме, посвященном парижской Академии, писал, варьируя мысль Виланда: «Я всегда готов плакать от сердечного удовольствия, видя, как Науки соединяют людей, живущих на севере и юге; как они, без личного знакомства, любят, уважают друг друга. Что ни говорят Мизософы, а Науки святое дело!» (259) [86].
Понятно, с каким чувством вступал Карамзин на порог дома Виланда и как был поражен, когда автор «Истории абдеритов» не встретил его как Демокрит Гиппократа, а облил ушатом светской холодности.
Итак, в то время, когда литературный путешественник удовлетворял свое любопытство лицезреть знаменитых современников, Карамзин был занят мыслями значительно более важными и намерениями более серьезными. С этими мыслями и намерениями он вступил на крыльцо Канта.
Один из авторитетных исследователей литературы XVIII века так оценил этот визит: «Он <Карамзин> считает своим непременным долгом посетить, проезжая через Кенигсберг, того же Канта, которого он даже называет, с чужих слов, «всесокрушающий Кант», но кантовская философия ему трудна и непонятна» [87]. Однако исследователь, сделавший этот вопрос предметом специального рассмотрения, приходит к другим выводам. Ганс Роте убедительно показывает, что Карамзин был хорошо подготовлен для Кенигсбергского свидания. Роте напоминает, что Ленц, которого он однажды в своей работе даже именует «ментором» Карамзина, был в 1769–1770 годах учеником Канта. Он считает не подлежащим сомнению, что Ленц познакомил Карамзина с сочинением Канта «Грезы духовидца, объясненные грезами метафизика» (1766) [88]. Этот памфлет, направленный против Сведенборга, был не только манифестом чистого эмпиризма, но и произведением, которое, едко высмеивая самое возможность мистического опыта, было весьма актуально для молодого адепта розенкрейцеров. Роте отмечает, что письма Карамзина к Лафатеру позволяют утверждать, что еще до путешествия он читал «Иерусалим» Мендельсона (знакомство его с «Федоном, или Бессмертием души», печатавшимся в «Утреннем свете» в переводе А. М. Кутузова, бесспорно) и, следовательно, был в курсе философской полемики Канта и его автора. К этому можно было бы добавить, что вопрос, с которым обратился Карамзин к Лафатеру в письме 20 апреля 1787 года: «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они из совершенно различных стихий» (468) — именно тот, который ставил Кант в «Грезах духовидца», выводя из него отрицание всякого телесного общения с духами. «Связь между духом и телом непонятна; основания этой непознаваемости неопровержимы» [89]. Собранный Роте материал показывает, что интерес к Канту не ослабевал у Карамзина и в дальнейшем.
Попытка реконструкции разговора Карамзина с Кантом должна включать три вопроса:
— что Карамзин мог читать из сочинений Кенигсбергского философа к тому времени, когда переступил порог его дома?
— о чем Карамзин мог спрашивать Канта?
— с какой целью он наносил ему визит?
Для ответа на первый вопрос у нас есть следующие основания. В «Письмах» сказано: «Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал». Далее следует «Критика практического разума» и «Метафизика нравов». Последнее, — конечно, «Основы метафизики нравов», вышедшие в Риге в 1785 году: работа под заглавием «Метафизика нравов» была опубликована Кантом позже, лишь в 1797 году.
Указание на то, что Карамзин из произведений Канта в 1789 году еще не читал, можно рассматривать как косвенное свидетельство того, что другие основные работы философа из числа опубликованных к этому времени были ему известны. По крайней мере, «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1764), «Критику чистого разума» (1781) и «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» (1783) Кант не стал записывать на бумажке юному москвитянину. Вероятно, он убедился, что эти произведения ему в какой-то мере известны.
Считать, что Карамзин переступил порог Канта любопытным скифом, лишь понаслышке судящим о философии хозяина дома, видимо, нет оснований.
Однако к данным, свидетельствующим о знакомстве Карамзина с сочинениями Канта еще в Москве, следует сделать одну коррективу: общее отношение к философии Канта в московском окружении Карамзина было безусловно отрицательным. Конечно, Ленц был некогда учеником Канта, но в дальнейшем он сделался ярым его противником. В кругах же московских мистиков философия Канта встречала безусловное осуждение [90]. Можно полагать, что идея обратиться за решением философских проблем к «южному магу» Лафатеру была подсказана Карамзину его наставниками отчасти с целью отвратить молодого адепта от скептической философии. По крайней мере, «Утренний свет» еще в 1780 году, используя цитаты из Бэкона, выступал против «сцептицизма»: «Из всех сцептиков несноснее были те, кои не соглашались полагаться на верность чувств. Ибо кого мы в свидетели примем на место оных?» [91] Тем более нетерпимо было скептическое сомнение в таинствах потустороннего мира и в бессмертии души. Между тем накануне путешествия Карамзин был настроен в этих вопросах весьма скептически. Он ужаснул Плещееву, сказав ей: «Я вас вечно буду любить, ежели душа моя бессмертна». Настасья Ивановна в ужасе писала Кутузову: «Вообразите ж, каково, ежели он в том сомневается! Это «ежели» меня с ума сводит!» [92]
В полемике с Кантом Мендельсон и Лафатер пользовались безусловными симпатиями московских «братьев». И хотя ни тот, ни другой не были масонами, их философия играла важную роль в масонских теориях, которым скептицизм Канта наносил сильнейшие удары.
Лафатер и сам однажды побывал в России и через своих швейцарских корреспондентов (пастора Бруннера, многочисленных учителей-швейцарцев) поддерживал связи с культурными кругами Москвы. Вспомним, с каким пиететом И. П. Тургенев писал Лафатеру: «Мне чрезвычайно лестно быть поводом ваших выгодных суждений о всей русской нации, нации которая достойна во многих отношениях привлечь внимание столь чтимого мужа, как вы. Русские и вправду начинают чувствовать то высокое призвание, для которого создан человек. Они близятся к великой цели — быть людьми» [93]. Если к этому прибавить, что Лафатер был в тесной связи с вюртембергским двором, с родителями Марии Федоровны, что во время путешествия «графа Северного» вел. кн. Павел Петрович нанес ему визит и был потрясен физиогномическими откровениями швейцарского философа, то станет понятно направление его авторитета в России [94]. Таким образом, посещение Канта как первый пункт европейского путешествия не было нейтральным жестом — данью туристическим страстям. Кант и Лафатер как бы замыкали две границы философского пространства эпохи. И одновременно, представляя две тенденции — критическую философию и мистический энтузиазм, допускающий творение чудес и общение с душами, — Кенигсбергский философ и цюрихский физиогномист принадлежали все же одной эпохе — великой эпохе немецкой культуры между Лессингом и Гегелем. Карамзин остро чувствовал не только противоположность, но и единство их как современников — людей эпохи брожения умов и философских поисков.
И тут проявилась характерная черта позиции Карамзина — результат необычной даже для блестящих умов зрелости в раннем возрасте. Карамзин хотел выслушать обоих и не подчинить себя ни одной из точек зрения. Он не торопился встать в ряды каких бы то ни было приверженцев. Он выше всего ценил независимость мысли.
В «Письма» он ввел эпизод, литературное происхождение которого не вызывает сомнений: в Мейсене, в почтовой карете, путешественник сделался участником философского спора. Собеседник его, «прагский студент», — сторонник Канта и оппонент Мендельсона и Лафатера. Сам путешественник отвечает ему цитатой из письма Лафатера, «случайно» оказавшегося у него с собою. Можно только изумляться, с какой точностью Карамзин, якобы понаслышке знавший Канта, смог выразить мысли обоих философов, построив своеобразный спор-диалог. А в том месте, где надо было какой-либо стороне отдать пальму первенства, он по-стерниански оборвал эпизод: «Прагской <студент>, который сидел подле меня, тотчас вступил со мною в разговор — о чем, думаете вы? Непосредственно о Мендельзоновом Федоне, о душе и теле. «Федон, сказал он, есть может быть самое остроумнейшее философическое сочинение; однакожь все доказательства бессмертия нашего основывает Автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно будем искать его в творениях древних и новых Философов!» — Надобно искать его в сердце, сказал я. — «О! государь мой! возразил Студент: сердечное уверение не есть еще философическое уверение; оно не надежно; теперь чувствуете его, а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, а доказательства на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечныя, необходимыя истины. Сего-то уверения ищет Метафизик в уединенных сенях, во мраке ночи, при слабом свете лампады, забывая сон и отдохновение. — Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа сама в себе, то нам все бы открылось; но» — — Тут вынул я из записной книжки своей одно письмо доброго Лафатера, и прочитал Студенту следующее:
«Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах[95]. Чувство бытия, личность, душа — все сие существует единственно по тому, что вне нас существует, — по феноменам или явлениям, которые до нас касаются». — «Прекрасно! сказал Студент, — прекрасно! Но естьли думает он, что» — Тут коляска остановилась; Шафнер отворил дверцы и сказал: «Госпожи и господа! извольте обедать» (57).
Нельзя не отметить безукоризненность русских эквивалентов для основных понятий Канта: «понятия чистого разума», вещь «сама в себе». Что касается отрывка из письма Лафатера, то Карамзин, переживавший бурное увлечение Шекспиром, почувствовал здесь, вероятно, цитату:
Ведь даже красоту свою познать Мы можем, лишь увидев отраженной В глазах других. И даже самый глаз Не может, несмотря на совершенство Строенья, видеть самого себя… …Ведь и познанье не в самом себе, А в том, что познает, черпает силу [96].На стороне Канта — «чистый разум», на стороне Лафатера — поэзия и авторитет Шекспира. Конфликт не решается, а снимается выходкой в духе Стерна.
Теперь нам сделалось яснее, зачем явился Карамзин к Канту. Естественно предположить, что одной из первых тем их разговора был Лафатер. Это тем более вероятно, что если московский путешественник носил в кармане (или, что вероятнее, в своей памяти) письма Лафатера, то Кант в это время обдумывал трактат «Антропология с прагматической точки зрения», где, в связи с физиогномикой, Лафатеру уделялось немало внимания. Текст «Писем» позволяет полагать, что Карамзин прямо спросил Канта о его отношении к философии Лафатера. Ответ в «Письмах» выглядит так: «Он знает Лафатера, и переписывался с ним. «Лафатер весьма любезен по доброте своего сердца, говорит он: но имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит Магнетизму и пр.» (21). В «Антропологии» Кант выразился резко и определенно, назвав физиогномику Лафатера «бывшим долгое время очень популярным» «дешевым товаром». «От нее ничего не осталось». Нет оснований думать, что Кант не выразил своих взглядов с такой же определенностью в устной беседе. Это существенно для того, чтобы понимать, что, когда литературный путешественник сентиментально бросался в объятия Лафатеру, его автор уже нес в себе заряд критики. Так объясняются и иронические интонации, которые нет-нет да и проглянут в характеристике цюрихского «мага».
Но тут же выступает еще одна сторона дела: убеждение скептика Карамзина в относительности теорий дополняется верой в безусловность человеческой доброты. Это качество подчеркнуто и в Канте, и в Лафатере.
Разговор о Лафатере должен был связаться с верой в сверхъестественное: эта проблема интересовала и Карамзина, и Канта. Карамзину важно было получить поддержку в своих сомнениях, которые он, видимо, собирался изложить в Берлине Кутузову. Кант же был раздражен цензурой и препонами для критической мысли, насаждавшимися тем самым Вёльнером, которого философ знал как прусского министра, а Карамзин — как друга и покровителя московских розенкрейцеров. Кант, который еще в 1766 году в письме Мендельсону называл мистику «мнимой наукой с ее столь отвратительной плодовитостью» [97], в «Антропологии» специально оговаривал, что чтение книг не может быть причиной безумия, оно не в силах «расстроить душу», «если только она уже до этого не была извращена и потому пристрастилась к мистическим книгам и к откровениям, которые выходят за пределы здравого человеческого рассудка. Сюда же относится и склонность заниматься чтением книг, содержащих благочестивые назидания» [98].
У этого вопроса был еще один поворот, который не мог не волновать Карамзина: атмосфера, в которой Карамзин жил в Москве, была пронизана духом авторитета и подчинения авторитету. Власть нравственных требований и интеллектуального руководства наставника для ученика была безусловной. Поэзия подчинения своей воли — воле, разлитой в таинственной иерархии ордена, была выражена безымянным масоном, который после приостановки деятельности масонов горько жаловался в одном рукописном сборнике: «Скорбит сердце мое, видя, сколь тягостно без сей священной цепи, без сей подчиненности» [99]. Весь же пафос философии Канта был в праве человека на духовную и интеллектуальную самостоятельность. В 1784 году, отвечая на вопрос одного журнала: «Что такое просвещение?», он писал: «Имей мужество пользоваться собственным умом! — таков <…> девиз Просвещения». «Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою <…> то мне нечего и утруждать себя» [100].
Мыслить собственным умом — это было именно то, ради чего Карамзин порвал с друзьями и наставниками и отправился в путешествие. И утверждение, что ни наставник, ни книга не заменят собственного опыта и размышления, также соответствовало его умонастроениям.
Наконец, судя по «Письмам», разговор перешел в область этики и коснулся того, что более всего интересовало Карамзина, — деятельности. Можно только удивляться умению Канта затронуть именно то, что наиболее волновало его русского собеседника, а Карамзина — ясно и кратко резюмировать мысли своего собеседника.
Карамзин вышел из дома Канта, видимо, полагая, что философская траектория его путешествия завершится в домике Лафатера в Цюрихе. История распорядилась иначе: диалог с критической философией был продолжен в зале заседаний Национальной ассамблеи в Париже.
ДОРОГА…
Путешествие по Германии, по крайней мере до Лейпцига и Веймара, видимо, протекало по плану, разработанному еще в Москве. Вернее, по планам, поскольку, вероятно, их было несколько, не полностью между собой совпадавших. Можно предположить, что встреча с Кутузовым была предметом разговоров как в кругу новиковских друзей и наставников Карамзина, так и в семье Плещеевых. Планы посещения Канта и Виланда должны были обсуждаться с Петровым, Веймар же не мог не стать предметом бесед с Ленцем. Насколько можно судить, на этом отрезке пути описание путешествия близко к реальному.
В Берлине путешественник посетил Николаи, Рамлера, Морица, т. е. деятелей умеренного бюргерского Просвещения. Сочинения их ему были хорошо известны, и он занял по отношению к ним довольно независимую позицию. Уже то, что он полностью обошел масонские круги Берлина (а в этом, располагая данными перлюстрации масонской переписки, не приходится сомневаться), было демонстративным шагом. Тем более значимы контакты с кругом, который в это время вел войну на два фронта: с одной стороны, против иезуитов, а с другой — против их противников масонов. Однако в кругу этих «просветителей» ему бросилась в глаза узость, нетерпимость к чужим мнениям и догматизм. На этом фоне еще резче оттенялась терпимость и широта взглядов Канта.
Из Берлина путешественник отправился в Саксонию: посещение ученых заведений — университета и книжных лавок — Лейпцига и художественных сокровищ Дрездена, конечно, входило в обдуманный в Москве план.
Следующим этапом, также продуманным, был Веймар. Карамзин заранее обдумал список лиц, которых он хотел повидать. Это Виланд, Гердер и Гёте. В Веймаре Карамзин не случайно сразу же вспомнил о Ленце: предромантическая культура Германии была ему хорошо знакома. Он тонко оценил зависимость «Вертера» от Руссо, знал драмы Шиллера. Однако показательно, что Гёте стоит у него на третьем месте и что никакой настойчивости в попытке встретиться с автором «Вертера» он не проявил. Он ограничился тем, что мельком увидел Гёте с улицы в окне. За время пребывания в Германии путешественник не сделал также никаких попыток встретиться с Шиллером. Зато к Виланду он почти вломился и, несмотря на более чем холодный прием, добился повторного свидания и откровенного разговора. Проявил он настойчивость и домогаясь встречи с Гердером. Это не было результатом неосведомленности или провинциальности вкусов: насколько тонко понимал Карамзин логику творческого развития Гёте, свидетельствует, что уже в 1789 году он чутко отметил едва обозначившийся поворот Гёте от штюрмерства к винкельмановскому классицизму. В авторе «Вертера» он разглядел «дух древних греков», а о мелькнувшем в окне профиле сказал: «Важное греческое лицо!»
И все же философская проблематика Гердера и скептицизм Виланда ему были ближе.
Веймар был поворотным пунктом маршрута. Здесь следовало окончательно решить, ехать ли в Вену, откуда открывались пути в Италию, Швейцарию и южную Францию, или во Франкфурт-на-Майне, куда звал Карамзина Кутузов и откуда открывались две дороги: в Швейцарию или в Париж. Решение было принято бесповоротно. Достаточно сопоставить месяцы, проведенные Карамзиным в Женеве или Париже, и всего два дня в Веймаре, чтобы понять, какое нетерпение им владело. Он был охвачен горячкой путешествия, его влекла дорога — это стало потом наследственной болезнью русских писателей: Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Толстого…
РАМЗЕЙ И ВЕЛОКС
Когда Шварц привез из Вильгельмсбадена розенкрейцерство, избранные члены московского кружка, допущенные в розенкрейцерскую степень, получили тайные масонские имена: Новиков стал Коловион, Лопухин — Филус, Тургенев — Вегетус. По иронии судьбы медлительный и меланхолический Кутузов получил имя Велокc — по латыни «быстрый».
Кутузову в жизни не везло. Человек большой и широкой эрудиции (даже тупой московский главнокомандующий Прозоровский был поражен его ученостью), он не оставил значительных сочинений; верный друг, человек единственной, трогательной и неразделенной любви, он всю жизнь грелся у чужих огней. Его господствующим настроением была грусть, а самопожертвование — естественным движением души. В истории русской культуры он занимает видное место в биографиях Радищева и Новикова, Карамзина и фельдмаршала Кутузова, но собственной биографии как бы не имеет.
Он прожил одинокую жизнь и умер бездомным и безвестным узником в долговой тюрьме, куда попал за чужие долги, отдав все, что имел, другому.
В июне 1789 года, когда Карамзин подъезжал к Берлину, Кутузов находился за границей. Уже несколько лет как он был послан московскими «братьями» в Берлин затем, чтобы выяснить, наконец, в чем состоят «тайные знания», которыми их манил Вёльнер, и в чем состоят гораздо более реальные тайные финансовые махинации Шрёдера. Трудно было найти менее подходящую кандидатуру. Можно предположить, что жребий пал на Кутузова не только из-за его прекрасного знания немецкого языка (он свободно владел несколькими новыми и древними языками), но и потому, что никто не хотел браться за это хлопотное и неприятное поручение: Новиков был связан издательскими делами, Лопухин служил, все были обременены семьями и житейскими заботами. Кутузов не был далек от истины, когда позже с горечью писал, что его принесли в жертву. К этому можно лишь добавить, что и сам он себя с готовностью всегда предлагал на роль жертвы. И, как часто с ним бывало, Кутузов оставлял свое подлинное дело — перо писателя и философа — ради деятельности, в которой никак не мог надеяться на успех. Когда-то он, не имея ни склонностей, ни природных данных для военной службы, поступил в пикинерский полк М. И. Кутузова, чтобы быть ближе к той, в которую был безнадежно влюблен. Теперь он считал долгом дружбы отправиться в Берлин. Между тем доверчивый, энтузиастический, жаждущий дружеских привязанностей и совершенно неспособный разбираться в хитросплетениях интриг и коварства Кутузов не был способен распутать ни политические сети Вёльнера, ни финансовые аферы Шрёдера. Он ехал, чтобы погибнуть.
Даже по тексту «Писем», несмотря на то, что, и как подозреваемый по делу Радищева, и как член новиковского кружка, Кутузов был вдвойне подозрителен для властей, и всякое упоминание о нем в печати было рискованным, видно, что свидание с ним составляло одну из важных целей «вояжа» Карамзина.
Подъезжая к Берлину, он видит его во сне: «Я так ясно представил себе любезного А*, идущего ко мне на встречу с трубкою и кричащего: кого вижу? брат Рамзей в Берлине?» (32), боится с ним разъехаться, цитирует его письма к себе. То, что перед нами не литературный вымысел, выясняется из сопоставления с документами. Плещеева писала Кутузову в марте 1791 года о Карамзине: «Сердце его так хорошо, что не может притворяться. Он ехал с горестию оттого, что расстается с нами. Лучшие разговоры при отъезде были те, как он вас увидит; одним словом, все составляло его удовольствие, — мы, а потом — вы. Совестно [101] вам скажу, он более здесь ничего не оставлял; прочие его друзья так называемые, как скоро он им сказал, что он едет, то явным образом его возненавидели» [102]. Свидетельство очень важное. Из него вытекает, что Карамзину важно было встретиться с Кутузовым, но что встреча эта не была каким-либо конфиденциальным поручением от «братьев». С ними Карамзин уже порвал и доверие их утратил. Зато Петров был в курсе его планов и спрашивал в сентябре 1789 года: «Я весьма любопытен знать, виделся ли ты с А. М. <Кутузовым>?» (509).
Встретился ли Карамзин с Кутузовым во время своего путешествия? Текст «Писем» на этот вопрос отвечает категорически: нет! Карамзин подробно сообщает читателю, что в Берлине он с огорчением узнал, что Кутузов накануне покинул столицу Пруссии: «Я бросился на стул и готов был заплакать» (33). В Лейпциге, согласно «Письмам», путешественник окончательно узнал, что свидание с «любезным другом» не может состояться. И все же есть достаточные основания сомневаться в этом категорическом утверждении.
Если внимательно рассмотреть несколько дошедших до нас писем, которыми обменялись Кутузов и Карамзин и Кутузов и Плещеевы в ноябре — декабре 1790 года, то нельзя не изумиться странности их содержания. Прежде всего, еще до возвращения Карамзина из-за границы Кутузов, который якобы там с ним не встречался, каким-то образом знает о намерении своего молодого друга издавать журнал. Плещеева пишет Кутузову 10 ноября 1790 года: «Предвидели вы и то, что журнал он выдавать станет» [103]. Обычно считается, что причиной разрыва, окончательно разрушившего связи Карамзина с масонами, было объявление в «Московских ведомостях» о выходе «Московского журнала», задевавшее масонские издания ироническим отзывом. Таким образом, получалось, что Карамзин первым бросил перчатку своим бывшим наставникам. Однако, хотя отзывы московских «братьев» на газетное объявление и первые номера журнала действительно были очень враждебными, нападки их на Карамзина начались раньше, — как только сделалось известным его намерение издавать журнал. Создается впечатление, что сама идея подобного предприятия их не на шутку испугала. В. В. Виноградов имел основание писать: «Больше всего масоны боялись появления «Писем русского путешественника», описания заграничной поездки Карамзина» [104]. Что же их могло испугать?
Следует иметь в виду, что слово «журнал» имело в XVIII веке два значения: им обозначали периодическое издание, журнал в современном смысле этого слова, и дневник (от французского le jour — день). Таким образом, первые же слухи об издании журнала, видимо, были восприняты как свидетельство намерения опубликовать путевые записки. И вот тут начинаются странности. Кутузов пишет Карамзину 17/28 декабря 1790 года, опасаясь публикации «журнала»: «Впрочем, опасно связываться с вашею братиею, авторами, тотчас попадешь в лабет[105]. Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки; что ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистью» [106].
Сразу же возникает вопрос: как мог Карамзин, описывая свое заграничное путешествие, «искусною кистью» изобразить недостатки Кутузова, если они не встречались? И второй вопрос: все, что мы знаем о Кутузове, говорит, что он менее всего опасался обличения своих личных недостатков: покаянная исповедь — обычное содержание его писем и главный тон его переводов и сочинений. Видимо, он боялся чего-то другого, на что многозначительно намекнул в английской приписке к этому же письму: «There are four good Mothers, of whom are often born four unhappy Daughters, Truth begets Hatred, Happiness Pride, Security Danger, and Familiarity Contempt. Прости, любезный друг, ожидаю с нетерпением, что ты мне скажешь».
Поскольку почт-директор И. Пестель — организатор перлюстрации писем в России — не владел английским языком, для него в «черном кабинете» был сделан перевод: «Четыре хорошие матери производят на свет часто четырех несчастных дочерей; истина нарождает ненависть, счастье — спесь, беспечность — опасность и вольность обхождения — презрение».
Со своей стороны, Карамзин письмом Кутузову также задал нам загадку. Текст его письма более чем странен. Он пишет: «О себе могу сказать только то, что мне скоро минет уже двадцать пять лет, и что в то время, как мы с вами расстались, не было мне и двадцати двух» [107]. Кутузов не понял смысла этого письма: «Признаюсь, что восемь начертанных тобою строк суть для меня истинная загадка. Сколько ни ломаю мою голову, не могу добраться до истинного смысла» [108]. Смысл же карамзинских строк мог быть только один — предупреждение не забывать, что за границей они не встречались и что их последнее свидание произошло до отъезда Кутузова в Берлин. Напоминать об этом в момент, когда над кружком Новикова начали сгущаться тучи и Прозоровский повторял, по словам И. В. Лопухина, «ложные заключения», «что Карамзин ученик Новикова и на его иждивении послан был в чужие краи, мартинист и проч.» [109], надо было бы лишь в том случае, если бы на самом деле встреча имела место. И Карамзин должен был намекнуть Кутузову, что в условиях очевидной перлюстрации он не может сказать яснее: «В речах моих, любезнейший брат, не умышленная неясность» [110]. Намеки на заграничную встречу содержатся и в других письмах. Так, И. В. Лопухину 3/14 декабря Кутузов пишет: «Скажи, где Багрянский и Карамзин. Сии путешественники, по возвращении их, совсем умолкли» [111]. Значит, до возвращения они «не умолкали», и Кутузов имел о них сведения. Из контекста может создаться впечатление, что это были эпистолярные известия, однако перед нами — сознательная маскировка факта: о Багрянском Кутузов знал не из писем — они вместе ездили в Париж (а до этого проделали совместный путь через всю Европу). Случайно ли Багрянский и Карамзин поставлены рядом? Постараемся дальше подкрепить предположение, что здесь Кутузов именует двух своих парижских спутников. Наконец, в письме Плещеевой, обсуждая причины «вояжа» Карамзина, Кутузов пишет: «Хотя сказанное в прежнем вашем письме и было несколько темно, однако ж соображая со словами, вырвавшимися, так сказать, у общего нашего приятеля, догадывался я о предполагаемой вами причине его поездки» [112]. Но все письма Карамзина из Москвы Кутузову перлюстрировались, и с них снимались копии, которые до нас полностью дошли. Следовательно, содержание московских писем 1790–1791 годов Карамзина Кутузову нам известно. Никаких «вырвавшихся слов» в них не содержится. Видимо, и здесь Кутузов имеет в виду что-то сказанное Карамзиным в устной беседе.
Итак, анализ писем Кутузова и к Кутузову позволяет предположить, что встреча его с Карамзиным за границей состоялась. Но чтобы это предположение сделалось более вероятным, необходимо проанализировать, во-первых, где и при каких обстоятельствах они могли встретиться, и, во-вторых, почему и Кутузов, и Карамзин так тщательно это скрывали.
Как мы уже отмечали, Карамзин буквально горел желанием разыскать Кутузова. Зачем? Вспомним, что он совсем недавно разочаровался в масонстве и масонах и порвал с ними. Кутузова он любил искренне и не мог не видеть его жертвенной роли и уже явной к 1789 году опасности его положения. Вероятно, он мог надеяться увлечь Кутузова своим примером, оторвать от берлинских «братьев» и ближе ознакомить его с опасной ситуацией, сложившейся в России за время его отсутствия. В эти планы, бесспорно, была посвящена и им сочувствовала Плещеева, стремившаяся в письмах воздействовать на Кутузова в том же духе. Интересно, что, видимо, до самого ареста, со своих позиций, стремился воздействовать на Кутузова и Радищев, у которого шла длительная философская переписка со старым другом.
Однако Карамзин Кутузова в Берлине не застал. Из Берлина Карамзин направился в Дрезден и Лейпциг. Это могло означать, что дальнейшее движение мыслилось на Вену, откуда открывался путь в южную Европу: Италию и средиземноморское побережье Франции. Есть основания полагать, что первоначальный план включал именно такой путь: Швейцария, Италия, южная Франция — и лишь потом Париж, в котором Карамзин, видимо, не собирался задерживаться, и — одна из главных целей — Лондон. То, что, уезжая из Петербурга, Карамзин запасся векселями на имя голландских банкиров, заставляет полагать, что в какой-то из вариантов плана путешествия входила и Голландия. Такой план гипотетически реконструируется по ряду мелких деталей. И если намерение посетить Италию проблематично, то часть маршрута: Вена — Швейцария — южная Франция (Карамзина, видимо, особенно привлекал Воклюз, связанный с именем Петрарки) и затем уж Париж — подтверждается рядом намеков в тексте «Писем».
Но в Лейпциге планы путешествия неожиданно переменились: Карамзин получил письма от Кутузова. В «Письмах» по этому поводу читаем: «Ныне получил я вдруг два письма от А*, которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель, и хочет, чтобы я дождался его в Мангейме или в Стразбурге; но мне никак нельзя исполнить его желания» (69). Отрывок этот явно вставлен, чтобы скрыть подлинное положение дел. Но, как это часто бывает в таких случаях, своими неувязками этот текст позволяет выяснить многое именно о том, что он призван скрыть. Прежде всего возникает вопрос: если Карамзин собирался из Берлина во Франкфурт-на-Майне, где он якобы рассчитывал встретиться с Кутузовым, то нельзя не признать, что он избрал не самый прямой путь, отправившись в Саксонию. «Письма» выходят из этого затруднения, представив поездку в Лейпциг как экспромтом принятое и для самого путешественника неожиданное решение, результат берлинской тоски: «Что же делать? спросил я сам у себя. <…> Минуты две искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей; в третью нашел его — сказал: поедем далее!» (49). Однако если принять эту версию, то делается непонятным, каким образом Кутузов узнал, что писать Карамзину надо именно в Лейпциг? Приходится предположить, что маршрут Карамзина был Кутузову хорошо известен и что посещение Лейпцига было заранее предусмотрено. А то, что Кутузов не оставил Карамзину письма перед отъездом в Берлине, а прислал его из Франкфурта, позволяет полагать, что предварительно он получил от Карамзина письма из Берлина. Далее: Кутузов якобы просит Карамзина отправиться в Страсбург или Мангейм и там его ждать, чего «никак нельзя исполнить». Однако тут же Карамзин отправляется именно в эти города. Почему встреча все же оказывается невозможной при многократно заявляемом страстном желании свидания и отсутствии у путешественника каких-либо не зависящих от его воли ограничивающих обстоятельств?
Для того, чтобы попытаться рассеять мрак вокруг этого эпизода, необходимо попробовать решить вопрос: чем же была вызвана неожиданная поездка Кутузова во Франкфурт — Страсбург — Париж?
Домосед, мечтатель и философ, Кутузов не был любителем путешествий и не искал новых дорожных впечатлений. В свое время Н. И. Плещеева, осуждая его поездку в Берлин (как и вообще его масонские связи), писала ему, героически преодолевая трудность выразить свою мысль по-русски, — Кутузов был настроен патриотически, не выносил тона светской переписки и даже дамам писал по-русски, вероятно, и их вынуждая к отказу от французского языка: «Как вы спрашиваете, то я жадна отвечать. Вот, что я думаю, цель вашего вояжу была, есть и будет — пустые ваши воображения, которые только могут мысленно существовать, а реализоваться никогда не могут. Я не умела по-русски сказать» [113]. Кутузов отвечал, что к отъезду его вынудили важные причины: «Горы, реки, озёра, моря и наипрекраснейшие ландшафты в мире не были и, надеюсь, не будут никогда предметом моего путешествия» [114]. Еще меньше могли соблазнить Кутузова парижские веселости, привлекавшие в столицу Франции легкомысленных путешественников со всей Европы. Видимо, у него были более серьезные основания, чтобы отправиться в путь. Следует заметить, что путешествие это держалось в величайшей тайне, о нем старались не упоминать вообще, ни сам Кутузов, ни его друзья. Поэтому сведения наши об этом эпизоде ничтожны.
Можно предположить, что поездка Кутузова была связана с кризисом масонства в Германии, недовольством в Москве односторонними берлинскими связями и желанием переориентироваться и выйти из-под тягостной опеки Вёльнера. Маршрут его не случаен: он проходит через разные центры оппозиции берлинскому розенкрейцерскому мистицизму и обскурантизму. Видимо, Кутузов пытался завязать связи с «реформаторами», стремившимися усилить гуманистические и просветительские тенденции и ослабить ритуалистику и мистику. Во Франкфурте-на-Майне находилась «ложа «Единение» (Zur Einigkeit), которая ставила своею целью способствовать братскому единению разумных людей на началах нравственности, была чужда всякого властолюбия и не допускала в свою среду никаких искателей приключений и шарлатанов» [115]. Она сделалась одним из инициаторов создания антиберлинского «Эклектического союза». Страсбург, также включенный в маршрут, был резиденцией Сен-Мартена, порвавшего со старыми масонскими связями в Лионе и искавшего новых путей. Наконец, если лионский «Восток» признавал верховное гроссмейстерство герцога Брауншвейгского и берлинскую диктатуру, то Париж был в центре новых социально-утопических и либеральных веяний. Если в ложах берлинских собраний розенкрейцеров сходилась пестрая толпа ищущих таинств мечтателей и самых беспардонных авантюристов, обманщиков и политических интриганов, то парижский «Восток» скорее напоминал клубы вольномыслящих интеллектуалов. Так, когда известный астроном Лаланд основал ложу наук (позже — «Девяти сестер»), то в списках ее оказались Вольтер, Франклин, Кондорсе, Дюпати, Дантон, Камилл Демулен, Кабанис, Сийес, Ромм, академики, художники, скульпторы. Одновременно Фоше и Н. Бонневиль стремились слить масонство с социально-утопическим движением, написав на знаменах девиз — борьба с неравенством и деспотизмом.
Все сказанное позволяет, не рискуя далеко отклониться от истины, предположить цель парижского «вояжа» Кутузова. Это была официальная миссия, санкционированная Новиковым, явно пытавшимся отделаться от тягостных и опасных берлинских связей. Свидетельство тому — что в поездку Кутузов отправился не один, а совместно с М. И. Багрянским, лицом, особо приближенным к Новикову: он единственный из «братьев» добровольно последовал в Шлиссельбургскую крепость за другом и руководителем и, сославшись на то, что он «личный врач», заключил себя в одну камеру с Новиковым на все годы его тюремного сидения. Одновременно он был близким другом и Кутузова, с которым совместно переводил книги. Участие Багрянского в поездке Кутузова потом тщательно скрывалось, и на вопросы следствия он отвечал, что изучал в Париже акушерство.
Но полученные Карамзиным в Лейпциге письма, в том виде, как они им изложены, содержат еще одно неясное место: мы знаем уже, что Кутузов ехал в Париж. Франкфурт и Страсбург были лишь промежуточными пунктами. Более чем странно было бы с его стороны приглашать Карамзина дожидаться здесь его возвращения. Гораздо естественнее предположить, что Кутузов звал Карамзина в Париж. Это требовало пересмотра всего плана поездки, и Карамзин, видимо, колебался.
Но тут произошли совершенно непредвиденные события. Приехав во Франкфурт, Карамзин узнал из газет (а также из новых писем Кутузова) о начале Французской революции. Кутузов неожиданно стал в Париже свидетелем штурма Бастилии и массовых народных выступлений середины июля 1789 года. Даже скупое описание первых впечатлений от этих новостей в «Письмах» свидетельствует, что Карамзин понял масштаб событий: он кинулся в городскую библиотеку и потребовал драму Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» — пьесу о революционной политике и революционной морали. Живейший интерес Карамзина к парижским событиям бесспорен: он подтверждается многими фактами. Выяснению подлежит другое: что предпринял Карамзин, получив парижские новости?
Согласно тексту «Писем», Карамзин пересек границу Франции, приехал в Страсбург, но, вдруг свернув с дороги на Париж, отправился в Швейцарию. В тексте «Писем» это решение, по сути, никак не мотивировано. В автореферате «Писем» (в том числе и их тогда еще не опубликованной части) для журнала «Le Spectateur du Nord» Карамзин попытался увязать противоречивые данные: «Во Франкфурте-на-Майне он (Карамзин пишет о себе в третьем лице. — Ю. Л.) узнал о французской революции. Это известие глубоко его взволновало. Он направляется в Эльзас, видит лишь беспорядки, слышит разговоры только о грабежах и убийствах и бежит в Швейцарию, чтобы там дышать воздухом мирной свободы» (452). В соответствии с таким освещением событий, Карамзин усилил краски в изображении страсбургских волнений: в журнальной редакции говорилось, что «уличный шум» доносился в театральную залу. В позднейших обработках он превратился в «шум пьяных бунтовщиков».
Однако, всмотревшись в события, мы, с одной стороны, вспоминаем, что Карамзин совсем не был так труслив и, как мы увидим дальше, часто любопытство будущего историка влекло его в гущу весьма бурных сцен революционной жизни. С другой стороны, мы с удивлением узнаем, что в Страсбурге в период пребывания там Карамзина было довольно спокойно и причин для столь поспешного бегства решительно не было. Так, в Страсбурге именно в это время безо всяких помех учился ряд русских студентов, а осенью 1790 года приехавшие в этот город учиться медицине два пенсионера Новикова и Лопухина, Колокольников и Невзоров, писали своим покровителям в Москву, что им будет «в теперешних обстоятельствах Франции безопасно. Чужестранцы все, как в здешнем городе, так и во всей Франции, не только никакой, как сказывают, не имеют опасности, но еще особенно обезопашиваются» [116]. Это мог подтвердить Карамзину и Григорий Базилевич — в будущем первый клинический профессор из русских, а в это время студент Страсбургского университета, защитивший тут же в 1791 году диссертацию на степень доктора медицины.
Но самое интересное, что именно с этого момента Карамзин куда-то исчезает минимум на две недели. Если до этого в тексте «Писем» мы имеем дело с точными датами, то далее числа становятся какими-то неопределенными: нередко указан час, но пропущено число. Во многих «письмах» числа вообще отсутствуют — обозначается лишь место «написания». Но важнее другое: в тех случаях, когда мы можем сопоставить литературные даты с реальными, обнаруживается расхождение весьма значительное. Так, в письме, помеченном «Горная деревенька в Pays de Gez, Марта 4, 1790, в полночь», читаем: «Ныне после обеда поехали мы из Женевы» (189). Можно было бы, опираясь на недвусмысленное свидетельство самого Карамзина, полагать, что выехал он из Женевы 4 марта 1790 года. Однако недавно было найдено рекомендательное письмо женевца Кунклера в Париж к Жильберу Ромму, которым Карамзин запасся перед отъездом из Швейцарии (об этом важном документе еще пойдет речь). Под письмом стоит дата 10 марта. Следовательно, 10 марта Карамзин еще был в Женеве. Наконец, в архиве Лафатера сохранилось прощальное письмо Карамзина из Женевы, помеченное 14 марта, в котором Карамзин сообщает, что завтра выезжает из Женевы. Предположение, что дело в расхождении русской и западноевропейской датировки (оно в XVIII веке составляло 11 суток), следует отбросить: пока путешественник проезжал русскими землями, письма датировались по принятому в России юлианскому календарю. В Паланге — на границе тогдашней Курляндии и Польши — Карамзин обозначил письмо двойной датой 3/14. Письмо кончалось: «Завтра будем обедать в Мемеле». Но Мемель помечен уже только по грегорианской, принятой в Европе, системе: 15 июля. В дальнейшем все «европейские» даты помечаются так же. Такое решение Карамзин нашел не сразу: оно четко проведено лишь в книжной публикации. В журнале до Берлина давались двойные даты.
Но хронологические загадки на этом не кончаются. Согласно «Письмам», путешественник прибыл в Париж 2 апреля 1790, 4 июня того же года Карамзин написал Дмитриеву письмо из Лондона. Если считать, что путь из французской столицы в английскую занимал минимально около четырех дней [117] (Стерн проделал тот же путь в противоположном направлении за две недели), то путешественник пробыл в Париже около двух месяцев. Однако в упомянутом выше автореферате в немецко-французском журнале, примечательном тем, что он, опубликованный анонимно на французском языке в Гамбурге, позволил автору быть более откровенным, чем в русских изданиях, Карамзин писал: «Проведя четыре месяца в Париже (которые ему показались очень короткими) <курсив мой. — Ю. Л.>, наш путешественник пакует свои чемоданы» (455). Нам еще предстоит попытаться определить место этих «пропавших» двух месяцев в Париже в реальном путешествии Карамзина. Пока отметим лишь: предположив, что Кутузов звал Карамзина не в Страсбург, а в Париж, что Карамзин откликнулся на это предложение и что почтовая карета, в которой сидел русский путешественник, выехала из столицы Эльзаса не через южные ворота по базельской дороге, а через западные по парижской, мы сразу получим ответы на ряд вопросов.
Прежде всего, положительно решается вопрос о встрече Карамзина и Кутузова за границей. Попутно мы получаем еще один ответ. Мы знаем, что в момент отъезда Карамзина из Москвы отношения его с Кутузовым можно было охарактеризовать как самую тесную дружбу. Ко времени его возвращения из вояжа, как это видно из их писем, они превратились в холодно-вежливые со стороны Карамзина и обиженно-насмешливые со стороны Кутузова. Если принять версию, согласно которой они за границей не встречались, время, место и причина ссоры остаются необъяснимыми. При противоположной гипотезе эти вопросы легко находят ответы.
Однако необходимо попытаться дать ответ на другой вопрос: в чем причина такой строгой конспирации? Почему Карамзину надо было столь тщательно скрывать следы своего (первого, как мы увидим) пребывания в Париже и встречи там с Кутузовым?
Приезд Кутузова в Париж, как мы знаем, совпал с первыми бурными днями революции: уличные беспорядки, штурм Бастилии, провозглашение Бальи мэром Парижа, а Лафайета — командующим национальной гвардией, самосуд над Фулоном и Бертье. Если Карамзин действительно отправился из Страсбурга в Париж, то он должен был оказаться там около 10 августа: дорога от одного города до другого в почтовой карете занимала пять дней. К этому времени обстоятельства как будто предвещали мирное превращение Франции в умеренную конституционную монархию. 17 июля король приехал в Париж, отвергнув планы придворной камарильи бежать в Мец и формировать там армию для похода на столицу. В ратуше он был восторженно принят, и Бальи — мэр взбунтовавшегося Парижа — поднес ему трехцветную кокарду, которую король, при взрыве энтузиазма, прикрепил к своей шляпе. 8 августа экстренные выпуски газет сообщили, что в итоге заседания, длившегося всю ночь с 4-го на 5 августа, Национальное собрание отменило все феодальные права и привилегии. Феодализм как юридическое понятие перестал существовать. На заседании царила атмосфера энтузиазма. Современникам казалось, что они присутствуют при великом торжестве Разума над Предрассудками, предсказанном философами XVIII века, при рождении нового мира. По очереди на трибуну поднимались представители привилегированных сословий и торжественно отказывались от своих давних прав, которые они именовали вековыми злоупотреблениями. Виконт де Ноай предложил объявить все особые права феодалов навек утратившими силу. Его поддержали герцог д'Эгийон, герцог дю Шатле, маркиз Кюстин, Монморанси, герцог де Монтемар и другие представители высшей знати. Затем на кафедру взошли князья церкви и в свою очередь сложили все церковные привилегии. Александр де-ла-Мотт призвал к равенству католиков и протестантов. Уже занялось утро, когда депутат Лалли-Толлиндаль предложил поднести Людовику XVI титул «восстановителя свободы». Сообщая об этом заседании, журналист газеты «Journal de France» восклицал: «Какая разница между нынешним положением дел и тем, что происходило три недели тому назад, в ночь с 14 на 15 июля!» А английский посол Дорсет доносил своему правительству: «С этого момента мы можем рассматривать Францию как свободную страну, короля как монарха, чьи полномочия ограничены законами, а дворянство как низведенное до уровня нации».
6 августа, в тот день, когда Карамзин прогуливался по улицам Страсбурга, депутаты Франции приняли краткое решение: «Национальное собрание полностью отменяет феодальный режим». Начались прения по проекту конституции. Решение 6 августа было опубликовано газетами в тот день, когда Карамзин, согласно нашему предположению, вступил на мостовую Парижа.
Если Карамзин пробыл в Париже хотя бы неделю, то он мог присутствовать 17 августа на знаменитом заседании, на котором Мирабо сделал доклад о декларации прав человека, выработанной Комитетом пяти.
Легко представить себе, как эта атмосфера могла подействовать на Карамзина. Ведь это было именно то «важное соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью», о котором мечтали они с Петровым, надеясь, «что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума (характерное соединение просветительского оптимизма и кантианской терминологии! — Ю. Л.), начнут исполнять их в точности» [118].
Однако как ни поразительны были эти события для юного москвича, само присутствие в Париже в это время не представляло собой ничего криминального в глазах петербургского правительства. В Париже в это время находилось много русских, и никакого беспокойства, до определенного момента, русские власти по этому поводу не выказывали. До бегства в Варенн, ареста и последующей казни короля Екатерина II была убеждена в том, что «французский развратный пример» не опасен для ее империи. Беды Людовика XVI, которого она не любила, вызывали у нее скорее злорадство, чем сочувствие, а из внутренних неурядиц и ослабления международной роли Франции она надеялась извлечь военно-политические выгоды. В этом смысле скрывать пребывание в Париже в августе 1789 года у Карамзина не было никаких оснований.
Совершенно иначе смотрели в Москве и Петербурге 1791–1792 годов на зарубежные масонские связи. На родине на Карамзина пало подозрение в том, что он ездил и вернулся как масонский эмиссар. Только единодушное свидетельство всех допрошенных, что он ездил вольным вояжёром на свой кошт, спасло его от репрессий, хотя и не избавило от подозрений. Кутузов же, как прикосновенный одновременно и к делу Радищева, и к делу Новикова, и к заграничной дипломатии московских мартинистов, был лицом втройне криминальным. Друзья в письмах настойчиво предупреждали, что ему «по слабости его здоровья» не следует возвращаться в Россию: был известен приказ арестовать его сразу же на границе. Его ждала или Сибирь, как Радищева, или крепость, как Новикова. Эту связь, конечно, надо было скрывать самым тщательным образом. Карамзин получил хороший урок, и позже, уже во время Александра I, когда все гонения на масонов прекратились и, напротив, участие в ложах сделалось великосветской модой, он тщательно зачеркивал в своих письмах к Петрову самые малейшие намеки на причастность к кругу московских мартинистов.
В Париже Карамзин, с одной стороны, и Кутузов и Багрянский — с другой, не только встретились, но и решительно охладели друг к другу. Причину не трудно предположить: Карамзин потерял всякий интерес к масонским делам — парижские события, вероятно, не вызвали энтузиазма у Кутузова. Миссия Кутузова, можно думать, не увенчалась успехом. Он обреченно возвращался в постылый Берлин, где его ждали одиночество и голодная смерть в долговой тюрьме. Багрянский спешил на родину — его ждала камера Шлиссельбургской крепости. Карамзин отправился в Швейцарию.
В ШВЕЙЦАРИИ
Поездка в Париж могла быть только импровизацией, внезапным уклонением от продуманного маршрута. Надо было возвращаться к плану: Швейцария — южная Франция — Париж. Это было необходимо хотя бы потому, что в условленных пунктах его должны были ждать письма и деньги с родины. Более основательное знакомство с Парижем приходилось отложить на будущее — Карамзин отправился в Швейцарию. Когда-то Руссо проделал прогулку из Солера близ Берна до Парижа за две недели. В конце XVIII века дилижанс проделывал этот путь за пять — шесть дней.
Швейцария была в плане путешествия с самого начала. Путешествие, если судить по характеру интересов Карамзина в 1780-е годы, задумывалось как некая дуга с двумя основными точками опоры: Швейцарией и Англией. Первое печатное произведение Карамзина была книжечка «Деревянная нога, швейцарская идиллия гос<подина> Геснера. Переведено с немецкого Никол<аем> Карамз<иным>, СПБ, 1783». А через три года Карамзин издал прозаический перевод поэмы другого швейцарского поэта, Галлера, «О происхождении зла» — теперь уже в Москве, в типографии новиковской Типографической компании. И переписка с Лафатером, и интерес к «Вильгельму Теллю» Шиллера — все это рисует постоянный и устойчивый интерес к Швейцарии. Швейцария и Англия как бы олицетворяли для Карамзина две возможности развития человечества, между которыми колебались симпатии Карамзина в то время, когда он готовился к путешествию. Швейцария рисовалась в тонах поэмы Галлера «Альпы» как патриархальная идиллия, а сочинения Руссо и Шиллера придали этим представлениям окраску гордого свободолюбия. В «Письмах» Карамзин отметил свой приезд в Швейцарию такими словами: «И так я уже в Швейцарии, в стране живописной Натуры, в земле свободы и благополучия! (в первой журнальной редакции было «свободы и щастия», в дальнейшем Карамзин, видимо, из цензурных соображений убрал «свободу»: «в земле тишины и благополучия», «в земле мира и щастия», но с наступлением более спокойных времен «свободу» восстановил; правда, теперь он уже сомневался в возможности счастья где бы то ни было и заменил его скептическим «благополучием». — Ю. Л.). Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверх, и я с гордостию помышляю о своем человечестве» (т. е. о достоинстве человека; последние слова в промежуточном издании были убраны! — Ю. Л.) (97, 425).
Патриархальности Швейцарии противостоял идеал «просвещенности» — Англия. В конечном счете это была антитеза общественных устремлений Руссо и Вольтера. Карамзин испытал сильное влияние и того и другого, и желание произвести «следствие на месте» над идеями двух апостолов Просвещения XVIII века было одной из побудительных причин путешествия.
Но если сквозь призму общественных идей XVIII века Швейцария и Англия выглядели как антиподы, то в литературном отношении они сближались как два крыла предромантического и антифранцузского фронта. В стихотворении «Поэзия», написанном незадолго перед путешествием, в центре европейской поэзии поставлены именно английская и швейцарская: первая представлена именами Оссиана, Шекспира, Мильтона, Юнга, Томсона, вторая — Галлера и Геснера, при том что из немецких поэтов назван лишь Клопшток, а из французских и русских — ни одного имени!
Правда, такое — дерзкое по своей тенденциозности! — распределение мест на лестнице славы отражает, в значительной мере, влияние на Карамзина вкуса и уроков Кутузова (стихотворение написано в 1787 году). Если в философском отношении Карамзин, видимо, перед путешествием испытал воздействие критических идей Канта, то на социологические и культурно-исторические концепции «Писем» легла тень другого великого скептика — Вольтера. Цитаты, реминисценции, намеки на тексты Вольтера составляют активный пласт «Писем» и свидетельствуют о хорошем знакомстве с произведениями «фернейского мудреца». Это было полезное противоядие мистическим увлечениям «братьев» и «наставников». Не случайно из живых немецких поэтов его, собеседника Ленца, «великого жени» [119], как иронически именовал Карамзина Петров, используя штюрмерский жаргон, более всего привлек скептик и насмешник Виланд, в кабинете которого он увидал бюст Вольтера.
В Германии путешественник спешил на свидания с философами и поэтами — в Швейцарии его собеседниками, на свидание с которыми он торопился через всю Европу, были Альпы и «поселяне» — швейцарские «пастухи», воспетые любимыми им поэтами, Натура, прославленная Жан-Жаком.
Однако и в Швейцарии были люди, встречи с которыми предусматривались еще в Москве. Среди них на первом месте следует назвать Иоганна Каспара Лафатера. Можно полагать, что наивное восхищение «южным магом» (как называли Лафатера по аналогии с предромантическим философом-интуитивистом И. Г. Гаманном, прозванным «северным магом»), свойственное Карамзину в те годы, когда он направил первое письмо в Цюрих, уже прошло. Карамзину, который в эту пору уже был внимательным читателем Вольтера, Кондильяка, Канта, который прочел критическую брошюру Мирабо против Лафатера, наивная религиозная философия и вера в чудеса, защищаемая Лафатером, не могли не казаться архаичными. К Лафатеру его привлекали симпатичные черты личности: патриархальная простота обращения, практическая филантропия, столь ценимая в московских масонских кругах, сентиментально-идиллический быт, царивший в доме цюрихского пастора.
Но и в философии Лафатера были стороны, бесспорно, привлекавшие серьезное внимание Карамзина.
В эпоху, когда на одном полюсе философии выкристаллизовалось требование критической проверки всех основ знания, а на другом — бушевала вера в интуицию, мистический опыт и бесконтрольная «философия чувства», одной из решающих сделалась проблема отношения души к телу. Именно она вызывала в немецкой литературе всего за несколько лет до вояжа Карамзина бури вокруг имени и учения Спинозы. В 1785 году философ-предромантик, интуитивист, близкий к «штюрмерам», и друг Гёте Якоби опубликовал книгу «Об учении Спинозы. Письма к Мендельсону», в которой изображал Спинозу сторонником материалистического монизма. В защиту Спинозы выступил Гёте в оде «Прометей». Сообщение Якоби о том, что Лессинг перед смертью одобрил «Прометея» Гёте и признал себя спинозистом, так потрясло Мендельсона, что, по мнению современников, даже послужило причиной его смерти. Исключительно значимым для современников было выступление в защиту Спинозы Гердера в книге «Бог» (1787). Карамзин еще в Москве был в курсе этой полемики, разделившей немецких предромантиков на два лагеря. Вспоминая свою встречу с Гердером в Веймаре, он замечает: «Я читал его Бога, одно из новейших сочинений, в котором он доказывает, что Спиноза был глубокомысленный Философ и ревностный чтитель Божества, от пантеизма и атеизма равно удаленный» (71). Кант писал Мендельсону еще в 1766 году: «По моему мнению, вся задача заключается в том, чтобы найти данные для разрешения проблемы: каким образом душа может находиться в мире, присутствуя и в существах материальной природы, и в других существах, подобных ей? Необходимо, следовательно, найти силу внешнего действия, а также рецептивность, т. е. способность воспринимать извне, в такой субстанции, соединение которой с человеческим телом есть только особый вид <соединения>. Мы не располагаем никаким опытом, на основе которого мы могли бы познать такой субъект в различных отношениях, которые единственно только и были бы пригодны к тому, чтобы раскрыть его внешнюю силу или способность; гармония же с телом представляет собой лишь отношение внутреннего состояния души (мышления и хотения) к внешнему состоянию материи нашего тела и, следовательно, не раскрывает отношения одной внешней деятельности к другой внешней деятельности, а потому вовсе не пригодна для разрешения поставленной проблемы. Вот почему возникает вопрос, возможно ли вообще при помощи априорного суждения разума раскрыть силы духовных субстанций» [120].
Скептическая позиция Канта не могла удовлетворить читателей, лишенных глубокой философской культуры и одновременно проникнутых чувствительным культом сердца. А именно такова была предромантическая культура в своей массе. Таковы же были и московские масоны, которых вопрос соединения души и тела глубоко волновал. Карамзин опубликовал в «Московском журнале» в 1792 году стихотворение «Странные люди», где игроки в карты иронически уподоблялись масонской ложе, в которой
О камне мудрых рассуждают? Или хотят узнать, как тело в жизни сей Сопряжено с душей? [121]Однако еще в 1787 году Карамзин совершенно серьезно обращался к Лафатеру с вопросом: «Каким способом душа действует на тело, посредственно или непосредственно» (468). Лафатер, отвечая, отговорился незнанием. Но вся разрабатываемая и пропагандируемая им система физиогномики призвана была дать пусть примитивные, но наглядные объяснения этой трудной проблемы. Именно простота и наглядность ответов привлекала. Физиогномика Лафатера пыталась установить соотношение между чертами лица и свойствами души. В идею цюрихского философа органически входила важная для культуры предромантизма мысль о неповторимости человеческой индивидуальности: как неповторимы черты лица, так и бесконечно своеобразны характеры. Поэтому проникновение физиогномиста в душу пациента — всегда акт интуитивного вживания. Карамзин не случайно назвал Лафатера «физиогномическим колдуном». Не один Карамзин пережил сначала увлечение физиогномикой, а затем разочарование в ней. Молодой Гёте не только увлекался ею, но даже напечатал в книге Лафатера характеристики Гомера, Цезаря, Брута, Ньютона и др. Как далеко заходил скептицизм Карамзина в этих вопросах, видно из отрывка «Разные мысли. Из записок одного молодого Россиянина», опубликованного им в «Московском журнале» в 1792 году, но написанного, по всей вероятности, в 1790–1791 годах. Здесь Карамзин характеризует природу соединения духовной и материальной субстанций совсем не в лафатеровском, а скорее в гельвецианском духе: «На систему наших мыслей весьма сильно действует обед. Тот час после обеда человек мыслит не так, как перед обедом».
Однако особенно интересна в «Разных мыслях» система скептической аргументации, настолько напоминающая ход рассуждений Канта, что невольно возникает предположение, что и этот вопрос обсуждался ими во время посещения Карамзиным Кенигсбергского философа:
«Как может существовать душа по разрушении тела, не знаем, следственно не знаем и того, как она может мучиться и блаженствовать. <…> Естьли железные стены, отделяющие засмертие от предсмертия, хотя на минуту превратились для меня в прозрачной флёр и глаза мои могли бы увидеть, что с нами делается там, то я охотно согласился бы расстаться навсегда с Кантами, Гердерами, Боннетами. Все, что о будущей жизни сказали наши философы, есть чаяние, потому что они писали до смерти своей, следственно еще не зная того, что ожидает нас за гробом. Все же известия, которыя выдают за газеты того света (сноска Карамзина: «Например Шведенбурговы мнимые открытия»), суть, к сожалению, — газеты (то есть басни)».
Но у физиогномики была еще одна сторона, кроме философской, — психологическая. Она связана была с культурой наблюдения мимики и навыками психологического анализа.
КУДА МОЖЕТ ЗАВЕСТИ ФИЗИОГНОМИКА
Вставная глава
С физиогномическими опытами Лафатера связан один эпизод, который должен был привлечь и, весьма вероятно, привлек внимание Карамзина.
Осенью 1789 года создалась иллюзия возможности мирного развития революции. Иллюзия эта захватила даже таких убежденных республиканцев, как Радищев. С одной стороны, сказалась разница между республиканскими умозрениями философов XVIII века — чисто теоретическими убеждениями, возможность осуществления которых относилась в далекое будущее или усматривалась в столь же далеком прошлом, — и непосредственными политическими решениями, на основе которых следовало строить сегодняшний день. С другой стороны, сами события складывались так, что казалось, будущее обещает быть мирным. Переход от деспотического абсолютизма к конституционной монархии английского типа казался достигнутой реальностью. Возможность такого хода событий связывалась с доброй волей короля. Для благоприятного развития мирной революции в 1789 году, казалось, необходимы мудрые политики, которые выработают конституцию, и король, который согласится ее принять. Осенью 1789 — весной 1790 года такие настроения охватили Европу от Парижа до определенных кругов в Петербурге.
Авторитетные исследования Олара показали, что республиканские настроения в этот период не были характерны для деятелей революции. «Никто не требовал республики; существовало общее желание сохранить монархию. Но как следовало организовать эту монархию? По этому вопросу возникли разногласия. Никто не требовал восстановления абсолютизма; но существовала целая градация мнений, начиная с идеи об очень сильном короле, участвующем в изготовлении законов и обладающем последним словом во всех вопросах, до идеи о короле, лишенном всякой власти, напоминающем президента республики.
Что в 1789 г. Франция не желала республики, это не подлежит ни малейшему сомнению» [122]. Тот же автор показывает, что подобные настроения характеризуют не только депутатов Собрания: «… агитаторы Палэ-Рояля, Сент-Юрюж, Дантон? Они были роялистами, так же как и народ, страсти которого они возбуждали. А Марат? Марат имел мало влияния тогда; но так как скоро его влияние сделалось громадным, то нам необходимо отметить его тогдашний образ мыслей. Марат набрасывает проект конституции, и эта конституция оказывается монархической» [123]. Робеспьер еще в речи 13 июля 1791 года, произнесенной в Якобинском клубе, сказал: «Меня обвиняют в том, что я республиканец; мне оказывают слишком большую честь — я им не являюсь» [124].
В этих условиях вновь встал вопрос, который теоретически — в общем виде — давно уже был пройденным этапом: о личности того монарха, от намерений и просвещенности которого во многом зависело, пойдет ли прогресс путем катаклизмов или движение вперед совершится мирно и в законных формах. Это особенно волновало русских наблюдателей европейского политического театра. В русском обществе — от писателей до либерально настроенных вельмож — имелось достаточно людей, которые устали от деспотизма Потемкина, калейдоскопа фаворитов, расточительности и капризов стареющей императрицы и хотели бы, чтобы идеи Монтескье с полок их библиотек перешли в политическую жизнь их родины. Недовольство к 1789 году сделалось весьма широким, и оттенки мнений, разделявшие поклонников вечевой республики и сторонников английской конституции, стали казаться чем-то второстепенным и теоретическим. Вряд ли можно считать, что сближение Радищева и А. Р. Воронцова, Фонвизина и братьев Паниных (и, как увидим дальше, Карамзина и С. Р. Воронцова) имело чисто личный характер. И поскольку французский опыт как бы убеждал в том, что мечты эти могут обратиться в реальность лишь при соглашений идеологов и монарха, взоры вновь обращались к наследнику престола Павлу Петровичу. О нем знали мало, но сведения были в основном благоприятными. Воспитанник Панина и враг Потемкина возбуждал надежды.
Карамзин не был далек от этих вопросов. Ведь еще в новиковском кругу он должен был слышать о попытках наладить связи с наследником престола, чью изоляцию от русского общества Екатерина II тщательно поддерживала. Можно полагать, что Карамзин специально интересовался, какое впечатление произвел Павел, когда под именем графа Северного вместе с Марией Федоровной путешествовал по Европе. И здесь ему много интересного мог сообщить Лафатер. Великий князь встретился в Цюрихе с физиогномистом. Их долгий разговор дошел до нас в записи Лафатера. Есть все основания полагать, что Карамзин выслушал этот рассказ, а может быть, и был допущен к чтению самого текста.
Лафатер записал сначала вопрос Павла Петровича о принципах физиогномики. Услыхав, что в основу суждений о характере Лафатер кладет конфигурацию лба, он, положив руку на свой лоб, спросил с улыбкой, которую цюрихский философ назвал «непередаваемой» и в которой выразилась та мучительная неуверенность в себе, то глубочайшее убеждение в своей отверженности, которые лежали в основе характера Павла: ««Ну, как же обстоит дело здесь? Надеюсь, что достаточно плохо?»
«Монсеньор, — отвечал я весело улыбаясь. — У вас нет никаких причин быть недовольным ни своим лбом, ни своим лицом».
Он: «Я ожидал от вас не комплиментов».
Я: «Я не стану, разумеется, делать Вам комплименты. Это совсем не мое дело. Прямодушие — мой характер. Я говорю сейчас, поверьте мне, не с Великим князем, а с человеком, которого вижу перед собой».
Весьма удовлетворенный таким ответом, он сказал мне: «Вполне серьезно, мое намерение таково, чтобы принять от вас добрые поучения. Вы видели меня сейчас. Дайте этому лицу несколько поучений или советов, которые ему приличествуют».
«Но, Монсеньор, не станете же вы сомневаться, что я пришел сюда не для того, чтобы наставить вас, а чтобы насладиться веселым видом хороших людей. Вы должны заметить по моему виду, что ваше присутствие и близость мне весьма приятны. И вы, конечно же, легко заметили бы по мне, если бы мне при этом было не по себе. Каждый, кто беседует со мной, всегда может прочесть свое лицо на моем, а мое внутреннее суждение о своем характере узнать по веселому или удрученному состоянию моего даже слишком открытого лица».
Он улыбнулся и отвечал неким весьма веселым манером: «Но друг мой, вид всей Швейцарии запечатлен на моей физиономии. Все то прекрасное, естественное и духовное, что я недавно видел, делает мое лицо сейчас таким оживленным… Если вы сотрете все это с моей физиономии и сбросите со счета, то останется не так уж много хорошего».
Я: «Я очень рад, Монсеньор, что вы так довольны Швейцарией. Впрочем, на вашем лице есть и такие черты, в которых Швейцария, со всеми ее естественными и духовными красотами, не может иметь никакого участия». (Я должен был бы добавить, если бы был находчивее: «Черты, без которых вы бы не увидели ничего из всех этих красот». Но я этого не сказал). «Впрочем, — продолжал я, — запомните это общее замечание: каждый человек может быть доволен своим лицом.
Природа не пристрастна ни к кому в отдельности. Пусть лишь каждый будет тем, что он есть; пусть лишь каждый не выступает из предначертанной ему сферы — все зло в мире оттого, что человек хочет быть чем-то иным, чем тем, для чего создала его Природа. — Каждый, кто имеет большие достоинства, имеет одновременно и противостоящие им, почти неразделимо связанные с этими достоинствами слабости, и наоборот. Никому не положено больше, чем он может нести — и каждый, в силу своей физиономии, имеет присущие ему наследия и собственные, присущие ему страдания. Вы, Монсеньор, созданы природой лучше, чем тысячи других. Оставайтесь всегда так же хороши, как того хотела Природа. Природа умеет удержать нас без ущерба от всего, к чему мы неспособны. Пусть лишь каждый стремится познать, оценить и использовать то, что ему дано, и более обращать внимание на то, что он имеет».
Он: «И все же я серьезно прошу вас, скажите мне то, что мне по моему характеру и темпераменту особенно полезно».
Я: «Без настоятельного побуждения, Монсеньор, я, конечно, ни одному человеку ничего не скажу в лицо о его лице: и менее всего тому, кого я имел возможность видеть лишь несколько мгновений. Я нахожу это крайне нескромным — бранить человека, не имея на то ни права, ни необходимости».
Он: «Я очень хорошо понимаю это. Однако я пришел сюда, чтобы с вашей помощью лучше узнать себя. Так будьте же любезны исполнить мою просьбу. Мне важно это для улучшения себя самого. Вы не можете мне отказать в этом».
Я: «Что ж, пожалуй… Вы даете мне побуждение, которому я не могу противиться. Только облегчите мне дело посредством простых и определенных вопросов — тогда я буду как честный человек перед богом отвечать на них».
Он: «Браво! Итак — позвольте мне спрашивать: склонен ли я к гневу?»
Я: «Да, Монсеньор, и даже в очень высокой степени — у вас, вероятно, есть причина быть настороже… (или что-то в этом роде)».
Он: «Как вы это усматриваете?»
Я: «По вашим глазам; по цвету и разрезу их».
Он: «Это правда; вы правы. — Далее: у меня много темперамента?»
Я: «Много, очень много!.. Вы крайне вспыльчивы, стремительны, бурны».
Он: «Вы совершенно правы. Далее: я веселого нрава (de bonne humeur, gay, — кажется, так он выразился)?»
Я: «Природа сделала вас веселым, ибо вы добродушны. Но вы, должно быть, часто подвергаетесь плохому расположению духа; должны были легко и часто погружаться в ужасную пропасть замешательства — смущения, которое иногда граничит с отчаянием. Ради бога… не падайте духом в такие мгновения!… Не делайте в эти моменты никакого шага! Тотчас призовите к себе свою супругу! Обопритесь на нее! Темная грозовая туча вскоре пройдет мимо… Скоро, скоро сможете вы снова воспрянуть, если только не надолго представитесь самому себе».
Он казался столь же удивленным, сколь и растроганным. «Ваши слова — ничто иное, как истины, и очень важные истины. И все же это удивительно, как вы все это так быстро могли увидеть. Скажите мне, откуда?».
Я: «По морщинам на вашем лбу. Вы, должно быть, невыразимо много страдали и боролись. Однако ваше доброе сердце все пересилило».
Тут к нам приблизилась Великая княгиня, которая между тем беседовала с Г. Геснером. Великий князь воскликнул ей навстречу с полуулыбкой: «Сей любезный друг говорит мне здесь важные истины — и как раз о том, о чем ты сама меня много раз сердечно просила».
Невозможно было выразить прямее, наивнее и сердечнее, чем то было высказано. Он протянул к ней руку, привлек ее немного к себе и поцеловал ее так, что и в почтенной бюргерской семье мне не доводилось видеть поцелуя между супругами скромнее и сердечнее. А между тем, в комнате присутствовало десять-двенадцать человек. <…>
Тем временем геснеровские пейзажи были осмотрены, один из них был выбран, и господа сгруппировались снова вокруг меня.
Я наклонил голову и обернулся к Великому князю, который с наивной, льстиво выведывающей и одновременно выискивающей новых открытий полуулыбкой смотрел на меня и спустя немного времени, когда я с веселым и почтительно услужливым видом улыбнулся ему в ответ, стал немного серьезнее, отвел меня в сторону и с выражением доверительности и простосердечия, приличным более простейшему из партикулярных, с каким обращаются к задушевному другу, желая ему показать свое уважение, тихо спросил: «И все же скажите мне серьезно, не правда ли у меня отталкивающая, гнусная физиономия?»
Я отвечал: «Будьте покойны, Монсеньор, прямодушие может жить в любых формах лица. Искренность и сердечная доброта, которыми несомненно наделила вас Природа, и наделила щедрой рукой, и которые каждый человек, обладающий здоровыми глазами, прочтет на вашем лице, должны сохранить вас от страха и озабоченности. — Ваша доброта скроет и поглотит в вашем лице все, что может казаться несовершенным. Тот, кто добр, должен быть вам хорош. Если бы у вас было то, что собственно называют гнусной физиономией, я не смог бы, как я уже сказал, быть таким веселым в вашем присутствии и, конечно, не сказал бы вам то, что было сказано. Ваше лицо для меня — новое доказательство одной старой истины, которую физиогномика, чтобы не стать врагом человека и убийцей, как можно громче должна высказывать и подтверждать примерами; я разумею истину, о которой я только что говорил — честь, доброта, справедливость и любезность могут жить во всех, даже несовершенных формах лица. — Все рисовавшие вас хотели вас приукрасить. Однако простосердечия, главной черты вашего лица, нет ни в одном портрете, из всех когда-либо попадавшихся мне на глаза. Стало быть, никогда не испытывайте недоверия, не верьте в какую-то гнусность вашего лица. Ваша доброта, честность сможет пересилить все, что называют «гнусностью». Оставайтесь, я прошу вас, всегда верным вашему лицу! Природа не обошла вас стороной. Будьте лишь всегда тем, кем вы должны и можете быть по вашему облику. Вы никогда не сделаете зла, никогда не станете злым человеком! Вы сотворите много добра, и тысячи возрадуются, если только вы не станете действовать хуже, чем честность и доброта вашего лица позволяют мне надеяться, с уверенностью ожидать того. У вас черты лица, в которых, я хотел бы сказать, покоится счастье миллионов!»
Он был очень возбужден, и казалось, крайне растроган, почти до слез, ибо я произнес это с теплотой и дружелюбием, с ободряющей доверительностью. «О, вы добры! — или что-то подобное сказал он. Так вы полагаете, вы верите, что я, как я того желаю, еще смогу стать добрым, полезным человеком?»
Это было сказано с полной серьезностью.
Своей ладонью, — в тот момент, в той, если можно так сказать, ситуации это было в высшей степени естественно, — итак, ладонью своей руки я притронулся к его груди и сказал:
«Монсеньор! Я верю, что вы богобоязненны, почитаете добродетель и жаждете бессмертия. При таком образе мыслей вы не должны ничего страшиться, у вас никогда не возникнет причины для отчаяния! Здесь, в вашей груди, вы имеете наилучшего из друзей! — Повинуйтесь всегда только ему, ему одному, повинуйтесь ему полностью, ему — и никому другому, кто противоречит ему! И тогда да не убоитесь вы ничего в этом свете. Если этот друг за вас, кто может быть против? Никогда он не присоветует вам ничего, что не вело бы к добродетели, богу и бессмертию!..»
Нужно было видеть — это не поддается описанию, — с какой искренностью, простотой и чистосердечием воспринял он это поучение.
«Несомненно, дорогой Лафатер! Я богобоязнен и моя жена тоже. — Не правда ли, любовь моя?» Он подозвал ее кивком… «Несомненно, вы не услышите о нас ничего, что было бы противно религии и богопочитанию», — и обратившись к великой княгине, — «о ce bon ami m'a rendu a moi-meme, — или может быть, — 'm'a fait cadeau de moi-meme. — О если б мы только могли подольше быть вместе! Вы ведь, должно быть, не приедете в Петербург!»» [125]
При скептическом уже в эту пору отношении Карамзина к «физиогномическому колдовству», рассказ этот не мог его не взволновать: эпизод ярко рисовал наследника престола мятущимся, неуверенным в себе, что выгодно контрастировало с самоуверенностью и самовлюбленностью его матери. Рассказ Лафатера, рисуя Павла Петровича человеком, стремящимся к самоусовершенствованию, твердо выслушивающим поучения из уст «мудреца», ищущим руководства со стороны того, кто мог бы указать ему на его недостатки, импонировал оппозиционерам, поскольку заставлял вспомнить известные ситуации в политических трактатах и философских романах XVIII века.
Карамзин не упомянул в «Письмах» о своей беседе с Лафатером на эту опасную тему, но в другом месте, верный своему принципу оставлять наводящие следы интересовавших его серьезных вопросов, показал, с каким вниманием и осведомленностью собирал он данные о путешествии Павла по Европе. Посетив Шантильи, он «вспомнил то великолепное, беспримерное зрелище, которым принц Конде веселил здесь Северного Графа. Ночь превратилась в день» (312).
В этих поисках Карамзин мог натолкнуться еще на один источник. Как будет далее видно, Карамзина в Париже весьма интересовали салоны, которые доживали в это время свои последние дни. Среди прочих его внимание привлек салон дочери знаменитой мадам Жоффрен, маркизы Ферте-Эмбо. Участники салона были объединены в Высокий Орден Лантюрлелю. Члены Ордена, который был определен в его конституции как общество песен и шуток, делились на «простых лампонов» (слово из припева одной шуточной песенки, превращенной в гимн Ордена) и «рыцарей Лантюрлелю». Сама маркиза носила титул «Ее Экстравагантнейшего Величества лантюрлелийского, Основательницы Ордена и Самодержицы всех безумств». Орден был не лишен некоторого налета оппозиционности, но еще более противопоставлял себя знаменитому «философскому» салону матери маркизы, г-жи Жоффрен, что, впрочем, не мешало вездесущему Гримму посещать оба. Салон г-жи Жоффрен был в весьма дружеских отношениях с Екатериной II. С самой хозяйкой салона Екатерина находилась в переписке, салон посещался энциклопедистами, членом его было и такое близкое к русской императрице лицо, как Станислав-Август Понятовский. Последний называл г-жу Жоффрен «маменькой». Орден же Лантюрлелю русской императрице явно не импонировал: когда Гримм приехал в Россию, первый раздраженный вопрос, который ему задала Екатерина, был об этом обществе.
В Орден входили знатные русские: князь Барятинский, граф А. Строганов, такие противники «философов», как кардинал Бернини, правда, здесь можно было видеть и г-жу де Сталь.
Приехав в Париж, Павел не только посетил салон маркизы Ферте-Эмбо, но счел нужным принять сан рыцаря и принести письменную клятву на верность Самодержице всех безумств. Поскольку в Ордене педантически велись протоколы, текст клятвы Павла Петровича сохранился (в русских исторических трудах он никогда не упоминался до сих пор):
«Поскольку Ваше Величество располагает неистощимыми сокровищами, превосходящими все, что имеют величайщие персоны мира, и поскольку ее империя есть царство Разума, наступления которого должно чаять, чтобы все державы мира возродились, мы считаем себя счастливыми войти в пределы ее царства и сделаем, чтобы процветание и власть Ее Величества и ее империи длились сколь можно долго.
Павел — Мария» [126]
Если эти строки, что весьма возможно, попали на глаза Карамзина, то можно вообразить, с каким любопытством читал он обещание Павла способствовать распространению царства Разума с помощью игры и безумства.
Надо помнить, какие надежды возлагались на Павла Петровича в кругу Новикова, с одной стороны, и Зиновьева — Воронцова, с другой, надо иметь в виду, что Карамзин в этот период разделял подобные надежды, чтобы представить себе, в какой мере «русский путешественник» был заинтересован подобными рассказами.
Для того, чтобы предположить, что Лафатер не только рассказал Карамзину о свидании с «графом Северным», но и показал относящиеся к этому сюжету материалы своего архива, у нас есть и специальные основания.
В 1796 году Карамзин приветствовал воцарение Павла I «Одой на случай присяги…», где говорил о новом императоре:
Он хочет счастья миллионов, Полезных обществу законов…Если второй из этих стихов намекал на конституционные мечтания уже покойного Никиты Панина и здравствующих братьев Воронцовых, то первый воспроизводил слова, настойчиво повторявшиеся Павлу Лафатером:
Sie haben Gesichteszuge, in denen, mogt' ich sagen, das Gluck von Millionen liegt…
…Das Gluck von Millionen…
(У вас черты лица, на которых покоится счастье миллионов…..Счастье миллионов…)
«Ода на случай присяги московских жителей его императорскому величеству Павлу Первому, самодержцу всероссийскому» представляет собой развернутую декларацию. Прежде всего она содержит понятный современникам намек на то, как долго Павлу пришлось дожидаться принадлежащей ему по праву короны (попутно — опровержение слухов о существовании акта, лишавшего Павла престола):
Итак, на троне Павел Первый? Венец российския Минервы Давно (курсив мой. — Ю. Л.) назначен был ему…Показательно многозначительное многоточие после этой строки. В оде начертана обширная программа. Прежде всего — твердые законы, конституция («полезные обществу законы»), пролагающая черту между монархией и деспотизмом. Затем — судебная реформа:
В руках его весы Фемиды: От сильных не страшусь обиды, Не буду винен без вины.Напомним, что граф Головкин отказался вернуться в Россию, пока не будут отменены две пословицы: «Все божье да государево» и «Без вины виноват». В последней поговорке люди XVIII века видели как бы квинтэссенцию деспотизма. Особенно важна мысль о равенстве перед законом:
Ему все дети, все равны…Следующий пункт программы — просвещение:
Ликуйте (музы. — Ю. Л.)! Павел вас прославит, В закон учение поставит Любовь невежд кому завидна?И наконец — утверждение европейского мира:
…все на свете победить, И… мир всеобщий заключить [127].На осуществлении этой программы, по мнению автора, будет покоиться взаимная любовь монарха и подданных. Нетрудно заметить здесь те черты монарха, которые создавала французская публицистика 1789–1790 годов, рисуя вслед за Вольтером идеальную фигуру Генриха IV. Но этот же портрет вполне отвечал чаяниям русской оппозиции.
Чем оптимистичнее были надежды на новое царствование, тем непригляднее выглядело прошедшее.
В № 2 за 1797 год гамбургского журнала «Le Spectateur du Nord», с которым Карамзин был в это время тесно связан, опубликована на французском языке статья, посвященная итогам царствования Екатерины II. Есть все основания предполагать, что она принадлежит перу Карамзина [128].
Письмо в «Зритель» о Петре III
Г-н Зритель!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [129]
Вы открываете в Вашем журнале, так сказать, многие двери для всего того, что может быть интересно или поучительно: я заметил одну, через которую охотно проникли бы благонамеренные обозреватели, принося разнообразные дани мудрых и острых мыслей и живые, одушевленные картины, которыми так прославлен «Английский Зритель» — драгоценный сборник, в котором Англия находила столько приятных уроков вкуса и полезных наставлений в нравственности. Правда, что превосходные авторы этого издания не оставили ни в одной стране последователей. Но, хотя кажется, что французская республика разрушила республику словесности, еще имеются писатели, способные вместе с вами выполнить эту часть ваших намерений. В ожидании их появления примете ли вы краткую заметку правдивого путешественника? Ваши читатели потерпят ее за необычность и в силу обстоятельств.
О caecas hominem mentes… [130]
Иногда следовало бы изобразить Славу, как и Фортуну, с завязанными глазами. Она торопится распространять то, что только что узнала, и сама ее скорость препятствует ей видеть и уточнять детали сведений, которые она распространяет, детали, без которых невозможно хорошо понять и оценить факты. Если каждому возможно прийти к этому заключению в условиях самых обыкновенных, то наибольшей меры истинности оно достигает в обстоятельствах, касающихся вельмож и царей, которые как бы бронзовой стеной укрыты от взоров истины. Прошло более тридцати лет с той поры, как печальной памяти Петр III сошел в могилу; и обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила, звалась — слабость. Он получал разнообразные указания на заговор, который плелся против него: покойный посол Пруссии граф Гольц многократно его предупреждал об этом от имени своего государя: «Если вы хотите быть в числе моих друзей, не говорите мне более об этом», — отвечал он графу Гольцу.
Между тем заговор разразился. Низкие орудия мятежа и предательства, которые еще накануне звались его гвардией, в боевом порядке двигались по дороге на Ораниенбаум [131], где он тогда находился с частью своего двора. При этом известии император, слишком поздно выведенный из заблуждения, смутился и растерялся. Напрасно храбрый и верный полк гольштинцев предлагал ему идти навстречу мятежникам и, если потребуется, умереть за него. Он не осмелился поверить своим защитникам, число которых, действительно, не соответствовало опасности.
Кронштадтский порт, куда нельзя пройти по суше, казался ему более надежным прибежищем. В сопровождении своего двора он прибыл ко входу в порт и потребовал, чтобы ему открыли барьеры. Назвав себя, он получил ужасный ответ: «Императора больше не существует!» Ему даже пригрозили пустить на дно яхты, если они немедленно не выйдут в открытое море. Яхты подчинились, они принялись блуждать в широком устье Невы. Кто поверил бы, что в этот печальный момент одна из дам, сопровождавших императора, решилась пародировать остроту из комедии: «За каким чертом пошли мы на эту галеру?» [132] История не должна упускать подобных черт — они рисуют многое в малых словах.
Самодержец всея России не находил аршина земли, на который он мог бы беспрепятственно поставить свою ногу. Престарелый маршал Миних, прославленный своими победами, двадцатилетней ссылкой в Сибири и уважаемый за свой великий ум, ему предлагал поднять паруса и отправиться в Германию, где ему было бы легко собрать огромную армию, во главе которой он смог бы в несколько месяцев вернуться в свою империю триумфатором и основать свою власть на надежном фундаменте силы. Петр III, погруженный в пучину своих мыслей, видел в этом проекте только трудности; он колебался, и вскоре ему блеснула надежда полюбовной сделки — он за нее ухватился и избрал тот единственный путь, которого ему следовало избегать: он сдался своим врагам.
Государь, который уже не был более государем, вскоре после этого подписал в тюрьме акт своего отречения. Можно ли его осуждать — это было сделано под угрозой силы и преступления. Говорят, что Петр III должен был предпочесть смерть такому унижению — многие люди имеют жестокую наклонность сурово судить несчастья, которые им самим никогда не могут грозить. Сердце Петра III не могло подозревать предательства: он, без сомнения, надеялся, что насилие этим ограничится и что раскаяние или время рано или поздно изменят его участь… Оборвем рассказ на ужасной катастрофе, которая его увенчала.
За время своего краткого царствования он довел до предела свое восхищение Фридрихом Великим, но это восхищение перед столь могущественным государем может быть осуждено лишь за его преувеличения. Те же, кто его знал, могли оценить его редкую доброту. Она была полезна России: благодеяния, действие которых не прекращается, требуют за себя вечной благодарности.
Екатерина II взошла на царство, и слава ее наполнила мир. Философы были глашатаями этой славы. Друг истины не должен против этого возражать. Но разве ему не позволено счесть число мужчин, женщин и детей, которые заплатили жизнью за тридцать лет этого славного царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и более всего в России? Он пытается счесть ужасное число этих жертв и находит их столь же бесчисленными, как и количество ассигнаций, — мрачное свидетельство богатств, поглощенных блеском этого прекрасного царствования.
Примите и проч.
Путешественник [133].
Принадлежность статьи Карамзину весьма вероятна. Прежде всего следует отметить, что «Le Spectateur du Nord» был прочно связан с Карамзиным. Журнал заказал ему и опубликовал обзорную статью о русской литературе. Статья начиналась сенсационным сообщением о находке «Слова о полку Игореве», а заканчивалась подробным авторефератом «Писем русского путешественника», причем еще не вышедшие части Карамзин с необоснованным оптимизмом перечислил вместе с опубликованными как уже вышедшие. Редакция журнала представляла европейскому читателю Карамзина, который в России все еще считался начинающим литератором, как главу русского Парнаса. На страницах журнала была опубликована в переводе Буйи повесть Карамзина «Юлия», которую переводчик снабдил лестным для автора французским стихотворным посвящением:
Примите этот труд, писатель-чаровник, Успеха коего вы лестная причина; Вот — Юлия. Она, переменив язык, Отныне говорит на языке Расина. О если б на нее, с улыбкой бросив взгляд, Словами нежного привета и признанья Сказали вы: «Переменив наряд, О Юлия, и так ты все ж мое созданье!»В предисловии Буйи называл Карамзина соперником Флориана и Мармонтеля, что было в устах французского писателя конца XVIII века высшей похвалой.
Под статьей стояла подпись «Путешественник», что в свете недавно опубликованного журналом подробного реферата «Писем русского путешественника» и указания, что она прислана из России, делало псевдоним совершенно прозрачным.
Существенным аргументом является также совпадение основных мыслей статьи с известными высказываниями Карамзина.
Статья примечательна во многих отношениях. Петр III избран героем не случайно: такие законодательные акты правительства, как указ о вольности дворянской, уничтожение тайной канцелярии, прекращение гонений на старообрядцев, создали ему популярность в самых различных слоях населения. Имя его было присвоено рядом самозванцев, два первых указа вызвали в 1803 году слова Карамзина: «Я, как русской и дворянин, желал видеть место, которое нравилось Петру III: он подписал два указа, славные и бессмертные!» [134]
В уничтожении тайной канцелярии видели меру, направленную против произвола. На смену кровавому веку Петра, когда «жестокие обстоятельства заставили <…> прибегнуть к жестокому средству», когда исторический прогресс сочетался с деспотизмом и беззаконием, должен прийти век просвещенной мягкости нравов и законности. В специальной заметке «О тайной канцелярии» Карамзин писал: «Я чувствую великие дела Петровы и думаю: «Счастливы предки наши, которые были их свидетелями!» однако ж — не завидую их счастию!» [135]
В указе же о вольности дворянства видели зародыши русской конституции. Идеализация Петра III была выражением надежд на Павла I.
Однако период надежд был недолговечным: «чаемое царство Разума» уже очень скоро обернулось разгулом такого деспотизма, от которого в царствование Екатерины II русские подданные уже отвыкли и который скорее напоминал тиранию поздних римских императоров, чем власть европейского монарха на рубеже XVIII и XIX веков. Уже в 1797 году Карамзин написал стихотворение «Тацит», в котором утверждалось право на сопротивление тирании. Последний стих:
Терпя, чего терпеть без подлости не можно! —
Вяземский цитировал в 1826 году как оправдание антидеспотических устремлений декабристов.
Наконец в 1811 году в «Записке о древней и новой России» Карамзин подвел итог: «…что сделали Якобинцы в отношении к Республикам, то Павел сделал в отношении к Самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных, претерпенных им, неудовольствий, он хотел быть Иоанном IV» [136].
Физиогномические опыты Лафатера интересовали Карамзина и как писателя: внешние выражения чувств, психологический язык мимики привлекали его не меньше, чем философский аспект возможности соединения бессмертной и невещественной души со смертным и вещественным телом. Внимание Карамзина к внешним проявлениям душевных движений вызвало даже протест Кутузова, который хотел бы вообще изгнать из литературы интерес к «внешнему», сосредоточив все внимание на «внутреннем человеке». Плещееву он писал: «Может быть занимаешься чтением лорда Рамсея, и к сему не прилепляйся слишком <…> сие не есть упражнение человека, старающего шествовать к цели человека».
В этом эпизоде рядом с Карамзиным-политиком и Карамзиным-писателем рисуется еще одна тень: Карамзина — будущего историка. Размышления над психологией Павла ему пригодятся при построении образа Ивана Грозного.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ШВЕЙЦАРИИ
Однако забыл ли Карамзин среди долин и гор патриархальной Швейцарии о парижских происшествиях? Если судить по тексту «Писем», да. Но как было в жизни? Попытаемся реконструировать некоторые события.
В Швейцарии Карамзин познакомился и тесно сошелся с тремя датчанами. Двое из них: Йенс Баггесен и Адам Готтлоб Мольтке — оставили след в датской литературе. Карамзин провел в их обществе значительную часть своего швейцарского путешествия и, видимо, много с ними беседовал. Отзывы о них в «Письмах» неизменно дружественны. Содержание своих разговоров с датчанами Карамзин передает исключительно сдержанно: «Граф любит исполинския мысли!» (183); «Датчане Молтке, Багзен, Беккер и я были ныне поутру в Фернее, — осмотрели все, поговорили о Вольтере» (183). Даже из этих скудных заметок можно сделать вывод о некотором единомыслии между Карамзиным и теми, кого он избрал в свои спутники от Цюриха до Женевы, в чьем обществе посещал Лафатера и Бонне, принимая участие в сватовстве Баггесена к внучке Галлера и в дорожных радостях и неприятностях молодых датчан. Дружба с Беккером продолжалась и в Париже.
Баггесен позже в одном из своих сочинений описал настроения, которые владели им в эту пору: «В Фридберге принесли весть о взятии Бастилии. «Хорошо! Справедливо! Прекрасно! Чокнемся, почтальон! Долой все Бастилии! За здоровье разрушителей!»» [137] Карамзин сообщает, что его датские друзья из Женевы «ездили на несколько дней в Париж» и что «Граф с восхищением говорит о своем путешествии, о Париже, о Лионе, о проч.» (183). Из материалов Баггесена мы узнаем, что датчане были в Париже 16 дней, с 13 по 29 января, и ряд других важных подробностей. Они смотрели в театре трагедию М.-Ж. Шенье «Карл IX» (о значении этой постановки см. дальше), Баггесен под аплодисменты собравшихся французов плясал на развалинах Бастилии [138]. Баггесен позже так суммировал свои впечатления: «Париж в настоящее время можно сравнить с женщиной, мучающейся в родах — Assemblee nationale — акушерка. Но сравнение будет правильнее, если скажу: Париж — девица, для которой наступило время рожать, и дитя которой имеет несколько отцов». «Еще не было известно, спал ли супруг своим последним сном, будет ли новорожденный сыном или дочерью — и сможет ли акушерка вывести на свет божий ребенка целым и здоровым и без вреда для матери. Дом, однако, был, как обыкновенно в таких случаях, в крайнем беспорядке. — Так я нашел Францию при своем приезде в начале 1790 г.» [139] Так писал Баггесен, когда ретроспективно описывал свои настроения начала революции: сочувствие сохранилось, энтузиазм несколько умерился. Но летом — осенью 1789 и зимой 1790 года и он, и Мольтке были самыми пламенными почитателями французских «разрушителей».
Сведения эти интересны нам еще и с другой стороны: поездка из Женевы в Париж и обратно, видимо, была делом обычным и несложным. Это надо помнить, когда мы в недоумении останавливаемся перед некоторыми странностями периода, определенного в «Письмах» как женевский. Если верить «Письмам», Карамзин пробыл в Женеве пять (!) месяцев: первое литературное «письмо» из Женевы помечено 2 октября 1789 года, а покинул он ее, как мы помним по тем же письмам, 4 марта (фактически еще позже, в середине марта 1790 года). Беспрецедентная длительность пребывания в одном месте может быть сопоставлена лишь с краткостью и бессодержательностью писем этого периода. Карамзину решительно нечего делать в Женеве!
Сравним: за три года до Карамзина в Женеву приехал 22-летний П. А. Строганов со своим воспитателем, философом и математиком Жильбером Роммом. Строганов сразу же записался слушать лекции у нескольких профессоров. В первом же письме он сообщал отцу: «Мы здесь будем ходить на химические и физические курсы три раза в неделю». А через полгода он писал: «Мы здесь начали ходить в один астрономический курс; сия наука очень приятна, но и очень трудна; однако, мы до сих пор с помощью господина Ромма, все превозмогли» («мы», так как вместе с Павлом Строгановым курс наук проходил крепостной человек Строгановых, в будущем знаменитый архитектор Воронихин) [140].
Карамзин никаких курсов не посещал. Все, что мы знаем о Карамзине, свидетельствует о том, что он не был способен к бездеятельной жизни. Но и для уединенных мечтаний Женева была наименее пригодным во всей Швейцарии местом. Именно в это время в Женеве кипели политические страсти: влияние французских событий здесь сказывалось значительно сильнее, чем в других кантонах Швейцарии.
Присутствие Карамзина в Женеве 26 сентября 1789 года и 14 марта 1790 года засвидетельствовано его письмами к Лафатеру. Но был ли Карамзин между этими датами постоянным жителем Женевы? Не здесь ли следует искать два «пропавших» месяца его пребывания в Париже? По крайней мере, пример его датских друзей показывает, что 626 километров, отделявших Женеву от столицы Франции, не были непреодолимым препятствием. Ряд «дорожных эпизодов» в «швейцарском» разделе «Писем», звучащих откровенной литературой, позволяет, однако, предположить стоящие за ними какие-то реальные впечатления. Так, в письме из Базеля Карамзин описывает чувствительную сцену: почтенная пара — старик, кавалер ордена св. Людовика (явная реминисценция из «Сентиментального путешествия» Стерна!) с женой — бросаются в объятия молодых людей. Это нашедшие друг друга дети и родители, бежавшие из Франции, из своего охваченного пламенем замка, спасаясь от восставших крестьян.
Вся сцена носит неприкрыто театральный характер, и вряд ли ее можно отнести к реальным дорожным впечатлениям. Однако за ней стоят впечатления вполне реальные и особенно актуальные для русского наблюдателя, для которого крестьянский бунт был перспективой значительно более близкой, чем третьесословная революция.
Отказ депутатов-аристократов от всех феодальных прав и отмена Национальной ассамблеей феодальных установлений, описывавшиеся публицистами тех дней в тонах римской гражданственности, протекали на фоне бурной аграрной революции. 18 августа 1789 года газеты опубликовали специальное извещение от имени короля, в котором крестьян призывали не верить утверждениям «смутьянов», что сожжение замков и феодальных архивов совершается ими в согласии с намерениями короля. Через день был опубликован принятый 10 августа декрет Национальной ассамблеи «О восстановлении общественного спокойствия», также направленный против волнений в сельских местностях. Сообщениями об этом были полны газеты, они же, видимо, были предметом слухов и разговоров в Париже во время пребывания там Карамзина.
Еще более показателен другой эпизод. В письме с пометой «Лозана» Карамзин пишет: «Я завтракал у Г. Левада с двумя Французскими Маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о Парижских дамах, сказав, что некоторые из них, видя нагой труп нещастного дю-Фулона, терзаемый на улице бешеным народом, восклицали: как же он был нежен и бел! И Маркизы рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом!! У меня сердце поворотилось» (154).
Хотя даты над лозаннским письмом нет, по общей логике оно должно относиться к концу сентября 1789 года. В дни, когда Кутузов (и, полагаем, Карамзин!) были в Париже, самосуд над Фулоном был одной из самых волнующих новостей и предметом всеобщих разговоров. Неукротимость народной ярости, от которой защитить Фулона оказались бессильны тогдашние кумиры Парижа Лафайет и Бальи, явилась первым раскатом грома, предвещавшего размах приближающейся грозы. Генеральный контролер финансов, человек, устанавливавший налоги, Фулон был ненавистен парижскому народу особенно за свои слова о том, что голодающие могут жрать сено. Толпа схватила Фулона, вырвала из рук властей, пытавшихся успокоить народ обещаниями законной расправы, и разорвала на куски. Его отрубленную голову со ртом, набитым сеном, носили по улицам Парижа. О потрясающем впечатлении этого самосуда свидетельствует то, что 28 июля газета «Journal General de France» опубликовала официальную версию, которая должна была снять ответственность за происшедшее с новых, созданных после взятия Бастилии, властей. Сначала Лафайет выступил перед народом, заполнившим зал ратуши: «Ничто не может описать истину мыслей, изящество выражений, правдивость душевных движений, — все средства красноречия, с помощью которых этот оратор-герой умел более двух часов торжествовать над этим многочисленным собранием». Но когда он выступил перед собравшейся на площади толпой, его голос заглушили шум и крики: «Площадь ничего не желала слушать» [141]. Фулон был взят силой и выволочен из ратуши, писала газета. Переписка современников отразила общественный шок, вызванный этим событием. Бабёф в письме невесте резко осудил самосуд, но обвинил в нем политику тиранов, превратившую народ в зверей. А Жильбер Ромм в письме Дюбрейлю оправдал народный гнев, но высказался все же в защиту законной судебной процедуры [142].
Когда Карамзин находился в Лозанне, гибель Фулона уже была устаревшей новостью. Ее заслонили новости более актуальные. Трудно представить себе, что парижские маркизы явились в Швейцарию, чтобы позволить Карамзину ввести этот эпизод в свою книгу. Вероятнее, что Карамзин вспоминал здесь толки, которые он слышал не в Лозанне, а в Париже.
Когда Карамзин обдумывал в Москве планы путешествия, как мы уже отмечали, Париж не занимал в них, видимо, выдающегося места. Никто не мог предвидеть, что через очень краткий срок Франция и ее столица из места паломничества щеголей и петиметров всего мира, центра тех удовольствий, которые мог богатый иностранец получить за зеленым сукном и у «нимф» Пале-Рояля или в театрах Бульвара, превратится в место, где испытываются и куются судьбы мира.
События не могли не повлиять на планы путешественника. Швейцария должна была смениться южной Францией или, может быть, Италией. Длительное пребывание в Женеве, возможно, говорит о колебаниях в выборе дальнейшего пути. Женева в этом отношении была особенно удобна: она позволяла совершать наезды в Париж и не порывать с планами, пока еще не отброшенными, южного путешествия.
Женевские знакомства открывали Карамзину возможность более глубокого проникновения в толщу парижских событий. Швейцарцы из Женевы и особенно Фрибурга находились в тесных связях со своими парижскими земляками. В 1790 году в Париже возник Гельветический клуб, организованный Рулье и вдохновляемый Лустало [143]. В дни, когда Париж торжествовал возвращение швейцарца Неккера на пост главы правительства как победу революции над королевской властью, рекомендательное письмо из Швейцарии могло открыть многие двери. Особенно же существенными стали связи между швейцарскими и французскими протестантами: первые месяцы революции были временем ожесточенной борьбы за веротерпимость, отделение церкви от государства и признание за протестантами равных гражданских прав. В Париже споры кипели в Национальном собрании, на юге Франции они вышли на улицу, переходя местами в открытую гражданскую войну. Сторонники сохранения за католицизмом статуса государственной религии вошли в лагерь защитников старого порядка, защитники веротерпимости поддерживали революцию. Швейцария была традиционным убежищем кальвинистов, гонимых во Франции после отмены Нантского эдикта. Родственные и религиозные связи парижских и швейцарских протестантов могли также помочь молодому москвитянину проникнуть в гущу политической жизни Парижа.
В «Письмах» возникает образ путешественника, равнодушно взирающего на политические споры французов, — как скучающий зритель, он смотрит из партера на пьесу из совершенно чужой жизни. Большинство исследователей полагает, что это и есть истинное отношение Карамзина к парижским событиям в 1789–1790 годах.
В 1982 году сотрудница Ленинградского отделения Института истории АН СССР И. С. Шаркова обнаружила в фонде Жильбера Ромма рекомендательное письмо от женевца Кунклера Жильберу Ромму [144]. Документ этот важен. Приведем строки, посвященные Карамзину:
Женева 10 марта <1790>
Сударь!
Пользуюсь отъездом г. Карамзина, москвитянина, чтобы Вам послать историческую справку о жизни и трудах проф. г. Верне, которая только что появилась. <…> Русский, который Вам ее передаст, — писатель, который был рекомендован моему отцу г. Лафатером. Я думаю, что он пробудет в Париже некоторое время. Мои родители берут на себя смелость Вам его рекомендовать.
Далее в письме содержатся приветы Павлу Строганову и вопросы о работе Национальной ассамблеи и об успехах революции [145].
Поскольку письмо находится в архиве Жильбера Ромма, то, как справедливо полагает И. С. Шаркова, оно было вручено адресату. Следовательно, свидание Карамзина и Ромма в Париже состоялось. О значении этой встречи речь пойдет ниже. Сейчас укажем лишь, что у нас нет оснований полагать, что письмо к Ромму было единственной рекомендацией, которой запасся Карамзин в Женеве. Если такие письма были — в чем, как мы увидим ниже, почти не приходится сомневаться, — следы их нужно искать в архивах деятелей Французской революции. Пока отметим лишь желание Карамзина получить «пропуска» в революционный лагерь. Отметим попутно, что к Канту, Виланду или Гёте он отправлялся безо всяких рекомендаций, хотя, конечно, мог их легко получить в Москве, например, от того же Ленца.
В ЛИОНЕ
Описание Лиона прекрасно показывает механизм превращения в «Письмах» Карамзина действительности в литературу. Еще женевские письма отразили планы путешествия по югу Европы: «Главное мое упражнение состоит теперь в том, чтобы рассматривать ландкарту и сочинять план путешествия. Мне хочется пробраться в южную Францию, и видеть прекрасные страны Лангедока и Прованса» (187). Рассматривание карты, конечно, подразумевает, что выбор еще не сделан, а также известную обширность планов: отправляясь на два-три дня в поездку по недалеким окрестностям, нанимают карету, не рассматривая карты.
Однако Карамзину не было суждено отправиться на юг «Гробница нежной Лауры, прославленной Петраркой! Воклюзская пустыня, жилище страстных любовников! шумный, пенистый ключь, утолявший их жажду! я вас не увижу!.. Луга Прованские, где тимон с розмарином благоухают! не ступит нога моя на вашу цветущую зелень!.. Нимский храм Дианы, огромный Амфитеатр, драгоценные остатки древности! я вас не увижу! — Не увижу и тебя, отчизна Пилата Понтийского! не взойду на ту высокую гору, на ту высокую башню, где сей нещастный сидел в заключении; не загляну в ту ужасную пропасть, в которую он бросился из отчаяния! — Простите, места любопытныя для чувствительного путешественника!» (210–211).
Слова «где тимон с розмарином благоухают» напоминают другие: «где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена» (повесть «Сиерра-Морена») [146]. Повести «Сиерра-Морена» и «Остров Борнгольм», написанные одновременно в 1793–1794 годах, дают еще одну — романтическую версию странствий «русского путешественника», их крайнюю южную и крайнюю северную точки. Для нас этот замысел особенно интересен: он свидетельствует, что, по крайней мере в мечтах, Карамзин не исключал возможности посещения Испании. Однако, приспосабливая свои мечты и планы к сюжету «Писем», он сократил их до намерения посетить юг Франции.
Чем же был вызван отказ от планов, надежд и предположений? В «Письмах» мотивировкой служит чувствительная сцена. В Лионе путешественнику предстояло расстаться со своим датским другом: Беккер должен был ехать в Париж. «Несколько минут я сражался с самим собою, сидя в задумчивости перед камином. Любезный Датчанин разбирал между тем свой чемодан, в котором лежали некоторыя из моих вещей. Вот твои книги, говорил он — твои письма — твои платки — возьми их! Может быть мы уже не увидимся. — Нет, сказал я, встав со стула и обняв с чувствительностию Беккера — мы едем вместе!» (210).
Можно предположить, что в решении Карамзина участвовали и не столь трогательные мотивы. Юг Франции в эти дни был охвачен огнем. В Авиньоне, в окрестностях которого находится Воклюз — первый пункт намеченного Карамзиным маршрута, — произошла муниципальная революция. Авиньон, купленный в 1348 году папой Клементом VI у герцогов Прованса, принадлежал папскому престолу до 1791 года, когда революция воссоединила его с Францией. Однако с 1789 года в городе начались волнения. Был избран новый муниципалитет, который ввел двойную присягу — Отечеству и св. престолу, отменил инквизицию и пытался провести ряд других реформ. Папа отказался признать новый муниципалитет и его реформы. В городе началась гражданская война, увенчавшаяся присоединением его к Франции [147].
Карамзин собирался посетить Ним, но именно в эту пору в городе вспыхнули кровавые беспорядки. Конфликт между католиками и протестантами, спровоцированный правыми элементами, вылился в ряд кровавых инцидентов. Став жертвами расправ, протестанты Нима обратились за помощью к единоверцам из Женевы. Прибывшая из соседних городов (Бокера, Тараскона и др.) национальная гвардия пыталась остановить кровопролития. Кровавые столкновения происходили и в Марселе. Кроме кровопролитий на религиозной почве, юг был охвачен крестьянскими волнениями: горели замки, по дорогам бесчинствовали вооруженные отряды. Карамзин знал об этом, и, вероятно, не только сентиментальная дружба к Беккеру заставила его переменить планы путешествия.
Однако и в Лионе он не избегнул зрелищ, напоминающих, что он находится в стране, охваченной революцией. Вот как представлено дело в «Письмах»: «Смотри! смотри! закричал мой Беккер. Я бросился к окну, и увидел, что вокруг ратуши толпится шумящий народ. Что это значит? спросили мы у слуги, который прибирал мою комнату. Какое нибудь новое дурачество, отвечал он. Но я любопытен был знать это дурачество, и вместе с Беккером пошел на улицу. У пяти или шести человек спрашивали мы о причине шума: но все отвечали нам: qu'en sais-je? (почему мне знать?) Наконец дело объяснилось. Какая-то старушка подралась на улице с каким-то стариком; понамарь вступился за женщину, старик выхватил из кармана пистолет и хотел застрелить понамаря; но люди, шедшие по улице, бросились на него, обезоружили, и повели его… a la lanterne (на виселицу); отряд национальной гвардии встретился с сею толпою людей, отнял у них старика и привел в ратушу — вот что было причиною волнения! Народ, который сделался во Франции страшнейшим деспотом, требовал, чтобы ему выдали виновного и кричал: a la lanterne» (209).
А как обстояло все на самом деле? Свидетелем чего был Карамзин в Лионе 1790 года? Лион сохранил до самого начала революции особую, сложившуюся в прошлом олигархическую форму правления: власть в городе находилась в руках трех консулов, представлявших наиболее богатые фамилии. Сформированная летом 1789 года национальная гвардия была буржуазной по составу и поддерживала городское управление. 7 февраля 1790 года произошли кровавые столкновения между народом и национальной гвардией. Народ захватил арсенал и вооружился. Между отрядами добровольцев «из хороших семей» и городским плебсом завязались подлинные бои, в результате произошли коренные перемены в городском самоуправлении: был избран новый муниципалитет, значительно более демократический по составу и на основах, принятых в других городах Франции [148]. Карамзин представил лионскую ситуацию — гражданскую войну между народом и буржуазной национальной гвардией — в облегченно-курьезном виде. Однако вряд ли он воспринимал ее так сам. Его изложение подчинено общей задаче — отделить мирный процесс глубокого преобразования жизни, совершающийся во Франции (а в 1790 году казалось, что этот процесс будет мирным и выльется в борьбу парламентских ораторов), от буйных проявлений улицы и бунтов плебса. К первому он относился хотя и с долей скептицизма, но безусловно положительно, ко второму столь же безусловно отрицательно. Однако ему было важно отделить для русского читателя эти две стихии одну от другой и не допустить их смешения. Одновременно Карамзин, как чуткий сейсмограф, хотя и смягчал характер событий, но точно указывал на их эпицентры. Другим таким эпицентром лионского напряжения был театр, и Карамзин повел своих читателей в лионский театр.
Историк Лиона времен революции пишет, что в результате аграрных волнений и кровавых событий в мелких городах юга Лион «увидел в своих стенах стечение толпы лиц, скомпрометированных связями со старым режимом или спасавшихся от взрывов народного гнева. Этот род внутренней эмиграции придавал определенным слоям лионского населения оттенок контрреволюционности. В общественных местах, гостиницах, за табльдотами, в кафе только и слышались, что пересуды против нового режима. В театре, где эти легкомысленные пришельцы господствовали, этот дух, в связи с намеками на современность, содержащимися в пьесах, порождал шумные манифестации» [149].
Карамзин показывает нам ряд театральных сцен, служащих как бы иллюстрацией к этим словам и понятных только в связи с ними. Только зная положение, создавшееся в Лионе и вызывавшее конфликты между теми, кого Ж. Морен называет «легкомысленными пришельцами» («ces etrangers oisifs»), и демократической публикой, заполняющей партер, можно понять страницы «Писем» Карамзина.
В театральной зале Карамзин, прежде всего, отмечает отсутствие почтения народного зрителя к публике «из хороших семей»: «Необыкновенная вольность удивила меня. Естьли в ложе или паркете («паркет» — отгороженная передняя часть зрительной залы, в которой ставились кресла и которая считалась привилегированным местом; за паркетом находился партер, в котором стояли и места в котором были дешевы. — Ю. Л.) какая нибудь дама вставала с своего места, то из партера кричали в несколько голосов: садись! прочь! a bas! a bas! Вокруг нас было не много порядочных людей, и для того уговорил я Беккера итти в паркет» (195). Затем Карамзин вводит двух щеголей, едущих из Парижа, но сами они — что особо оговаривается — не лионцы, а жители Лангедока. Это и есть те аристократические беглецы из охваченных волнениями провинций юга, нашествие которых придает контрреволюционный налет лионскому обществу. Соединение традиционной маски петиметра с чертами защитника старого режима показывает не только знакомство Карамзина с памфлетной публицистикой и карикатурами тех дней (об этом речь пойдет ниже), но и говорит о художественном использовании им этой, революционной по своей природе, литературы.
«Один. Куда вы едете?
Я. В Париж.
Другой. В Париж? Браво! браво! Мы сей час оттуда. Что за город! А, государь мой! Какия удовольствия вас там ожидают! удовольствия, о которых здесь в Лионе не имеют понятия. Вы конечно остановились в Hotel de Milan? и мы там же. (Своему товарищу). Mon ami, nous partons demain? (Мы завтра поедем?)
Один. Oui.
Другой. Правда, надобны деньги — —
Один. Что ты говоришь! Руские все богаты как Крезы; они без денег в Париж не ездят. <…>
Один. (просыпаясь). Браво, браво, Вестрис! (стучит палкою в декорацию). Он первый танцовщик во вселенной! — (Задумывается и вздыхает). Умирая, могу сказать, что я наслаждался жизнью; все видел — —
Другой. Все видел и все испытал! Примолви это, мой друг! ха! ха! ха!
Один. Mais oui, oui! Правда! — Вы верно знаете того Руского Графа, который нынешнюю зиму провел в Монпелье?
Я. Графа Б..? по слуху.
Один. Он у меня обедал в загородном доме. Brave homme! (Задумывается и храпит)» (196–197).
Весь разговор этот тем более интересен, что он очевидно вымышлен. Русский граф Б… — это, конечно, побочный сын Екатерины II Алексей Григорьевич Бобринский, который, находясь в Париже, по словам известного Е. Ф. Комаровского, «вел жизнь развратную, проигрывал целые ночи в карты и наделал множество долгов» [150]. Кроме того, что само упоминание это было крайне неприятно Екатерине II [151], болезненно переносившей скандальное поведение своего «сына любви», к которому она никаких материнских чувств не питала (вообще это чувство, видимо, было ей незнакомо), подобный разговор попросту был невозможен: граф Бобринский не мог обедать «нынешней» (т. е. 1789/90 года) зимой у лангедокского щеголя, так как Екатерина II, выведенная из терпения его мотовством и скандалами, вытребовала его в 1788 году домой и безвыездно заперла в Ревеле. Упоминание это нужно Карамзину, чтобы традиционной сатирической маске щеголя придать злободневное звучание и определенный социальный колорит.
Театральные соседи Карамзина включили в поток своих штампованно-сатирических речей, доставшихся им от литературной традиции XVIII века, признаки времени: они болтают и передают пустые слухи о революционных событиях: «Один. Граф Мирабо имел дело (т. е. дуэль. — Ю. Л.), сказывают — —
Другой. С Маркизом — —
Один. За что?
Другой. Маркиз зацепил его за живое в Национальном Собрании» (196).
Тема театральной болтовни двух щеголей была волнующей: она касалась распри и взаимной ненависти двух кумиров Парижа этих дней: Лафайета и Мирабо. Лафайет, окруженный ореолом героя американской революции, соединявший утонченность аристократа, свободомыслие ученика просветителей XVIII века и славу защитника свободы, поставленный первыми волнами революционной бури во главе национальной гвардии, как бы олицетворял для Парижа 1789–1790 годов союз Свободы и Порядка, столь привлекательный для тех, кто считал, что революция уже сделала свое дело и пора остановиться. Личная честность, безупречное следование принципам морали так же, как и аристократическая опрятность одежды, привлекали сердца парижан к этому, по сути дела, ограниченному человеку и совершенно бездарному политику. Прямо противоположной фигурой был маркиз Габриэль Оноре-Рикети де Мирабо. Сын известного экономиста, соединявшего в своем лице философа XVIII века и феодального тирана-сеньора, он долгие годы волей отца-феодала просидел в тюремной камере, бежал, был вновь арестован и вновь заключен на годы в крепость, прославился как публицист — автор скандальных обличений всех европейских монархов (Екатерина II находила, что он «не единой, но многие висельницы достоин») и только в дни революции нашел применение своим гениальным способностям, своему неукротимому честолюбию и столь же неутолимой жажде наслаждений. Рябой, неопрятный в одежде, вульгарный в обращении, он сумел, однако, стать первым из плеяды гениальных ораторов, выдвинутых революцией и открывших секрет колебать мир словом. Своим «львиным ревом» (Пушкин) он потрясал стены Национальной ассамблеи и сердца всей Европы. В первом революционном форуме Франции он был передовым бойцом революции. Именно он наносил самые страшные удары старому режиму и его защитникам. И одновременно это был честолюбец, глубоко захваченный коррупцией, ведший тайные переговоры с двором и упорно рвавшийся к власти и деньгам: он любил роскошь, и долги его душили. Он умер вовремя, и его похоронили как героя Свободы. В период диктатуры Неподкупного его голова украсила бы не Пантеон, а гильотину.
Условная форма беседы случайных знакомых позволила Карамзину включить в текст «Писем» слухи и разговоры — устную стихию истории. К ней Карамзин прислушивался с интересом. Никакой дуэли между Мирабо и Лафайетом не было, но передававшиеся из уст в уста слухи не были полностью безосновательными: несмотря на попытки скрыть от публики подлинную сущность их отношений, Мирабо и Лафайет не могли утаить взаимной неприязни. Попытки образовать тактический блок в борьбе за власть не увенчались успехом. Осенью 1789 года Лафайет предложил Мирабо пост посла и пятьдесят тысяч ливров на уплату долгов. Мирабо деньги принял, но от посольства отказался, надеясь занять более высокое кресло — жажда министерского портфеля заставила народного трибуна войти в весьма сомнительные отношения с двором.
Письменные источники сохранили множество слухов о вражде Лафайета и Мирабо. Лафайету приписывали слова: «Я победил мощь короля Англии, власть короля Франции, ярость народа — мне ль отступать перед Мирабо» [152]. Мирабо насмешливо прозвал Лафайета «Кромвель-Грандиссон», намекая на стремление играть одновременно две роли: революционного диктатора и сентиментального героя добродетели. Сам Мирабо «уж верно был не Грандиссон». В салонах повторяли такой разговор между Мирабо и Лафайетом:
— Я знаю, г-н Мирабо, что вы мой давний враг!
— Если вы в этом убеждены, г-н Лафайет, что ж вы до сих пор не приказали меня убить? [153]
В театральной сцене, нарисованной Карамзиным, имеется деталь, проходящая мимо внимания современного читателя: случайные собеседники автора хотя и превозносят танцевальные таланты Вестриса, неожиданно резко отзываются о нем в целом: «Жаль, что он превеликая скотина. Я его знаю» (196). Это тем более бросается в глаза, что тут же сообщается о величайшем энтузиазме, который вызывает парижский танцовщик у лионского плебса: «Энтузиазм был так велик, что в сию минуту легкие Французы могли бы провозгласить Вестриса своим Диктатором» (438). В дальнейшем Карамзин смягчил эту решительную формулировку, вставив при переизданиях осторожное «могли бы, думаю, провозгласить…» (198).
Современный нам читатель видит в этих словах лишь иронию: танцовщика за легкость ног («прыгал как резвая коза», 195) готовы произвести в политики и государственные деятели. Однако современники Карамзина не только в Париже, но и в России имели основания понять скрытый смысл этих слов: знаменитый танцор Мари-Огюст. Вестрис-Аллар (известный также как Вестрис-сын) прославился не только легкостью ног и изобретением пируэтов и сложных антраша. Он снискал популярность Парижа, первым превратив балет из «королевского зрелища» в «зрелище для народа». Осенью 1788 года он демонстративно отказался танцевать для коронованных шведских гостей королевы. Отказавшись выполнить приказ, а затем и личную просьбу Марии-Антуанетты, он был подвергнут аресту и по приказу короля полгода просидел в тюрьме [154]. Освобожденный после решительных народных протестов, Вестрис сделался видной фигурой не только художественной, но и политической жизни Франции, сцена, описанная Карамзиным, — один из примеров тех «шумных манифестаций», о которых говорит Ж. Морен.
Когда Карамзин издавал полный текст «Писем», он знал уже и дальнейший путь Вестриса. Ему было известно — поскольку об этом сообщалось в европейской прессе, за которой Карамзин пристально следил, — что Вестрис принял активное участие в ряде художественных начинаний революции, сделался кумиром санкюлотов, танцевал карманьолу не только на балетных подмостках, но и под окнами заключенной в Тампль Марии-Антуанетты. Он не вычеркнул этой сцены, передающей атмосферу Лиона весной 1790 года, однако политический смысл имени Вестриса ему был понятен. Недаром, переиздавая в 1803 году стихотворение «Филлида», написанное в 1790 и содержавшее строки:
Прыгунья Терпсихора, Как Вестрис, пред тобою Пляши, скачи, вертися… —он предпочел их исключить явно из цензурных соображений.
Карамзин ввел в театральный мир своего Лиона еще один эпизод — постановку пьесы М.-Ж. Шенье «Карл IX, или Варфоломеевская ночь». По имеющимся у нас — к сожалению, неполным — сведениям, Карамзин мог действительно видеть эту пьесу в Лионе. Не будем, однако, забывать, что Мольтке и Баггесен (может быть, и Карамзин?) видели ее в Париже. Наконец, постановка этой пьесы была столь важным событием в общественной и театральной жизни Франции, вызывала столь шумные толки, что автор «Писем» мог посмотреть ее дважды.
Включение эпизода с пьесой М.-Ж. Шенье именно в лионские письма имело глубокий смысл. «Карл IX» был одним из наиболее ярких явлений театра революции, и нам еще придется вернуться к нему. Сейчас отметим лишь один, исключительно важный для Карамзина, аспект: в пьесе Шенье старый режим представлен в двух лицах — королевского деспотизма и религиозного фанатизма. Причем именно этот последний — наиболее активный носитель зла старого мира. Такая точка зрения, восходившая к Вольтеру и просветителям XVIII столетия, была близка Карамзину: терпимость и гуманность для него — основы человеческого общежития. Однако эти общефилософские вопросы получали особый смысл в условиях реальной ситуации французского юга первых лет революции. Вспышки нетерпимости и фанатизма, активная роль католической церкви в защите феодальных установлений, кровавые эксцессы, развертывавшиеся перед глазами Карамзина, придавали «Карлу IX» в Лионе в 1790 году особую, местную, актуальность.
Не случайно в центр лионского эпизода Карамзин поставил посещение путешественником госпиталя. Огромный госпиталь был одной из муниципальных достопримечательностей Лиона, предметом гордости горожан. Для Карамзина он становится символом гуманности и взаимопомощи людей, особенно важным в атмосфере насилия и ненависти, окружающих путешественника в Лионе.
В письмах из Лиона содержится еще один привлекающий внимание эпизод: посещение скульптора, который до приезда во Францию «в Италии образовал свой резец по моделям древних художников». «Ныне мало работаю, сказал он, будучи принужден (здесь он вздохнул) часто вооружаться и ходить на караул, так как и все прочие граждане. Вид недоделанных статуй приводит меня в уныние. Ах, государи мои! вы не можете войти в чувство художника, отвлекаемого от работы! — Ты истинный художник! думал я» (201). Мы привели этот эпизод как иллюстрацию методов работы Карамзина над реальным материалом. Разговор, подобный приведенному в лионском письме, видимо, действительно происходил. Однако произошел он не в Лионе, а в Париже. В Париже Карамзин встречался с Михаилом Ивановичем Козловским. Козловский провел пять лет (1774–1779) в Италии, где «упражнялся в копировании античных статуй» и «изучении антиков». В 1788 г. Козловский был отправлен в Париж в качестве инспектора при русских молодых скульпторах. О том, что жалобы, сходные с теми, которые высказывал лионский скульптор, Карамзин мог слушать именно от Козловского, свидетельствует донесение последнего в петербургскую Академию: «Здесь воспоследовала перемена большая — граждане взяли оружие и содержат сами караул и нас к тому принуждают, не принимая никаких отговорок, на что пенсионеры императорской Академии Художеств крайне ропщут, ибо стоит им каждая неделя — 6 франков, а самим ходить, казалось бы, непристойно с ружьем в чужом отечестве, для сей причины был я у нашего посланника, сказывал ему, что нас императорская Академия не с тем сюда прислала, чтобы нам ружье здесь носить, и просил его, чтобы нас защитил, на что его превосходительство не дал никакого решения, и мы теперь все должны исполнять, что нам прикажут» [155]. И содержание письма, и совпадение оценок таланта (ср. в парижском письме о Козловском: «Русский Артист с великим талантом», зд.: «истинный художник») наводят на мысль о чисто литературном характере эпизода с лионским скульптором.
«БЛАЖЕН, КТО ПОСЕТИЛ СЕЙ МИР В ЕГО МИНУТЫ РОКОВЫЕ…»
Оценивая итоги заграничного путешествия Карамзина, проницательный Кутузов писал Настасье Плещеевой: «Может быть, и в нем произошла французская революция?» [156] Революция не была предусмотрена никаким предварительным планом вояжа, в котором Париж отнюдь не занимал центрального места. Революционный Париж сам ворвался в планы путешественника, все перемешал, передвинул, потребовал себе центрального места и главного внимания.
В тексте «Писем» приложено много усилий для того, чтобы представить пребывание в Париже увеселительной прогулкой беспечного вояжёра. Попытаемся, насколько это возможно и ни на минуту не теряя из виду гипотетического характера наших реконструкций, все же восстановить биографическую реальность пребывания Карамзина в Париже,
Мы уже знаем, что в Женеве Карамзин запасся рекомендательным письмом к Жильберу Ромму. Свидание Карамзина с Роммом и, бесспорно, с Павлом Строгановым, состоялось.
Какие впечатления мог Карамзин вынести из этой встречи? Кто встретил Карамзина, когда он переступил порог парижского дома Жильбера Ромма?
Мы уже говорили, что Жильбер Ромм был ученый математик и суровый республиканец. Это была одна из натур, взращенных эпохой «соединения теории с практикой, умозрения с деятельностью». А это — люди, для которых идеи просветителей не были уже открытиями, потрясающими своей новизной. Для них это были истины, вошедшие в плоть и кровь, истины, естественные, как дыхание. Более того: принципы свободы и равенства, римской гражданственности, чести и героизма для них перестали быть книжными абстракциями. Подражание Бруту или Гракхам сделалось нормой каждодневного поведения. Но в толпе деятелей революции, среди которых были титаны и пигмеи, «апостолы свободы» и «духовники гильотины», неподкупные и весьма даже подкупные, герои-стоики и честолюбцы-сибариты, рыцари человечества и кровожадные любители звонкой фразы, Ромм выделялся твердостью принципов и какой-то младенческой чистотой души. Античный идеал гражданина, принципы стоика и характер героя соединялись в его личности с редкой мягкостью. Ум ученого и душа древнего римлянина каким-то чудом умещались в его слабом и небольшом теле с крупной головой и высоким лбом. Он был добр и обаятелен — всю жизнь его окружала атмосфера дружеской откровенности и свободы. Приняв приглашение отправиться в далекую Россию воспитателем Павла Строганова — сына богача и вельможи барона Александра Строганова, — он сумел поставить себя в доме магната не как наемный учитель-француз, а как равный, как античный мудрец или идеальный воспитатель из «Эмиля» Руссо, взявшийся по дружбе образовать человека из ребенка, отданного ему в полное и безотчетное распоряжение.
С начала революции мы видим Ромма и его воспитанника в Париже, в самой гуще событий, участниками штурма Бастилии и пламенными сторонниками наступившей эпохи [157].
В начале 1790 года Ромм организовал общество «Друзей закона». «Одним из главных заданий общества, — как оповещало оно в своей программе, — будет знакомить публику с работами Национальной Ассамблеи», «следовать день за днем за ее трудами», обращая особое внимание на споры «о свободе печати и слова» [158]. Ромм рассматривал посещение заседаний Ассамблеи как практический курс политической науки для своего воспитанника, который отказался от фамильного имени и титула и принял «революционное» — гражданин Отчер (по названию одной из уральских деревень Строгановых). 8 сентября 1789 года Ромм писал Дюбрейлю: «С некоторых пор мы самым точным образом посещаем заседания Национальной Ассамблеи. Она мне кажется превосходной школой прав для Отчера, который проявляет к ней живейший интерес. Она заполняет наши беседы. Образование, которое мы получаем в ее стенах, касается всех сторон и всех великих вопросов политической конституции. Она столь сильно поглощает все наше внимание, что какие-либо другие занятия нам сделались почти невозможными» [159]. Чтобы представить себе атмосферу дома, в который вошел Карамзин, приведем письмо, которым Павел Строганов в ноябре 1790 года отвечал Демишелю, гувернеру его двоюродного брата, предупреждавшему «Отчера» из Петербурга об опасности его парижских увлечений:
«Сударь, я только что получил письмо, которое Вы написали г. Ромму. Хотя вы заявили, что все, что вы пишете, это только лишь предположения, они достаточно основательны для того, чтобы мы предприняли все, что в наших силах, чтобы предотвратить готовую разразиться грозу. Вследствие этого мы принимаем официальное предложение, которое вы нам делаете. Вы пишете в своем письме, что я обвиняюсь в том, что я, вместе с некоторыми русскими, подписал письмо в Национальную ассамблею с просьбой предоставить нам место в амфитеатре на празднике Федерации, и прибавляете, что если обвинение окажется обоснованным, въезд в Россию мне будет запрещен. Обвинение ложно, так как я узнал о существовании адреса только после того, как он был прочитан у решетки Национальной ассамблеи [160]. Если же избирают этот предлог за неимением других, то их вполне достаточно: я член якобинского клуба, дважды я участвовал в депутациях у решетки Национальной Ассамблеи <…>, я присутствовал почти на всех заседаниях Национальной Ассамблеи и протоколировал их и вообще все мое поведение с момента начала Революции (Строганов пишет это слово с большой буквы. — Ю. Л.) слишком ясно обозначает мой образ мыслей. Итак, если хотят меня окончательно обвинить, то оснований для этого достаточно». Далее Строганов пишет, что, хотя он всей душой предан принципам революции, но ясно понимает их неприменимость на своей родине. Но в равной мере он и не видит там для себя поприща. Поэтому он готов, отказавшись от своего имущества в России, остаться во Франции, чтобы зарабатывать себе хлеб своим трудом [161].
Замыслы эти не осуществились: отец Строганова, по категорическому требованию Екатерины II, прислал за ним кузена Новосильцева, который увез «гражданина Отчера» подальше от парижской заразы. Пути Строганова и Ромма разошлись. Строганова ждали дружба с наследником императора Павла Александром Павловичем, участие в Негласном комитете и «республиканских мечтах» «дней александровых прекрасного начала», сражения с Наполеоном и пышные похороны в день, когда молодой Пушкин, окончив Лицей, впервые самостоятельным человеком прибыл в Петербург. Смерть Ромма была столь же сурово-героической, как и его жизнь. Активный участник якобинского правительства (он был членом Комитета образования и просвещения), он стал «последним монтаньяром», принял участие в неудачной попытке «прериальского восстания» (1795), был вместе с другими обвиняемыми приговорен к смертной казни. Свое последнее слово на суде он закончил восклицанием: «Я пролью свою кровь за Республику, но я не доставлю тиранам этого удовольствия» [162]. Все обвиняемые по этому делу покончили с собой, по очереди передавая друг другу один и тот же тайком пронесенный в тюрьму кинжал.
Легко можно представить себе, что Карамзин мог услышать от Ромма, Павла Строганова, Воронихина и других членов кружка «Друзей закона» (на заседаниях кружка Карамзин должен был видеть знаменитую «деву Революции» Теруань де Мерикур, которая была «архивариусом» общества и в которую был влюблен Строганов).
По крайней мере, нет сомнений, что здесь Карамзин мог получить подробные сведения о работе Ассамблеи и завязать знакомства в этом — весьма его интересовавшем — мире.
Было ли письмо к Ромму единственным? Запасся ли Карамзин в Швейцарии еще какими-либо рекомендациями? Последнее предположение весьма вероятно.
В тексте «Писем» дана следующая картина того, как рассказчик попал в Национальное собрание. Напомним, что эпизод этот помечен неопределенной датой «Июня… 1790» и помещен в 127-е письмо, которым завершается пребывание путешественника в Париже. Таким образом, у читателей создается впечатление, что, осмотрев все достопримечательности французской столицы, побывав в Пале-Рояле и театрах, побродив по бульварам и историческим местам в окрестностях Парижа, путешественник лишь напоследок из любопытства забрел в Национальное собрание:
«Скажу вам нечто о Парижском Народном Собрании, о котором так много пишут теперь в газетах. В первый раз пришел я туда после обеда; не знал места, хотел войти в большие двери вместе с Членами, был остановлен часовым, которого никакия просьбы смягчить не могли, и готовился уже с досадою воротиться домой; но вдруг явился человек в темном кафтане, собою очень некрасивый; взял меня за руку, и сказав: allons, Mr., allons! ввел в залу. Я окинул глазами все предметы <…>. Наконец тот самый человек, который ввел меня (к этому месту Карамзин сделал примечание: «Этот был Рабо Сент-Этьен». — Ю. Л.), подошел к Президентскому столу, взял колокольчик, зазвонил — и все, закричав: по местам! по местам! разбежались и сели» (317). Описанная Карамзиным сцена не могла произойти по очень простой причине: действие у Карамзина совершается в июне, когда он покидал Париж, а председателем Национальной ассамблеи оказывается Рабо Сент-Этьен. Однако Рабо Сент-Этьен председательствовал в Ассамблее с 16 по 30 марта 1790 года [163]. Карамзин приехал в Париж, видимо, 27 марта. Следовательно, он буквально прямо из кареты должен был броситься в зал Ассамблеи, чтобы попасть на заседание, в котором председательствовал Рабо Сент-Этьен. Видимо, так оно и было. Можно, однако, сомневаться в том, что встреча его с председателем Собрания была случайностью, а не назначенным свиданием. Рабо Сент-Этьен в 1789–1790 годах был весьма видной фигурой. Известный исследователь Французской революции А. Оляр в книге «Ораторы Революции. Конституанта» (1905) включает Рабо Сент-Этьена в список 14 наиболее популярных ораторов вместе с Бальи, Барнавом, Мирабо, Робеспьером, Сийесом и др. Родом из Нима на юге Франции, Рабо Сент-Этьен происходил из протестантской семьи. Борьба за веротерпимость была делом его жизни. Оляр дает ему такую характеристику: «Рабо Сент-Этьен прибыл в Генеральные Штаты, уже имея устойчивую репутацию человека красноречивого и героического. Его исследования религиозных войн, «Письма к Бальи о первоначальной истории Греции» и особенно его «Рассмотрение прав и обязанностей третьего сословия» дали ему имя среди писателей и политиков» [164]. Далее тот же автор пишет, что в отчаянную минуту начала революционных событий, «когда Ассамблея была отдана на произвол штыков, он проявил спокойное мужество, уверенность невозмутимую в сочетании с постоянной улыбкой. Он казался специально рожденным и созданным для того, чтобы предложить клятву против тирании в зале для игры в мяч. Он имел счастье и славу увенчать свои усилия, заставив Ассамблею одобрить принцип свободы совести» [165].
Карамзин не мог присутствовать на заседании 23 августа, на котором Рабо Сент-Этьен произнес громовую речь против религиозной нетерпимости и требовал свободы мнений и равенства для граждан любых вероисповеданий. Однако вопрос этот Карамзина глубоко волновал, и нет сомнений, что он прочел в газетах изложение этой речи.
Как кальвинист и защитник политических прав протестантов, Рабо Сент-Этьен был связан с либеральными кругами в Женеве, и более чем вероятно, что Карамзин явился к нему с рекомендательным письмом в кармане.
Если Карамзин отправился в Национальное собрание сразу по приезде в Париж, если находившиеся в Париже русские, с которыми он столкнулся, не пропускали в эти месяцы ни одного заседания, то мы вправе предположить, что путешественник посещал Ассамблею многократно.
Имеет смысл попытаться восстановить, что же он мог там услышать.
Весна — лето 1790 года были временем относительно мирного развития событий в Париже. Всего за несколько дней до приезда Карамзина в Париж, 23 марта Павел Строганов в письме успокаивал отца: «Почти вся Европа в беспокойстве, а мы здесь в превеликом мире» [166]. Король присягнул конституции и, как могло показаться, собирался добросовестно выполнять обязанности конституционного монарха. В начале 1790 года Радищев издал брошюру «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», которая заканчивалась известным отрицанием совместимости суверенных прав народа и самого факта существования самодержавной власти. Радищев решительно отрицал возможность мирного перехода от деспотизма к народовластию: «Нет и доскончания мира, примера может быт<ь> не будет чтобы Царь упустил добровольно что ли из своея власти, седяй на Престоле» [167]. «Письмо к другу» Радищев написал в начале 1780-х годов (после 7.VIII.1782 — даты открытия фальконетовского памятника Петру, чему посвящено «Письмо»). Публикуя процитированные выше строки в 1790 году, Радищев добавил к ним примечание: «Если бы сие было написано в 1790 году, то пример Лудовика XVI дал бы сочинителю другие мысли» [168].
Таким образом, даже Радищев в эти дни допускал возможность мирного развития событий и чистосердечного превращения христианнейшего короля в конституционного монарха французской нации.
Одновременно и Учредительное собрание, казалось, овладело ходом событий, взяв в свои руки народные общества и стихийное возмущение парижан. Имена Лафайета и Мирабо, несмотря на нападки Марата, еще ассоциировались с революцией. Силы, стремившиеся толкнуть события резко вправо или влево, до «бегства в Варенн» действовали за кулисами. Париж кипел от дебатов в Собрании и клубах, от брошюр и листовок. Однако казалось, что эти споры перерастут в «нормальные» парламентские прения, а не в эксцессы насильственных действий. Конечно, это был не мир, а перемирие: бежавшие за границу эмигранты посылали народу Франции проклятья и грозили повторением варфоломеевской ночи. Маркиз де Фаврас — эмиссар эмигрировавшего графа Прованского (будущего Людовика XVIII) и доверенное лицо королевы — плел заговор с целью похищения короля. В Париже шептали, что Мирабо, подкупленный деньгами Марии Антуанетты, был причастен к заговору. В мае 1790 года вернулся из Лондона, куда он вынужден был бежать после того, как опубликовал памфлет против Неккера, Марат. Он сразу же начал энергичную кампанию по разоблачению связей Мирабо со двором.
«Дело Марата», когда Байи и Лафайет, нарушая свободу слова, подвергли «друга народа» угрозе ареста и тюремного заточения, получило широкий отклик не только в Париже, но и в России. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» в главе о цензуре писал о «несообразности разума человеческого»: «Мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их Государь, насильственно взяли печатную книгу, и сочинителя оной отдали под суд, за то что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаеш близ Бастильских пропастей» [169].
Карамзин, видимо, не был во время «дела Марата» в Париже, однако круг его знакомств оказался причудливо переплетен с теми, от кого он мог получить самую полную информацию об этом, взволновавшем Радищева, эпизоде.
Сразу же по прибытии в Париж Карамзин отправился к «Брегету, который живет не далеко от Нового мосту» (215). Сюда ему присылали письма и деньги. Выбор такого комиссионера не случаен: известный часовой мастер Бреге был швейцарцем из Невшателя, жена его уроженка Женевы, и естественно было договориться в Швейцарии, чтобы именно сюда пересылали корреспонденцию «русского путешественника». Видимо, к Бреге у Карамзина были рекомендательные письма.
Однако именно он, этот Абрам-Луи Бреге, был не только земляком, но и близким другом и душеприказчиком Марата. Во время январских преследований он спрятал Марата в своем доме (именно том, куда направился Карамзин сразу же, как попал в Париж), а потом, переодев «друга народа» в женское платье, вывел его сквозь патрули национальной гвардии [170]. В мае об этом уже можно было рассказывать.
При попытках реконструировать впечатления Карамзина от посещения Национального собрания необходимо учитывать следующее: «Московский журнал» прекратился прежде, чем Карамзин дошел до парижских сцен. Впервые «парижские письма» были пересказаны в авторецензии «Le Spectateur du Nord». Здесь читаем: «Наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальном Собрании, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори, глядя на них, как на Ахиллеса и Гектора» (453). В тексте русского издания, появившегося лишь в 1801 году, эпизод изложен так, чтобы предельно снизить его значение: «… в другой раз высидел <я> в ложе 5 или 6 часов, и видел одно из самых бурных заседаний. Депутаты Духовенства предлагали, чтобы Католическую Религию признать единственною или главною во Франции. Мирабо оспоривал, говорил с жаром, и сказал: «я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медицис стрелял в Протестантов!» Аббат Мори вскочил с места и закричал: «вздор! ты отсюда не видишь его». Члены и зрители захохотали во все горло. Такия непристойности бывают весьма часто. Вообще в заседаниях нет ни малой торжественности, никакого величия: но многие Риторы говорят красноречиво. Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор» (318–319).
Из этих цитат следует сделать вывод, что Карамзин был на знаменательном заседании 13 апреля 1790 года, во время которого обсуждались претензии католического клира на прерогативы государственной церкви Франции. Именно на этом заседании Мирабо произнес одну из своих самых блистательных речей. В заключительной главе «Путешествия из Петербурга в Москву» (не позже ноября 1789 года) Радищев писал: «Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, изторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его ожидает плескание рук или посмеяние горшее самыя смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие» [171]. Отрывок этот вызвал особенное раздражение Екатерины II, которая заметила на полях книги: «Тут вмещена хвала Мирабоа, который не единой, но многие висельницы достоин». Екатерина считала Мирабо своим личным оскорбителем. Еще до начала революции русский посол в Париже, ограниченный и исполнительный дипломат эпохи кабинетных интриг Симолин с ужасом доносил Безбородко о книге Мирабо «Секретная история берлинского двора»: австрийский император «назван коронованным палачом и унижен ужасным образом. Прусский король выставлен самым большим дураком. <…> Его (Мирабо. — Ю. Л.) перо, полное желчи и всякой мерзости, не пощадило даже лица, занимающего самое высокое положение» [172]. «Лицо» это, т. е. Екатерина II, отплатило Мирабо взаимной ненавистью. Понятно, какой характер принимало всякое упоминание его имени в русской печати, даже в период, когда бурный поток революционных событий отодвинул имя Мирабо в тень. Поклонник «самого большого дурака» — прусского короля — и патологический враг Французской революции Павел I также не имел причин хорошо относиться к Мирабо. Естественно, что хвалить Мирабо в русской подцензурной печати, даже как красноречивого оратора, ни при Екатерине, ни при Павле было невозможно. Очевидно, что осторожные слова о том, что «многие Риторы говорят красноречиво», относятся, в первую очередь, к Мирабо. В речи 13 апреля 1790 года Мирабо обрушился на средневековый фанатизм и церковную исключительность, в защиту свободы совести. Зная отношение Карамзина к этим вопросам, нельзя сомневаться в его сочувствии оратору. Речь эта запомнилась Карамзину настолько, что через несколько лет, скорее всего по памяти, он смог ее довольно близко пересказать. Отвергая ссылку на отмену Нантского эдикта Людовиком XIV как на юридическую и историческую основу прав католической церкви, Мирабо сказал: «Я считаю, что воспоминания о том, что творили тираны, не могут служить образцом для представителей народа, желающего быть свободным. Но поскольку в данной связи прибегли к ссылкам на историю, я тоже позволю себе одну: вспомните, господа, что отсюда, с этой самой трибуны, на которой я сейчас говорю, я вижу то окно дворца (глаза и жест рукой указывают направо), из которой заговорщики, подменяя своими корыстными интересами самые священные интересы религии, вложили в руки слабого короля роковой мушкет, давший сигнал варфоломеевской резне» [173].
Но выступление Мирабо касалось не только свободы совести: в Париже говорили о том, что придворная камарилья готовит новую варфоломеевскую ночь патриотам. Угроза расправы нависла над Генеральными штатами с того самого момента, когда они выказали непокорность. Именно тогда образ варфоломеевской ночи обрел актуальность. Еще 12 июля 1789 года в своей знаменитой речи в Пале-Рояле Камилл Демулен крикнул собравшейся толпе: «Может быть, уже в эту ночь они замышляют или даже уже организуют варфоломеевскую ночь для патриотов!» [174] Когда Национальная ассамблея, окруженная войсками и, как казалось, обреченная на гибель, в ночь на 14 июля 1789 года с тревогой ожидала новостей из Парижа, а во дворце королева и принцы устроили бал для офицеров контрреволюционных полков и из казарм неслись песни швейцарских гвардейцев, которых поили придворные, Мирабо, напутствуя делегацию Собрания к королю, сказал: «Такова была прелюдия к варфоломеевской ночи» [175]. Карамзин уже видел «Карла IX» М.-Ж. Шенье, и именно эта сцена — подготовка варфоломеевской ночи — его потрясла более всего. В апреле 1790 года образы придворно-клерикального заговора, слабого короля, уступающего давлению заговорщиков, резни, учиненной фанатиками, вызывали не только религиозные, но и политические ассоциации. Карамзин сидел в зале Ассамблеи, дышал ее наэлектризованным воздухом. Вряд ли он разделял в эту минуту иронические интонации своего литературного двойника.
Насколько внимательно следил Карамзин за речами Мирабо, показывает один факт. В сентябре 1789 года, когда в Национальной ассамблее дебатировалось право вето, Карамзин, насколько можно судить, находился в Швейцарии. Но парижские газеты, материалы, собранные Роммом в Обществе друзей закона, протокольные записи заседаний, которые вел Павел Строганов, и большое число других источников позволяли и издалека следить за прениями в Собрании.
Много лет спустя, в болдинской глуши, Пушкин сделал запись: «Один из великих наших сограждан сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспоривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь» [176]. Ни поэт, ни его комментаторы не заметили, что Карамзин перефразировал запомнившуюся ему с 1789 года фразу Мирабо: «Я считаю королевское вето настолько необходимым, что, если бы его не было, предпочел бы жить в Константинополе, а не во Франции» [177].
Слова о том, что Мирабо и Мори «вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор», заставляют нас попытаться определить, какие еще заседания Ассамблеи Карамзин посетил и при каких «единоборствах» он присутствовал. Таким было, например, заседание 19 апреля 1790 года, обсуждавшее вопрос о границах власти Национальной Ассамблеи. Мори, аббат, основной оратор клерикалов и роялистов, спросил, по какому праву депутаты, собранные с целью решать проблемы налогового обложения, присвоили себе полномочия представителей нации и образовали Национальный Конвент. Мирабо бросился к трибуне: «Я отвечаю: с того самого дня, как мы нашли зал, в котором должны были собираться, запертым, ощетинившимся и оскверненным штыками, мы устремились к первому попавшему месту, в котором могли соединиться, и поклялись скорее погибнуть, нежели терпеть подобный порядок вещей. С этого дня мы сделались Национальным Конвентом, даже если не были им прежде». Речь Мирабо, утверждавшая революцию как исторический и юридический факт, была произнесена с огромной силой. Карамзина она могла привлечь еще и потому, что в ней Мирабо затронул интересовавшую русского путешественника тему — неизбежность языковых перемен в условиях исторических катаклизмов: «Стоит ли останавливаться на странном упреке в том, что мы пользуемся новым слогом, чтобы выразить новые чувства и новые принципы, новые идеи и новые установления. Пусть поищут в пустом словаре публицистов определение такого слова, как Национальный Конвент!» [178] 5 мая произошла острая дискуссия между Мирабо и Мори — о том, кому принадлежит право назначать судей: королю или народу в лице его представителей. Спор шел о границах суверенитета. Вероятно, присутствовал Карамзин и на заседании 20 мая, во время которого разгорелся спор между Мирабо и Мори. И снова нет сомнений, что симпатии его были на стороне Мирабо. В 1790 году из-за конфликта в Калифорнии вспыхнула война между Испанией и Англией. Франция была связана с Испанией «семейным договором». Возник вопрос о вступлении Франции в войну, вызвавший в Национальном собрании дебаты о праве короля объявлять войну. Мирабо произнес громовую речь против агрессивных войн, которые ведутся в защиту семейных интересов тиранов, и провозгласил миролюбие свободных народов. Переход власти в руки народов, по его словам, навсегда уничтожит войны между нациями и положит основание вечному миру. Под возмущенные выкрики аристократов Мирабо заявил, что король, выступающий как инициатор агрессии, должен быть судим как преступник, виновный в оскорблении нации (измененный термин «оскорбление величества»). Достаточно знать, сколь устойчивы были пацифистские настроения Карамзина, чтобы представить себе его чувства во время этой речи. Не случайно вскоре после этого он провозгласил в Лондоне тост за вечный мир. В свете устойчивой политики Екатерины II — постоянно расширять границы с помощью победоносных агрессивных войн — такой тост имел отчетливо оппозиционный характер. Выступление Мори, отвечавшего Мирабо ссылками на «исторические права» короля, вряд ли показалось Карамзину столь же убедительным.
Однако споры Мирабо и Мори, происходившие на глазах Карамзина, дали ему еще один урок. Он видел перед собой маркиза Мирабо, ведущего роскошный образ жизни, аристократа, отпрыска старинного семейства, мота и расточителя, честолюбца и циника, с трибуны Конституанты проповедующего идеи демократии и играющего роль народного трибуна. Одновременно он имел возможность наблюдать его противника аббата Мори. Выходец из бедной семьи сапожника-гугенота, лично испытавший гонения фанатиков и препятствия, которые ставил старый режим на пути одаренного человека из народа, Мори, обладавший способностями богослова и общественного деятеля и талантом оратора, был снедаем неуемным честолюбием. Ему приписывали фразу: «Тут я погибну или добуду себе кардинальскую шляпу». Зрелище аристократа, выступающего от имени народа, и выходца из низов, защищающего папство и корону, толкало Карамзина к тому, чтобы за пафосом политических деклараций различать борьбу честолюбий, жажду власти и успеха. Позже Карамзин писал: «Аристократы, Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностью? Вы все Авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод» [179].
Именно поэтому, видимо, внимание Карамзина привлек тот из политических деятелей Национального собрания, которого нельзя было упрекнуть в недостатке личной честности и который позже стяжал прозвище «Неподкупного».
Оляр дал яркую характеристику Робеспьера этого периода, того Робеспьера, которого видел и слушал Карамзин: «Быть верным морали — в этом для него заключалась вся политика». «Его красноречие — это быть честным со всеми и против всех». Близорукий, с тихим голосом, низко наклоняющий голову в очках над исписанными листками, Робеспьер выглядел в Ассамблее робким провинциалом и скучным моралистом. Он вызывал насмешки. Оляр назвал его Альцестом Национального собрания, раздраженным сарказмами политических Филинтов. Оляр воспользовался образами Мольера: Альцест — мизантроп, влюбленный в добродетель, Филинт — просвещенный оппортунист в вопросах морали и светский скептик. Действительно, с позиций салонных философов и благородных или циничных учеников XVIII века, всех, кто рассчитывал, Что дело ограничится реализацией идеалов, провозглашенных Монтескье или «Энциклопедией», Робеспьер был просто смешон, «но Мирабо не ошибся в нем, когда повторял: «Он пойдет далеко — он верит в то, что говорит»» [180]. Карамзин слышал Робеспьера многократно. В те дни, когда русский путешественник бывал в Конституанте, Робеспьер «не переставал говорить. Он брал слово во всех дискуссиях, стоявших в повестке дня. <…> Он долго говорил по всем вопросам, столь различным по своему характеру. И тем не менее, его не могли, как это было с аббатом Мори, упрекнуть в пустых декламациях, так как целью его было не столько глубокое обсуждение вопроса, сколько обнаружение того, в каких отношениях он находится к принципам нравственности». «Он хотел быть в Конституанте адвокатом бедных и униженных» [181].
Именно таким его запомнил Карамзин.
Но Карамзин мог слушать Робеспьера не только в Национальном собрании. Теперь, когда мы знаем, что в Париже он встречался с Роммом и Строгановым — оба были активными членами Якобинского клуба, не будет слишком рискованным предположить, что Карамзин посетил и этот клуб. Ведь, конечно, не для однократной беседы запасался он рекомендательным письмом к Ромму — он, уже, видимо, бывавший в Париже или, хотя бы со слов своих датских друзей, осведомленный о положении в столице революции. Ему хотелось проникнуть с помощью Ромма в те круги, в которые для него других путей не было. В центре этих кругов, бесспорно, находился Клуб якобинцев. Здесь обсуждались те же вопросы, что и в Ассамблее, но страсти были более накалены, высказывались мнения более крайние, а реакция слушателей была более непосредственной. Здесь можно было ощутить политический пульс Парижа. Клуб еще не приобрел того лица, которое определилось позже и превратило его в штаб революции. Тут выступали и лукаво игравшие с революцией братья Ламеты, гремел голос Мирабо, который мог в это время еще подниматься на трибуну то в Клубе якобинцев, то в политически противоположном ему Клубе фельянов. Но голос Робеспьера звучал здесь громче и увереннее, чем в Конституанте. Именно здесь начал вырисовываться масштаб его политической роли.
Карамзин наблюдал.
То, что он видел, его, вероятно, ужасало, но и влекло. Можно думать, что в вихре политических мнений, в потоке слов (не случайно позже он объединял кровь, проливаемую в гражданских распрях, и политические декламации: «Боюсь крови и фраз», — говорил он по поводу испанской революции) магнитной стрелкой для него была личная честность говорящих. С этим связана неожиданная, но засвидетельствованная достоверными и близко знавшими Карамзина мемуаристами — в частности, декабристом Н. И. Тургеневым, — глубокая человеческая привязанность его к Робеспьеру. Николай Тургенев вспоминал: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина (видимо, И. И. Дмитриев. — Ю. Л.) рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи» [182]. Мнение это тем более должно было удивить Николая Тургенева, что сам он к Робеспьеру относился весьма отрицательно. Однако этому не следует удивляться: декабрист Тургенев, когда думал о Робеспьере, видел перед собой исторического деятеля, известного ему по страницам книг и брошюр. Он оценивал политическую программу и историческую роль вождя якобинцев. Карамзин видел перед собой человека, его жесты и позу. Это совершенно иной тип знания, личный, интимный, который в принципе противоположен традиционно-историческому. Что же касается политических воззрений Робеспьера, то Карамзин в них видел, по всей вероятности, несбыточную утопию, мечту, обреченную на гибель. Отношение Карамзина к утопическим учениям было сложным. На протяжении почти всей его жизни мы обнаруживаем в его высказываниях борьбу утопических и скептических настроений. Его и влечет картина всеобщей гармонии, и мучат сомнения, и пугает образ суровой надличностной дисциплины, которая для него неотделима от утопизма. Утопия для него связана с республикой в духе Платона и подразумевает, с одной стороны, жесткую регламентацию сверху, а с другой — высочайшую и практически в современном обществе невозможную степень добродетели в каждом гражданине. На добродетели же строится добровольное подчинение человека общему благу. С утопическими учениями Карамзин познакомился еще в кругу Новикова — Кутузова. Именно тогда он заслужил прозвище Рамзея. Однако внимание на книгу Томаса Мора он, видимо, обратил в Париже. «Journal General de France» (n° 111, 15 sept. 1789) — газета, которую Карамзин должен был читать в Париже уже потому, что она давала наиболее подробные отчеты о заседаниях Национальной ассамблеи и о событиях в стране, — сообщала под рубрикой «Новые книги» о выходе книги:
«Du meilleur Gouvernement possible, ou la nouvelle Isle d'Utopie de Thomas Morus; traduction nouvelle, seconde edition, avec des notes, par M. T. Rousseau, A Paris, 1789. (О лучшем из возможных правлений, или Новый остров Утопия Томаса Мора. Новый перевод, второе издание с примечаниями г-на Т. Руссо, Париж, 1789.)
Мы имеем много свидетельств того, с какой жадностью ловил Карамзин в Париже новые книги. Однако, по всей видимости, не только у него книга Мора связалась с парижскими событиями: если первое издание этого перевода (оно появилось в 1780 году) прошло в России незамеченным, то второе сразу же было переведено на русский язык. В том же году в Петербурге появилось издание: «Картина всевозможно лучшего правления, или Утопия». Сочинения Томаса Мориса, канцлера аглинского в двух книгах. Переведена с аглинского на французский г. Руссо, а с французского на российский. СПб., на иждивении И. К. Шнора, 1789. В следующем, 1790 году нераспроданная часть тиража появилась под несколько измененным названием: «Философа Рафаила Гитлоде странствование в Новом Свете и описание любопытства достойных примечаний и благоразумных установлений жизни миролюбивого народа острова Утопии». Перевод с аглинского языка сочинение Томаса Мориса, СПб., 1790.
Обычно перепечатка титульного листа имела коммерческий смысл: читатель воспринимал книгу как новое издание. Однако в данном случае очевиден маскировочный характер этого действия: книга стилизовалась под путешествие, а ложное указание на перевод с английского должно было отвести опасные ассоциации.
Карамзин поместил в «Московском журнале» (1791, ч. 1. С. 359) принципиально важную рецензию на «Утопию» (также воспроизведя более «безопасный» титульный лист русского перевода книги Мора 1790 года). «Сия книга, — подчеркивал Карамзин, — содержит описание идеальной республики, подобной республике Платоновой», но отмечал, что «многие идеи» английского философа «вообще никогда не могут быть произведены в действо». Сославшись на то, что «краткое извлечение из книги может быть не противно читателю», Карамзин приводит цитаты, которые в 1791 году звучали достаточно злободневно: «В главный город ежегодно съезжаются депутаты из каждого города по три человека и рассуждают о делах Республики». Особо выделена свобода религиозных убеждений и равенство граждан перед законом: «Они смеются над Европейской пышностью, над дворянскими генеалогиями» (с. 363).
Революция воспринималась Карамзиным как попытка реализовать утопию. Разочарование в ней он оценил как разрушение утопических надежд:
Но время, опыт разрушают Воздушный замок юных лет; Красы волшебства исчезают… Теперь иной я вижу свет, — И вижу ясно, что с Платоном Республик нам не учредить…(Послание к Дмитриеву) [183]
В рецензии на «Путешествие младого Анахарсиса по Греции» Бартелеми Карамзин писал о «Платоновой республике мудрецов»: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине, и при конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее» [184]. А когда в 1796 — начале 1797 года восшествие на престол Павла I временно возродило оптимистические надежды, Карамзин писал А. И. Вяземскому: «Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей Утопии. Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства». Сообщая в этом же письме о своих творческих планах, он писал, что «будет перекладывать в стихи Кантову Метафизику с Платоновою республикою» [185].
Республика для Карамзина — «Платонова республика мудрецов». Это проясняет своеобразие «республиканизма» Карамзина. Республика для Карамзина, прежде всего, не столько некий общественно-политический строй, сколько царство добродетели, платоновский идеал общественного порядка, дарующего всем блаженство ценой отказа от излишеств личной свободы. Это строй, основанный на государственной добродетели и диктаторской дисциплине. Это необходимо учитывать, чтобы правильно понять слова Карамзина о том, что он «республиканец в душе», или высказывания вроде: «Без высокой добродетели Республика стоять не может. Вот почему монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падают» [186]. Республика оставалась для Карамзина на протяжении всей его жизни пленительной, но недосягаемой мечтой. Но это не была ни вечевая республика — идеал Радищева, ни республика народного суверенитета французских демократов XVIII века, ни буржуазная парламентская республика «либералистов» начала XIX столетия. Это была республика-утопия платоновского типа. Утопизм, несбыточность идеалов, обреченность не снижали для Карамзина образа республиканца, если деятельность его была отмечена личным бескорыстием и добродетелью. Это, возможно, объяснит «странное» отношение Карамзина к Робеспьеру. Можно предположить и личное знакомство русского путешественника и Неподкупного. Доступ Карамзина к Ромму позволяет нам не считать это предположение невероятным. При этом надо иметь в виду, что политическое размежевание еще не произошло, Якобинский клуб до раскола и ухода фельянов летом 1791 года еще не приобрел демократической репутации, а Марат в «Друге народа» за 18 мая 1790 года, среди самых выдающихся членов Национальной ассамблеи, «имен, дорогих свободной Франции», называл Барнава, Петиона, Ламетов и Робеспьера [187]. По крайней мере, Карамзину были известны и скромные условия жизни Робеспьера, и характер будущего якобинского диктатора.
В свое время Пушкин сказал о Радищеве: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра» [188]. Парадокс истории заключается в том, что о Карамзине справедливым было бы прямо противоположное высказывание. От Мирабо Карамзина отталкивал именно тот «уклад жизни», с которым контрастировал «скромный домашний обиход» Робеспьера [189].
Карамзин искал в Париже римлян. Для всех его современников в Петербурге и Москве — и уж тем более для поколения Пушкина и декабристов деятели революции — это набранные типографским шрифтом имена, условные знаки определенных идей и программ. Карамзин видел лица своих знакомых, тех, кого он встречал в Национальной ассамблее, в кафе и на улицах бурлящего Парижа. Он знал, что говорит о них молва. Критерии оценки были у него совершенно иные.
Вот любопытный пример.
В апрельском (без даты) письме Карамзин, впервые подробно говоря о Французской революции, рассказывает следующий эпизод:
«Один Маркиз, который был некогда осыпан Королевскими милостями, играет теперь не последнюю роль между неприятелями Двора. Некоторые из прежних его друзей изъявили ему свое негодование. Он пожал плечами, и с холодным видом отвечал: «que faire? j'aime les te-te-troubles!» «что делать? я люблю мяте-те-тежи!» Маркиз заика.
Но читал ли Маркиз историю Греции и Рима? помнит ли цыкуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства» (226). Отрывок этот, так же как и следующие за ним слова о том, что «каждый бунтовщик готовит себе эшафот», несут на себе печать более поздней авторской редактуры: здесь обнаруживается знание будущих судеб тех, кого Карамзин видел на заседаниях Национальной ассамблеи — опыт более позднего времени. Однако, в первую очередь, важно выяснить, кого автор именует «Маркизом».
П. Н. Берков предположил, что здесь имеется в виду маркиз Лафайет [190]. Это предположение следует отвергнуть, так как оно не соответствует характеристике «маркиза» в тексте Карамзина. Во-первых, Лафайет никогда не был «осыпаем милостями короля», во-вторых, его никак нельзя было назвать одним из руководителей «неприятелей двора». Все помнили, что в драматическую минуту, когда разъяренный огнем швейцарской гвардии народ, перебив защитников дворца, ворвался в Версальский замок, только находчивость и лояльность Лафайета спасли жизнь королевской семьи. Именно эти постоянные попытки примирить короля и революцию и спасти монархию привели к падению авторитета Лафайета. В-третьих, упоминания цикуты и Тарпейской скалы не имели никакого смысла применительно к Лафайету — одному из немногих лидеров революции, уцелевших в ее бурях. В-четвертых, Лафайет не заикался. Он был превосходным оратором, и, когда он, пытаясь спасти Фулона, несколько часов удерживал своим красноречием разъяренную толпу, газеты сравнили его с римскими трибунами.
Под «маркизом» в тексте «Писем», видимо, следует понимать Антуана-Никола маркиза де Кондорсе. Этот известный ученый, математик и философ, непременный секретарь Французской Академии, в молодости, не располагая никаким состоянием, получал королевскую пенсию. С самого начала революции он сделался ее активным участником, был заметным членом Конституанты, в 1791–1792 годах принадлежал к виднейшим политическим лидерам. Однако Кондорсе был плохим оратором. Кабинетный ученый, смелый мыслитель на бумаге, он смущался, выступая перед толпой, терял дар речи, заикался от смущения. Его биограф пишет: «Застенчивость и крайняя слабость легких, неумение сохранять хладнокровие и быстроту соображения посреди шума, волнений и смуты <…> заставляли его держаться вдалеке от трибуны» [191]. Оляр, говоря о Кондорсе, задает вопрос: «Но был ли он в какой-либо мере оратором?» — и отвечает: «Безо всякого сомнения он не имел для этого физических данных. Его вошедшие в пословицу неловкость и боязливость восходили еще к тем временам, когда, ребенком, предназначенный для духовной карьеры, он до двенадцати лет носил платье девочки». «Насмешки товарищей сделали его недоверие к себе и страх публики неизлечимыми» [192]. Выяснение, кого Карамзин подразумевал, говоря о некоем маркизе, делает понятной еще одну деталь — упоминание цикуты. Хотя текст «Писем» имитирует эпистолярную прозу, Карамзин многократно, невольно или преднамеренно, обнаруживает в них знание событий, совершившихся значительное время спустя. Путешественник, несмотря на маску странствующего скифа-щеголя, чувствительного юноши из далекой Московии, довольно часто проявляет не просто политическую проницательность, а прямо-таки пророческий дар. Путешественник в мае 1790 года, конечно, не мог знать, что летом 1794 года Кондорсе, объявленный якобинцами, как один из теоретиков и вождей Жиронды, вне закона, примет яд («цикуту»), чтобы избежать ареста и гильотины. Но автор «Писем», когда предлагал их в начале XIX века читателю (а «парижские» письма увидели свет только тогда), прекрасно знал все последующие события и легко мог выступить «пророком, предсказывающим назад», как сказал Пастернак, ошибочно приписавший Гегелю это, на самом деле принадлежащее Фридриху Шлегелю, высказывание. Но намек на гибель Кондорсе Карамзин контаминировал с другим эпизодом. Упоминание Тарпейской скалы отсылало к одному из наиболее драматических заседаний. В конце мая, когда Карамзин еще был в Париже и посещал Национальное собрание, разыгрались события, взволновавшие весь Париж. В Собрании шли напряженные прения: обсуждался вопрос о праве короля на ведение тайной дипломатии и объявление состояния войны. 20 мая Мирабо в обширной речи доказывал, что право войны принадлежит в равной мере и королю, и Национальному собранию, что же касается договоров, то право это принадлежит королю с последующей санкцией собрания. 21 мая Барнав — тот самый Барнав, давний противник Мирабо, который вместе с Александром Ламетом и Адриеном Дюпором закрыл Мирабо дорогу к министерскому портфелю, проведя через Конституанту 7 ноября 1789 года закон, запрещающий депутатам садиться в министерское кресло, — обрушился на Мирабо с трибуны собрания, в то время как на улицах Парижа пустили в продажу инспирированный Ламетом памфлет: «Великое предательство графа Мирабо». 22 мая Национальное собрание было окружено толпой в 50000 человек. Мирабо долгое время не давали начать ответной речи, заглушая его голос криками, а когда он направлялся к трибуне, Вольней крикнул ему: «Мирабо, вчера в Капитолии — сегодня на Тарпейской скале». Мирабо в патетической речи ответил: «Мне не надо этих уроков, чтобы помнить, что от Капитолия до Тарпейской скалы один шаг!»
Так за отдельными словами и намеками текста «Писем» перед нами возникает облик той жизни, в которую Карамзин, в отличие от своего литературного двойника, погрузился в Париже.
Однако если вернуться к bon mot маркиза-заики, то естественно возникает источниковедческий вопрос: откуда Карамзин мог почерпнуть этот анекдот? Его нет в доступных нам письменных источниках. Можно предположить, что Карамзин опирался на какие-то устные сведения. Источниками устных сведений в 1790 году могли быть, кроме клубов и речей в Конституанте, о чем мы уже говорили, доживавшие свой век салоны и переживавшие бурный расцвет кафе. Попытаемся гипотетически реконструировать круг тех и других, оказавшихся в поле зрения путешественника.
В «Письмах» говорится, что путешественник посещал салон госпожи Гло**, причем к господину Гло**, сообщает путешественник, «было у меня письмо из Женевы» (222). Последнее свидетельство ценно: видимо, Карамзин в Женеве тщательно обдумал, в какие круги он хотел бы проникнуть, и запасся необходимыми рекомендациями. Так, он сообщает, что «еще было у меня письмо к Господину Н*, старому Прованскому дворянину, от брата его Эмигранта (с которым я познакомился в Женеве в доме госпожи К*)» [193]. Далее фигурирует некий «аббат Н*», к которому путешественник привез «письмо из Женевы от брата его, Графа Н*» (224). Как видим, рекомендательных писем было немало, и не обо всех из них Карамзин, вероятно, склонен был заявлять печатно. В тексте «Писем» посещению дома господина и госпожи Гло** отведено полстранички, однако в автореферате этого сочинения, писанном для европейской читающей публики и опубликованном в «Le Spectateur du Nord». Карамзин уделил посещению салонов выразительные строки и, что особенно существенно, прямо противопоставил их, как центр отживающей культуры, Национальному собранию. Сразу после отрывка: «Наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальном Собрании…» — сказано: «Его вводят в некоторые парижские общества, и он застает еще милых маркизов, обворожительных аббатов, женщин-писательниц. Он слушает их рассуждения об экспансивной чувствительности и жалобы на разрушение хорошего общества, как на самое гибельное последствие революции. Он порядочно скучает в их кружках и бежит, чтобы рассеяться, в театры, спектакли которых его восхищают» (453).
Здесь знаменательно многое. И посещение ряда салонов, и противопоставление культурных форм «старого режима» кипящей жизни революционного Парижа (Ассамблея, театр) с явным предпочтением второй. В выборе между культурными обломками вчерашнего дня и бурлящим сегодняшним Карамзин не сомневается: он «восхищается талантами Мирабо» (453), «спектакли его восхищают» (там же), но в салонах «он порядочно скучает». И все же даже из текста «Писем» видно, что жизнь парижских салонов эпохи 1789–1790 годов занимала Карамзина и он отдал ей долю внимания.
Упоминание в автореферате о том, что в салонах Парижа путешественник слушал «рассуждения об экспансивной чувствительности», следует сопоставить с известием в «Письмах» о «чтении» в салоне г-жи Гло**: «Аббат Д* привезет мысли о любви, сочинение сестры его, Маркизы Л*» (287). Из этого можно сделать вывод, что под салоном г-жи Гло** подразумевается некое реальное литературное общество, посещавшееся Карамзиным. Вместе с тем, зная поэтику Карамзина, который в «Письмах» никогда не выступает как фактограф, фиксирующий реальные эпизоды, а всегда мешает правду и вымысел, факт и обобщение, т. е. создает образы, можно предположить, что и салон г-жи Гло** объединяет и сгущает впечатления от нескольких собраний этого рода. Это предположение поддерживается тем, что в поисках исторического его прототипа мы обнаруживаем явную контаминацию черт нескольких парижских салонов эпохи революции.
Салону г-жи Гло** Карамзин дает такую характеристику: «Госпожа Гло** есть ученая дама лет в тридцать, говорит по-Английски, Италиянски, и (подобно Госпоже Неккер, у которой собирались некогда д'Аланберты, Дидроты, и Мармонтели) любит обходиться с Авторами. Мы начали говорить о Литтературе, и с жаром, потому что Госпожа Гло** противоречила всем моим мнениям. Например, я сказал, что Расин и Вольтер лучшие Французские Трагики; но она, по благосклонности своей, открыла мне, что Шенье — есть бог перед ними. Я думал, что прежде писали во Франции лучше, нежели ныне; но она сказала мне, что в доме у нее собирается около двадцати сочинителей, которые все несравненны. Я хвалил дю-Пати: она уверяла, что его в Париже не читают; что он был хороший Адвокат, но худой Автор и наблюдатель. Я хвалил Драму Рауля: она говорила о ней с презрением. Одним словом, наши несогласия никогда бы не кончились, естьли бы слуга не растворил дверей, и не уведомил Гж. Гло** о приезде гостей. Через несколько минут наполнилась горница Маркизами, Кавалерами Св. Людовика, Адвокатами, Англичанами; каждый гость подходил к хозяйке с холодным приветствием. После всех явился хозяин, и завел разговор о партиях, интригах, декретах Народного собрания <…> Стол был очень хорош; но Риторы не умолкали. Между прочим отличал себя один Адвокат, который хотел быть Министром единственно для того, чтобы в 6 месяцев заплатить все долги Франции, умножить втрое доходы ея, обогатить Короля, духовенство, дворянство, купцов, художников, ремесленников… Тут Господин Гло** схватил его за руку и с важным видом сказал: «довольно, довольно, о великодушный человек!» Я засмеялся — к щастию, не один» (222).
Прежде всего, отметим, что в салоне г-жи Гло** обсуждаются не только литературные, но и злободневные политические вопросы: прения в Национальном собрании, декреты, борьба партий. Салон, аристократический по составу, имеет либеральный характер: революционный драматург Мари-Жозеф Шенье, вокруг пьесы которого «Карл IX» именно в это время идут жаркие споры, которые как индикатор делят общество на партии, — здесь бог. Здесь публицистов и памфлетистов 1789 года ставят выше классиков XVII века и даже Вольтера. Через несколько страниц путешественник в этом же салоне встретит «грозного Аристарха» аббата Д*, который подвергнет уничтожающей критике всю французскую литературу от Расина до Вольтера.
Общее отношение путешественника к салону г-жи Гло** ироническое, что проявляется и в тоне повествования, и во введении анекдотического эпизода об адвокате, бравшемся чудесно решить финансовые проблемы Франции. Прежде всего, следует иметь в виду, что именно финансовое банкротство государства было непосредственным поводом всех событий 1789 года и продолжало оставаться животрепещущей темой обсуждений до самого падения монархии. Когда в 1788 году уже невозможно было скрыть, что государственный долг превысил 140 миллионов ливров и казна пуста, король вынужден был созвать Генеральные штаты. Если прибавить, что в салон г-жи Гло** Карамзин вводит брата Неккера — швейцарского финансиста, которого король то призывал занять министерский пост, поручая ему решение финансовых проблем, то отставлял, уступая давлению королевы и придворной камарильи, серьезность темы разговора делается очевидной. Однако серьезная тема решается в салоне с анекдотическим легкомыслием. Для демонстрации этого Карамзин использовал забавлявший Париж анекдот, превратив его в якобы произошедший в его присутствии случай (прием, которым, как увидим, он пользовался весьма часто). Некто шевалье д'Арлащ в газете «Petites-Affiches» еще в 1789 году опубликовал заявление: «Я намерен доказать самым ясным образом, 1) что за год, считая со дня, когда мой план будет принят и утвержден, существующий дефицит будет восполнен; 2) что расходы будут приведены в соответствие с доходами и что избыток в 200 миллионов <ливров> ежегодных будет использован на оплату национального долга» [194]. Карамзин, конечно, не мог в апреле слышать повторение этого, сделанного год назад хлестаковского заявления, из уст его автора. Он просто повторил дошедший до него анекдот, превратив его в деталь, характеризующую легкомысленную атмосферу салона.
Хозяйки литературного салона 1790 года, которую можно было бы безоговорочно отождествить с г-жой Гло**, обнаружить не удается, хотя, судя по контексту, речь идет об одном из самых видных салонов. Очевидно, созданный Карамзиным образ салона имеет собирательный характер и отражает впечатления русского путешественника 1790 года от всех подобных обществ.
Какие же салоны Карамзин мог посетить, и какие реальные факты стоят за явно литературной картиной салона г-жи Гло**?
Одним из последних салонов Парижа, хранивших в 1790 году традиции «золотого века салонов», был салон г-жи Неккер, жены финансиста и министра швейцарца Неккера и матери известной писательницы Жермены Сталь [195]. На ассоциации с этим салоном должны намекать настойчивые упоминания Карамзиным фамилии Неккеров: в салоне присутствует брат министра, а сама г-жа Гло** «есть ученая дама» и полиглот, «подобно Госпоже Неккер» (222). Перенесение же Карамзиным салона Неккер в прошедший век «даланбертов и дидротов» — не более чем обычная для него маскировка: салон г-жи Неккер в 1790 году не только не был далеким прошлым, а, напротив, являлся одним из последних и крупнейших явлений этого рода. Рядом с ним существовал салон ее дочери Жермены де Сталь. Черты этих двух салонов писательница отразила в своем романе «Коринна», рисуя парижский быт 1791 года: «Я был поражен простотой и свободой, царившими в парижских салонах. Самые важные вопросы обсуждались без тени легкомыслия, но и без малейшего педантства: самые глубокие мысли высказывались в непринужденной беседе, и, казалось, величайшая в мире революция совершилась лишь затем, чтобы придать еще больше приятности парижскому обществу. Я знал высокообразованных и чрезвычайно одаренных людей, скорее одушевленных желанием нравиться, чем приносить пользу; они искали аплодисментов в салоне после того, как срывали их на трибуне» [196].
Нетрудно заметить, что Сталь и Карамзин наблюдают одно и то же явление. Но оценки их противоположны. Именно стремление превратить величайшие исторические события в предлог сорвать аплодисменты в салоне вызывает раздраженную иронию Карамзина. В воздухе Национальной ассамблеи, в парижских кафе и театрах ему дышится лучше. И тем не менее именно салоны позволяли увидеть лидеров политической жизни вне обстановки политической декламации и не на трибуне. Если Карамзин бывал в салонах г-жи Неккер и ее дочери (а именно к ним, корифеям парижско-швейцарского общества, было естественнее всего доставать рекомендательные письма в Женеве или Лозанне), то мог встречаться там с постоянными их посетителями: Сийесом, Кондорсе, Талейраном. Здесь он мог услышать и анекдот о заикающемся маркизе, может быть, слышать это острое слово из уст самого автора.
Однако вероятно соприкосновение Карамзина и с другим из «великих» салонов этой эпохи. Исследовательница архива Ж. Ромма отмечает давние связи его в «философско-литературных салонах Парижа, в частности в салонах мадам Гельвеции и мадам д'Арвилль» [197]. Салон мадам Гельвеций, знаменитый Отейль, с наибольшей полнотой воплотил в себе тот классический тип салона XVIII века, который, очевидно, интересовал Карамзина. Салон ее называли генеральными штатами разума. Некогда в нем собирались Даламбер и Дидро, Тюрго и Кондорсе, Гальяни, Кабанис, Беккария, Мармонтель, Мореле, Дюкло, Сен-Ламбер. Здесь была более непринужденная обстановка, чем у госпожи Жофрен или госпожи Неккер. В начале революции состав гостей был уже иным: здесь постоянно бывали Вольней, Сийес, Шамфор, которые почти жили в Отейле [198]. Когда 15 июля 1789 года в зале Национальной ассамблеи появился Кабанис с известием о падении Бастилии, Вольней и Гара подвели его к Мирабо. В дальнейшем Мирабо и знаменитый врач-просветитель тесно сошлись. Кабанис лечил в 1791 году (правда, не очень удачно) предсмертную болезнь Мирабо. День посетителей Отейля распределялся в 1789–1790 годах так: утром у Мирабо в его роскошных апартаментах на улице Шоссе д'Антен, днем в Национальной ассамблее, вечером — в салоне г-жи Гельвеций. Утром — политический интриган, днем — народный трибун, вечером — философ XVIII века — так распределялся день Мирабо — гостя госпожи Гельвеций, в салоне которой Шамфор редактировал некоторые его речи для издаваемой Мирабо «Газеты генеральных штатов».
Здесь можно было видеть многих политических деятелей «весны революции». Кондорсе и Кабанис были женаты на сестрах Груши (брат их стал потом наполеоновским маршалом), за госпожой Кондорсе ухаживал в свое время аббат Фоше — политический мистик и утопист, вероятный собеседник Кутузова в Париже, серьезно влюблен в нее был Анахарсис Клоотц, именем которого в пушкинском лицее дразнили Кюхельбекера. Дядей девиц Груши был Дюпати, литературный авторитет которого защищал Карамзин в салоне г-жи Гло**. А по соседству с Отейлем (парк г-жи Гельвеций непосредственно переходил в английский сад герцога де Бюфлер) собирались убежденные защитники старого порядка; здесь по дорожкам парка бродил Ривароль, острые слова которого потом переводили и повторяли Пушкин и Вяземский. С рекомендацией Ромма, Шамфора или Мармонтеля Карамзин мог появиться в Отейле, и вряд ли он пропустил эту возможность.
В салонах путешественник знакомился с человеческим обликом тех, кого днем видел трибунами и законодателями в Национальной ассамблее. Здесь же он собирал обильную дань устных слухов, разговоров, наблюдал борьбу мнений. Однако это была умирающая культура, и она была чужда Карамзину. И в «Письмах», и в автореферате их он поспешил подчеркнуть свою отчужденность от этого мира. Нет оснований этому не верить.
Если в парижских салонах 1790 года, в отличие от героя «Коринны», Карамзин скучал, то салон XVII — начала XVIII столетия как явление «золотого» века французской культуры его явно интересовал. Он видел в нем средоточие уже прошедшей культурной эпохи и явно собирал сведения об этой уходящей жизни, последние отсветы заката которой он наблюдал в Париже ораторов, клубов и брошюр, в Париже, освещенном лучами утренней зари нового века.
В «Письма» вводится некий «аббат Н*», который должен познакомить путешественника со сведениями, собранными Карамзиным, наверное, в десятках разговоров.
Расцвет культуры салонов — XVII век. «Аббат Н* (к которому привез я письмо из Женевы от брата его, Графа Н*), признался мне, что французы давно уже разучились веселиться в обществах, так как они во время Людовика XIV веселились, на пример в доме известной Марионы де-Лорм, Графини де-ла-Сюз, Ниноны Ланкло, где Вольтер сочинял первые стихи свои; где Вуатюр, Сент-Эвремон, Саразень, Граммон, Менаж, Пелиссон, Гено, блистали остроумием, сыпали Аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса» (224).
В XVIII веке культура салонов переживает закат. А революция завершила ее упадок. «Здесь — сказал мне Аббат Н*, идучи со мною по улице St. Honore и указывая тростью на большие домы, которые стоят ныне пустые — здесь, по Воскресеньям, у Маркизы Д* съезжались самые модныя Парижския Дамы, знатные люди, славнейшие остроумцы (beaux esprits); одни играли в карты, другие судили о житейской философии, о нежных чувствах, приятностях, красоте, вкусе — тут, по Четвергам, у Графини А* собирались глубокомысленные Политики обоего пола, сравнивали Мабли с Ж. Жаком и сочиняли планы для новой Утопии — там, по Субботам, у Баронесы Ф* читал М* примечания свои на Книгу Бытия, изъясняя любопытным женщинам свойства древнего Хаоса, и представляя его в таком ужасном виде, что слушательницы падали в обморок от великого страха. Вы опоздали приехать в Париж; щастливыя времена исчезли; приятныя ужины кончились; хорошее общество (la bonne compagnie) рассеялось по всем концам земли. Маркиза Д* уехала в Лондон, Графиня А* в Швейцарию, а Баронеса Ф* в Рим, чтобы постричься там в монахини. Порядочный человек не знает теперь, куда деваться, что делать и как провести вечер» (224).
Отрывок этот в высшей мере примечателен. Прежде всего, он демонстрирует значительный интерес Карамзина к салонам XVII–XVIII веков как к явлению истории культуры. Только в результате большого изучения можно было так лапидарно и сконцентрированно охарактеризовать основные черты салона той поры. Кроме того, он прекрасно иллюстрирует художественный метод Карамзина, его принципы превращения исторического факта в факт литературы, в элемент художественного текста. Прокомментируем инициалы этого отрывка. Они легко поддаются расшифровке и, видимо, на это рассчитаны.
Улица Сент-Оноре в свое время была местом расположения знаменитых салонов [199]. Пьер Сегюр назвал ее «царством салонов». Здесь находились, в частности, салоны г-жи Жоффрен и дочери ее маркизы Ферте-Эмбо. Когда процитированное место было Карамзиным представлено читателям, он уже, весьма вероятно, связывал с улицей Сент-Оноре и другие ассоциации: именно здесь с августа 1791 года до самых роковых дней термидора и гильотины жил у столяра Мориса Дюпле Робеспьер. Одна скромная комната в деревянном флигеле дома простого работника так же вошла в миф о Неподкупном, как подвалы Марата, Царское село Екатерины II или Версаль Людовика XIV. Здесь протекала мещански-скромная жизнь Робеспьера, здесь же развертывался его аскетически-«римский» роман с Элеонорой Дюпле — весь тот «скромный домашний обиход», который изумлял и привлекал Карамзина. Свидетельство Николая Тургенева показывает, что именно частная жизнь якобинского вождя интересовала Карамзина. Следовательно, улица Сент-Оноре вызывала у него двойные воспоминания. И если пустующие дворцы аристократии (а эта деталь была ему важна, судя по тому, как тщательно он над ней работал, переделывая от издания к изданию) в 1790 году воспринимались как свидетели старого порядка в новом, революционном Париже, то в 1801 году, когда этот текст был опубликован, заколоченный деревянный флигель дома Дюпле также не был немым для историка. Улица Сент-Оноре знала шаги истории. Когда по ней мимо флигеля Робеспьера везли в тележке на гильотину Дантона, он крикнул: «Максимилиан, ты следующий!»
Карамзин все это знал и помнил.
А путешественник стоял ночью на улице Сент-Оноре, ничего не зная о будущем, и слушал рассказ аббата Н*.
Имена владелиц салонов, скрытые в рассказе аббата Н* под заглавными буквами, легко расшифровываются: маркиза Д* — госпожа Мари де Виши-Шамрон дю Дефан, графиня А* — Луиза-Фелисите Эгийон (по-французски начинается с А — Aiguillon), баронесса Ф* — Мария-Тереза Ферте-Эмбо. Не только инициалы, но и очерченный Карамзиным точный профиль салонов позволяет дать именно такую расшифровку. У Маркизы Д* собирается смешанный круг из людей высшего общества и «славнейших остроумцев». Именно таков был состав салона дю Дефан. Первоначально в нем царили энциклопедисты. Центром салона был любимец хозяйки Даламбер, Монтескье был его постоянным посетителем до самой своей смерти. Здесь бывали Тюрго, Мармонтель, Лагарп. Одно время дю Дефан пыталась привлечь в стены своей гостиной и Руссо. В «Исповеди» автор ее писал об этом: «Сначала я очень заинтересовался г-жой Дюдефан, которую утрата зрения делала в моих глазах достойной сострадания; но ее образ жизни, столь противоположный моему (я вставал почти в тот час, когда она ложилась спать); ее безудержная страсть к пустому остроумию; значение, придаваемое ею, в хорошем или в дурном смысле, всякому появившемуся грязному пасквилю; исключительная пристрастность, не позволявшая ей говорить ни о чем уравновешенно и спокойно; невероятные предрассудки, непреодолимое упрямство, нелепое сумасбродство, до которого доводила ее упорная предвзятость суждений, — все это скоро отвратило меня от желания оказывать ей услуги. Я отдалился от нее; она это заметила; этого было довольно, чтобы привести ее в ярость; и хотя мне было достаточно ясно, до какой степени может быть опасна женщина с подобным характером, я все же предпочел бич ее ненависти бичу ее дружбы» [200].
Живя в Швейцарии, в Ферне, Вольтер не мог бывать у госпожи дю Дефан, но они постоянно обменивались письмами, и мраморный бюст его стоял в ее кабинете. Но в 1764 году мадемуазель Леспинас «похитила» Даламбера. Он «изменил» салону на улице Сен-Жозеф. Умер Монтескье, умер президент Эно, долголетний друг дю Дефан. Состав салона менялся. Философы умирали — в их кресла садились родственники хозяйки, принадлежавшие к высшей знати. Салон принял именно тот эклектический великосветски-философский характер, который точно отметил Карамзин.
Герцогиня д'Эгийон, известная своим умом и безобразием, превратила свой салон не только в место постоянных сборов философов-энциклопедистов, но и в убежище для тех, кто опасался преследования властей.
О салоне Марии-Терезы Ферте-Эмбо мы уже говорили. Карамзин и здесь не уклонился от истины, подчеркнув католический характер этого салона.
Однако целью Карамзина было не перечислять какие-либо конкретные детали — его поэтика в «Письмах» подразумевала создание на реальной основе пластических образов, наполненных историческим содержанием. И в данном случае картина, им нарисованная, сгущена, факты сдвинуты и доведены до уровня исторических обобщений. Создавая обобщенную картину: светский салон маркизы, философский — графини и религиозный — баронессы, он, прежде всего, ради законченности ряда: «маркиза — графиня — баронесса» (который, превратившись в устойчивый образ дореволюционной аристократии, повторялся в комедиях и публицистике тех дней, став сатирическим штампом) сдвинул факты: г-жа Эгийон была герцогиней, а не графиней, Ферте-Эмбо была не баронессой, а, как и дю Дефан, маркизой. Желая подчеркнуть, что мир салонов принадлежит аристократической культуре, Карамзин вообще не упомянул о «понедельниках» и «средах» г-жи Жоффрен, матери маркизы Ферте-Эмбо. Г-жа Жоффрен, урожденная Тереза Роден, была дочерью лакея и женой богатого буржуа. Именно выдающиеся личные качества сделали ее хозяйкой самого культурно-значительного салона в Париже XVIII века. Даламбер, Дидро, Морелли, Мармонтель, Гальяни, Рейналь, Гельвеций, Гольбах, Тюрго были посетителями ее салона, и склонялись перед волей требовательной и державшей беседу в строгих рамках благопристойности хозяйки. Она ссорилась с Вольтером и Монтескье, дипломаты наносили ей визиты как главе государства. Екатерина II, с которой г-жа Жоффрен поддерживала живую переписку, называла ее «друг мой», а Станислав Понятовский именовал «маменькой» (когда он был избран королем Польши, он писал ей: «Дорогая маменька, вот я и король, не сердитесь, пожалуйста»). Не даром ее прозвали «царицей Парижа» (слово это писалось 1а tsarine, как подчеркнутый руссизм).
Карамзин, конечно, знал о салоне г-жи Жоффрен, и умолчание о нем было намеренным. Характерный для него прием: заменив г-жу Жоффрен маркизой Д<ю Дефан>, он поместил, однако, последнюю на улицу Сент-Оноре. Между тем первые годы существования ее салон помещался на улице Бон, расцвет же ее «четверги» переживали, когда она переехала на Сен-Жозеф. На Сент-Оноре жила г-жа Жоффрен, и именно на ее особняк указывал путешественнику аббат Н*. Здесь в течение почти пятидесяти лет находилось «царство» царицы Парижа. Здесь же в боковом крыле особняка был салон ее дочери Ферте-Эмбо, — салон, враждебный миру энциклопедистов, антагонистический салону матери.
Но Карамзин и хронологически сдвинул картину для того, чтобы придать ей резкость исторической ретуши. Маркиза дю Дефан не уехала в Лондон, а умерла задолго до революции. Однако эта деталь не была произвольной, а, как всегда у Карамзина, опиралась на некоторую реальность: кроме общеизвестной склонности маркизы к англофильству, мысль Карамзина отправлялась от поздней и последней любви уже престарелой дю Дефан к Орасу Уолполу, который, хотя был на двадцать лет ее моложе, приезжал в Париж с единственной целью повидать уже совершенно слепую дю Дефан. Карамзин, автор «Острова Борнгольма», внимательный читатель «готических» романов конца XVIII века, конечно, знал «Замок Отранто», нашумевший роман Уолпола, положивший начало «черному роману» предромантизма [201]. Видимо, в Париже он собирал материалы о дю Дефан [202] [203].
Маркиза Ферте-Эмбо не уезжала «в Рим, чтобы постричься там в монахини». Но и здесь сведения, сообщаемые Карамзиным, не были лишены оснований. В 1789 году королева «Ордена Лантюрлелю» «отреклась от престола». В дни революции орден распался, многие его члены уехали в эмиграцию. «Рыцарь Лантюрлелю» Берни, достигший в эту пору уже кардинальской шляпы, который в это время находился в Риме и носил звание папского протектора французской церкви, звал ее покинуть Париж и эмигрировать в Рим. Но она отказалась и в 1791 году скончалась в Париже.
Салон XVIII века не был только местом встреч, ужинов или даже бесед — он был формой организации культуры, особым родом общения, искусством и жизнью одновременно. Исследовательницы салона и его роли в культуре Франции XVIII века приводят характерные слова Жермены де Сталь: «Разговор — это свободное искусство, не имеющее ни цели, ни результата. <…> Беседа не является для французов средством сообщать мысли, чувства или деловые сведения, нет — это инструмент, на котором любят играть и который воодушевляет умы как музыка у одних народов и крепкие напитки у других». «Как искусство, беседа приобретает — продолжают мысль мадам де Сталь Маргарита Глоц и Мадлен Мер — особый характер, она призвана придать форму сопротивляющейся теме. Предоставим снова слово мадам де Сталь. Ничей свидетельский голос не может иметь большую цену, чем мнение этой изгнанницы, когда она ностальгически припоминает в своей книге «О Германии» парижские салоны, в которых прошла ее молодость: «Род удовольствия, который дает испытать одухотворенная беседа, не заключается, собственно говоря, в содержании разговора; идеи и сведения, которые в нем можно развить, не составляют главного его интереса. Это утверждение, на первый взгляд, изумляет. В такой же мере профанам не дано постичь, что в живописи, скульптуре, поэзии содержание — дело второстепенное. Знаток, прежде всего, ценит формальное совершенство произведения. Вопрос: «Что по какому-либо поводу сказали Даламбер, г-жа дю Дефан, де Гибер?» — должен быть дополнен другим: «Как они это сказали?». Ответ не вызывает сомнений: «Самым непредвиденным и неожиданным образом» [204].
Однако, как мы видели, именно эти стороны «искусства беседы» были отталкивающими для Руссо. Карамзину также они показались мертвыми обломками ушедшего века [205]. Его более интересовали в Париже театры, кафе, которые в 1790 году сделались местами шумных прений, брошюры и газеты — все, что несло на себе печать тех бурных событий, в центре которых он неожиданно оказался.
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КРЕСЛАХ ПАРИЖА
Карамзин не был театралом. Знаток и ценитель драматургии, переводчик Лессинга и Шекспира, он редко бывал в театре. Перед «вояжем» он находился среди людей, которые вообще к театру относились с предубеждением. После возвращения мы его видим чаще в уединении Знаменского, в тишине рабочего кабинета, вечерами — у камина или в избранном кругу знакомых дам и друзей-литераторов. В театре он появляется редко. Даже переехав в Петербург, где посещение театра входило в почти обязательный ритуал светского общения, Карамзин оставался редким гостем театральных кресел.
Тем более бросается в глаза его, в буквальном смысле слова, упоение парижскими театрами. «Цель»! месяц быть всякой день в спектаклях! быть, и не насытиться ни смехом Талии, ни слезами Мельпомены!.. и всякой раз наслаждаться их приятностями с новым чувством!… Сам дивлюсь; но это правда» (231).
В «Письмах» путешественника привлекает во французском театре, прежде всего, роскошь постановок и актерское мастерство. «Все сие так живо, так естественно, что я тысячу раз забывался и принимал искусственное подражание за самую натуру. Едва могу верить глазам своим, видя быструю перемену декораций. В одно мгновение рай превращается в ад; в одно мгновение проливаются моря там, где луга зеленели, где цветы расцветали и где пастухи на свирелях играли; светлое небо покрывается густым мраком, черныя тучи несутся на крыльях ревущей бури, и зритель трепещет в душе своей; еще один миг, и мрак исчезает, и тучи скрываются, и бури умолкают, и сердце ваше светлеет вместе с видимыми предметами» (232).
Карамзин был тонким ценителем актерской игры, и его описания исполнительской манеры Ларива, Рокур и других артистов, виденных им на парижской сцене, неоднократно уже использовались историками театра как правдивые и компетентные свидетельства.
«Ла-Рив царь на сцене», — писал Карамзин. Игра Ларива в заглавной роли вольтеровского «Эдипа» так описана Карамзиным: «…ла-Рив вышел, в великолепной Греческой, белой одежде, распустив по плечам русые волосы, и гордо-смиренным наклонением головы изъявил публике благодарную свою чувствительность. — В течении всех пяти актов громкая хвала не умолкала. Ла-Рив старался всеми силами заслужить ее, и как Французы говорят, превосходил в искусстве самого себя, не жалея бедной своей груди. Не понимаю, как он мог выдержать до конца трагедии; не понимаю, как и зрители не устали от рукоплескания. В той сцене, где Эдип узнает, что он умертвил отца; что он супруг своей матери; узнает, и страшным образом проклинает судьбу, я почти оцепенел. Никакая кисть не изобразит того, что свирепствовало на лице ла-Рива в сию минуту: ужас, грызение сердца, отчаяние, гнев, ожесточение, и все, все, чего не могу выразить словами. Зрители ахнули, когда он, терзаемый Фуриями, бросился со сцены и ударился головою о перистиль, так что все колонны задрожали. Вдали слышны были его стенания» (235–236).
Впечатление от игры парижских трагических актеров Карамзин передает в таких словах: «Вот декламация! вот действие! [206] Благородство в виде, величавость в поступи, ясность, чистота в произношении, и в каждом слове душа, то есть, всякая Поэтова мысль оттенена, всякая мысль выражена свойственным ей тоном, и в гармонии с игрою глаз, с движением руки: везде живопись, везде картины — и естьли зритель, не смотря на сие утончение искусства, остается холоден, то конечно не актеры виноваты» (235). Исследователь истории французского театра эпохи Великой революции замечает по поводу слов Карамзина: «Нам ничего не остается добавить к этим кратким, но очень ярким характеристикам. Русский путешественник весьма удачно схватил и передал своим читателям наиболее показательные элементы двух видов высокого трагического стиля актерской игры, главенствовавшего на подмостках старого театра. Не забудем, однако, что Карамзин видел выдающихся актеров своего времени, что такие трагики, как Ла-рив, насчитывались единицами. Средний же трагический артист превращал высокое трагическое действие, благородство, величавость и условную выразительность классической игры в манерность, слащавость и вычурность» [207].
Однако Карамзин не случайно заметил, что, несмотря на мастерскую декламацию, зрители высокой трагедии остаются холодными. Ему, поклоннику Шекспира и переводчику «Эмилии Галотти», классические декламации не трогали сердца. Как видно из его споров с г-жой Гло**, его больше привлекала мелодрама и театры, в которых мастерство актеров следовало заветам Дидро. Карамзин в Париже регулярно посещал многие театры. Пять из них он называет «главными». Это Королевская академия музыки, которую он, следуя обычному выражению парижан, именует «Большой оперой», Французский театр (или Французская комедия), Итальянский театр (Итальянская комедия), Театр господина брата короля (Карамзин называл его «Театр графа Прованского») и «Веселое варьете». Все эти театры были расположены в центре города, в людных богатых кварталах Парижа, в треугольнике, один угол которого образовывали Тюильрийский дворец и Пале-Рояль, другой — бульвар у Сен-Мартенских ворот, где помещалась Королевская академия музыки, и Сен-Жерменское предместье у Люксембургского дворца, где находилась Французская комедия — третий угол этого треугольника.
Однако в Париже 1789–1790 годов всего насчитывалось, по крайней мере, шестнадцать театров, и многие из них русский путешественник, вероятно, также не обошел своим посещением. Во всяком случае, его сведения о них точны и изобличают очевидца: «Кроме сих главных пяти Театров есть в Париже множество других в Palais Royal, на булеварах, и для всякого спектакля находятся особливые зрители. Не говоря уже о богатых людях, которые живут только для удовольствий и рассеяния, самые бедные ремесленники, Савояры, разнощики, почитают за необходимость быть в Театре два или три раза в неделю; плачут, смеются, хлопают, свищут и решают судьбу пиес». «Я часто удивлялся верному вкусу здешних партеров, которые по большей части бывают наполнены людьми низкого состояния. Англичанин торжествует в Парламенте и на бирже, Немец в ученом кабинете, Француз в Театре» (241). Следовательно, путешественник посещал демократические театры на бульваре Тампль. Даже такой мало заметный в общей театральной жизни Парижа ансамбль, как «Театр Серафена» (Театр китайских теней), привлек его внимание. Привлек — и произвел столь глубокое впечатление, что образ иллюзорного мира «китайских теней» сделался для него неким философским символом. Определение жизни как «китайских теней», создаваемых воображением, станет позже излюбленным образом Карамзина-скептика.
Театральная жизнь Парижа в 1789–1790 годах бурлила и кипела. Она менее всего напоминала спокойный и безмятежный храм искусства. Порой было трудно различить, где кончается заседание Национального собрания и политических клубов и начинается спектакль в театральном зале. В Национальном собрании обсуждали вопрос гражданских прав артистов (в жарких прениях аббат Мори и епископ Клермонский отстаивали исключение актеров из общественной жизни как людей «безнравственной» профессии, в защиту гражданских прав актеров выступал Робеспьер) и привилегий «королевских» театров, такие эпизоды, как борьба за и против постановки «Карла IX» Мари-Жозефа Шенье, выходили далеко за рамки театральной жизни. Одновременно политические дискуссии проникали на сцену и вспыхивали в зрительном зале. Накаленная атмосфера Революции господствовала и здесь.
К. Н. Державин пишет: «Чем ближе надвигается 1789 год, тем эти аплодисменты (речь идет об отмеченной С. Мерсье возрастающей активности зрительного зала. — Ю. Л.) становятся все более настойчивыми и красноречивыми, превращаясь в политические манифестации и свидетельствуя о революционизирующемся сознании зрителей театрального партера». «Политическая линия, проводимая тем или иным театром, выступает как фактор расслоения зрительного зала и как фактор его консолидации. Самое общее сравнение поведения публики в дни постановки «Карла IX» со спектаклями «Друга законов» [208] показывает нам, как за короткий сравнительно срок углубляются противоречия в рядах театрального зрителя <…> Театр революционной эпохи, — и это отмечают все его историки, — превращается в политический клуб, где развертывается борьба различных партий» [209].
Сходство театра с политическим клубом (отметим и в «Письмах», и в их автореферате устойчивое сопоставление Национального собрания с театром) поддерживалось одним обстоятельством: начало революции сопровождалось массовым развитием ораторского искусства. Этот взрыв красноречия, который на последующих этапах исторического движения покажется увлечением фразеологией, на самом деле имел глубокий смысл: нация, молчавшая много веков, обрела речь. Слово, в точном значении, стало делом. Именно слово за исторически кратчайший срок переделало дух и сознание народа и сделало невозможной реставрацию старого порядка. Законы революции можно было отменить — вернуть старое сознание было невозможно. Революцию умов сделали ораторы. Старый порядок был основан на молчании и тайне: молчании королевских «закрытых писем», по которым люди бесследно исчезали в Бастилии, замке острова Ифф или за рвами и бастионами Венсенского замка, на тайне королевских расходов и королевской дипломатии. Новый порядок начался с гласности. В салонах была принята журчащая речь, король никогда не повышал голоса. Революция началась с львиного рева и театрального жеста Мирабо. Глубоко символично, что маркиз де Дре-Брезе, обер-церемониймейстер двора, которого король послал 23 июня 1789 года к депутатам с требованием подчиниться его приказу прекратить общие собрания и заседать по сословиям, обладал тихим, почти шепчущим голосом, а Мирабо ответил ему громовым отказом и жестом римского трибуна указал на дверь.
Один из участников этой сцены вел себя как пронизанный идеей приличия придворный, другой — как римский трибун.
Последнее сопоставление не случайно: образцом поведения для людей революции был республиканский Рим. Но где они черпали представления о том, как ведут себя, как говорят, поступают и жестикулируют римские республиканцы? Проницательный ответ на этот вопрос дал Г. В. Плеханов: «Революционная эпоха сразу выдвинула множество замечательных ораторов. Мирабо, Барнав, жирондисты и многие из монтаньяров были настоящими мастерами слова. У кого учились они своему искусству? У великих французских трагиков, доведших до совершенства l' art de bien dire [210] [211].
Театральность пронизывала жизнь Парижа 1789–1790 годов, и Карамзин не случайно нашел для описания наблюдаемых им событий театральный образ: «Не думайте <…>, чтобы вся нация (характерно, что даже в этом высказывании Карамзин употребляет такое типично революционное слово, как «нация») участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре» (226).
Для того, чтобы воспринять революцию как театр, надо было увидеть театр как революцию. И дело было не в отдельных афоризмах, бросаемых со сцены и вызывавших в партере взрывы аплодисментов или свистки, а в том, что Белинский назвал «римской помпой» и что составляло душу и театра, и политической жизни тех дней.
Однако что же из театральной жизни Парижа бесспорно оказалось в поле зрения Карамзина? Здесь прежде всего следует упомянуть о событиях, связанных с постановкой пьесы Мари-Жозефа Шенье «Карл IX». Путешественник утверждал в «Письмах», что смотрел эту постановку в Лионе. Мы говорили об обстоятельствах, которые могли заставить Карамзина перенести этот эпизод из Парижа в Лион. Но даже если первое знакомство с пьесой для русского путешественника действительно произошло в Лионе, то тем больше интереса должны были вызвать у него события, волновавшие столь длительное время весь театральный мир Парижа. Пьеса Шенье, написанная еще до революции, по цензурным условиям, конечно, не могла увидеть света рампы. Но в обстановке 1789 года она оказалась исключительно созвучной общественным настроениям. Разоблачение коварства церковных фанатиков, жестокости придворной камарильи, образ слабого короля, ставшего игрушкой в руках хитрых врагов народа, просвещения и свободы, защита веротерпимости и пунктиром намеченный образ доброго короля — Генриха IV, — все это отвечало самым злободневным идеям 1789 года. А эффектные мелодраматические сцены и громкие монологи, облекающие актуальный политический памфлет в пышную фразеологию просветительской трагедии, делали «Карла IX» сценическим вариантом прений в Национальном собрании.
Однако путь на сцену для трагедии оказался закрытым. Труппа Французского театра продолжала ощущать себя «актерами его величества». Мемуары актера Флёри ярко рисуют враждебность основного состава труппы «духу партера», требовавшего революционных пьес, и солидарность сцены с аристократической частью зала. Театр положил пьесу под сукно. Немецкий путешественник, известный педагог Иоахим-Генрих Кампе, оказался осенью 1789 года в Париже. Свои впечатления он изложил в книге «Письма из Парижа во время революции». Сочинение это пользовалось таким успехом, что уже в 1790 году в Брауншвейге вышло «третье исправленное издание» ее. Книга эта, конечно, была Карамзину известна: Кампе был очень популярный в новиковском кругу писатель и педагог, и сам Карамзин неоднократно обращался к его авторитету. По парижским письмам Кампе Карамзин мог поверять и свои собственные воспоминания.
Последнее письмо немецкого путешественника датировано 26 августа 1789 года. Оно описывает впечатление от посещения Французского театра за два дня до этого. Следует отметить, что Кампе оказался в театре 24 августа, т. е. в 217-ю годовщину варфоломеевской ночи (24 августа 1572 года). Как сообщает Кампе, в театральном зале он был оглушен криками публики, которая не давала актерам играть: ««Карл IX»! «Карл IX»! раздавалось от партера до галлереи <…> Я воспользовался минутой перерыва, чтобы спросить у соседа, что все это означает, и в особенности, чего добиваются этими криками о Карле IX-м? Ответ его был таков: уже около года, как создана трагедия под таким названием. Автор ее г-н Шенье, а предмет — варфоломеевская ночь» [212]. Далее Кампе узнал от соседа, что труппа не хочет ставить пьесу, а публика ее требует.
События на этом не остановились. 19 сентября 1789 года публика прервала постановку трагедии Фонтенеля «Эрисия». Актеры почти бежали со сцены. Для объяснений вышел Флёри. Из партера на сцену вскочил оратор (по традиции считают, что это был Дантон) и объявил, что «время, когда деспотизм осуществлял цензуру над театрами, кончается». Вопрос был перенесен в парижский муниципалитет, а затем — в Национальное собрание. 4 ноября 1789 года пьеса была, наконец, поставлена и прошла с небывалым успехом. Кассовый сбор был невиданным — 5018 ливров. «Карл IX» вызвал поток откликов, от негодующих воплей справа (Ривароль в «Актах апостолов» — ультрамонархической газете — называл пьесу написанной чернилами из чернильницы сатаны) до восторженных отзывов Камилла Демулена и Дантона, которому приписывали слова: «Если «Фигаро» убил дворянство, то «Карл IX» убьет королевскую власть». Впрочем, последнее высказывание мало достоверно: в 1790 году никто, даже Марат, не собирался «убивать королевскую власть».
Карамзин застал эти споры и, по собственному признанию, в них участвовал. Тем более не мог для него пройти незамеченным драматический эпизод, разыгравшийся в дни, когда он, по собственному признанию, ежедневно бывал в театре. 12 апреля театр открывал сезон после перерыва на время поста. Речь, которой по традиции должен был открываться спектакль, поручена была молодому Тальма. Текст для актера написал М.-Ж. Шенье. Аристократическая верхушка труппы забраковала речь и передала слово другому актеру. Шенье напечатал текст речи и, сопроводив пометой о запрете, распространил в зале театра. В зале началась драка. Дальнейшее происходило уже после отъезда Карамзина: борьба против попыток снять «Карла IX» с репертуара связана была с вмешательством Мирабо и марсельских патриотов, дракой за кулисами между Тальма и актером Нодэ и последующей дуэлью между ними и, наконец, уходом Тальма и всей «красной эскадры» патриотически настроенных актеров из театра. Таким образом, борьба вокруг трагедии Шенье была сенсацией театральной жизни на всем протяжении пребывания писателя в столице Франции. Она, конечно, принадлежала к значительнейшим театральным впечатлениям Карамзина в Париже.
Карамзин в «Письмах» засвидетельствовал свои театральные интересы, но предпочел весьма скупо отозваться о том, какие именно пьесы привлекали его внимание. Однако для выяснения этого у нас есть достаточно материалов: мы знаем общий характер его интересов и воззрений, располагаем репертуаром парижских театров этого периода. Кроме того, вернувшись в Москву и начав в 1791 году издавать «Московский журнал», Карамзин посвятил в нем специальный раздел «Иностранным спектаклям». Раздел этот включал в себя переводные рецензии и в основном был посвящен французскому театру. Данные черпались главным образом из «Mercure de France», но подбор и редактура ясно обнаруживали позицию издателя. Кроме того, в ряде случаев Карамзин прямо ссылался в этом разделе на собственные парижские впечатления.
Прежде всего в поле его зрения должны были оказаться пьесы, обличающие фанатизм, преследования протестантов, церковную нетерпимость, инквизицию, злоупотребления, творящиеся под маской ханжества, насильственное пострижение в монашенки и пр.
Другим предметом обличения в революционном театре были герои старого порядка. В трагедии это был образ тирана, короля-деспота, гонителя добродетельных защитников прав человека, в комедии — воспитанный старым порядком дворянин, который попадает в смешные положения в новом мире свободной Франции.
В «Московском журнале» Карамзин, несмотря на то, что цензурные условия после дела Радищева, по мере развития событий в Париже, становились все более угрожающими, счел возможным указывать читателям на пьесы, типичные для революционного театра 1789–1791 годов. Он рецензирует такие спектакли, как «Монастырские жертвы» (Les victimes cloitrees) [213] Монвеля. Карамзин воспользовался тем, что обличение инквизиторских порядков католического монастыря в России не вызывало цензурных придирок, а отвлеченная критика фанатизма уже столько раз встречалась в сочинениях просветителей, что к ней привыкли, и подробно прореферировал боевик революционной сцены 1791 года. Пьеса Монвеля шла в Париже с потрясающим успехом. Козни кровожадного и сластолюбивого монаха, ужасы монастырской тюрьмы, куда героев замуровывают заживо, доводили зрителей до такого состояния, что театр счел нужным предупреждать, что в одной из лож постоянно дежурит врач со всем необходимым для приведения в чувство слабонервных патриоток. Критик «Gazette Nationale, ou Universel» даже вынужден был заметить, что «опасно приучать публику к слишком сильным волнениям» [214]. Публикуя рецензию, Карамзин без каких-либо комментариев знакомит читателя с сюжетом пьесы, где рядом с злодеем-патером Лораном выведен отрицательный образ спесивой аристократки, а отряд национальных гвардейцев играет роль deus ex machina, спасающего героев. Показательна одна небольшая деталь: театр, который Карамзин в «Письмах» (в отрывке, опубликованном в 1794 году в «Аглае») именует традиционным названием Французский театр, в рецензии 1791 года он называет в соответствии с «революционным» переименованием «Театр национальный» [215]. Рецензия на «Монастырские жертвы» не была единственной или случайной: ей предшествовала рецензия на поставленную Итальянским театром пьесу Бретона «Монастырские жестокости», где сцена «представляет молодую девушку, тиранскою властию осужденную посвятить небу то сердце, которое она для мира и любви назначала» [216]. Если Карамзин настойчиво привлекал внимание русских читателей к пьесам такого рода в Москве 1791 года, то странно предположить, что он упустил возможность посмотреть их в Париже 1790-го.
Из антидеспотических пьес Карамзин, судя по тексту «Писем», видел «Тарара» Бомарше с музыкой Сальери. Назвав пьесу Бомарше «странной», Карамзин, однако, отметил, что автор сумел ею «вскружить голову Парижской публике» (220). Написанная еще до революции (первая постановка в 1787 году), пьеса Бомарше — Сальери была, по словам К. Державина, «принята публикой едва ли не с большим энтузиазмом, чем «Свадьба Фигаро»» [217]. Поразила зрителей она не только необычностью сюжета: в ней действовали духи, гении, воскресающие тени и пр. — но и политической смелостью: резкий образ тирана Атара вызывал у зрителей вполне актуальные ассоциации. Тирану противопоставлен вождь народного восстания Тарар, которого в конце пьесы народ возводит на престол покончившего с собой Атара.
Популярным героем пьес, шедших в начале революции, был Генрих IV. Только восстание 10 августа 1792 года, когда все статуи королей в Париже были сброшены с пьедесталов, нанесло удар по культу Генриха IV.
Но это время еще не наступило. Пока что образ, вдохновивший Вольтера на «Генриаду» и закрепленный авторитетом философов-просветителей, господствовал на парижской сцене так же, как и в сознании Карамзина, сделавшего вольтеровский идеал сквозным подтекстом парижской части писем.
Антиподом театрального тирана в пьесах начала революции был добродетельный монарх, король-гражданин, философ на престоле и отец своих подданных. Такое противопоставление не только удовлетворяло поэтике мелодрамы с ее обязательным контрастом черного и белого и тяготением массового зрителя к счастливым концам, оно соответствовало политической температуре времени. Идея республиканского монархизма, получая различные оттенки, входила в 1790 году в программу самых разных и борющихся между собой политических группировок. Не разделяли ее только закоренелые сторонники старого режима, голос которых отчетливо звучал в Кобленце, но был не слышен в Париже. Не только умеренные монархисты и умеренные республиканцы предпочитали сохранить «доброго короля». Даже Марат и Робеспьер не выдвигали в эту пору лозунга республики. Еще в период вареннского кризиса Робеспьер колебался, боясь, что уничтожение королевской власти приведет не к демократической республике, а к олигархии и сыграет на руку аристократии [218]. Наконец, идея короля-гражданина имела богатое прошлое в просветительской публицистике XVIII века. Культ Генриха IV, основания которому были заложены Вольтером, получил широкое развитие на сцене 1790 года.
Подобные представления были близки и Карамзину. Они ассоциировались с надеждами русских оппозиционеров на наследника престола и вызывали в памяти образ Петра Первого.
Не случайно из всей массы парижских спектаклей Карамзин выделил оперу Гретри (по комедии Буйи) «Петр Великий».
Карамзин подробно пересказал в «Письмах» сюжет оперы. Это имело для него серьезный смысл, далеко выходящий за рамки незначительной комедии Буйи. Идеализированный образ царя-реформатора приобретал в Москве иной смысл, чем в Париже. На сцене Итальянского театра король-гражданин олицетворял мирную революцию и единение сословий — популярные лозунги 1790 года. В России царь-реформатор воспринимался как фигура, которая откроет историческому прогрессу путь, альтернативный революции. В прогресс же Карамзин глубоко верил. Это было одно из самых заветных, самых задушевных его убеждений. Тем больнее он переживал в дальнейшем периоды разочарования в способности людей и народов, изменяясь к лучшему, двигаться к прекрасному будущему. И даже в самые мрачные минуты отчаяния и скепсиса эта вера до конца его не покидала, и он ее стыдливо прятал в глубинах души как наивную детскую мечту, верить которой стыдно, а расставаться с которой означает душевно умереть. Однако само содержание идеи прогресса претерпевало в его уме сложную эволюцию. Что понимал он под прогрессом, когда в 1794 году публиковал отрывок о парижских театрах в альманахе «Аглая» (в целом «парижские» письма появились в печати значительно позже, и их ранний текст нам неизвестен), видно из одной любопытной детали.
В опере Гретри — Буйи Лефорт исполняет песню, посвященную заграничному путешествию Петра. В прозаическом переводе с французского текст ее выглядит так:
«Некогда один славный император доверил заботы о своей империи мудрому советнику, чтобы объехать мир с целью образования.
Сокровища, высокое положение и величие не всегда составляют счастье (эти слова образуют припев, который повторяется хором. — Ю. Л.).
Чтобы скрыть свое происхождение, он оделся плотником и обошел всю Англию и Францию вплоть до последней хижины. Сокровища… и т. д.
Сгибаясь под тяжелой ношей, покрытый потом и пылью, он целый год работал моряком. Сокровища… и т. д.
Вместо скипетра и короны он взял топор и молоток и сумел построить корабль, красота которого привлекала и изумляла. Сокровища… и т. д.
Великие цари и высокие владетели! Оставьте ваши дворы и короны! Так же, как и он, покидайте свое отечество ради путешествий и трудов, и вы увидите, что величие не всегда составляет счастие».
Буйи в своей характеристике Петра I следовал традиции Вольтера, а тот, в свою очередь, объединил просветительскую концепцию просвещенного монарха с ломоносовской идеей царя-труженика. В хранящейся в Праге французской рукописи «Апофеоз Петра I», которую с основанием считают частью материалов, подготовленных Ломоносовым для Вольтера, читаем о том, что Петр «как простой плотник нанялся в Голландии в Индийскую компанию и не пренебрегал с топором в руках работать на верфи, строя корабль в качестве обыкновенного рабочего» [219]. Карамзину же версия царя-плотника была хорошо известна по стихам Ломоносова и Державина:
Рожденны к скипетру простер в работу руки…(Ломоносов)
Оставя скипетр, трон, чертог, Быв странником, в пыли и поте, Великий Петр, как некий бог, Блистал величеством в работе…(Державин)
Тем более заметно, что под видом перевода романса Лефорта Карамзин дал в «Письмах» совершенно иную версию прогресса:
Жил-был в свете добрый Царь, Православный Государь, Все сердца его любили, Все отцом и другом чтили. Любит Царь детей своих; Хочет он блаженства их: Сан и пышность забывает — Трон, порфиру оставляет. — Царь как странник в путь идет, И обходит целый свет. Посох есть ему — держава, Все опасности — забава. Для чегожь оставил он Царский сан и светлый трон? Для чего ему скитаться, — Хладу, зною подвергаться? Чтоб везде добро сбирать, Душу, сердце украшать Просвещения цветами, Трудолюбия плодами. Для чегожь ему желать Душу, сердце украшать Просвещения цветами, Трудолюбия плодами? Чтобы мудростью своей Озарить умы людей, Чад и подданных прославить И в искусстве жить наставить. О Великий Государь! Первый, первый в свете Царь! — Всю вселенную пройдете, Но другова не найдете (239–240).Искусство плотника, царственная наука, которой учатся «в пыли и поте», заменены «искусством жить», которое Карамзин выделил курсивом. Прогресс — успехи цивилизации, просвещения. А это подразумевает «везде добро сбирать». Стремлению овладеть европейской техникой, ремеслом, искусством строительства кораблей противопоставлено стремление стать частью мировой культуры. Культура же — единое духовное развитие человечества.
То, что Карамзин наблюдает во Франции, еще в 1791 году представляется ему вполне согласным с духовным прогрессом: начальная работа революции по расчистке авгиевых конюшен истории вызывает у него сочувствие. Слово «традиция» еще не имеет над ним той волшебной власти, которую оно приобретает, когда он досмотрит историческое действо до коронации Наполеона и Бородинского сражения. В 1790 году он еще с удовольствием смотрит комедии друга Дантона и Камилла Демулена Фабра д'Эглантина (голова которого 16 жерминаля II года республики — 5 апреля 1794 г. — упадет под ножом гильотины вслед за головой Дантона). Более того, в 1791 году он поместит в «Московском журнале» подробную рецензию на комедию Фабра «Аристократ, или Выздоровевший от знатности» (Карамзин в рецензии приводит лишь краткое французское заглавие «Le convalescent de qualite»). Прошлое представлено здесь как царство смешных предрассудков, избавление от которых есть выздоровление. Карамзин предлагает читателям «Московского журнала» солидаризироваться с такими взглядами: «Один знатный человек был болен подагрой, которую усиливал он беспрестанным своим сердцем (т. е. гневом. — Ю. Л.). Доктор, взявшись его вылечить, послал его в 1788 году в отдаленную деревню, лежащую у подошвы гор, и не велел ему ни с кем иметь сообщения, выключая своего поверенного, который, способствуя скорейшему его излечению, говорил только ему угодное. Революция сделалась; он не знает об ней ни слова, и возвращается в Париж, когда его там совсем не ожидали. Вообразите его удивление: все переменяют с ним обхождение; все говорят с ним новым тоном — а как никто не подозревает, чтобы происшедшие перемены были ему неизвестны, то долгое время остается он в неведении. Один богатый мещанин приходит сватать дочь его за своего сына, ее любящего и ею любимого. Знатный господин хочет приказать слугам своим выбросить мещанина в окошко; пишет письмо к Lieutenant de Police и требует от него lettre de cachet, чтобы и отца, и сына посадить в Бастилию; бранит дочь свою за то, что она полюбила мещанина и даже вздумала выйти за него замуж. Сей г. Маркиз должен 200 тысяч ливров. Заимодавец требует их; но он, чтобы его удовольствовать, обещает сыну его прибыльное место при откупах, племяннику приорство, а дочери пенсию на лунный свет. <…> Наконец приходит доктор и объясняет все своему больному, который стал больнее прежнего» [220].
Процитированный Карамзиным отрывок в нескольких словах сконцентрировал черты быта, отмененного революцией. Lieutenant de Police — ненавистная парижанам должность начальника королевской полиции была воплощением произвола старого режима («Верните нам Ленуара» — сделалось карикатурно-ностальгическим воплем старой аристократии в годы революции; Пьер Ленуар был последним начальником полиции до революции); lettre de cachet («запечатанное письмо») — королевский указ о ссылке или заключении в тюрьму кого-либо без суда и следствия. Эти указы король раздавал своим фаворитам и придворным с пропуском фамилии жертвы, предоставляя им самим таким образом расправляться с личными врагами. Именно на основании lettre de cachet родной отец заточил Мирабо в крепость на острове Ре. Откупа также были типичным злоупотреблением старого режима: это были щедро раздававшиеся двором монополии, доходные для откупщиков и разорительные для народа. Раздача приорств в равной мере принадлежала к числу типичных злоупотреблений двора: речь шла о фиктивной должности главы какого-либо монастыря, на деле лишь означавшей право получать часть монастырских доходов, ведя в Париже жизнь «светского аббата». Пенсии на лунный свет, sur le clair de la Lune, представляли следующее: во время лунного сияния парижские улицы по ночам не освещались. Однако деньги, определенные на освещение улиц, продолжали выдаваться. Из этих сумм назначались пенсии, обильно раздававшиеся придворной камарилье.
Парижская публика хохотала, слыша со сцены эти, когда-то грозные, но уже потерявшие устрашающий смысл, слова. Бастилия была разрушена, королевскую полицию сменила национальная гвардия. Но Карамзин предлагал посмеяться над старым аристократом и русскому читателю, которому, чтобы присоединиться к веселью парижан, надо было вообразить, что предрассудки и злоупотребления ушли в прошлое.
В другом месте Карамзин перепечатал в «Московском журнале» парижскую рецензию, называющую Фабра д'Эглантина — уже видного члена Якобинского клуба — «надеждой» французского «комического театра».
По тому, как упорно информирует Карамзин своих читателей в 1791 году о таких пьесах, как «Последние минуты Ж.-Ж. Руссо», «Тень графа Мирабо», и о других однодневках революционной сцены, можно заключить, что он не пропускал в Париже и такие спектакли. Не удивительно, что, попав в английский театр, куда, московский поклонник Шекспира, он когда-то стремился, как в храм Мельпомены и Талии, Карамзин был разочарован. Шекспир и Шиллер для него по-прежнему выше всех французских трагиков вместе взятых, но после накаленной атмосферы парижского театра лондонские спектакли кажутся ему бедными и холодными.
Действительно, театральный сезон Парижа 1789–1790 года был исключительным: роскошь и традиционное мастерство королевских театров еще сохранялись, а отмена привилегий вызвала бурный рост искусства и значения других театров. Соединение старой театральной традиции и царившей в зале новой атмосферы, постоянное балансирование на грани спектакля и митинга, политический жар актеров и театральное поведение, жесты и монологи публики, порой выделяющей из своих рядов ораторов, состязающихся с артистами в искусстве красноречия, — все это делало театр Парижа тех дней незабываемым.
ШУМ ГОРОДА
Итак, днем в Национальной ассамблее, вечером в театре. Но где же Карамзин был по утрам? «Возвратимся опять в городской шум», — писал он. «…Вот как можно весело проводить время и тратить не много денег:
Иметь хорошую комнату в лучшей Отели; поутру читать разные публичные листы, журналы и газеты (в первом издании 1801 года «публичные листы» отсутствовали, в Собрании сочинений 1803 года Карамзин их восстановил, но в последующих снова убрал; о смысле этого колебания см. ниже. — Ю. Л.), где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное; и между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии; потом кликнуть парикмахера, говоруна, враля, который наскажет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаете; намажет вашу голову Прованскими духами и напудрит самою белою, легкою, пудрою; а там, надев чистой, простой фрак, бродить по городу, зайти в Пале-Рояль, в Тюльери, в Елисейския поля, к известному Писателю, к художнику, в лавки, где продаются эстампы и картины, — к Дидоту, любоваться его прекрасными изданиями классических Авторов, обедать у Ресторатёра [221], где подадут вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом; посмотреть на часы, и расположить время свое до шести (т. е. до театра. — Ю. Л.), чтобы, осмотрев какую нибудь церковь, украшенную монументами, или галлерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться, с первым движением смычка, в Опере, в Комедии, в Трагедии, пленяться гармониею, балетом, смеяться, плакать — и с томною, но приятных чувств исполненною душею отдыхать в Пале-Рояль, в Cafe de Valois, de Caveau, за чашкою баваруаза (напиток из сладкого чая, кофе или шоколада с молоком и специями. — Ю. Л.); взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, алей в саду; вслушиваться иногда в то, что говорят тамошние глубокие Политики; наконец возвратиться в тихую свою комнату…» (244–245).
О кафе следует сказать особо. В кафе парижанин тех лет начинал и кончал свой день. Так же поступали и иностранцы. Курьер русского двора, а в будущем приближенный вел. кн. Константина Павловича и императора Александра I, начальник внутренней стражи, генерал граф Комаровский вспоминал о своем пребывании в Париже (за год до Карамзина): «Поутру ходил в завтракать au Cafe de Foi, бывшем тогда в большой моде, или в другой кофейный дом <…> После обеда кофе пить я ходил au Cafe mecanique» [222].
Карамзин посвятил в «Письмах» несколько строк кафе как особой достопримечательности Парижа: «Ныне более 600 кофейных домов в Париже (каждый имеет своего Корифея, умника, говоруна), но знаменитых считается 10, из которых пять или шесть в Пале-Рояль: Cafe de Foi, du Cavot, du Valois, de Chartres» (269). Кроме того, в числе популярных кафе Карамзин называет Le Cafe de la Regence и Прокопа.
Чем же были примечательны парижские кафе в 1790 году? «Период с 1789 по 1799 гг., — пишет исследователь повседневной жизни Парижа Анри д'Альмера, — был золотым веком кафе. Во многих кафе, превратившихся в политические клубы, читали вечерние газеты, спорили, произносили речи, подготовляли возмущения» [223]. Карамзин осторожно и с полным пониманием направлений разных кафе подобрал названия тех, которые он включил в свой текст: Cafe de Foi, расположенное в Пале-Рояле, было местом сбора наиболее демократически настроенных патриотов. Здесь собирались эбертисты, заходили депутаты Коммуны. На столики этого кафе часто вскакивали ораторы, произносившие зажигательные речи. В пестроте Пале-Рояля это был полюс мятежей. Не случайно в период термидора власти закрыли это кафе.
Кафе Прокоп было якобинским [224]. Здесь можно было видеть Дантона, постоянным посетителем и оратором («говоруном», по терминологии Карамзина) этого кафе был Камилл Демулен. Заходила сюда Люси Демулен, красавица, которая через три с небольшим года в белом, похожем на подвенечное, платье взойдет на гильотину. Cafe du Valois, de Chartres были роялистскими. Что же касается до Cavot, то его посещала смешанная публика. Здесь вслух обсуждались не политические, а театральные новости, а шепотом передавались городские сплетни, совершались спекулятивные сделки.
Пале-Рояль находился почти на равном расстоянии от Национальной ассамблеи и Якобинского клуба, если пойти по улице Сент-Оноре в сторону Елисейских полей, и Ратуши, где помещалась Парижская коммуна, мятежное сердце Парижа. Но рядом были и Тюильри, и роскошные магазины и рестораны, привлекавшие тех, у кого были деньги и кому не было дела до политики и революции. В весенние дни 1790 года столики кафе стояли под открытым небом вдоль тротуаров. Споры в тех или иных кафе собирали вокруг гуляющую публику, перерастали в митинги и столкновения между публикой различных кафе.
Русский путешественник в кафе Пале-Рояля, конечно, не только попивал свой баваруаз или любовался прохожими и витринами магазинов, но и «вслушивался», «что говорят тамошние глубокие Политики». Политические споры и пламенные речи неслись не только с трибуны Национальной ассамблеи и звучали со сцен театров — они наполняли возгласами электрическую атмосферу кафе. Только воспроизведя в своем сознании эту реальность, можно оценить подлинный смысл идиллической картины прогулок беззаботно фланирующего путешественника, нарисовав которую, Карамзин заключал: «Так я провожу время».
Однако любопытство путешественника, видимо, не исчерпывалось стремлением прислушаться к шуму мнений в кафе разных оттенков и выслушать «говорунов» всех партий: сразу после описания парижских кафе Карамзин включает в 108-е письмо странный раздел «Смесь» (словно перед нами журнал, а не имитация частной переписки). Здесь читаем: «Я желал видеть, как веселится Парижская чернь, и был нынешний день в Генгетах: так называются загородные трактиры, где по Воскресеньям собирается народ обедать за 10 су и пить самое дешевое вино. Не можете представить себе, какой шумный и разнообразный спектакль!» (269).
Вылазку эту весной 1790 года можно назвать лишь экскурсией в мир санкюлотов. Здесь Карамзин видел не треуголки и фраки, а красные колпаки и карманьолы. Он, видимо, был поражен, услышав не мрачные и кровожадные разговоры, а став свидетелем простодушного и почти детского веселья: «Кричат, пляшут, поют». Между тем впечатление его не обмануло: многочисленные свидетельства подтверждают, что революционная толпа Парижа в 1790 году была веселой. Вспышки ярости в хлебных и продуктовых очередях начались позже. Никто в апреле 1790 года не мог бы предсказать ни восстание 10 августа 1792, ни сентябрьские убийства, последовавшие за ним. Даже еще во время чисто народной демонстрации 20 июня 1792 года, когда толпа парижан, в основном санкюлотов, женщин, детей, не предводимая никем из политических лидеров, ворвалась в Тюильри, настроение ее было скорее веселое, чем озлобленное. Раздавались выкрики против «австриячки», но к Людовику XVI демонстранты относились с грубоватым почтением. А когда он, взяв у одного из санкюлотов, надел на голову красный колпак, раздался единодушный крик восторга. Толпа пела и приплясывала. Потребовались голод, интервенция, поражения на фронтах, мятежи в провинции, угрозы эмигрантов и герцога Брауншвейгского разрушить Париж, чтобы настроение парижской толпы сделалось мрачным и подозрительным. Карамзин этого уже не видел.
В конце 97-го письма Карамзин поместил сцену в придворной церкви, когда он вблизи видел короля и королеву. Смысл этой сцены как части идейно-художественного целого «Писем» прежде всего определяется тем, что в момент, когда русский читатель держал в руках страницы, описывающие народную любовь к Людовику XVI, все упомянутые в этой сцене прошли длинной чередой по помосту гильотины. И заключительная фраза, в прямом смысле относящаяся к тому, что «все с радостью окружили» дофина: «Народ любит еще кровь Царскую!» — приобретает зловещий второй смысл. И «еще», и «кровь» звучат как мрачные предсказания.
Сцена эта полна намеков и умолчаний. Так, фраза: «На Короле был фиолетовый кафтан» — ничего не говорит нашим современникам, но прекрасно понятна была читателям Карамзина. Фиолетовый цвет — траур королей. Действие, видимо, происходит в марте 1790 года. Фиолетовый кафтан короля и траурные платья королевы и дам — это вызов: двор в трауре по маркизу Фаврасу, казненному в феврале на Гревской площади, формально — за попытку похитить короля, а фактически — за организацию побега. На самом деле это была конспирация с участием королевы, графа Прованского и, вероятно, Мирабо, Фаврас взял на себя вину, и заговор остался нераскрытым. Однако в Париже циркулировали слухи, — возможно, Карамзину известные, — что Фаврас был обманут своими высокими покровителями и до последней минуты надеялся, что приговор не будет приведен в исполнение. Уже на эшафоте он хотел сделать какие-то важные разоблачения. Но народ, ослепленный ненавистью и желанием видеть редкое зрелище (первый случай повешенья аристократа), заглушил его слова криками: «Прыгай, маркиз!» [225] В этих условиях, когда говорили, что казнь Фавраса вызвала вздох облегчения у его друзей в большей мере, чем у его врагов, траур двора приобретал двусмысленный характер.
Однако вся эта сложная ткань намеков и недомолвок, дающих ключи к тексту «Писем», относится к поэтике произведения Карамзина. Если же говорить о реальной бытовой сцене, послужившей для нее основой, то она отнюдь не выглядит неправдоподобной. С одной стороны, Карамзин отмечает холодность части публики к королю. С другой, по всем источникам, в народе Парижа 1790 года еще отсутствовали республиканские эмоции. Выражение «наш добрый король» употреблялось повсеместно. Народная масса отделяла короля от двора и королевы и видела в нем «монарха-гражданина» и «отца французов». Появление его неизменно вызывало приветственные крики.
Взгляд, брошенный путешественником на королевскую чету, дополняет обзор всего спектра политических деятелей, привлекающих его внимание. Он видит их живые лица, наблюдая тех, кто для русских читателей Карамзина — от первых публикаций «Писем» до наших дней — были и остаются лишь громкими именами на страницах истории, — в жизни: на трибуне и в салоне, в театральной ложе или партере, за столиком кафе или на молитве в церкви.
Но непосредственное, жизненное, устное общение не отвергало чтения. Более того: именно в это время Париж был наводнен целым потоком газет, брошюр, карикатур, афиш, эстампов. Кафе преобразились в читальные залы, стены домов напоминали тумбы для афиш. Не случайно Анахарсис Клоотц однажды у решетки Конвента потребовал национальных почестей памяти Гутенберга. Франция обрела свободу печати и пользовалась ею с не меньшим жаром, чем свободой слова.
Карамзин был всю жизнь человеком книги. Чтение было его трудом и отдыхом. Он читал в почтовой карете и на альпийских ледниках, с пером в руках в рабочем кабинете и вслух в будуаре «милой женщины».
Время, проведенное в Париже, не было им потеряно для чтения. И конечно, не последнее место занимала здесь летучая литература революции, ее пресса и публицистика. Не случайно, рисуя свой распорядок дня, Карамзин писал: «… поутру читать разные публичные листы, журналы, газеты, где всегда найдешь что нибудь занимательное, жалкое, смешное» (442, 244). Прежде всего, любопытство вызывают «публичные листы». Упоминание о них фигурировало в первых изданиях, появившихся в условиях облегчения цензурного режима «дней александровых прекрасного начала», но Карамзин в дальнейшем почел за благо его убрать. Дело в том, что если о журналах и газетах можно было уверять простодушного читателя, что путешественник брал их в руки в Париже 1790 года с целью найти что-либо «занимательное, жалкое, смешное», то применительно к тому, что он именует «публичными листами», это выглядело уже насмешкой над читателем. Правильное протоколирование заседаний Национальной ассамблеи было установлено далеко не сразу: долгое время различные газеты публиковали отчеты разной степени подробности и точности. Зато скоро установился обычай: те речи, которые Собрание признавало особенно важными, по специальному решению, принимаемому путем голосования, публиковались (это облегчалось тем, что импровизация не была в обычае; даже Мирабо, часто к ней прибегавший, многие свои выступления готовил заранее — некоторые из них ему готовил Шамфор [226]). Публиковались они на отдельных листах и в ряде случаев перепечатывались газетами. Листы с публикациями, также по особому решению, рассылались «народным обществам». К тому же порядку стали скоро прибегать и клубы, собрания секций и различные общества граждан. Кроме того, все эти организации и отдельные лица печатали воззвания, обращения к народу и манифесты. Эта масса печатных листов расклеивалась на стенках и раздавалась прохожим, заваливала столики кафе, скоплялась в мелочных лавочках, где ее и получали любопытные. Это был живой пульс революционного Парижа, бившийся ускоренно и лихорадочно. Ничего «занимательного, жалкого, смешного» для «чувствительного путешественника» здесь не было. Зато было много животрепещуще интересного для того, кто «ухо приклонил к земле».
Читал ли Карамзин какие-то определенные газеты или черпал информацию из тех, которые попадались под руку, сказать невозможно. Однако то, что Карамзин интересовался революционной прессой, не только засвидетельствовано им самим, но и устанавливается на основании текста «Писем». Дело в том, что, вынужденный в книге, предназначенной для русского читателя, скрывать многие встречи и вполне реальные парижские впечатления, он компенсировал это чисто литературными эпизодами, а материалы для них черпал порой из газетных происшествий. Вот любопытный тому пример. В письме, помеченном «Париж, Июня…», читаем: «Однажды Бидер (слуга путешественника в Париже. — Ю. Л.) пришел ко мне весь в слезах и сказал, подавая лист газет: «читайте!» Я взял и прочитал следующее: «Сего Маия 28 дня, в 5 часов утра), в улице Сен-Мари застрелился слуга господина N. Прибежали на выстрел, отворили дверь… нещастный плавал в крови своей; подле него лежал пистолет; на стене было написано: quand on n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie est un opprobre, et la mort un devoir; a на дверях: aujourd'hui mon tour, demain le tien [227]. Между разбросанными по столу бумагами нашлись стихи, разныя философическия мысли и завещание. Из первых видно, что сей молодой человек знал наизусть опасныя произведения новых Философов; вместо утешения, извлекал из каждой мысли яд для души своей, необразованной воспитанием для чтения таких книг, и сделался жертвою мечтательных умствований. Он ненавидел свое низкое состояние, и в самом деле был выше его, как разумом, так и нежным чувством; целые ночи просиживал за книгами, и покупал свечи на свои деньги, думая, что строгая честность не дозволяла ему тратить на то господских. В завещании говорит, что он сын любви, и весьма трогательно описывает нежность второй матери своей, добродушной кормилицы; отказывает ей 130 ливров, отечеству (en don patriotique [228]) 100, бедным 48, заключенным в темнице за долги 48, луидор тем, которые возьмут на себя труд предать земле прах его, и три луидора другу своему, слуге Немцу, живущему в Британской Отели. Комиссар нашел в его ларчике более 400 ливров». — «Три луидора отказаны мне, сказал чувствительный Бидер: он был с ребячества другом моим и редким молодым человеком» (306–307).
Весь этот эпизод, который автор «Писем» представляет читателю как реальное событие, имеет чисто литературную природу. Ничего подобного с Карамзиным не происходило и не могло произойти. Карамзин заимствовал весь эпизод из «Газеты европейских революций в 1789–1790 гг.», где он помещен в первых числах апреля 1790 года, а само событие датируется 30 марта, т. е. днем, когда путешественник едва переступил границу Парижа. Чтобы придать событию вероятность, автору «Писем» пришлось перенести то, что в газете датировалось 30 марта, на 28 мая.
Поскольку текст газетной заметки показывает приемы, с помощью которых Карамзин конструировал «эпизоды», приведем его полностью: «30 марта на улице Сен-Мерри было совершено одно из тех обдуманных самоубийств, примеры которых мы находим только в Англии.
Некто Вилетт, слуга, в возрасте 26 лет, примерной честности, был человек прилежный в выполнении всех своих обязанностей. Не имея никаких склонностей, он накопил довольно значительные сбережения. Он никогда не выходил из дома и проводил то свободное время, которое у него оставалось от исполнения своих обязанностей, за чтением книг хорошего содержания. 10-го последнего месяца он написал завещание и приложил к нему письмо, в котором объявлял, что он незаконнорожденный, что его воспитала бедная женщина, вскормила вместе со своими детьми, что он благодарен ей и что он помогал ей всеми возможными для него средствами. В одном диалоге своей души с Богом [229] он мотивирует свое решение покинуть жизнь соображениями, которые находятся у Руссо и Сенеки. Он сообщает, что свое состояние слуги он переносил с отвращением, поскольку считал его бесконечно унизительным. Он прощается с великодушным третьим сословием, дворянством, которое должно быть счастливо милосердием своих победителей, и духовенством, которое он призывает отвергнуть свои одеяния и свои привилегии. Он заключает благодарностью своим господам, к которым он очень привязан за их заботы и их внимательность. В адрес своих хозяев он произносит настоящий панегирик. В день его смерти ни в выполнении им своих обязанностей, ни в его лице не было заметно никаких изменений. Когда хозяева улеглись, он удалился в свою комнату. Он привел свои дела в полнейший порядок и положил на стол запечатанное завещание, в котором он назначил своим наследником одного из детей своей приемной матери, которого он называет своим братом. Утром он написал ему, сообщая о своей смерти. Своей матери, которой, как он писал, он более благодарен, чем ее собственные дети, он послал 132 ливра. Совершив все распоряжения, он взял лист бумаги и твердой рукой внес дополнения в свое завещание. Он назначил 100 ливров на патриотические цели, 48 ливров обществу материнства, 48 для бедняков дистрикта, 48 ливров на пропитание заключенным в тюрьмах, 12 ливров на чай тем, кто будет предавать его тело земле. Он положил каждую сумму серебром в отдельный ящичек. Внизу листа он приписал слегка дрожащей рукой: «Скорее, должно отправляться в путь». Затем он размозжил себе голову из пистолета. Он запер дверь на задвижку, но сначала прикрепил к дверям снаружи листок с надписью крупными буквами: «Самоубийца».
Несчастного обнаружили распростертым на полу, плавающим в крови, с пистолетом в руке и прикрепленной к нему запиской:
Quand on n'est rien et qu'on est sans espoir,
La vie est un opprobre et la mort un devoir [230].
Другой пистолет с таким же девизом был наготове. На стене комнаты было написано крупными буквами: «Сегодня моя очередь — завтра твоя» [231].
Обнаружив источник, мы можем сразу же сделать несколько выводов. Прежде всего, это подтверждает, что Карамзин в Париже читал газеты. В том же номере сообщалось о прениях в Национальной ассамблее и публиковался подробный отчет заседания. Кроме того, выясняется, что Карамзин читал в Париже и старые газеты. Он стремился не только узнать новости, но и представить себе весь ход событий. Это чтение будущего историка. Более того, Карамзин, видимо, читал газеты с карандашом и пером в руке. Сообщение о слуге-самоубийце он явно пересказывал не по памяти. В этом убеждает то, что он сохранил ошибку в цитировании Вилеттом хрестоматийно известных строк из Вольтера, точность в перечислении завещанных сумм и проч. Однако сомнительно, чтобы Карамзин вез с собою в Москву все прочтенные им парижские газеты. А еще В. В. Сиповский бесспорно установил, что текст «Писем» создавался в Москве. Вывод может быть только один: читая газеты в Париже, Карамзин делал заготовки — выписки или вырезки — для будущей книги. Он не «просматривал» газеты, а работал над ними.
Наконец, сопоставляя эти тексты, мы попадаем как бы в творческую лабораторию Карамзина. Кроме уже отмеченного — конструирования якобы реальных эпизодов на основании книжных и газетных источников, мы можем наблюдать, как Карамзин перестраивал и преображал исходный текст. Почему Карамзина заинтересовал именно этот эпизод и как он связан с его размышлениями о проблеме самоубийства, речь пойдет далее.
Кроме газет, Карамзина, очевидно, интересовали книжные новинки. Представив его роющимся в книжных лавках Парижа, листающим выложенные на прилавках букинистов вдоль Сены тома и набивающим карманы брошюрами и альманахами, мы не рискуем погрешить против истины.
Рассказ Ф. Глинки о том, как Карамзин показывал ему прекрасную библиотеку, якобы собранную им в Париже на деньги, сэкономленные ценой отказа от ужинов, следует считать апокрифическим: Карамзин, конечно, привез из-за границы книги, но Федор Глинка их видеть не мог, так как познакомился с Карамзиным в конце 1810-х годов в Петербурге, а все книги писателя сгорели в 1812 году в Москве. Карамзин мог только вспомнить о своей старой библиотеке, показывая Глинке в Петербурге новую. Однако и упоминания книг в тексте «Писем», и критический отдел «Московского журнала» ясно свидетельствуют о том, с какой жадностью Карамзин следил за каждой книжной новинкой.
Видимо, не меньше Карамзина занимали сатирические эстампы, в большом количестве издававшиеся в Париже тех лет. По крайней мере, ряд «сценок», якобы подсмотренных путешественником на улицах французской столицы, на самом деле оказываются описанием карикатур и сатирических эстампов той поры. Так, рисуя парижские бульвары, Карамзин пишет: «Тут молодой растрепанный франт встречается с пожилым, нежно-напудренным петиметром, смотрит на него с усмешкой и подает руку оперной девице». Эта, казалось бы, бытовая сценка — воспроизведение гравюры Шатанье, на которой франт и «оперная девица» (определение основано на том, что она смотрит на свою престарелую соперницу через театральную зрительную трубку) с насмешкой глядят на чету престарелых щеголей в костюмах эпохи Людовика XV. Подписи под молодыми франтами: «Какая древность!», под престарелыми петиметрами: «Какая безумная новизна!» Влияние летучих карикатур 1789–1790 годов ощущается и в других местах «Писем». Уже в Твери на почтовой станции Карамзин заметил на стене «карикатуры Королевы Французской и Римского (т. е. Австрийского. — Ю. Л.) императора» (6). Сатиры на «австриячку» и ее брата, императора Иосифа II, — излюбленная тема революционной публицистики. Даже в 1789–1790 годах, когда авторитет «доброго короля» еще редко подвергался публичным нападкам, противопоставление его «австрийской пантере» было почти всеобщим. То, что привлекло внимание Карамзина на почтовом дворе между Петербургом и Москвою, не могло не заинтересовать его в Париже.
Но еще больше его интересовала сама улица, город, где здания, как овеществленная история, соединялись с сегодняшним днем Парижа — шумной толпой, в которой он искал тайну национального характера — ключ к соединению прошедшего с будущим.
«Нынешний день — угадайте, что я осматривал? Парижския улицы; разумеется, где что нибудь случилось, было или есть примечания достойное. Забыв взять с собою план Парижа, который бы лучше мог быть моим путеводителем, я страшным образом кружил по городу, и в скверных фиакрах целый день проездил» (259–260).
Вновь мы сталкиваемся с соединением реальных впечатлений и скрытого, но хорошо продуманного литературного расчета. Карамзин, конечно, действительно странствовал по парижским улицам, ища в их извивах исторических впечатлений и пищи для волновавших его мыслей. Прогулки по улицам Парижа, конечно, навевали совсем другие мысли, чем странствия в окрестностях Лозанны или путешествия через альпийские глетчеры. Там мысли обращались к вечности, на память приходили Геснер и Руссо, здесь все было история и все современность. Здания были оклеены плакатами и призывами клубов, секций разнообразных обществ. Листки эти спорили друг с другом, перед ними шумели толпы читателей и к знаменитым «крикам Парижа» — голосам разнообразных бродячих торговцев, громко нараспев выкрикивавших песни и прибаутки, служившие и анонсом, и рекламой продаваемых ими товаров, — прибавлялись выкрики непрерывного митинга, который тек по улицам столицы Франции.
Но дома говорили и другими голосами — беззвучными голосами прошедших веков. А русский путешественник упорно искал корни тех событий, которые так шумно развертывались перед его глазами. Он уже был убежден в том, что настоящее — порождение прошлого. И именно прошлому он задавал свои вопросы.
Осмотр улиц, видимо не случайно, привел путешественника туда, где история и сегодняшний день Парижа 1790 года соприкасались особенно тесно.
«Я не хотел бы жить на улице Ферронери: какое ужасное воспоминание! Там Генрих IV пал от руки злодея — seul roi de qui le peuple ait garde la memoire [232], говорит Вольтер. Герой великодушный, Царь благотворительный! ты завоевал не чужое, а свое государство, и единственно для щастия завоеванных! <…> Кучер мой остановился и кричал: «вот улица де-ла-Ферронери!» Нет, отвечал я: ступай далее! Я боялся вытти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком» (262).
Смысл этого отрывка оживает лишь в контексте того культа Генриха IV, который был свойствен антидеспотической публицистике 1789–1790 годов. В пьесах [233], стихах, памфлетах Генриху IV придавались черты демократического короля. Даже после революции 10 августа 1792 года, монархия была низвергнута и все статуи королей в Париже опрокинуты, Секция Генриха IV (позже переименованная в Секцию Нового моста) некоторое время пыталась сохранить его бюст. 14 августа у решетки Законодательного собрания представители Секции заявили: «Добродетели Генриха IV останавливали нас некоторое время; но мы вспомнили, что он не был конституционным королем. Мы увидели в нем только деспота, и его статуя была немедленно опрокинута» [234]. Для того, чтобы «вспомнить» о том, что «добрый король» Генрих IV на самом деле не был ни вольтеровским идеальным монархом, ни конституционным королем 1789 года, потребовалось, чтобы наступила грозная осень 1792-го. Карамзин в Париже видел совершенно иные настроения. Образ же «гнусного Равальяка» напоминал об опасности церковного фанатизма, всегда глубоко затрагивавшей Карамзина. У этого эпизода «Писем» был еще один смысл: когда читатели Карамзина получили в руки эти страницы, голова Людовика XVI давно уже скатилась в корзину гильотины. Пример убийцы Генриха IV показывал читателю, что не только революция, но и религиозный фанатизм смел поднимать руку на «священную главу» монарха, и включал гибель последнего Бурбона в историческую цепь, первым звеном которой было убийство «первого Бурбона» — Генриха IV. Вся история династии представлялась как измена принципам ее основателя и деспотическая деградация. А это неизбежно вызывало мысль о закономерности событий, развертывавшихся перед глазами Карамзина. Для парижан 1789 года Людовик XVI был «восстановителем свободы» (этот титул ему торжественно поднесла Конституанта), но для начала XIX века, когда эта часть «Писем» появилась в печати, он уже
был …мученик ошибок славных, За предков в шуме бурь недавних Сложивший царскую главу.Убийство Генриха IV, отмена Нантского эдикта, преступления династии, казнь короля — такова цепь, каждое звено которой связывает прошедшее и будущее. Именно о первом звене ее думал Карамзин на улице Ферронери.
На той же странице «Писем», сразу после улицы, вызвавшей у Карамзина воспоминания о фатальном преступлении фанатика, в чью руку кинжал вложили иезуиты, следует другой исторический экскурс. «Улица храма, rue du Temple, напоминает бедственный жребий славного Ордена Тамплиеров, которые в бедности были смиренны, храбры и великодушны; разбогатев, возгордились и вели жизнь роскошную. Филипп Прекрасный (но только не душею), и папа Климент V, по доносу двух злодеев, осудили всех главных рыцарей на казнь и сожжение. Варварство достойное 14 века! Их мучили, терзали, заставляли виниться в ужасных нелепостях: на прим.<ер> в том, будто они поклонялись деревянному болвану с седою бородою, отрекались от Христа, дружились с дьяволом, влюблялись в чертовок, играли младенцами как мячем, то есть, бросали их из рук в руки, и таким образом умерщвляли. Многие рыцари не могли снести пытки, и признавали себя виновными; другие же, в страшных муках, на костре, в пламени, восклицали: Есть Бог! Он знает нашу невинность! Моле, Великий Магистр Ордена, выведен был на эшафот, чтоб всенародно изъявить покаяние, за которое обещали простить его. Один ревностный Легат в длинной речи описал все мнимые злодеяния Кавалеров Храма, и заключил словами: «вот их начальник! слушайте: он сам откроет вам богомерзкие тайны Ордена».
…Открою истину, сказал нещастный старец, выступив на край эшафота, и потрясая тяжкими своими цепями: Всевышний, милосердый Отец человеков! внемли клятве моей, которая да оправдает меня пред Твоим небесным судилищем!… Клянусь, что рыцарство невинно; что Орден наш был всегда ревностным исполнителем Христианских должностей, правоверным, благодетельным; что одне лютыя муки заставили меня сказать противное, и что я молю Небо простить человеческую слабость мою. Вижу яростную злобу наших гонителей; вижу мечь и пламя. Да будет со мною воля Божия! Готов все терпеть в наказание за то, что я оклеветал моих братий, истину и святую Веру! — В тот же день сожгли его. Старец, пылая на костре, говорил только о невинности рыцарей, и молил Спасителя подкрепить его силы. Народ, проливая слезы, бросился в огонь, собрал пепел нещастного и унес его как драгоценную святыню. — Какия времена! какие изверги между людьми! Хищному Филиппу надобно было имение Ордена» (262–263).
Современный читатель склонен расценить эти строки как интересный экскурс в «историю улиц». Связь между далекими событиями XIV века и современностью 1790-х годов уловить трудно. А между тем она была.
Легенда о тамплиерах, пущенная в оборот Эндрю Рамсеем, была хорошо известна Карамзину, так как занимала видное место в масонской мифологии. В начале Французской революции XVIII века она приобрела новую актуальность. Сначала она циркулировала в масонских кругах: в революции французские масоны усматривали историческое возмездие за преступление Филиппа Красивого. Однако роль масонов во французской революции, как установили специально посвященные этому вопросу исследования, была незначительной [235]. К 1792 году деятельность большинства лож вообще прекратилась. Когда в 1794 году Тальма играл ведущую роль в пьесе Рейнуара «Тамплиеры», тема уже не выделялась среди общего потока антидеспотических или антиклерикальных пьес революционного театра.
Однако тамплиерская легенда неожиданно получила, в противоположном освещении, популярность совсем в других кругах. В 1792 году аббат Лефранк, а в 1798 — иезуит Баррюэль (брошюра последнего вышла в Гамбурге и легла в основу всей цепи легенд, созданных ультраправыми эмигрантами) объявили революцию реализацией «адского плана» масонов. Но еще до того, как появиться на страницах иезуитского памфлета, версия: «революция — месть тамплиеров» — зазвучала в контрреволюционных салонах. Здесь упрямо отказывались взглянуть правде в глаза. В поисках того, кто «погубил Францию», аристократия не решалась взглянуть в зеркало. Легенды о том, что революция — это месть гугенотов или месть тамплиеров, переплетались и пользовались одинаковой популярностью. Отголоски этих разговоров мы находим в «Воспоминаниях» маркизы Креки, принадлежавшей по мужу к одному из древнейших аристократических родов Франции, прожившей всю Революцию в своем парижском особняке на улице Гренель-Сен-Жермен и скончавшейся почти столетней старухой, полной, однако, живости и остроумия, в первый год империи. Вольтер переписывался с ней, а Наполеон добивался чести быть принятым в ее доме. Маркиза Креки так передает разговоры в своем салоне: «Кардинал Берни (поскольку Берни уже в начале революции перебрался в Рим, слова его, сказанные в доме г-жи Креки, должны относиться ко времени пребывания Карамзина в Париже, выражая мнение, которое автор «Писем» вполне мог слышать в посещавшихся им аристократических салонах. — Ю. Л.) не далек от того, чтобы приписать переживаемые нами политические волнения и начальные преступления революции злобе и мстительности протестантов, изгнанных при Людовике XIV. Из этого можно сделать вывод, что если французские кальвинисты могли нанести столь опасный удар по спокойствию государства, то Людовик XIV имел все основания изгнать их из королевства. Но если допустить, что горсточка торговцев, рассеянная по лицу Европы, могла передать своим потомкам жажду убийства и мощь, способную поколебать империи, то не следовало бы возражать против того, что Людовик XVI отменил отмену Нантского эдикта. К несчастью для нас, деятельность кальвинистов сделалась настолько свободной, что г. Неккер, кальвинист и республиканец из Женевы, был министром короля в годы, предшествовавшие резне католических священников в Сен-Жерменском аббатстве [236]. Г. Бюрк был убежден, что существует большое сообщество революционеров, восходящее к четырнадцатому веку. Но, не приводя здесь всех подробностей, которые он сообщал о преступлениях и осуждении тамплиеров, перейдем к тому, что было найдено в бумагах Калиостро, касательно учреждения масонства». Далее передаются слухи о том, что масоны, ложи которых были организованы Жаком Моле незадолго до казни, поклялись отмстить за тамплиеров и «разрушить власть папы, истребить потомков Капетингов, уничтожить везде королевскую власть, возбуждать народы к восстанию и учредить всемирную республику». Кола ди Риенцо, пытавшийся в середине XIV века восстановить Римскую республику, и Кромвель, «конечно», были масонами. Якобинцы — на самом деле тамплиеры. Масонами-тамплиерами в салоне Креки называли Лепелетье, Клоотца, аббата Сийеса, Мирабо и Робеспьера и герцога Орлеанского. Распри между Горой и Жирондой — лишь прикрытие тайной солидарности масонов. «Французская революция началась взятием Бастилии по указке масонов <…> потому, что Бастилия была местом заключения их вожака» [237].
Разговоры эти были известны не только Карамзину, но и читателям его «Писем». Мы уже упоминали, что в оде «Вольность» Пушкин обронил, что Людовик XVI «сложил голову» «за предков», а декабрист М. А. Дмитриев-Мамонов, призывавший в агитационной брошюре своих единомышленников не размышлять «женоподобно о делах мужества», писал: «Вспомни Храмовников, певших гимны хвалебные на костре, кости их сжигавшем» [238].
Но Карамзин, как и его читатель, при упоминании улицы Тампль в момент выхода «Писем» вспоминал и другое. Именно на этой улице находился Тампль — замок, превращенный в тюрьму, куда были заключены переведенные после революции 10 августа 1792 года из Тюильри Людовик XVI и Мария-Антуанетта. Отсюда они отправились на гильотину. Экскурсии по парижским улицам не были беззаботными: по мостовым Парижа слышалось эхо шагов истории.
Может быть, однако, самое разительное для Карамзина заключалось в том, что приближающийся гром исторических событий смешивался с веселым шумом парижских улиц, но не заглушал его. Так же весело и празднично гудела толпа в Пале-Рояле, и жалобы на то, что герцог Орлеанский при перепланировке сада, занимавшего внутреннее пространство этого центра парижских развлечений, приказал срубить знаменитое «Краковское дерево», раздавались не менее громко, чем сообщения о новой речи Мирабо. Карамзин с изумлением видел, что в великих исторических событиях можно участвовать, можно не участвовать, а можно их просто не замечать. Пока подземные толчки не превратились в извержение вулкана, можно затыкать уши и убеждать себя в том, что ничего не происходит. Более того, отсвет приближающегося и, как все втайне чувствовали, неизбежного взрыва отражался на лицах каким-то особенным весельем. Современники свидетельствуют, что никогда Париж так не веселился, как весной 1790 года. Но переживший это веселье узнает то, чего нельзя почерпнуть из книг. Он
слышит Клии страшный глас (Пушкин).Именно здесь, в Париже, Карамзин услышал голос Клио, голос Истории. С тех пор он уже не переставал звучать в его ушах.
ЗЕМЛЯКИ
Описывая свой отъезд из Парижа, Карамзин заметил: «Почти все мои земляки провожали меня» (322). Восстановить имена тех членов русской колонии, с которыми общался Карамзин в Париже, очень трудно. «Письма русского путешественника» дают для этого слишком скупой материал. Следует, однако, отметить, что с «великосветским» русским Парижем (князья Голицыны, кн. Шаховская и др.) Карамзин, видимо, не встречался вообще. Не представлялся он русскому послу Симолину, который, видимо, даже не знал о его пребывании в Париже. Однако у Карамзина в Париже был круг земляков, с которыми он встречался, делился впечатлениями и обменивался мнениями.
Находка рекомендательного письма к Ж. Ромму позволяет ввести в круг парижских земляков и собеседников Карамзина П. А. Строганова и А. Н. Воронихина. Воспитатель Строганова Ромм не только записал своего ученика в Клуб якобинцев, но и водил его и Воронихина на собрания «бешеных». Как часто встречались они в Париже с Карамзиным и какой характер имели их встречи, мы не знаем. Если между ними и не возникло близости, то нет оснований подозревать антагонизм между экстравагантным графом-якобинцем и русским путешественником. В один из дней Карамзин отправился за 30 верст от Парижа в Эрменонвиль поклониться праху похороненного там Ж.-Ж. Руссо. В «Письмах» он рассказывал: «Туда спешат добрые странники, видеть места, освященный невидимым присутствием Гения, — ходить по тропинкам, на которых след Руссовой ноги изображался — дышать тем воздухом, которым некогда он дышал — и нежною слезою меланхолии оросить его гробницу» (307).
7 августа 1790 года П. А. Строганов, принявший имя гражданин Отчер, получил диплом члена Якобинского клуба. На дипломе стояла подпись Барнава и печать, на которой красный колпак еще не сменил королевскую лилию, но сама эта лилия была осенена якобинским девизом «Жить свободными или умереть».
Любопытно, что вызванный по приказу Екатерины II в Россию, Строганов не уничтожил этот диплом. И позже он, вельможа, приближенный Александра I, генерал 1812–1813 годов, бережно хранил его в своем архиве. Это можно сопоставить со свидетельством его тестя, что «под влиянием воспоминаний о молодых годах, Павел Александрович становился странен, чудил, и вдруг ни с того, ни с сего уходил в комнаты своих слуг, садился с ними запросто обедать и наслаждался равенством» [239]. Это тайное «наслаждение равенством» умилительно.
Свое вступление в Якобинский клуб Строганов отпраздновал как «добрый странник» Карамзина. Как сообщила газета «Революции Парижа» (№ 57, 7—14 августа 1790 года), «Жильбер Ромм, Отчер, Вороникэн (историк Клод Перу замечает меланхолически: «Кто был этот Вороникэн, мне неизвестно» [240]) отправились в Эрменонвиль поклониться праху Руссо и для сбора денег на памятник этому философу». Такое времяпровождение Карамзин, безусловно, одобрил бы.
В «Письмах» Карамзин упоминает некоторых своих земляков: «В 9 часов утра наш Посольской священник, Г. К*, Руской Артист с великим талантом, и я пришли на берег Сены…» (292). Здесь названы двое: «русский артист» (слово «артист» употреблялось в значении: «деятель искусств»). К* — это скульптор М. И. Козловский, жалобы которого на то, что он должен отвлекаться от ваяния для того, чтобы нести службу в революционной национальной гвардии, Карамзин использовал в лионском эпизоде. «Посольский священник» — Павел Васильевич Кривицкий. Личность этого священника примечательна. События Французской революции захватили его настолько, что он поднял в посольстве настоящий бунт против посла Симолина. Последний доносил в Петербург, что Криницкий ведет себя «самым порочным и соблазнительным образом», «со времени же здешней революции Права человека вступили ему в голову, [так] что он более ни приходить ко мне на требования по церковным делам, ни повиноваться не хочет; на возражения же мои отвечает, что он позовет меня к суду в здешний [трибунал]» [241]. Русский православный священник, вызывающий российского посла, тайного советника (притом лютеранина, сына шведского пастора), на суд революционного трибу нала в Париже 1790 года, потому что «Права человека вступили ему в голову», — конечно, фигура, не лишенная колорита. Добавим, что мятежные настроения не помешали будущей карьере Криницкого: в дальнейшем мы видим его протопресвитером, духовником Марии Федоровны и детей императора Павла. Именно он крестил вел. кн. Александра Николаевича, будущего Александра II. Сейчас мы застаем его плывущим по Сене с Карамзиным и блуждающим в парках Версаля, насильственно покинутых королевской семьей.
Еще из русских знакомцев в Париже Карамзин называет «Секретаря М* и Г. У*, с которыми вижусь не редко» (275).
М* — секретарь посольства Машков (или Мошков). О нем мы знаем исключительно мало, но имя его фигурирует в списках парижских масонских лож, а Сен-Мартен включил его в число своих интимных друзей последнего периода. Он был связан с Семеном Романовичем Воронцовым и Кошелевым. Что же касается «господина У*», то под этим тщательно зашифрованным инициалом скрывается Петр Петрович Дубровский, коллекционер, собиратель книг и рукописей, человек исключительно интересной биографии. Он был опытным дипломатом и выполнял многие деликатные поручения. При этом Дубровский был знаком с Руссо, который дарил ему книги, сопровождал Павла Петровича, когда он как граф Северный путешествовал по Франции, переписывался с Радищевым. Он, конечно, мог многое порассказать Карамзину [242].
Круг парижских земляков Карамзина был узок. Как мы видим, Карамзин вращался в кругу людей, живо интересовавшихся парижскими событиями.
МЕЧТАТЕЛИ
Представим себе майский вечер 1790 года в Париже. Комната в Лондонском отеле. За столом сидят три молодых человека. Все трое иностранцы. Один из них датчанин, другой немец, третий «московит» — русский путешественник. Всех ждет различное будущее: первый станет профессором химии в Копенгагенском университете, второй — советником веймарского двора, третий — русским писателем и историком.
Однако сейчас они настроены мечтательно и энтузиастически. Одному из них — барону Вильгельму фон Вольцогену — Карамзин посвятил последние строки своих парижских «Писем», живо рисующие атмосферу, царившую в небольшом дружеском кружке: «Прости, любезный Париж! прости, любезный В<ольцоген>! Мы родились с тобою не в одной земле, но с одинаким сердцем; увиделись, и три месяца [243] не расставались. Сколько приятных вечеров провел я в твоей Сен-Жерменской Отели, читая привлекательныя мечты единоземца и соученика твоего Шиллера, или занимаясь собственными нашими мечтами, или философствуя о свете, или судя новую Комедию, нами вместе виденную! Не забуду наших приятных обедов за городом, наших ночных прогулок, наших рыцарских приключений, и всегда буду хранить нежное, дружеское письмо твое, которое тихонько написал ты в моей комнате за час до нашей разлуки. Я любил всех моих земляков в Париже; но единственно с тобою и с Б<еккером> мне грустно было расставаться» (321–322).
В 1799 году Вольцоген принял участие в сватовстве веймарского кронпринца к дочери русского императора Марии Павловне, сестре будущего императора Александра I. В связи с этими хлопотами он приехал в Петербург и тотчас же возобновил знакомство с Карамзиным. 11 июля 1801 года Карамзин откликнулся письмом, в котором писал:
«Ваше известие, мой дорогой друг и барон, мне напомнило увлекательный период моей жизни, тот, когда моя душа, юная и чувствительная, жадно стремившаяся к наслаждениям и образованию, рыскала по свету почти наугад, чтобы обогатить себя мыслями и впечатлениями. Некое взаимное сходство наше в чувствах сблизило нас в Париже и привело к тому, что я стал предпочитать ваше общество обществу моих сограждан. Я никогда не забуду очаровательных вечеров, когда, выйдя из Французской Комедии, мы проводили время за чтением «Духовидца» Шиллера и стольких других произведений вашей литературы. Я тщательно храню письмо, которое вы мне написали в день моего отъезда. После этого вы не будете сомневаться в том, какую цену для меня должна иметь ваша дружба, украшенная столькими милыми воспоминаниями. Да, мой дорогой барон, мое сердце всегда будет ее ценить и я прошу вас хранить ее, где бы вы ни были. Вы один из тех людей, про которых я могу сказать, что отечество наше — вселенная» [244].
Письма эти воскрешают атмосферу романтической дружбы и тот дух энтузиазма, которым были овеяны месяцы, проведенные Карамзиным в Париже. Вольцоген был в это время влюблен. Пламенные письма шли к нему из Рудольштадта, где проживала его невеста, в будущем довольно известная писательница Каролина фон Вольцоген. Вольцоген отвечал чувствительными посланиями. Но энтузиазм свободы не противоречил в 1789–1790 годах нежным чувствам, а Каролина была «современной» женщиной. Еще осенью 1792 года она писала своему жениху, находившемуся тогда в Швейцарии: «Рассчитываешь ли ты, что тебя снова пошлют в Париж? Политические события интересуют меня несказанно» [245].
Но немецкая почта приносила Вольцогену и другие волнующие известия. Парижский приятель Карамзина был школьным товарищем Шиллера. А сейчас завязывались новые связи: Шиллер давно уже находил приют от бедности и гонений в семье невесты Вольцогена. И вот 9 марта 1790 года сестра Каролины Лоттхен (Шарлотта) пишет Вольцогену: «Теперь ты должен знать, что я уже 14 дней как жена Шиллера. И поскольку нас связывает самая сердечная, задушевная любовь, ты можешь представить себе, как мы счастливы» [246]. Письмо, вероятно, прибыло в Париж почти одновременно с Карамзиным, и в дальнейшем друзья получали регулярные известия из Иены, куда Шиллер был приглашен профессором истории. «Шиллеровские» настроения окрасили парижский период Карамзина. Немецкий исследователь темы «Шиллер в России» заключает: «Когда Карамзин поздней осенью 1790 года возвратился через Петербург в Москву, он знал уже не только «Дон Карлоса» и «Заговор Фиеско в Генуе», но также «Духовидца» и, по всей вероятности, еще многие произведения Шиллера, которые можно было найти в сборниках «Талия». С достоверностью это можно утверждать о песне «К Радости», следы которой обнаруживаются в двух стихотворениях Карамзина» [247].
Песнь «К Радости», видимо, особенно была созвучна настроениям Карамзина. По крайней мере, в 1792 году, публикуя в «Московском журнале» «Разные мысли (из записок одного молодого Россиянина)», Карамзин писал: «Естьли бы я был старшим братом всех братьев сочеловеков моих и естьли бы они послушались старшего брата своего, то я созвал бы их всех в одно место, на какой-нибудь большой равнине, которая найдется, может быть, в новейшем свете — стал бы сам на каком-нибудь высоком холме, откуда бы мог обнять взором своим все миллионы, биллионы, триллионы моих разнородных и разноцветных родственников — стал бы и сказал им — таким голосом, которой бы глубоко отозвался в сердцах их — сказал бы им: братья!.. Тут слезы рекою быстрою полились из глаз моих; прервался бы голос мой, но красноречие слез моих размягчило бы сердце и Гуронов и Лапландцев… Братья! повторил бы я с сильнейшим движением души моей: братья! обнимите друг друга с пламенною чистейшею любовию, которую Небесный Отец наш, творческим Перстом Своим вложил в чувствительную грудь сынов своих, обнимите и нежным лобзанием заключите священный союз всемирного дружества! — и когда бы обнялись они, когда бы клики дружелюбия загремели в неизмеримых пространствах воздуха, когда бы житель Отаити прижался к сердцу обитателя Галлии и дикой Американец, забыв все прошедшее, назвал бы Гишпанца милым своим родственником, когда бы все народы земли погрузились в сладостное, глубокое чувство любви: тогда бы упал я на колена, воздел бы к небу руки свои и воскликнул: Господи! ныне отпущаеши сына твоего с миром! Сия минута вожделеннее столетий — я не могу перенести восторга своего — приими дух мой — я умираю! — и смерть моя была бы счастливее жизни Ангелов! — мечта!» [248]. Последнее скептическое восклицание можно отнести к настроениям 1792 года, но весь отрывок, бесспорно, отражает энтузиазм более раннего периода.
Здесь можно было бы вспомнить, что Кант при известии о начале Французской революции снял профессорскую шапочку и повторил слова евангельского Симеона: «Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко!» Но непосредственно ближе всего к карамзинскому отрывку, конечно, песнь «К Радости» Шиллера с ее рефреном:
Обнимитесь, миллионы!
Именно восстанавливая уже ушедшую в прошлое атмосферу парижских бесед, Карамзин называл Вольцогена в 1801 году «гражданином вселенной». При первом известии о взятии Бастилии, еще не выехав за пределы Германии, Карамзин бросился читать «Заговор Фиеско в Генуе», в Париже он жил в атмосфере бесед о Шиллере и чтения его произведений. А шиллеровские взгляды на развертывавшуюся перед глазами поколения историческую драму были сложными и совсем не укладывались в ту примитивную схему (сначала прекраснодушный энтузиазм, а потом, когда революция вступила в решительную стадию, филистерский испуг), которую часто им приписывают.
Для Шиллера политика и нравственность были неразделимы. Предметом его постоянных раздумий была этическая цена, которую придется заплатить за свободу. Аморальная тактика ведет к деградации самой идеи. Никто так остро не ставил вопрос о нравственной цене тактики, как Шиллер. Одновременно именно в 1790 году Шиллер вплотную подошел к историческому взгляду на события. Не случайно он уже автор «Истории отпадения Нидерландов» и профессор истории в Иене. Он пытается понять события, отойдя от них, осмыслить их через призму нидерландской революции. Этот глубокий и несколько отстраненный взгляд имеет, однако, и другую сторону; профессорская кафедра, молодая жена, слабое здоровье, крошечные немецкие княжества, газеты как посредники между мыслителем и историей — все это скрадывает остроту, располагает к созерцанию. Мысль делается глубокой и всеохватывающей, но теряется непосредственное ощущение «минуты роковой», неотступно надвигающейся катастрофы.
В этом отношении позицию Карамзина можно было назвать счастливой: он дышал одновременно и «воздухом Шиллера», и электрической атмосферой Национального собрания, клубов, дыханием предгрозового веселья Парижа 1790-го года. Поднимаясь на вершины истории, он не спускал глаз с ее пропастей.
Знаменательно, что трое парижских мечтателей зачитывались не только Шиллером. В поле их зрения оказался еще один автор, и этот автор был Габриель-Бонно Мабли.
Чем был вызван интерес к Мабли? Чтобы ответить на этот вопрос, сделаем одно наблюдение. В 1789 году Франция была буквально затоплена потоком брошюр, трактатов, книг. Типографские станки стучали без устали, и публика жадно расхватывала все, чему открыла ворота свобода печати. В этом потоке легко можно было пропустить то или иное издание. Сказанное вполне относимо к двум публикациям: в 1789 году в Париже вышло второе издание (первое появилось в 1780) французского перевода «Утопии» Мора и новое издание собрания сочинений Мабли. И то и другое привлекло внимание Карамзина. Уже это подсказывает угол зрения, под которым Карамзин читал Мабли. «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца» (227) — юные мечтатели читали Томаса Мора и Мабли. Но Мабли был не только коммунист и утопист. Он был еще пророк-провидец. Не дожив четыре года до начала революции, он предсказывал и созыв Генеральных Штатов, и ждущие Францию катастрофы. Его называли «пророк бедствий». Соединяя в одном лице, что очень редко бывает, социолога-утописта и профессионального историка, Мабли мрачно смотрел на грядущие судьбы своей родины. Враг собственности, идейный противник физиократов, он возражал против частных реформ: «Зачем чинить эту старую машину — ее следует перевернуть», — говорил он. В Булонском лесу, сидя у корней деревьев, под сенью майской листвы молодые люди читали двухтомную книгу Мабли «Размышления об истории Франции» и его же «О способе писать историю». От страниц веяло отчаянием…
Но настроены они были не так мрачно. Кругом зеленела молодая листва старого парка. Вдали шумел Париж. Мир, казалось, рождался заново.История человечества перевернула страницу, и они были свидетелями этого, они посетили сей мир в его минуты роковые…
Карамзин покидал Париж. Он не уносил с собою ни отстоявшейся, целостной системы взглядов, ни готовой идеи — если пользоваться его лексиконом — того, свидетелем чего ему довелось быть. В голове и сердце его сталкивались надежды и опасения, прочитанное из книг и увиденное в жизни. Увиденное было грандиозно и страшно, величественно и несколько театрально, книги пророчили всеобщее счастье и всеобщую гибель. А на душе было молодо, мечталось, ясно было, что жизнь вся впереди, что ни один решительный выбор еще не сделан.
Время надежд.
В Париже лето было в разгаре. Двигаясь на север, Карамзин — второй раз в 1790 году — переживал весну: «В Иль-де-Франсе плоды уже зрелы — в Пикардии зелены — в окрестностях Булони все еще цветет и благоухает» (323). Кругом была снова весна…
«Великая весна девяностых годов» — назвал Герцен это время.
В АНГЛИЮ
Даты отъезда Карамзина из Парижа и прибытия в Англию неизвестны. Последняя парижская запись помечена: «июня… 1790», первая лондонская — «июля… 1790» (путевые письма из Кале, Дувра и с борта пакетбота помечены только часами: ни дней, ни месяцев на них не обозначено). У читателя должно было создаться впечатление, что Карамзин выехал из Франции в конце июня и прибыл в Лондон в начале следующего месяца. Однако у нас есть основания сомневаться в такой датировке. Дело в том, что мы располагаем реальным письмом Карамзина к Дмитриеву, отправленным из Лондона 4 июня 1790 года. В этом письме Карамзин сообщает: «Скоро буду думать о возвращении в Россию» [249]. По «Письмам русского путешественника» путешественник покинул Лондон в сентябре. По бесспорным документальным свидетельствам, Карамзин вернулся в Петербург 15 (26) июля 1790 года [250]. «Плавание продолжалось около двух недель», сообщает Погодин, черпавший сведения из бесед с Дмитриевым и другими осведомленными современниками [251]. Следовательно, Карамзин покинул Лондон около 10 июля. Если верить в определении даты его прибытия туда «Письмам», то получится, что пребывание его в Англии не превышало десяти дней. Вероятнее, что он приехал в Лондон несколько раньше обозначенного в книге срока. Однако это последнее предположение требует разобраться в еще одном хронологическом вопросе. В главе «Тюльери» (помеченной: Париж, Маия…) автор описывает орденский праздник Св. Духа как зритель и соучастник этого события. Высший орден королевской Франции — Св. Духа — отмечал свое празднество в день Св. Духа (в русской традиции — «Духов день»), который приходится на второй день Троицы, т. е. 51-й день после Пасхи. В 1790 году Троица приходилась по европейскому календарю на воскресенье 30 мая. Следовательно, Духов день отмечался 31-го. Таким образом, если автор «Писем» в последний день мая был еще в Париже и если учесть время на дорогу, то окажется, что Карамзин провел в Англии четыре-пять недель.
Однако очень вероятно, что эпизод с посещением орденского праздника вообще имеет литературный характер. Есть основания полагать, что праздник кавалеров Ордена св. Духа в 1790 году не состоялся вообще [252]. Очень может быть, что Карамзин знал, что церемония должна состояться, и описал ее со слов своих посольских знакомых Мошкова и Павлова, наблюдавших ее в предшествующие годы. Если бы он 31 мая (Духов день) был еще в Париже, то выехать из него он мог бы только 1–2 июня. В этих условиях писать 4 июня из Лондона невозможно. Дорога из Парижа в Кале занимала два с половиной дня. Полтора дня отняла дорога до Лондона. А письмо Дмитриеву явно написано не в первый день приезда.
Мы не имеем в настоящее время данных для того, чтобы распутать этот узел, но одно ясно: по сравнению с Парижем, пребывание Карамзина в Лондоне было весьма кратким. Конечно, здесь сыграли роль внешние причины: путешествие обошлось Карамзину в 1800 рублей — при его ограниченных средствах сумма немалая, а Карамзин был крайне щепетилен в денежных вопросах и не любил делать долгов. Обычная в дворянском кругу XVIII века манера легко и беспечно одалживать деньги и не заботиться об отдаче была ему совершенно чужда. Видимо, средства реального путешественника к лету 1790 года истощились, и он, в отличие от своего литературного двойника, должен был подумывать о возвращении. Однако дело явно к этому не сводится. Совершенно очевидно, что за время путешествия в интересах и планах Карамзина произошли значительные сдвиги: если прежде душа его стремилась в Лондон, то теперь Париж его интересовал гораздо больше. Это отразилось не только на краткости пребывания в столице Англии, но и на поведении путешественника. Если в Германии, Швейцарии и Франции путешественник решительно переступает пороги различных знаменитостей, посещает общественные собрания, стремясь к непосредственным знакомствам и с простыми пастухами, и с выдающимися мыслителями, и со знаменитыми политическими деятелями, то английские рецензенты «Писем» ядовито упрекали автора, что он большую часть лондонского пребывания провел в обществе чиновников русского посольства [253] и слишком поверхностно описал английскую жизнь (характерно, что отзывы французских литераторов на «Письма» были в общем сочувственными) [254].
М. А. Арзуманова, опубликовавшая по русскому переводу из архива адмирала Шишкова издевательский отзыв на «Письма» из «Эдинбургского обозрения» (рецензентом был Генри Брум, по словам Т. А. Быковой, «один из наиболее острых и сатирически настроенных сотрудников журнала» [255]), считает, что одна из причин неприязни кроется в том, что английский перевод был сделан с якобы искаженного немецкого перевода Рихтера. Но, во-первых, перевод Рихтера был авторизован Карамзиным; следовательно, об искажающем характере его (на основании некоторых сокращений, вероятно, санкционированных автором) говорить не приходится. Кроме того, у немецких читателей и критиков эти «искажения» никаких возражений не вызвали. Ссылки на устарелость для английского читателя «стернианской» традиции также многого не объясняют: Генри Брум и не думал требовать от неизвестного ему русского путешественника литературных откровений. Дело в другом: ни в какой части «Писем» давление литературных штампов не сказывается с такой силой, как в английской. Причем это штампы представлений об английской жизни, возникшие в литературе континентальной Европы, в основном во французской. И это, естественно, раздражало английских критиков.
Еще в Кале, описывая первую встречу с англичанами, Карамзин заставляет их неумеренно пить вино и восклицать «Год дем» (325). Выражение это после «Женитьбы Фигаро» стало в литературе континента своеобразной эмблемой англичанина. Вспомним:
«Граф. Во-первых, ты не знаешь английского языка.
Фигаро. Я знаю god-dam.
Граф. Не понимаю.
Фигаро. Я говорю, что знаю god-dam.
Граф. Ну?
Фигаро. Дьявольщина, до чего же хорош английский язык! Знать его надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить god-dam, тот в Англии не пропадет <…> god-dam составляет основу их языка» [256].
Приведем еще один пример явной подмены реальных впечатлений готовыми литературными штампами. Переехав через Ламанш, Путешественник «сел отдыхать на вершине горы, и великолепнейший вид представился глазам моим. С одной стороны вся Кентская провинция с городами и деревнями, рощами и полями; а с другой бесконечное море, в которое погружалось солнце (курсив мой. — Ю. Л.), и где пестрели разноцветные флаги; где белелись парусы и миллионы пенистых валов» (328). Этот чисто литературный пейзаж мог возникнуть в воображении писателя только в Москве: сидя на дуврских скалах, на западном берегу Ламанша, Путешественник не мог видеть, как солнце опускается в море — на запад от него должно было бы простираться зеленое пространство Восточной Англии. Море же было к востоку от него. Показательно, что это место привело английского рецензента в совершенное недоумение, и он, желая понять его смысл, предложил совсем уж фантастическое толкование. Не менее характерно, что русский переводчик рецензии (им был «беседчик» М. Шулепников; возможно, что интересующая нас запись была сделана Шишковым), в свою очередь, не понял причины недоумения англичанина. Рецензент «Эдинбургского обозрения» заметил, что «нет обыкновения на восточной стороне канала св. Георгия «заходящему солнцу поклоняться». Русский же переводчик снабдил эти слова примечанием: «Я не мог отыскать, к какому месту подлинника сие относится» [257]. Дело в том, что Генри Брум, конечно, зная, где в Англии можно видеть солнце, садящееся в море, и, вероятно, не очень вчитываясь в текст раздражавшей его книги, перенес действие на берег «канала св. Георгия». Канал св. Георгия — южный пролив Ирландского моря — омывает западный берег Великобритании, и Брум представил себе Карамзина сидящим на скалах западных мысов Уэльса, русский же переводчик рецензии Брума, естественно, не мог найти у Карамзина этого места.
Недостаток реальных наблюдений Карамзина скрывал, включая в письма обзорные статьи, такие, как «театр», «литература», «семейная жизнь», явно основанные на книжных источниках и даже имеющие заглавия на манер журнальных статей. Там же, где описываются встречи и беседы, якобы происходившие в действительности, литературная природа их очевидна внимательному читателю. Так, писатель передает любезный разговор, который вел Путешественник с французской маркизой, поднимаясь на вершину башни собора св. Павла. «…Что может быть прелестнее печали очаровательной женщины. — И все ее страдания лишь для того, чтобы служить его величеству мужчине. — Этого владыку часто свергают с престола, сударыня. — Как нашего доброго, бедного Людовика XVI, не так ли? — Почти, сударыня» (текст у Карамзина по-французски, 347). Лондонская знакомая Путешественника должна была обладать недюжинной проницательностью, чтобы в июле 1790 года (этой датой помечено письмо) говорить о свержении Людовика XVI с престола. В исторической реальности событие это произошло полтора года спустя — 21 сентября 1791 года. В Виндзоре Путешественник видел портрет Петра I, писанный в Лондоне Неллером. «Император был тогда еще молод: это Марс в Преображенском мундире!» (353). И хотя Путешественник пишет, что он «долго смотрел на портрет», можно, зная безошибочность памяти Карамзина, который до самой старости не забывал раз увиденного, сомневаться в этих словах или же предположить очень беглое, торопливое посещение галереи: дело в том, что на этом — ныне очень известном — портрете Петр изображен не в Преображенском мундире, а в фантастических декоративных латах. Конечно, современному читателю такая ошибка не покажется чем-то значительным, но не следует забывать, что Карамзин сам некогда носил Преображенский мундир. В XVIII веке такие вещи не путали.
Чем же объяснить эти особенности именно английской части «Писем»? Мы уже говорили об относительной краткости пребывания. Сказался, конечно, и языковой барьер. Карамзин свободно и много читал по-английски и любил английскую литературу, но в устном общении, видимо, испытывал затруднения. По крайней мере, когда ему надо было спросить, как пройти, прохожие его не понимали, он «дурно выговаривал имя своей улицы» (334). В Германии и Франции он привык к свободному и беспрепятственному общению. В Лондоне было иначе: «Я осмелился с одной из них (англичанок. — Ю. Л.) заговорить по-Французски. Она осмотрела меня с головы до ног; сказала два раза oui, два раза non — и больше ничего. Все хорошо-воспитанные Англичане знают Французской язык, но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю Английской. Какая розница с нами! У нас всякой, кто умеет только сказать: comment vous portez-vous? без всякой нужды коверкает Французской язык, чтобы с Руским не говорить по-Руски; а в нашем так называемом хорошем обществе без Французского языка будешь глух и нем» (338).
Насколько сильны были в английском обществе антифранцузские настроения, показывает рассказ Комаровского, побывавшего в Лондоне за год до Карамзина: «Вот доказательство той народной ненависти, которая существовала тогда у англичан против французов. Мы трое шли вместе по улице — граф Бобринский, Вертиляк и я. На мне с графом Бобринским был фрак английского покроя и круглые шляпы, а на французе парижский полосатый фрак и треугольная шляпа; мы примечаем, что за нами множество бежит мальчишек и поднимают грязь с улицы; один из них закричал: french dog, и вдруг посыпался град комьев грязи на бедного Вертиляка, и он насилу скрылся в одну кондитерскую лавку, случившуюся на дороге; мы же двое шли тихим шагом, и ни одного кусочка грязи на нас не попало» [258].
Естественно, что возможности контактов для Карамзина в Лондоне были более ограниченными, чем в Париже. И тем не менее дело нельзя свести к языковым трудностям. Обращает на себя внимание, что в Германии, Швейцарии и Франции основное окружение Карамзина — иностранцы. В Лондоне он окружен русскими, причем — более узко — служащими русского посольства. И здесь прежде всего речь должна пойти о Семене Романовиче Воронцове. Ни до, ни после в «Письмах» не упоминается о связях Путешественника с каким-либо русским вельможей столь высокого ранга.
Воронцовы принадлежали к «новой знати». Все попытки связать их родословную с угасшим во время гонений Ивана Грозного родом бояр Воронцовых оказались безуспешными. Они вынырнули из мутной воды дворцовых переворотов и интриг послепетровских десятилетий. Первые видные представители рода: канцлер Елизаветы Михаил Илларионович и его старший брат Роман, заслуживший по своей неслыханной жадности даже в этом мире корыстолюбивых авантюристов прозвище «Роман — большой карман», — отличались лишь невежеством и стяжательством. Государственных качеств они не обнаружили. Зато к 1801 году семья Воронцовых владела более чем 27 000 крепостных душ и 271 363 десятинами земли в 16 губерниях империи [259]. Дети Романа Илларионовича: сыновья Александр и Семен и дочь Екатерина (знаменитая княгиня Дашкова) — люди совсем другого склада. Государственно одаренные, широко образованные, независимые во мнениях и суждениях, они привыкли считать себя не только первыми вельможами России, но и членами интеллектуальной элиты Европы. И дружба Александра Романовича с Радищевым, и беседы Екатерины Романовны с Дидро или Семена Романовича с Карамзиным дают им право на упоминание не только в политической, но и в культурной истории России и Европы. Члены этого поколения семьи Воронцовых охотно причислили бы себя к типу французских просвещенных вельмож эпохи Людовика XV — поклонников Вольтера, кабинетных ниспровергателей или просвещенных английских аристократов, гордых сознанием своих исторических прав и гарантированной независимости. Но на самом деле это были люди совсем другого закваса. Первое поколение получило меткую характеристику Герцена: «Семья Воронцовых принадлежала к тому небольшому числу олигархического барства, которые вместе с наложниками императриц управляли тогда как хотели Россией» [260]. Второе поколение дало людей другого типа: они еще могли принадлежать к поколению гвардейских бунтарей, которые слишком часто сбрасывали царей и цариц и сажали новых, чтобы верить в старые сказки о божественной природе власти монархов. Не случайно Воронцовы породнились с Орловыми (Н. К. Загряжская однажды восхитила Пушкина, сказав: «Орлов в душе был цареубийцей, это было вроде дурной привычки»). А сентиментальный фаворит Екатерины II Завадовский именовал С. Р. Воронцова Сенюшей и другом любезным.
В день «дворцовой революции» 1762 года брат и сестра — Екатерина Дашкова и Семен Воронцов — оказались во враждебных лагерях, но оба приняли в событиях активное участие. Дашкова поставила на Екатерину II и выиграла, а С. Воронцов на Петра III и проиграл, но это не меняло того общего, что оба были готовы вести отчаянную игру и ставить на кон голову против успеха.
И все же это было другое поколение: пройдя начальную школу своего политического образования в кривых переулках петербургских дворцовых переворотов, они доучивались на уроках европейского Просвещения. Чувство собственного достоинства и права человека не были для них пустыми словами, а дружбу Радищева они могли поставить выше благосклонности императрицы. Революционные идеалы были им глубоко чужды, но то, что старый мир стоит на грани разрушения, не вызывало у них никакого сомнения.
Странна и почти символична судьба рода Воронцовых. Третье поколение было представлено Михаилом Семеновичем, тем самым Мишенькой, над которым Зиновьев, когда мальчик был болен, производил в Лондоне какие-то мистические эксперименты, которому Карамзин посвятил стихотворение «Мишенька». Он сначала вписался в круг героев 1812 года — был ранен на Бородинском поле, Жуковский прославил его стихами:
Наш твердый Воронцов, хвала! О, други, сколь смутилась Вся рать славян, когда стрела В бесстрашного вонзилась, Когда полмертв, окровавлен, С потухшими очами, Он на щите был изнесен За ратный строй друзьями [261].Потом он вписался в ряды либералов «дней Александровых прекрасного начала»: командуя русским корпусом во Франции в 1815 году, уничтожил, впервые в царской армии, телесные наказания, обучал солдат грамоте. Затем не менее успешно, почувствовав поворот в придворных веяниях, стал делать быструю карьеру администратора-бюрократа и при Николае сделался типичным николаевским сановником — жестоким исполнителем самых нелепых распоряжений, ловким карьеристом, соединявшим петербургское бессердечие с внешним лоском джентльмена. Затем род вымер…
Эфемерное создание императорского периода России, род Воронцовых вынырнул из небытия и растворился в тумане сумерек империи.
Карамзин, видимо, еще в Петербурге запасся рекомендательными письмами к Семену Романовичу Воронцову. Причем письма эти были такого свойства, что обеспечили молодому, небогатому и нечиновному человеку не просто краткую аудиенцию у вельможи, а радушный прием, приглашения посещать и в лондонском доме, и на даче в Ричмонде и даже, видимо, конфиденциальные беседы. Такие рекомендации мог дать лишь близкий человек. И опять выплывает круг имен: Радищев, Александр Романович Воронцов, Зиновьев, Кутузов…
Семен Романович был один из наиболее опытных и тонких дипломатов Европы. Начав карьеру в Италии, он уже много лет занимал пост полномочного посла (тогда это называлось «полномочный министр») России в Англии. Он свыкся с Англией, полюбил ее быт и проникся политическими идеалами английской аристократии. Он был патриотом и зорко следил за дипломатическими выгодами России, но самодержавие презирал как варварство, к личности Екатерины II и к ее политике относился критически. В 1790 году он, как многие русские либералы тех лет, возлагал надежды на наследника престола. Французские события его отталкивали, но он ими живо интересовался, скупая через комиссионеров политические брошюры Парижа. Понятно, что его привлекали беседы с умным и наблюдательным свидетелем, каким был Карамзин.
О чем же беседовали Семен Романович Воронцов и Карамзин в июне 1790 года в Лондоне? Конечно, содержание их бесед историк никогда не узнает. Но все же одна небольшая ниточка есть — постараемся ее не упустить.
В «Письмах» читаем: «Обхождение Графа приятно и ласково без всякой излишней короткости. Он истинный патриот, знает хорошо Рускую Историю, Литературу, и читал мне наизусть лучшия места из Од Ломоносова» (338).
Какие из од Ломоносова могли настолько затронуть С. Р. Воронцова, что он стал их декламировать русскому путешественнику в промежутках между рассказами о французском Национальном собрании? Научные оды Ломоносова вряд ли волновали стареющего дипломата, который предупреждал в письмах канцлера Безбородко о возможности революции и в России. Оды в честь цариц также, насколько можем судить, не должны были его вдохновлять. Но среди одического наследия Ломоносова были «лучшие места», которые вполне могли прозвучать в 1790 году актуально. Речь идет об оде 1762 года, связанной с «дворцовой революцией», возведшей на престол Екатерину II.
Пушкин считал этот момент поворотным в истории новой России и все свои размышления — в «Дубровском», в «Капитанской дочке», в «Моей родословной» и «Езерском» — начинал с этой даты. Разговоры об этом пункте русской истории неизменно возникали сразу же, как только ставился вопрос о законности пребывания императрицы у власти и политическом будущем России.
Ода 1762 года примечательным образом стоит особняком в творческом наследии Ломоносова. В ней, отчасти воспользовавшись возможностями, которые невольно давал правительственный манифест 6 июля 1762 года, объяснявший свержение Петра III вредностью для государства его политики, а отчасти следуя логике эволюции своих политических воззрений, Ломоносов впервые заговорил об обязанностях монарха перед подданными и, следовательно, провел черту между самодержавием и деспотизмом. Воплощенные в естественных правах человека «святые законы» обязательны и для монарха. Нарушая их, он теряет право на престол:
Услышьте, Судии земные, И все державные главы: Законы нарушать святые От буйности блюдитесь вы И подданных не презирайте…Только поддержка подданных, покоящаяся на безмолвном, но тем не менее вполне реальном договоре, обеспечивает монарху беспрепятственное и безопасное владение престолом:
О коль велико, как прославят Монарха верные раби! О коль опасно, как оставят, От тесноты своей, в скорби! [262]Ломоносов ловко использовал вынужденные и исключительно опасные для самодержавного правительства строки из манифеста 6 июля, которые утверждали, что «самовластие, не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть — такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною» [263]. Однако, как показал в тонком анализе этой оды С. Н. Чернов, Ломоносов значительно переставил акценты правительственного манифеста: в манифесте все государственные беды были воплощены в лице уже убитого к этому времени Петра III, Ломоносов, который совсем еще недавно посвятил Петру III хвалебную оду, «не выступил с прямым личным осуждением низвергнутого императора, как человека и правителя, но все же дал понять, что считает его виноватым и ответственным и, можно сказать, вдохновенно высказал целый ряд общих суждений о правителях, делах правления и основах всякой правительственной деятельности» [264].
Как справедливо отметил тот же автор, то, что в манифесте звучало личным упреком Петру III, в оде было переосмыслено как наставление Екатерине II. Сам же свергнутый монарх скорее выглядел слабым, чем преступным.
Эта концепция, высказанная Ломоносовым в 1762 году, приобрела особый смысл в 1790-м. Теперь она звучала как напоминание невыполненных обещаний и торжественно взятых обязательств. Ода недвусмысленно указывала на то, что только соблюдение монархом определенных условий, даже если он самодержец, делает его власть законной и прочной. Идея эта, конечно, не могла считаться новой или смелой на фоне развивающихся в Европе второй половины XVIII века политических теорий. Но политические концепции не обладают абстрактной абсолютной ценностью. Более смелые теории энциклопедистов мало тревожили русское правительство, потому что их очевидная неприложимость к русским условиям придавала им чисто кабинетный характер (по крайней мере, пока гильотина не превратила эти лекции в практические занятия). Между тем идея договора о взаимной пользе между самодержавным правителем и его подданными и права последних свергать нарушителя этого договора звучала как практический лозунг и могла к 1790-м годам объединить столь различных, по существу, мыслителей и деятелей, как Панин и Фонвизин, Радищев и Воронцов.
В февральском номере «Le Spectateur du Nord» за 1797 год появилось письмо из России, подписанное «Voyageur» (то есть «путешественник»). Письмо было посвящено Петру III и затрагивало болезненный вопрос — переворот 1762 года, возведший на престол Екатерину II. «Путешественник» не был сторонником Петра III — он видел в нем слабого и нерешительного человека, лично доброго, но плохо подготовленного для управления огромной страной. Но в дворцовом перевороте он видел преступление, а о Екатерине II отзывался следующим образом: «Екатерина II взошла на престол, и слава ее наполнила мир. Философы были глашатаями этой славы. Друг истины не должен против этого возражать. Но разве ему не позволено счесть число мужчин, женщин и детей, которые заплатили жизнью за тридцать лет этого славного царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и более всего в России? Он пытается счесть ужасное число этих жертв и находит их столь же бесчисленными, как количество ассигнаций, — мрачное свидетельство богатств, поглощенных блеском этого прекрасного царствования».
У Карамзина, как мы увидим дальше, были тесные связи с этим журналом, подпись «Путешественник» также указывала на него, именно так его называли в литературных кругах. Наконец, содержание статьи перекликается с, естественно, более завуалированными высказываниями в русских статьях Карамзина (особенно периода «Вестника Европы»). Все это убеждает в авторстве Карамзина, особенно если учесть, что ни о каких связях какого-либо другого русского литератора с этим немецким журналом ничего не известно.
Статья «Путешественника» ведет нас к лондонским беседам Карамзина и С. Р. Воронцова.
Не следует забывать, что именно с переворотом 1762 года связывал в дальнейшем Пушкин роковой перелом в русской истории XVIII века. В «Моей родословной» он связал упадок старинного рода Пушкиных с тем, что дед поэта, как и С. Р. Воронцов, не изменил Петру III и не переметнулся на сторону победителей:
Мой дед, когда мятеж поднялся Средь петергофского двора, Как Миних, верен оставался Паденью третьего Петра. Попали в честь тогда Орловы, А дед мой в крепость, в карантин, И присмирел наш род суровый, И я родился мещанин [265].Именно в 1762 году вышел в отставку и вынужден был поселиться в деревне благородный отец Дубровского, а в гору пошел родственник княгини Дашковой Троекуров. Гринев-старший, живущий в опале в своем поместье, также вышел в отставку в 1762 году. Его карьера сломалась, тогда же в гору пошли выскочки и фавориты. От размышлений Карамзина протягивается нить к Пушкину.
Семен Романович Воронцов был умен и опытен. Он сам был живая эпоха. Беседа с ним должна была быть увлекательной. Он был врагом деспотизма и считал, что между народом и властью всегда существуют взаимные обязательства. «Народ», конечно, должен быть представлен просвещенным меньшинством, но никакая власть не имеет права быть безграничной. Карамзину, только что слышавшему с трибун Национального собрания руссоистские идеи в устах Робеспьера и Барнава, было интересно внимать дворянскому руссоизму Воронцова.
Вряд ли случайно, что идея обязанностей, которые имеет перед подданными даже самодержавный монарх, будет нам постоянно встречаться в политических размышлениях Карамзина. Уже в обращенном к Екатерине стихотворении «К милости», написанном по поводу дела Новикова, преданность подданных царю представляется как результат взаимного выполнения обоюдных обязательств:
Доколе всем даешь свободу И света не темнишь в умах; Пока доверенность к народу Видна во всех твоих делах, — Дотоле будешь свято чтима… [266]В оде, посвященной восшествию на престол Павла, и двух одах, которыми Карамзин приветствовал Александра, влияние поэтики од Ломоносова тем более очевидно, что жанр похвальной оды в принципе подвергался карамзинистами осмеянию. Но еще более ощущается идейное воздействие оды 1762 года. Можно думать, что внимание Карамзина на ее политическую концепцию обратил именно Семен Романович Воронцов.
Но если признать это предположение вероятным, то мы сможем сделать второй шаг в реконструкции бесед старого дипломата и молодого писателя. В нашем распоряжении есть текст воспоминаний Семена Романовича о своем участии в роковых событиях 28 июня 1762 года. Вряд ли, рассуждая об отклике на них Ломоносова, Воронцов не коснулся своих личных впечатлений, тем более что, как мы увидим дальше, он не был склонен скрывать их от близкого друга. Ввиду важности этого текста позволим себе большую цитату [267]. Вначале Воронцов сообщает, что с раннего возраста стремился к военной славе. Быв долгое время пажом Елизаветы, он должен был быть выпущен поручиком в гвардию, но императрица скончалась за неделю до выпуска. Петр III, который «был всегда», по его словам, к нему «добр», определил его в гренадерскую роту Преображенского полка. Узнав, что война с Данией решена, С. Р. Воронцов отпросился в предназначенную к действию армию Румянцева, и Петр III, одобрив это решение, определил его командированным в распоряжение командующего.
«Был дан приказ числить меня в полку в посылке. Это было за три дня до революции.
Накануне этого ужасного дня я распростился со своими родителями, с тем, чтобы на следующий день в 8 часов утра отправиться в Ораниенбаум, где в ту пору находился император, для прощальной аудиенции и получения приказов для графа Румянцева. Затем я должен был направиться через Нарву, Ригу и т. д., и т. д. Этот проклятый «завтрашний день» был днем отвратительного переворота. Я уже собирался сесть в карету, как один из моих родственников, проживавший в доме моего отца, сообщил мне, что императрица находится в Измайловском полку, который, в беспорядке окружив ее, с криками радости провозглашает ее царицей и готов принести ей присягу, что целые толпы семеновцев бегут в том же направлении и присоединяются к мятежникам, что он видел все это собственными глазами и что нет никаких сомнений в том, что это обдуманный и заранее подготовленный мятеж. Мне было лишь 18 лет. Я был быстр как француз и вспыльчив как сицилиец. Я пришел от этого известия в невыразимое бешенство. Передо мною раскрылась вся безмерность предательства, смысл которого я, знавший некоторые эпизоды предшествующих царств, понимал лучше моего собеседника. Убежденный тем не менее в том, что Преображенский полк сохранит верность, я не верил в победу мятежников. Я поскакал крупным галопом, чтобы присоединиться к своему полку, и нашел его уже собранным, в полном порядке и готовым выступить колонной. В ста шагах от моей роты, которая стояла во главе полка, я встретил множество офицеров, стоящих группой. Среди них были Бредихин, Баскаков, князь Ф. Барятинской. Этот последний был прапорщиком в моей роте. Я их спросил, знают ли они о мерзостях, которые творятся в двух других полках, и высказал все, что крайняя живость моего характера заставляла меня чувствовать по отношению к бунту. К этому я добавил, что льщу себя надеждой, что наш полк покажет другим войскам города образец верности.
Они, обменявшись взглядами, ничего мне не отвечали, но были бледны, с искаженными лицами. Я их почел лишь трусами, не зная, что все они были соучастниками преступления. Я повернулся к ним спиной и бросился в объятия моего капитана Петра Ивановича Измайлова, одного из самых честных и преданных подданных нашего несчастного монарха. Он обнаружил отвращение к поступкам противной стороны, полный готовности умереть, храня верность присяге, и надежды, что полк проявит себя с лучшей стороны. Мы сговорились по-французски призывать наших гренадеров к верности, и мы прошли по рядам, увещевая сохранять верность законному монарху, которому они присягали. Мы напоминали, что он племянник императрицы Елизаветы, сын старшей дочери Петра I-го и, следовательно, внук этого истинного основателя сияния империи, что лучше умереть честными подданными и верными солдатами, чем присоединяться к подлым предателям, которые будут побеждены, так как пример нашего полка воодушевит другие полки гвардии на выполнение своего долга. Мы умрем за него — был ответ наших гренадеров, и это нас утешило свыше всякой меры.
В это же время секунд-майор полка Петр Петрович Воейков, человек, достойный самого высокого уважения и глубоко преданный своему законному повелителю, скакал вдоль фрунта, повторяя: Ребята! Не позабывайте вашу присягу к законному вашему государю императору Петру Федоровичу, умрем или останемся ему верны! Он остановился, чтобы переговорить с нами, протянул нам руку и плакал от радости, найдя в нас то же чувство чести, которым и он был одушевлен. После этого он вскричал: Ступай! — и мы выступили к Казанской церкви, где, как нам сообщили, уже находились мятежники и императрица и где совершалось богослужение. Мы: секунд-майор, капитан и я — надеялись, что на первое же: «Стой, кто идет!» — полк единым голосом грянет: «Император Петр III!» — и что после первого же выстрела по нам со стороны мятежников мы, не имея возможности стрелять (так как проспект, по которому мы продвигались, нам позволял итти только колонной), их атакуем штыками всей силой нашей колонны. Мы надеялись сделать из них кашу и полностью истребить, поскольку они пребывали в полном беспорядке, не соблюдая ни рядов, ни шеренг, как согнанные в кучу крестьяне. К тому же они были в большинстве пьяны, в то время как мы находились в образцовом порядке.
Но Провидение распорядилось иначе.
Проклятый князь Меньшиков, премьер-майор нашего полка, скотина от природы, которого пьянство превратило в совершенного идиота, который никогда не показывался в полку и на самом деле ничем не командовал, но которого император по милости и доброте не отставлял, позволяя прозябать при полку, вдруг прибыл, подстрекаемый кем-то из заговорщиков, и, появившись в хвосте колонны, закричал: Виват императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица! Этот подлый крик был как удар электричества. Вся колонна его повторила. Секунд-майор, капитан и я делали невозможное, чтобы остановить эту заразу. Мы были уже в каких-то 50 шагах от двух других полков! Все наши усилия были тщетны, и я не пойму, почему нас тогда не убили. Воейков, оскорбленный происходящим, швырнул свою шпагу, крича изо всех сил: «Ступайте к чорту, канальи, е…. м…, изменники! Я с вами не буду!» Повернув лошадь, он направился к себе домой, где и был вскоре арестован, как я узнал позже.
Как я ни был молод, а к тому же, находясь от всего, что я видел, в припадке бешенства, я все же имел благоразумие тотчас же подумать о выходе для себя. Я отшвырнул свое ружье гренадерского офицера, сбросил каску и попытался пробраться сквозь толпу, чтобы со всех ног броситься к реке, где я мог бы ценой 10 или 12 империалов, которые были у меня в кармане, нанять первую же шлюпку, которую встречу, и приказать матросу везти меня в Ораниенбаум. Там находился император, у которого еще не были исчерпаны все возможности, если бы он захотел добраться до Нарвы, где он мог бы найти войска, которые он воодушевил бы своим присутствием и которые, по крайней мере, могли бы прикрыть его отступление, если бы он принял решение быстро присоединиться к армии, которая была за границей и находилась под командой человека столь возвышенного величия и верности, как граф Румянцев. Задумав это, я начал тотчас же пробираться через толпу. Но тут я почувствовал, что меня схватили за воротник. Я выхватил шпагу, повернулся и ударил наотмашь наглеца. Шпага скользнула по шляпе и ударила его по плечу. Я заметил, что это был один из офицеров Измайловского полка, кричавший: «Схватите его!». Я был окружен и схвачен унтер-офицером и 6 мушкетерами этого полка. Офицер крикнул: «Отвезите его в Зимний дворец и держите под караулом»» [268].
Приведенный колоритный рассказ явно перекликается со статьей, посвященной дворцовой революции 1762 года и опубликованной в «Le Spectateur du Nord» за подписью «Voyageur». Еще более примечательно другое: процитированный текст — часть автобиографии, написанной С. Р. Воронцовым в форме письма к Ф. В. Растопчину. Внизу текста поставлена дата: 8 февраля 1797 года. В февральском номере «Le Spectateur du Nord» 1797 года появилась упомянутая выше статья, авторство которой, по нашему мнению, принадлежит Карамзину. Если у нас нет прямых оснований утверждать, что автобиография Воронцова была откликом на публикацию в «Северном зрителе», то даже при крайней осторожности трудно отказаться от мысли об определенной связи этих документов и об их общем корне — лондонских беседах летом 1790 года.
Перед глазами Карамзина вставали два образа: народная революция в Париже и «дворцовая революция» в Петербурге. И то, и другое он отвергал. И одновременно приходил к выводу, что и тут, и там причиной были злоупотребления и ошибки власти, недостаток просвещения, отсутствие твердых законов. Более того, Французская революция отталкивала, но и привлекала страшным величием грандиозного исторического события, зрелище которого показывает наблюдателю тайны истории, как злой дух показал Христу с вершины горы «все царства мира». «Дворцовая» же «революция» Екатерины II на этом фоне выглядела жалкой комедией.
Почти одновременное написание С. Р. Воронцовым своей публицистической автобиографии, «Путешественником» (Voyageur) статьи о «революции 1762 года» и приветственной оды Карамзина Павлу не было случайностью: все эти выступления приходились на тот краткий период, когда надежды на Павла еще не сменились сначала недоумением, а затем горьким разочарованием. В частности, приближение к императору Растопчина — креатуры С. Р. Воронцова и друга Плещеевых и Карамзина — казалось хорошим знаком. Ренегатство этого прирожденного интригана, циника, готового менять любые маски, обнаружилось позже. Сама идея реабилитации памяти Петра III, которую историки воспринимают сквозь призму уродливо-издевательских ритуалов похорон Екатерины II и других порождений болезненной изобретательности Павла I, имела вполне рациональную основу: осуждался фаворитизм и дворцовые перевороты, принявшие характер постоянно действующих институтов. Им противопоставлялся легитимизм — принцип законности в рамках самодержавия.
Петр III был груб, плохо воспитан, отталкивал как личность, но, оскорбляя людей, уважал законы. Екатерина II была лично обаятельна и прекрасно владела искусством «привлекать сердца», но возвела беззаконие в принцип, а безответственность фаворитов и всего аппарата от генерал-губернаторов до последних чиновников — в основу государственной машины. От Павла ожидали, что он соединит положительные качества своих предшественников, — он взял от каждого худшее, прибавив от себя каприз, возведенный в закон. Быть самодержцем для него означало быть непредсказуемым. Он хотел, чтобы пути его были неисповедимы, как пути Господа Бога, но добился лишь того, что алогичные проявления добрых порывов и неожиданное рыцарство мало радовали его окружающих, а бессмысленные и немотивированные опалы потеряли характер сдерживающей угрозы.
Но это все было впереди. А пока что в лондонском доме Воронцова и на его даче в Ричмонде Карамзин выслушивал критику фаворитов императрицы (Семен Романович не скрывал своей неприязни к Потемкину) и обсуждал вредные последствия беззакония.
Вокруг С. Р. Воронцова группировались молодые единомышленники: Зиновьев, Синявин, Кочубей, Ростопчин и чиновники посольства из разночинцев. Заметным лицом в этом кругу был Василий Федорович Малиновский, в будущем первый директор Царскосельского лицея (брат его, Алексей, потом сделался близким приятелем Карамзина). А. Кросс, раскрыв инициалы, которыми Карамзин скрыл имена некоторых своих лондонских знакомцев, установил, что русский путешественник общался с посольским священником Яковом Смирновым, личностью весьма примечательной [269], а возможно, и с его братом [270], со Степаном Семеновичем Джунковским [271], и Григорием Александровичем Демидовым. В этом кругу было принято усваивать английские бытовые привычки. Ростопчин учился боксу. «Рейн (известный боксер. — Ю. Л.) совершенно выздоровел. Ростопчину вздумалось брать у него уроки; он нашел, что битва на кулаках такая же наука, как бой на рапирах», — с изумлением писал Комаровский [272]. Григорий Александрович Синявин (Сенявин), на сестре которого женился С. Р. Воронцов, не только служил в английском флоте и плавал в Индию и по всем морям мира, но и усвоил замашки английского моряка: когда он с Комаровским нанял шлюпку и неожиданно попал под проливной дождь, «Синявин оттолкнул их обоих (гребцов. — Ю.Л.), снял с себя фрак и начал сам грести». Очутившись на берегу, «он предложил нам заехать в Орендчь, кафегауз, где собираются большей частью морские офицеры, велел себе подать пуншу гаф-энд-гаф, то есть половина рому и половина французской водки, выпил онаго пребольшую кружку, и как ни в чем не бывало» [273].
Англоманство, распространенное в этом кругу, не шло, однако, в ущерб патриотизму, а, напротив, подразумевало горячую любовь к родине, и Платон Зубов был глубоко несправедлив, когда позже упрекал С. Р. Воронцова в том, что ему интересы Англии ближе, чем России. Если современному нам читателю сочетание англоманства и русского патриотизма может показаться парадоксальным, то для XVIII века оно было вполне естественным. В то время как под знаменем галломании проповедовалось принятие французских норм жизни как единственно «европейских» и цивилизованных, знамена англофилов освящали требование национальной оригинальности. Под этими знаменами шла борьба с галломанией. В 1796 году в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» анонимный автор, который в 1789–1790 годах находился в Англии и явно принадлежал к окружению Воронцова (возможно, это был В. Ф. Малиновский), опубликовал серию очерков «Россиянин в Англии». Здесь, в частности, проводится параллель между русскими и англичанами: «Мы, живучи в суровом климате, имеем в своем сложении твердость и крепость, и Англичане по свойству своего печальны и мрачны <…> Они мне нравятся своею вольностию. — Мы бы лучше сделали, если бы заняли у них, а не у французов. — Надо сказать, мы, то есть люди большого света [274], сходнее с французами — но я уверен, что народ наш более бы нашел удовольствия в аглинском вкусе, потому, что он натуральнее» [275]. Рассуждения Карамзина о патриотизме англичанок, не желающих говорить по-французски, относятся к тому же кругу идей. В тех же очерках «Россиянин в Англии» подробно описана процедура гласного суда присяжных. Отдельные места очерков поразительно напоминают страницы из «Писем» Карамзина, что позволяет говорить о каком-то общем круге устных источников и единстве настроений.
Когда амбициозный, самоуверенный и глупый Платон Зубов — молодой любовник старой императрицы — попытался руководить дипломатией и присылать С. Р. Воронцову приказы, а потерпев афронт, обвинил старого дипломата в отсутствии патриотизма, он, конечно, был далек от истины. Однако сам этот эпизод примечателен, поскольку показывает, в какую сторону менялась психология русских людей XVIII века, дышавших воздухом умеренной парламентской монархии, даже если в политике они оставались лояльными подданными своей государыни. Зубов задумал прислать в Англию миссию французских эмигрантов во главе с герцогом д'Артуа — братом казненного Людовика XVI, будущим Карлом X. С. Р. Воронцов пытался разъяснить самодовольному фавориту не только политическую бестактность, но и прямую невозможность этой акции. Герцог д'Артуа числился в Англии несостоятельным должником, и как только он поставил бы ногу на британскую почву, он был бы арестован и препровожден в долговую тюрьму. Напрасно Воронцов разъяснял Зубову, что в Англии избавлены от судебных преследований только король и члены палат парламента, что даже сыновья короля, если они не принадлежат палате лордов, наделав неоплатных долгов, будут немедленно арестованы. Зубов не верил и настаивал, что «воля ее императорского величества должна выполняться всеми» (подразумевалось, и в Англии). Независимый суд был для него чем-то вроде персонажа волшебной сказки — тем, про что можно прочесть в книжке, но что, конечно, не существует в реальности. Русские люди в Англии XVIII века видели недостатки в ее нравственном и политическом порядке, приезжая в Россию, они часто становились ретроградами, бюрократами (наглядный пример — «полумилорд» М. С. Воронцов), но психология их уже не была психологией Платона Зубова: они видели то, во что он не верил.
Карамзин смотрел и сравнивал: перед глазами проходили «два города» (следуя названию романа Диккенса), но мысли шли дальше — к судьбам России, к судьбам Европы, к судьбам мира…
В 1790 году в загородном доме С. Р. Воронцова В. Ф. Малиновский начал писать свою книгу «Рассуждение о мире и войне». Здесь была закончена ее первая часть. В свет книга вышла в России в 1803 году. Книга содержала резкие филиппики против войн и призыв к вечному и всеобщему миру: «Привычка делает нас ко всему равнодушными. Ослеплены оною, мы не чувствуем всей лютости войны. Если же бы можно было, освободившись от сего ослепления и равнодушия, рассмотреть войну в настоящем ее виде, мы бы поражены были ужасом и прискорбием о несчастиях, ею причиняемых. Война заключает в себе все бедствия, коим человек по природе своей может подвергнуться, соединяя всю свирепость зверей с искусством человеческого разума» [276]. Споры о вечном мире, видимо, не проходили без участия Карамзина. Не случайно на обеде у русского консула в Лондоне Бакстера — тоже человека из ближайшего окружения С. Р. Воронцова — Карамзин провозгласил тост: «Вечный мир и цветущая торговля» (338).
Идея вечного мира была характерным порождением просветительского оптимизма. Казалось бы, история, стиравшая безжалостной рукой радужные краски с просветительской веры в разум, должна была бы перечеркнуть эти надежды. Еще Руссо писал по поводу вечного мира Бернардена де Сен-Пьера: «Пусть не говорят, что его система не может быть одобрена потому, что она плоха, — пусть говорят противоположное: она слишком хороша, чтобы быть принятой <…> будем восхищаться столь прекрасным проектом, но утешимся тем, что не увидим его реализации, так как все это можно сделать лишь прибегая к средствам насильственным и опасным для человечества. Все федеративные объединения создавались с помощью революций, и в силу этого принципа мы не смеем сказать: следует ли желать общеевропейской лиги или опасаться ее. Может быть, она в один момент причинит больше зла, чем с ее помощью надеются избежать в течение столетий» [277]. И все же споры в Лондоне и Ричмонде летом 1790 года между будущим автором «Истории государства Российского» и будущим директором Лицея не были попыткой возродить старые иллюзии. Они питались другими источниками. Малиновскому было 25 лет, Карамзин был на год его моложе. Но оба они заглянули в лицо истории в ее «минуты роковые» и, чуткие наблюдатели, оба ощутили приближение новой эпохи, эпохи «больших войн», большой крови. Приближавшаяся общеевропейская война, первые раскаты которой прозвучали через два года, а последние громы — в 1815 году, война, которая залила кровью Европу от Москвы до Сарагосы, уже бросала перед собой свою страшную тень.
ДОМОЙ
Что же вынес Карамзин из путешествия и с чем он вернулся домой? Ответить на это не так просто. О Париже 1790 года он рассказал лишь в 1801 году. Но тогда он о многом уже думал иначе. Здесь придется взглянуть не только на то, что он написал о своем путешествии, но и как он жил после его завершения, поскольку создание своего литературного образа, открытого взорам читателей, и построение собственной личности были для Карамзина двумя различными сторонами одной и той же медали. Прежде всего необходимо отметить, что Карамзин вернулся писателем. Все, что он в дальнейшем ни писал и ни предпринимал, было связано в единый узел размышлениями о том, кто такой писатель, какова его роль в мире, «зачем он послан». Через десять с лишним лет в статье «Что нужно автору?» Карамзин выразил мысли, которые, может быть, не в столь четких формах, появились у него, конечно, раньше. Сущность статьи — в утверждении мысли о неразделимости автора и человека. Поэтому воспитание писателя есть самовоспитание человека. «Творец всегда изображается в творении, и часто против воли своей» [278].
Но человек неотделим от человечества: «Ты хочешь быть Автором: читай историю нещастий рода человеческого — и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо, — или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей» [279].
Итак, решив стать писателем, Карамзин намеревался испытывать свое сердце, воспитывать себя, учить читателей, воспитывать в них добрые чувства и плакать над бедствиями человечества? Наблюдая первые его шаги на родине, нельзя не признать, что для такой цели он избрал довольно странные средства.
Поведение прибывшего из-за границы молодого Карамзина было вызывающим. Все читатели, которые знают Карамзина по отзывам Жуковского или Пушкина, по общеизвестным фактам его биографии и держат в своей памяти образ человека меланхолического, благородно-сдержанного, чувствительного и холодноватого одновременно, уклоняющегося от литературной борьбы и полемики, всегда спокойно-доброжелательного, врага крайностей, должны будут представить себе совершенно другой его облик. Поведение Карамзина в это время нельзя назвать иначе, как экстравагантным. Особенно это должно было бросаться в глаза тем, кто помнил, каким был Карамзин в масонско-новиковском кругу. Дмитриеву он тогда запомнился как «благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека» [280]. А вот как описал, со слов того же Дмитриева, Бантыш-Каменский облик Карамзина, вернувшегося из-за границы: «Возвратясь в Петербург осенью 1790 года в модном фраке, с шиньоном и гребнем на голове, с лентами на башмаках, Карамзин был введен И. И. Дмитриевым в дом славного Державина и умными, любопытными рассказами обратил на себя внимание. Державин одобрил его намерение издавать журнал и обещал сообщать ему свои сочинения. Посторонние лица, посещавшие Державина, гордясь витиеватым, напыщенным слогом своим, показывали молчанием и язвительною улыбкою пренебрежение к молодому франту, не ожидая от него ничего доброго» [281].
Есть и другие свидетельства вызывающего «щегольского» поведения Карамзина после возвращения из-за границы. Причем характерно, что ближайшие друзья Карамзина: Настасья Плещеева, А. М. Кутузов, который именно в эту пору (1791) написал на Карамзина злой памфлет, изобразив его в виде щеголя «Попугая Обезьянина», подчеркивали, что стиль поведения Карамзина, во-первых, новый, а во-вторых, вывезенный им из-за границы. Это же мнение потом, как эхо, многократно повторялось противниками писателя.
Между тем, как можно полагать, оба эти утверждения отражают не истину, а впечатление современников. И, как мы увидим, впечатление, сознательно стимулируемое самим Карамзиным. Богатое собрание свидетельств, показывающих, что «щегольское поведение», в определенной мере, было свойственно Карамзину и в самом начале его творческого пути, и, по крайней мере, на всем протяжении 1790-х годов, продемонстрировано в книге Б. А. Успенского [282]. К тому же, у нас нет никаких оснований полагать, что Карамзин, нанося визиты Канту, Гердеру или Лафатеру, посещая Национальное собрание или загородный дом в Ричмонде, был одет экстравагантно, эпатируя окружающих бросающимся в глаза щегольством одежды или манер. Ни один из заграничных собеседников Карамзина не видел в нем Попугая Обезьянина, русский вариант парижского щеголя. Есть и прямые свидетельства того, что в Англии Карамзин носил обычный синий фрак английского покроя со светлыми пуговицами. Есть и еще одно — косвенное, но не лишенное интереса — свидетельство: немецкий перевод Рихтера «Писем русского путешественника», авторизованный Карамзиным и готовившийся под его наблюдением, был снабжен иллюстрациями. Они были выполнены художником Кюнелем и гравировались швейцарским приятелем Карамзина Липсом. Липс, который видел автора в Швейцарии, придал путешественнику на своих гравюрах черты портретного сходства. На гравюрах хорошо виден костюм путешественника: обычные дорожные фрак, панталоны, сапоги, принятые в те годы во всей Европе. Никаких оснований полагать, что во время путешествия костюм Карамзина отличался каким-либо утрированным щегольством, у нас нет.
Итак, остается сделать вывод, что утрированный костюм, который так запомнился Дмитриеву, был частью какой-то обдуманной программы, жестом, рассчитанным на эпатирование, на то, чтобы сознательно скандализировать определенные общественные и литературные круги.
Нельзя не заметить, что такая же установка сразу проявилась в направлении литературной деятельности Карамзина.
Издание журнала было уже давно задумано. Еще в разговоре с Виландом Карамзин определил свое будущее как будущее литератора: «Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с Натурою и добрыми, любить изящное и наслаждаться им». Мы не знаем, таков ли был ответ Карамзина Виланду на вопрос, как он мыслит себе свое будущее. Однако таким он был представлен читателям «Московского журнала». И в этом уже крылось противоречие: ответ рисовал литературные занятия как дело сугубо личное, адресованное к самому себе и имеющее целью услаждение собственной души. Но слова эти публиковал Карамзин-журналист, т. е. тот, кто заведомо обращается к публике, к читателю и имеет в виду удовлетворение интересов и запросов других людей, а не самого лишь себя. Деятельность журналиста есть общественная деятельность, и Карамзину, собирающемуся стать журналистом, предстояло выбрать себе определенную общественную позицию.
Литература в России традиционно пользовалась высоким общественным авторитетом: писатель воспринимался как учитель общества. Особенно же это относилось к печатному слову. В XVIII веке печатное слово воспринималось читателем как некая санкционированная истина. Провозглашать эту истину надо было иметь право. Поэтому журналист — человек, обращающийся к публике с печатной речью, — мыслился как лицо, наделенное какими-то особыми полномочиями. Полномочия эти могли даваться государственной инстанцией — журнал мог издаваться каким-либо авторитетным учреждением: Академией наук, университетом, тем или иным официально утвержденным обществом. Щит учреждения, звания и должности издателя или «участвующих именитых особ» защищали журнал от критики. Еще в 1828 году издатель «Вестника Европы» проф. Московского университета М. Т. Каченовский в полемике с «Московским телеграфом» противопоставлял себя как чиновного издателя полуофициального журнала своим «бесчинным» критикам. Как иронически писал Пушкин, «оскорбленный как издатель «Вестника Европы», г. Каченовский решился требовать защиты законов как ординарный профессор, статский советник и кавалер и явился в цензурный комитет с жалобою…» [283]. Это напоминало запрет свистеть и шикать актерам императорских театров.
Другим источником авторитета могло быть издание журнала от лица какого-либо общества или группы литераторов. Авторитет коллективности увеличивал право издателей на читательское доверие. Об этом сообщалось в объявлении, извещавшем об издании нового журнала, или в предисловии к первому нумеру. Так, в 1777 году в предисловии к «Санктпетербургским ученым ведомостям» Новиков писал: «Общество наше, из нескольких человек состоящее, предприняло издавать на сей год периодические листы…». Если же издателем был какой-либо один литератор, то, если речь шла не об эфемерном или чисто коммерческом предприятии, литературное приличие требовало, чтобы это был известный публике и авторитетный писатель. Во всех случаях от издателя, особенно если он собирался еще быть и критиком, требовались скромность и смирение, уничижительность в самооценках и обещание снисходительности в суждениях.
Желание Карамзина издавать журнал не встретило бы раздражения у литераторов, если бы он скромно именовал себя в издательских декларациях новичком, ищущим покровительства именитых литераторов, и спрятался под защиту чьих-либо привычных авторитетов. Карамзин поступил диаметрально противоположным образом: он не только объявил, что сам будет вести и направлять журнал, но и в резко непочтительных тонах отозвался о масонских, нравоучительных сочинениях, издаваемых его вчерашними наставниками.
Не успел Карамзин вернуться в Москву и поселиться в доме Плещеевых, на Тверской, в приходе Василия Кесарийского, как в № 89 «Московских ведомостей» от 6 ноября 1790 года появилось объявление: «С января будущего 91 года намерен я издавать журнал, если почтенная публика одобрит мое намерение. Содержание сего журнала будут составлять:
1. Русские сочинения в стихах и прозе, такие, которые по моему уверению могут доставить удовольствие читателям. Первый наш поэт — нужно ли именовать его? — обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни. И другие поэты, известные почтенной публике, сообщили и будут сообщать мне свои сочинения. Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, — который внимание свое посвящал натуре и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, — намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей.
2. Разные небольшие иностранные сочинения в чистых переводах, по большей части из немецких, английских и французских журналов, с известиями о новых важных книгах, выходящих на сих языках. Сии известия могут быть приятны для тех, которые упражняются в чтении иностранных книг и в переводах.
3. Критические рассматривания русских книг, вышедших и тех, которые впредь выходить будут, а особливо оригинальных; переводы, недостойные внимания публики, из сего исключаются. Хорошее и худое замечаемо будет беспристрастно. Кто не признается, что до сего времени весьма не многие книги были у нас надлежащим образом критикованы.
4. Известия о театральных пиесах, представляемых на здешнем театре, с замечаниями на игру актеров.
5. Описание разных происшествий, почему-нибудь достойных примечания, и разные анекдоты, а особливо из жизни славных новых писателей.
Вот мой план. Почтенной публике остается его одобрить или не одобрить; мне же в первом случае исполнить, а во втором молчать.
Материалов будет у меня довольно; но если кто благоволит прислать мне свои сочинения или переводы, то я буду принимать с благодарностию все хорошее и согласное с моим планом, в которой не входят только теологические, мистические, слишком ученые, педантические, сухие пиесы. Впрочем, все, что в благоустроенном государстве может быть напечатано с указного дозволения, — все, что может нравиться людям, имеющим вкус; тем, для которых назначен сей журнал, — все то будет издателю благоприятно.
Журналу надобно дать имя; он будет издаваем в Москве, итак имя готово: Московский журнал…» Далее шли коммерческие условия подписки.
При комментировании этого объявления обычно обращают внимание на злой выпад в адрес «теологических, мистических… пиес», явно направленный против масонских изданий. Это справедливо и очень важно. Однако не менее важно перенестись в 1790-е годы, представить себе тогдашний ритуал литературных отношений и понять всю меру дерзости тона объявления в целом. Молодой и никому не известный литератор брался, полагаясь на свой собственный вкус, единовластно решать, что следует считать хорошим, а что дурным, утверждал, что критики до сих пор не было, и брался ее создать, предлагал обширный план, требующий многих знаний, и заявлял, что он единолично способен этот план выполнить, и, наконец, давал ясно понять, что и литературная часть журнала будет, в основном, заполняться им единолично (при тесности тогдашнего литературного мира слова о приятеле-путешественнике никого не обманывали и не должны были обмануть); другие поэты назывались не как постоянные сотрудники, а лишь как участники, чьи труды «украшают» журнал, но не определяют его лица. Так оно и оказалось на самом деле.
Дерзкий, эпатирующий тон объявления заставляет вспомнить другую резкую декларацию Карамзина — стихотворение «Поэзия», начатое еще до путешествия, но завершенное и опубликованное в «Московском журнале» в 1792 году. Здесь Карамзин изложил свое понимание природы поэзии и ее истории. Концепция его была не просто дискуссионной, а непосредственно провоцирующей на литературный скандал. Уже то, что он включил Библию в историю поэзии, было смело. Но далее он после античной поэзии, демонстративно минуя всю французскую и итальянскую литературу, переходит к Шекспиру, Мильтону, Юнгу и Томсону и выдвигает английскую поэзию на первое место:
Британия есть мать поэтов величайших…Отбор имен соответствует предромантической перспективе. Однако прямо-таки скандально должно было прозвучать для современников полное игнорирование русской поэзии. О ней сказано лишь:
О Россы! век грядет, в который и у вас Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень. Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет В*** (следует читать: Москве. — Ю. Л.) блестит, и скоро все народы На север притекут светильник возжигать… [284]Из этих стихов читатель должен был естественно заключить, что русской поэзии еще нет (это после Ломоносова, в период высшей славы Державина!), что ее предстоит создать и что она в ближайшее время будет создана, что в Москве (читай: в творчестве Карамзина) уже блестит утренняя заря мировой славы русской музы. Назвать такую позицию скромной никак нельзя! Но нельзя также подозревать, чтобы Карамзин не сознавал вызывающего характера своих заявлений, чтобы им двигала, как его упрекали сразу сделавшиеся многочисленными враги, легковесная страсть к успеху, что он и в самом деле забыл о Ломоносове, чьи оды ему читал в Лондоне Воронцов, или о Державине, талант которого он высочайше ценил, о котором он всегда отзывался с нежной почтительностью и чьим участием в «Московском журнале» он в высшей мере дорожил. Им двигал какой-то умысел. А понять этот умысел мы сможем, лишь ознакомившись ближе с его программой, как увидим, весьма продуманной.
В работе Б. А. Успенского, посвященной истокам языковой программы Карамзина, убедительно показана связь его установок с «щегольской культурой». Если избавиться от оценочного привкуса, который невольно вкладывается в этот термин, то речь идет о культуре дворянской элиты, нашедшей свое выражение в языке и в поведении, выработанных в русском элитарном салоне XVIII века. Тот же автор показал, что в исторической перспективе и более широком общеевропейском контексте принципы этой языковой программы восходили к французскому прециозному салону, а через него — к ренессансной установке создания литературного языка на базе устной стихии народной речи, а не ученой традиции латинской письменности [285].
Парадокс заключался в том, что ориентация на устную речь салона приводила, в конечном итоге, к выработке общенационального литературного языка на базе стихии разговорности, в то время как лозунг национальной ориентации, реализуемый на базе письменной церковнославянской стихии, канонизировал лишь одну из жанрово-стилистических возможностей литературного языка. Б. А. Успенский пишет: «Вообще «щегольское наречие» — это явление, целиком относящееся к разговорной сфере, поэтому в целом ряде моментов оно может смыкаться с просторечием. О близости «щегольского» языка к народному просторечию писал П. С. Бицилли: «В сущности, оба эти <…> языка были одним и тем же языком: «щегольской» отличался от «деревенского» только примесью варваризмов» [286]. Исключительно яркую иллюстрацию к этому тезису дает тонкий знаток языка И. С. Тургенев, воспроизводя речь типичного «щеголя» — Павла Петровича Кирсанова в «Отцах и детях»: «Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли, одни — эфто, другие — эхто)». И одновременно речь Павла Петровича изобилует варваризмами, что тут же вызывает реплику Базарова: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы <…> подумаешь, сколько иностранных… и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны» [287].
Итак, позиции Карамзина в момент его возвращения из-за границы был свойствен сознательный вызов, причем не только в литературном, но и в бытовом, «поведенческом» плане. В чем же был смысл этого своеобразного бунта?
Ориентации в области языка на стихию устной речи соответствовала в более широком литературно-культурном контексте канонизация игрового поведения в качестве культурной нормы. Вызов бросался «педантизму», «угрюмости», назидательности, «скучным жанрам». Глубокомыслие отделялось от учености и в особенности от ученого педантизма, от профессионализма в области культуры. Это не мешало тому, что именно Карамзин, по сути дела, первый превратил литературу в профессию и сделал исключительно много для профессионализации писательского труда, превратив писание в важнейший источник своего существования. На знамени его и его школы писался дилетантизм. Именно здесь создавался идеал писателя — «ленивца праздного», «баловня муз», пишущего не ради денег, а лишь в надежде на улыбку прекрасных читательниц. Расхождение между декларациями, литературной и жизненной позой и даже субъективно-искренним самоосмыслением своей установки и объективным смыслом деятельности в истории литературы не только постоянно встречается, но и представляет своего рода закон. Так, молодой Пушкин утверждает «светский» и даже дендистский идеал поэта:
Молись и Кому и Любви, Минуту юности лови И черни презирай ревнивое роптанье. Она не ведает, что можно дружно жить С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом, Что резвых шалостей под легким покрывалом И ум возвышенный и сердце можно скрыть [288].Но свободный игровой характер такого идеала позволяет ему оторваться от непосредственно-бытового значения этих слов и вместить в себя и эпикурейское вольнодумие, и свободолюбие, и еще целый мир тонких смысловых оттенков. А в «Евгении Онегине» стихи:
Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей [289] —уже расширяют сферу игры, обращая ее на самое высказывание, которое одновременно должно восприниматься и как авторское утверждение (с проекцией на Чаадаева), т. е. «серьезно», и как ирония над этим самым утверждением.
Пушкин очень точно определил связь «серьезной» поэзии с традицией XVIII века, противоположной карамзинизму, и игровой тип отношения к тексту у Карамзина и его школы: Катенин, писал он Вяземскому, «опоздал родиться <…> характером принадлежит он к 18 столет<ию>». «Мы все, по большей части, привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин напротив того приезжает к ней в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью» [290].
Бывают исторические моменты, когда личное поведение писателя становится неотъемлемой частью не только его человеческой позиции, но и самой литературной деятельности: оно входит в сферу творчества и воспринимается современниками как его органическая часть. Такое положение, как правило, свойственно ранним этапам литературных эпох, их «буре и натиску». Поведение романтика, нигилиста, футуриста и т. п. в момент зарождения этих явлений играет роль своеобразного опознавательного знака, знамени, эмблемы, по которым тот или иной деятель опознается друзьями и врагами и опознает сам себя. Тяготение Пушкина 1830-х годов к простому поведению («зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает» [291]) и отрицание «поэтического поведения» как пошлости — свидетельство зрелости художественного сознания. Знаково-опознавательная роль поведения неизбежно приводит к его утрировке и той или иной форме щегольства. Нигилисты 1860-х годов так же щеголяли длинными волосами и неопрятностью одежды и рук, как Чаадаев — утонченной простотой фраков и ухоженностью ногтей или Лермонтов — контрастом между потертостью ношеного мундира и тонкостью белоснежного белья из голландского полотна.
У Карамзина бывали периоды — например, в 1783–1784 годах, в Симбирске, когда Дмитриев запомнил его «играющим ролю надежного на себя в обществе», — светских увлечений, времени, отданного быстрым романам и карточной игре. Однако знаком некоторого социо-культурного самоопределения маска щеголя сделалась для него лишь в «штюрмерский» период формирования его литературной позиции, т. е. в 1790-е годы. Маска эта была частью его более общей культурной позиции.
ПРОГРАММА: ПРОГРЕСС И НЕЗАВИСИМОСТЬ
Как ни менялись воззрения Карамзина на протяжении его жизни, идея прогресса оставалась их прочной и постоянной основой. Выражалась она в представлении о непрерывности совершенствования человека и человечества. Не случайно, при всей существенности влияния «красноречивого» (выражение Карамзина) Руссо на «чувствительного» Карамзина, идеи Вольтера сыграли более значительную роль для «русского путешественника» и будущего автора «Истории государства Российского». Само содержание понятия «прогресс» менялось во времени, да и в один и тот же момент, в силу своей неопределённости, могло получать разный смысл. Оно могло означать непрерывность развития просвещения, наук и знаний в истории человечества, закономерность изменения понятий, оправданность эволюции языка, веру в рост начал гуманности и терпимости. Акцент мог ставиться на успехах цивилизации, включая рост комфорта или вежливости, или на совершенствовании душевных качеств отдельной человеческой личности. Однако все это были различные грани одной и той же идеи, основные же ее постулаты: представления об улучшении человека и человечества, о закономерности поступательного развития, о единстве исторического пути различных народов — оставались неизменными. Это был тот просветительский оптимизм, который наиболее полно выразил Кондорсе в «Опыте исторической картины прогресса человеческого разума», труде, написанном в 1793 году, когда сам автор был объявлен вне закона и скрывался в тайном убежище, чтобы спастись от смерти, избежать которой ему все равно не удалось. И как картины кровавой политической борьбы, свидетелем которой он в этот период был, и тень гильотины, нависшая над его собственной судьбой, не могли поколебать исторического оптимизма Кондорсе, так кровавые события революций и войн, свидетелем которых Карамзин стал, приглашенный «как собеседник на пир» истории, не могли в его глазах опорочить самое идею прогресса. Он мог переживать минуты отчаянья и сомнений, периоды пессимизма, но идея прогресса, в конечном счете, все равно торжествовала, как ultima ratio, в форме утверждения, что пути, по которым Провидение ведет человечество к высокому совершенству, остаются для людей тайной.
Идея прогресса органически связывалась с проблемой личности. Связь двух этих начал могла выражаться в философских размышлениях об отношении общего и частного, в дискуссиях о соотношении государственного начала и личной свободы. Она лежала в основе политической эволюции Карамзина и его разногласий с юным Пушкиным и Вяземским, критики, которой подвергали концепцию Карамзина декабристы.
Политические воззрения Карамзина изучены достаточно хорошо и, как самостоятельная тема, лежат вне плана данной книги. И все же один аспект ее необходимо отметить, тем более что он органически связан с биографической проблемой формирования личности писателя и слишком часто смешивается с общей характеристикой его идейной позиции. Проблема политической свободы никогда не сливалась для Карамзина с проблемой личной независимости. Если политическая свобода определялась для него как отношение человека к государству, и здесь, в определенные моменты, он склонен был признавать приоритет государства как выразителя общих интересов, то независимость — право человека думать и говорить то, что думает, одеваться и вести тот образ жизни, который ему свойствен, иметь свою систему ценностей, не отчитываться в своих эстетических или моральных предпочтениях ни перед кем, кроме своего Разума и Бога, быть самим собой — была для него неотъемлемой от самого понятия человек. Если отказ от политической свободы, в определенных условиях, — героическая жертва, которую гражданин приносит общей пользе, то отказ от личной независимости, отказ от себя превращает человека в раба.
Карамзин высоко ценил свою личную независимость и ни ради чего ею не поступался. Он мог огорчить либерального Александра I своими консервативными суждениями, а Аракчеева — нежеланием нанести ему визит, но не мог сказать не то, что считал истиной.
Защита своей независимости порой заставляла мягкого по характеру Карамзина совершать поступки, которые воспринимались как вызов и плодили ему врагов. Так, например, не следует забывать, что ранний выход в отставку не был в ту пору нейтральным или незаметным поступком. Если он прощался юному магнату, владельцу тысяч душ, то со стороны «нищего» (по представлениям той поры) молодого офицера такая «беспечность» и презрение к общепринятым путям воспринимались как вызов. Общество не любит тех, кто уклоняется от торных дорог. Для Карамзина 1790-х годов это стало жизненным принципом. Напомним, что, когда Новиков на листе допроса написал, что вышел в отставку гвардии поручиком, то Екатерина II сбоку приписала: «Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку пошел молодой человек… следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству» [292]. Карамзин же дерзко бравировал ранней отставкой, поместив в «Послании к женщинам» стихи:
…В ВОЙНЕ ДОБРА НЕ ВИДЯ, В ЧИНОВНЫХ ГОРДЕЦАХ ЧИНЫ ВОЗНЕНАВИДЯ, ВЛОЖИЛ СВОЙ МЕЧ В НОЖНЫ («МИНЕРВА, ТОРЖЕСТВУЙ, — СКАЗАЛ Я, — БЕЗ МЕНЯ!») [293]Поскольку Минерва — общепринятая в поэзии тех лет персонификация Екатерины II, дерзость этого стиха превосходила все допустимое [294]. Столь же вызывающей демонстрацией была публикация в «Московском журнале» оды «К милости» в защиту Новикова и его друзей. При этом следует подчеркнуть, что Карамзин уже идейно и лично разошелся с этим кругом и слышал от бывших наставников только едкие насмешки. Да и сам он был под подозрением по делу московских масонов. Казалось бы, ни честь, ни соображения простого благоразумия не требовали демонстрировать близость, которой уже не было. Но чувство независимости порой презирает «благоразумие».
Погодин, с характерной для него нечуткостью, недоумевал, «каким образом и. Екатерина, следившая зорко за всеми явлениями литературы, принимавшая даже сама деятельное участие в ее успехах, не обратила своего внимания на Карамзина». И заключал: «Невнимание должно было огорчать и смущать Карамзина» [295]. Трудно быть дальше от истины!
Подобные демонстрации Карамзин устраивал не только при Екатерине II, но и в гораздо более опасное время — при Павле. Когда московский военный губернатор Иван Архаров (в отличие от своего брата, знаменитого сыщика Николая Архарова, он пользовался в Москве популярностью) неожиданно подвергся опале и дом его на углу Пречистенки и Старой Конюшенной наполнился солдатами, которым было приказано в 24 часа отвезти несчастного в тамбовское имение (всего несколько месяцев назад он получил чин генерала-от-инфантерии и на коленях благодарил императора за пожалование Ордена Александра Невского), собравшаяся толпа с изумлением увидела, что к дому подкатила коляска, из которой вышел молодой человек с большим мешком. Это был Карамзин, который привез опальному генералу запас книг, «дабы в ссылке иметь ему развлечение чтением» [296]. Поступок был настолько неожиданным, что превратился в своего рода легенду.
Вот еще один пример «неосторожного» поведения Карамзина: во многих работах о Карамзине повторяется описание эпизода, который случился после возвращения писателя из-за границы в доме Державина. Вот его изложение: «Когда Карамзин, возвращаясь из своего заграничного путешествия, три недели оставался в Петербурге (в сентябре 1790 года), то Дмитриев ввел его в дом Державина. Поэт пригласил приезжего к обеду. За столом Карамзин сидел возле любезной и прекрасной хозяйки. Между прочим речь зашла о французской революции; Карамзин, недавно бывший свидетелем некоторых явлений ее, отзывался о ней довольно снисходительно. Во время этого разговора Катерина Яковлевна несколько раз толкала ногою своего соседа, который однако ж никак не мог догадаться, что бы это значило. После обеда, отведя его в сторону, она ему объяснила, что хотела предостеречь его, так как тут же сидел П. И. Новосильцов, петербургский вице-губернатор (некогда сослуживец Державина). Жена его, рожденная Торсунова, была племянницей М. С. Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника могли в тот же день дойти до сведения императрицы» [297].
Эпизод этот вполне достоверен: он дошел до нас в двух пересказах — Блудова и Сербиновича. Оба, видимо, восходят к самому Карамзину. Однако некоторые, до сих пор еще не сделанные, несмотря на частое цитирование, комментарии к нему представляются необходимыми. Прежде всего следует отметить ошибочную датировку эпизода. Она основана на том, что публикаторы (а дата принадлежит им) исходили из времени возвращения, указанного в «Письмах русского путешественника». Но, как мы теперь знаем, даты там сдвинуты: реально Карамзин вернулся в столицу 15 июля 1790 года. Поскольку сведение о том, что в Петербурге он пробыл около трех недель, подтверждается, то время, когда могла произойти встреча с Державиным, следует отнести к 16 июля — 8 августа. Вероятнее всего, она состоялась в конце июля или в начале следующего месяца.
О чем говорил в это время Петербург?
В то время, когда Карамзин плыл из Лондона в Кронштадт, в Петербурге, в Петропавловской крепости, Степан Шешковский (которого Пушкин называл «кровавым» и «домашним палачом кроткой Екатерины» [298]) допрашивал Радищева. 15 июля, в день возвращения Карамзина на родину, Палата уголовного суда начала рассмотрение дела автора «Путешествия из Петербурга в Москву». 24 июля Палата вынесла смертный приговор, который на следующий день был представлен в сенат для утверждения. 7 августа сенат утвердил решение Палаты.
Таков был фон, на котором происходил обед в доме Державина. В Петербурге были потрясены, поскольку никто не ждал, что дело примет такой крутой оборот. Из письма А. А. Безбородко В. С. Попову от 16 июля видно, что тот самый Безбородко, который подписал жестокое решение Государственного Совета по делу Радищева, вначале не считал его столь важным. Казнь за книгу, к тому же прошедшую цензуру, была в России вещью совершенно неслыханной. Но скоро стало ясно, что императрица смотрит на дело иначе и что Радищева ждет жестокое наказание. В высших правительственных сферах появление «Путешествия из Петербурга в Москву» связывали с событиями во Франции. В том же письме Безбородко писал, что Радищев, «заразившись как видно Франциею, выдал книгу». Для того, чтобы судить о мере осведомленности Карамзина в радищевском деле, надо помнить, что, вероятно, Карамзин привез письмо от С. Р. Воронцова к его брату Александру Романовичу, бывшему другом и покровителем Радищева и не покинувшему его в беде. Но если даже письма не было, то после лондонских контактов визит к А. Р. Воронцову был минимальным жестом вежливости. Кроме того, в Петербурге находился в это время Зиновьев, бывший в самом центре дружеских связей Воронцова, Радищева, Кутузова и Карамзина.
Волнения не обошли дом Державина: Радищев прислал Державину в знак уважения экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву», и «певец Фелицы» был сильно встревожен этим. Он не только поспешил передать крамольную книгу властям предержащим, но и написал на Радищева злую эпиграмму, в которой именовал его «русский Мирабо». В этих условиях разговоры о Французской революции приобретали особый смысл. Обычная интерпретация этого эпизода такова: молодой путешественник, привыкший за границей не сдерживать язык, не сориентировался в обстановке и попал в смешное положение. Как мы видели, трудно предположить, чтобы Карамзин не знал о событиях, волновавших его близких знакомых и весь литературный и политический Петербург. Если же Карамзин был в курсе обстановки, то версию о простаке-путешественнике следует решительно отбросить: мы видели, как умело и безошибочно он ориентировался в самых различных общественно-культурных кругах во время путешествия. Ум и такт, глубоко свойственные Карамзину, на всем жизненном пути помогали ему неизменно находить нужный тон и безошибочно выбирать тип поведения. Предполагать, что эти качества вдруг изменили ему в державинском доме, у нас нет оснований. А в таком случае приходится предположить, что Карамзин сознательно шокировал своих собеседников, следуя избранной им методе независимого поведения.
Не менее существенным в вызывающе независимой позиции Карамзина была шокирующая откровенность в трактовке им любовной тематики. К концу XVIII века лирика накопила уже обширный арсенал выразительных средств. Сложились устойчивые каноны элегии, песни и других лирических жанров. И, что особенно важно, определилась структура отношений поэтико-эротического текста к реальным чувствам и вообще к миру действительных любовных отношений.
Все теоретики XVIII века вслед за Буало повторяли, что любовная лирика должна отражать непосредственные чувства поэта:
Признаться, мне претят холодные поэты, Что пишут о любви, любовью не согреты, Притворно слезы льют, изображают страх И, равнодушные, безумствуют в стихах [299].Однако в реальности отношения поэзии и жизни строились не так прямолинейно. В основе этого отношения лежала оппозиция условного — безусловного. Мир любовной поэзии имел свои четкие границы, отделяющие его от жизни, свой поэтический язык, систему образов, узаконенных чувств. Только перевод внутренних переживаний поэта на этот условный язык открывал им дорогу в мир стихотворения. По мере того, как средства, строившие жанр лирики, застывали, превращаясь в повторяющиеся из элегии в элегию формулы, отношение поэзии к жизни делалось все более условным. Соблюдение этой условности воспринималось как обязательное приличие, в то время как нарушение ее казалось выражением нескромности, неприличной разнузданности чувств. Реальным чувствам отводилась область интимного, поэзии — публичного. Для того, чтобы реальные эротические переживания сделать предметом поэзии, из них надо было изгнать «неприличную» интимность, перевести глубоко личные чувства на язык жанровых формул.
Карамзин демонстративно приравнял интимное открытому и гласному. Его любовные признания в стихах и прозе, произносимые печатно со страниц периодических изданий и сборников, воспринимались как скандальные именно потому, что грань между интимным и литературным публично отменялась. С одной стороны, внесение в реальной любовный быт литературных имен и моделей — так в реальной жизни Карамзина появляются «Аглаи» и «Нанины», а с другой — превращение реальных признаний в литературный жанр.
Читатели были убеждены, что все нежные признания, которые в изобилии попадались им на страницах карамзинского текста, как бы вырываются из литературы в область действительности. Это создавало Карамзину успех среди читательниц и молодежи и одновременно раздражало литераторов и критиков как нескромное нарушение приличий.
Когда Карамзин завершил «Послание к женщинам» стихами:
Нанина! десять лет тот день благословляю, Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз; Гармония сердец соединила нас В единый миг навек… Но знай, о верный друг! что дружбою твоей Я более всего горжуся в жизни сей И хижину с тобою, Безвестность, нищету Чертогам золотым и славе предпочту. Что истина своей рукою Напишет над моей могилой? он любил, Он нежной женщины нежнейшим другом был! [300] —то даже Державин, который, казалось бы, сам склонен был сообщать в стихах сокровенные подробности своего быта, нашел, что Карамзин перешел границу допустимого, поверяя читателям слишком интимные переживания своего сердца. Он ответил на стихотворение эпиграммой:
ДРУГУ ЖЕНЩИН
Замужней женщины прекрасной Кто дружбу приобресть умел Для толков, для молвы напрасной Тот лучше бы стихи ей в честь не плел Как хладный ветерок — чума для нежных роз, Так при муже и друг вмиг отморозит нос [301].Говоря об этой стороне литературно-биографической позиции Карамзина 1790-х годов, необходимо иметь в виду еще одно: литература, посвященная темам любви, — как поэзия, так и проза, — обладала в XVIII веке устойчивым, но весьма ограниченным набором сюжетных ситуаций: это были счастливая, несчастливая любовь, измена, соперничество и еще некоторые, многократно повторявшиеся положения. Такие темы, как «падение» женщины, самоубийство от любви, любовный треугольник или инцест, оказывались вне литературной любви, которая напоминала сборник шахматных этюдов. Карамзин (следуя за Руссо и предромантической литературой) широко вводил в свои произведения тематику «заблуждения сердца». В просветительском духе любовь, как естественное чувство (даже если это любовь брата к сестре, как в «Острове Борнгольм»), оказывалась выше бесчеловечной аскетической морали. Читатели 1790-х годов воспринимали это как головокружительную смелость автора.
В 1833 году в статье «Клятва при гробе Господнем. Соч. Н. Полевого» Александр Бестужев-Марлинский мог вдоволь смеяться над «Бедной Лизой»: «Карамзин привез из-за границы полный запас сердечности, и его «Бедная Лиза», его чувствительное путешествие, в котором он так неудачно подражал Стерну, вскружили всем головы. Все завздыхали до обморока; все кинулись <…> топиться в луже» [302]. Это говорит лишь о быстром развитии русской литературы и потому — быстрой потере понимания предшествующих эпох. Между тем, даже если не касаться социальной проблематики «Бедной Лизы», нельзя забывать, что самоубийство было категорически осуждено церковью. То, что добровольная гибель героини не вызывает у автора никакого осуждения, уже само по себе было «модным» взглядом, более связанным с «Вертером», чем с традиционными представлениями. И уж совсем неожиданными были заключительные слова: «Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!» [303]. Современные нам читатели не чувствуют степени вызывающей кощунственности этих слов, в которых «новую жизнь», т. е. душевное спасение, Карамзин своей волей дарует самоубийце, окончившей жизнь без покаяния и похороненной в неосвященной земле. Самый вид самоубийства, избранный бедной Лизой, — утопление в пруду — вызывал определенные ассоциации, ведущие скорее к предромантической литературе, чем к русскому быту. Исследовательницы парижских салонов XVIII века, отмечая интерес к «сплину» как черте национальной оригинальности и английского «местного колорита» в литературных кругах Парижа конца XVIII века, пишут: «У барона Гольбаха в салоне весьма гордились тем, что залучили к себе некоего неврастеника отца Хупа и учились у него, в чем заключается «сплин» — странная болезнь англичан. Вернувшись из Англии, барон разъяснял завсегдатаям салона, что скука часто приводит англичан «в Темзу, если они не предпочитают зажать между зубов дуло пистолета», и что «в Сен-джемсском парке имеется специальный пруд, на который дамы имеют исключительную привилегию: тут они топятся» [304]. Со сплина, который довел англичанина до самоубийства, Карамзин начал описание Англии (Пушкин пересказал это место в «Евгении Онегине»), о нем же подробно писал автор «Россиянина в Англии».
Можно было бы привести еще много примеров сознательной необычности как суждений, так и поведения Карамзина в начале его литературного пути. Однако следует подчеркнуть, что внутренняя независимость и оригинальность как мерило ее органически связывались для Карамзина со служением прогрессу. Здесь кончалось внешнее сходство со щеголем и сказывался «новиковский заквас». Однако одновременно проявлялось и глубокое различие: Карамзин не верил в спасительность назиданий и проповедей. Возвышению человека служит искусство. Только оно развивает душу и распространяет добро не как внешний императив, а как внутреннюю потребность. Нравы улучшаются романами, а не нравоучениями, словом художника, а не проповедью аскета или рассуждениями педанта. Отсюда двойной парадокс: Карамзин против того, чтобы смотреть на искусство как на прикладную мораль, но именно такое, свободное от морализаторства искусство и способно морально воспитывать читателя. Искусство должно быть беззаботным, светским, приятным дамам и свободным от всякого педантизма, и тогда оно сделается серьезной культурной силой.
Это определило и человеческую позицию писателя:
Любезных Прелестей любезный обожатель [305], —так определил Карамзина Державин — и одновременно: труженик, профессиональный журналист, потом историк, человек, которого окружала слава «ахалкина» и «сердечкина» и который был одним из наиболее трудолюбивых, непрерывно работающих писателей. И еще одна черта — популяризатор, всегда имеющий в виду воспитание читателя, но воспитание, искусно скрытое от воспитуемого изящной игрой, кажущимися «безделками».
МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ
Приехав в Москву и обосновавшись в доме Плещеевых на Тверской, Карамзин немедленно приступил к работе — деятельной подготовке к изданию «Московского журнала». В январе вышла первая книжка. Ей предшествовала напряженная деятельность издателя.
Карамзин любил становиться в позу дилетанта, «друга Милых», светского человека, иногда — кабинетного мудреца, юного стоика, поклонника богини Меланхолии. Все эти роли он охотно выставлял напоказ и именно в таком образе рисовался он друзьям и читателям. Но стоит внимательно присмотреться, и перед нами раскрывается еще один — довольно неожиданный — образ: образ человека, умело берущегося за дело, исключительно быстро овладевающего необходимыми профессиональными навыками, не гнушающегося никакой, в том числе и самой черновой, работой. И как в дальнейшем никто не заметил, когда Карамзин овладел вспомогательными историческими дисциплинами, научился палеографии, хронологии почерков и бумаги, критике источников и анализу языка — все на высоком профессиональном уровне своего времени, — так и в начале 1790-х годов мы не можем определить момента, когда Карамзин становится профессиональным журналистом: мы сразу застаем его во всеоружии навыков и как бы изначально вооруженного опытом.
Для того, чтобы издавать журнал, надо было организовать подписку, рассчитать финансовые средства, договориться с типографиями, выбирать шрифты, подбирать и заказывать виньеты, вести переписку с авторами, подбирать материалы, переводить и писать, писать, писать… Достаточно посмотреть на дошедшие до нас корректуры, правленные рукой Карамзина, чтобы убедиться, что все стороны профессионального труда делались им con amore [306]. Во вторую половину жизни официальное звание историографа узаконит эту сторону деятельности как равноправную с другими («историограф» звучит для привыкшего к табели о рангах уха как нечто чиноподобное; не случайно на одном из балов лакей провозгласил: «Карамзин, граф истории!»). Но сейчас идет борьба за право на совмещение в одном лице столь разных ролей. А журналистика преподносится как частное дело частного человека, развлечение мечтателя или каприз дамского поклонника. Не случайно первый сборник избранных сочинений выйдет под заглавием «Мои безделки» (название тотчас же превратится в жанр — сборник И. И. Дмитриева будет озаглавлен: «И мои безделки»).
А за этим фасадом происходит работа по «сотворению» профессионального литератора — работа, завершенная Пушкиным.
Как тип журнала «Московский журнал» глубоко двойственен. И двойственность эта — отражение двойной задачи, которую ставил перед своим изданием Карамзин. Слово «журнал» (от французского journal — «ежедневник», от корня jour — день) имело два значения. Одно, как и во французском языке, сохраняло семантику ежедневных записей и значило то же, что «дневник». Другое, означая во французском языке газету, пережило сдвиг значения и сделалось названием периодического издания журнального типа. Карамзин и его современники употребляли это слово в обоих значениях. «Московский журнал» как бы старался соответствовать обоим смыслам своего названия. С одной стороны, издание как бы представляло московский дневник издателя, намекая на то, что ему предшествовал другой — заграничный. Конечно, в издании сотрудничали и другие авторы, и их участие подчеркивалось как способ привлечь «субскрибентов» (подписчиков). Однако перу издателя принадлежало 9/10 материалов, и это, в сочетании с нескрываемым личным тоном редакционных материалов, придавало всему журналу характер лирического единства. С другой стороны, журнал явно ориентировался на читателя и совсем не был изданием «для немногих». Стремление замкнуться в небольшом круге избранных было принципиально чуждо Карамзину-журналисту. О стремлении Карамзина расширять круг читателей свидетельствует его обращение к ним в конце первого года издания. Здесь, между прочим, читаем: «Если бы у меня было на сей год не 300 (фактически по спискам подписчиков, публиковавшимся в журнале, их было в 1791 году 258; однако для XVIII века это была вполне удовлетворительная цифра. — Ю. Л.) субскрибентов, а 500, то я постарался бы на тот год сделать наружность журнала приятнее для глаз читателей; я мог бы выписать хорошие литеры из Петербурга или из Лейпцига; мог бы от времени до времени издавать эстампы, рисованные и гравированные Липсом, моим знакомцем, который ныне столь известен в Германии по своей работе» [307]. Стремление же привлечь читателя и ответить на его запросы требовало разнообразия материалов, смены тона, привлечения других известных имен. Как и конфликт между установками на дилетантизм и профессионализм, это противоречие составляло не слабую, а сильную сторону в позиции Карамзина: именно оно способствовало тому, что новая литературная школа очень скоро овладела умами читателей и что в течение какого-нибудь десятилетия программа Карамзина не только победила, но уже сделалась тривиальной — знак стремительности литературного развития.
Оценивать историко-литературное значение «Московского журнала» не входит в нашу задачу, тем более что это уже неоднократно делалось. Нам интересно проследить, как на этом этапе строилось литературное самосознание писателя и каким образом это влияло на формирование его личности.
«Московский журнал» был построен исключительно искусно: несмотря на обилие материалов, почерпнутых из различных источников, он воспринимается как единый монолог издателя. Вкрапленные в карамзинский текст произведения других авторов воспринимаются как несобственно-прямая речь или отсылки к чужому мнению, делаемые все тем же издателем. Притом если речь идет о переводных произведениях, то стиль переводчика — того же Карамзина — еще более подчеркивает единство всего текста журнала. Однако господство монологической стихии не приводит к монотонности. С одной стороны, разнообразие достигается умелой смесью разных жанров и интонаций повествования. С другой, что еще важнее, Карамзин сознательно подбирал материалы так, чтобы образовывались противоречия во мнениях и точках зрения.
Так, например, уже в первом номере журнала в разделе «О книгах» помещена обширная рецензия на роман Хераскова «Кадм и Гармония». Херасков был чуть ли не единственным в масонском кругу, кто отнесся положительно и к проекту Карамзина издавать журнал, и лично к вернувшемуся из-за границы писателю. Это определило исключительную осторожность оценки Карамзина. Кроме того, сказывались, с одной стороны, принцип Карамзина-критика сосредоточивать внимание на положительном [308], с другой — возраст Хераскова и общее уважение, которым он был окружен в это время как признанный глава русской литературы. Херасков доказывает спасительность самодержавной власти, и Карамзин включил в рецензию обширную цитату — речь Кадма к фессалийцам в защиту единодержавия. Необходимость самодержавия обосновывается порочностью и слабостью отдельного человека, его неспособностью самому определить свою истинную пользу и отделить добро от зла: «Тогда Кадм вещал <…> попечителям и судьям нужна глава, выше законов поставленная, могущая охранять святость законов, наблюдать целомудрие судей, общее благосостояние, нерушимость и единообразие судопроизводства, а паче всего добро от зла, истину от коварства, тщательность от лености отличать могущая. Сия-то глава есть царь самодержавствующий подданным» (МЖ, I, 1, 88). Однако в том же номере Карамзин поместил рецензию на французскую книгу «Путешествие г. Вайана во внутренние области Африки через мыс Доброй Надежды в 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 и 1785 гг.» Рецензия была переводная и заимствована из «Mercure de France», но это не отменяло ее личного характера для издателя журнала. И автор книги Вайан и его рецензент Шамфор были личными знакомыми Карамзина. Перевод рецензии оживлял воспоминания. Но читатель помнил и другое. Помещение в «Московском журнале» рецензии, подписанной именем человека, который участвовал в штурме Бастилии и был ближайшим соратником Мирабо, не являлось нейтральным актом. Однако в данном случае существенно не только это: вся рецензия Шамфора — апология доброй природы человека и, следовательно, опровержение рассуждений Хераскова. Ссылаясь на этнографов, Шамфор пишет: «Путешественники говорят противное прежним, описывающим самыми гнусными красками человека дикого или натурального». «Бакон говорил что надобно снова начать действия разума человеческого… Также бы может быть надлежало начать снова и наблюдения, на которых иные философы основывают свои идеи о натуре человеческой и представляют ее злою и не могущею никогда перемениться» (МЖ, I, 1, 114–115). После слов о естественной нравственности «диких», бесспорно, смело звучало, что «автор не приметил даже в них никаких идей, относительных к Религии» (там же, с. 118).
Не менее интересен факт публикации в «Московском журнале» переводной статьи «Жизнь и дела Иосифа Бальзамо, т. н. графа Калиостро». Статья в условиях 1791 года звучала необычайно остро: она содержала обвинения против масонов как инициаторов Французской революции и явно восходила к слухам, распространяемым в то время иезуитами. «Египетское масонство служило ему (Калиостро. — Ю. Л.) к распространению сих возмутительных идей <…>. Мы не знаем, имело ли все сие какое-нибудь влияние на французскую революцию, однако ж удивительно то, что он в сем письме [309] предсказывает разрушение Бастилии и собрание Государственных Чинов». О каких «возмутительных идеях» идет речь, автор статьи пояснил в самом ее начале, заявив себя противником просветительской философии: «Невежество древних было гораздо безвреднее, нежели многоведение новых. Человеколюбие, экономия, общественная свобода, равенство людей, общее благосостояние <…> суть обольщающие имена, которыми украшают всякое преступление» (МЖ, V, 1, 75; IV, 11, 205). Последние слова Карамзин снабдил примечанием, равного которому по резкости мы не встречаем в «Московском журнале»: «Да, г. Патер (или как тебя зовут иначе!) тебе очень досадно, что люди стали умнее и что вы не можете ныне делать того, что прежде делали» (МЖ, IV, 11, 205).
Свое отмежевание как от масонов, так и от их гонителей Карамзин проводил в журнале осторожно, но упорно. Бросается в глаза, что в том же номере, где опубликована первая часть статьи о Калиостро, помещен список особ, подписавшихся на журнал в сентябре — октябре 1791 года, и на первом месте поставлен Н. И. Новиков. В январе 1792 года, когда тучи над головой Новикова и его друзей уже сгустились и гром готов был грянуть, в том же номере, где печатался отрывок «Жизни и дел Иосифа Бальзамо», содержащий опасные обвинения в связях масонов с парижскими событиями, без подписи было опубликовано стихотворение Карамзина «Странные люди» [310]. Стихотворение замаскировано подзаголовком «Подражание Лихтверу»[311] и начиналось стихами, которые осведомленный читатель должен был безошибочно связать с путешествием Карамзина и осложнением его отношений с новиковским кругом:
Клеант объездил целый свет И, видя, что нигде для смертных счастья нет, Домой к друзьям своим с котомкой возвратился. Друзья его нашли, что он переменился Во многом, но не в дружбе к ним…Далее, после рассказов о разных диковинных племенах и народах, Клеант сообщает о «странных людях»:
От утра до ночи сидят они как сидни, Не пьют и не едят, Не дремлют и не спят, Как будто нет в них жизни. Хотя б над ими гром гремел И армии вокруг сражались; Хотя б небесный свод горел, Трещал и пасть хотел, — они б не испугались И с места б не сошли, быв глухи и без глаз. Хотя по временам они и повторяют Какие-то слова, при коих всякий раз Глаза свои кривляют; Однако же нельзя совсем расслушать их. Я часто подле них Стоял и удивлялся, Смотрел и ужасался. Поверьте мне, друзья, что образ сих людей Останется навек в душе моей. Отчаяние, ярость, Тоска и злая радость Являлись в лицах их. Они казались мне Как Эвмениды злобны, Платоновым судьям угрюмостью подобны И бледны, как злодей в доказанной вине. «Но что же ум их занимает? — Спросили все друзья. — Не благо ли людей?» «— Ах, нет! О том никто из них не помышляет». «— Так, верно, мыслию своей В других мирах они летают?» «— Никак!» «— И так О камне мудрых рассуждают? Или хотят узнать, как тело в жизни сей Сопряжено с душей? Или грустят о том, что много нагрешили?» «— Нет, все не то, и вы загадки не решили». «— Так отчего ж они не пьют и не едят, Молчат и целый день сидят, Не видят, не внимают? Что же делают они?» — «Играют!!!» [312]В период преследования московских масонов в обществе ползли слухи о необычном поведении их, и весь кружок Новикова называли «странными людьми». По этому поводу Лопухин писал Кутузову 7 ноября 1790 года: «Что ж принадлежит до странности, то я, право, не знаю с чего мы им странны кажемся, разве у них мальчики в глазах [313]? Не ходя далеко, посмотрю на себя, вспомню тебя: молодцы, право, перед теми, которые нас странными называют. Полно, для здешней публики немного надобно, чтоб разжаловать из умных в дураки и сему подобное <…> Какая же вывеска, что не мартинист? Это я собою испытал. Прошлого году случилось мне в одной веселых приятелей беседе много пить и несколько подпить; так один из них (люди же были не без знати в публике) говорит мне с великою радостию, как бы город взял: «какой ты мартинист, ты наш!» Я согласился. Правда, говорю, вздохнув про себя, особливо на сейчас» [314]. Карамзин в басне делит общество на две категории: одни игроки, убивающие все время за карточным столом, а другие заняты благом людей, «мыслию в других мирах летают», «о камне мудрых рассуждают» «или хотят узнать, как тело в жизни сей / Сопряжено с душей» — перечислена важнейшая проблематика масонских философских размышлений. Истинно «странными людьми» оказываются обвинители масонов, сами же они — мудрецами.
При этом, проявляя умную тактичность, Карамзин дал представленным в выгодном свете героям заботы, которые, будучи характерными для масонов, занимали одновременно и всю философию XVIП1 века в целом, и этим представил их не отщепенцами, а представителями века Просвещения. Это как бы и объясняло его с ними солидарность, и затрудняло официальную критику их интересов. Только поиски философского камня («камня мудрых») составляли специфически-масонскую проблему, будучи органически связаны с их социально-утопическими воззрениями [315]. Вопрос о том, как связаны между собой душа и тело, духовные и физические начала человека, был острым для всей философии XVIII века. Он волновал Канта и Радищева, Карамзин о нем спрашивал Лафатера, в том же «Московском журнале» появился обмен мнениями на эту тему между Бейлем и Шефтсбери. Остро он обсуждался и в масонской среде — им занимался, в частности, А. М. Кутузов. Тем более рассуждения о благе людей не давали возможности охарактеризовать друзей Новикова как «секту» или «новый раскол» — выражения, употреблявшиеся Екатериной II с целью оправдать гонения, которые она обрушила на поборников просвещения и филантропии.
Стихотворение «Странные люди» было смелой и одновременно тактически продуманной акцией в защиту вчерашних наставников от преследований. В этом отношении «К милости» не было единичным и неожиданным выступлением, а представляло собой завершение важной для Карамзина линии действия. Но Карамзин был уже далек от масонства. Нельзя согласиться с мнением В. В. Виноградова, писавшего: «Изучение «Московского журнала» (1791–1792) Карамзина приводит к выводу, что этот журнал в основном был органом группы масонов-отщепенцев во главе с Карамзиным и примкнувших к ним деятелей русской литературы — Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева и др. Связь Карамзина с масонской средой в это время была довольно близкой; основные сотрудники «Московского журнала», как уже было указано выше, принадлежали к масонству или тяготели к нему (M. M. Херасков, Ф. П. Ключарев, Д. И. Дмитревский и др.; ср. в VI ч. «Московского журнала» заметку И. П. Тургенева, принявшего Карамзина в члены масонского ордена: «К портрету кн. M. H. Волконского»» [316]. Однако к этому времени А. А. Петров отошел от масонства, видимо, так же, как и Карамзин, разочаровавшись в нем. О сколь-либо серьезном участии Ф. П. Ключарева и, тем более, И. П. Тургенева (если инициалы И. Т. действительно скрывают его), опубликовавшего в журнале всего несколько строчек, говорить не приходится. Участие Хераскова также было ограниченным и ни количественно, ни качественно не может быть сопоставлено с вкладом Державина или Дмитриева, никакого отношения к масонству не имевших и никогда к нему не «примыкавших».
Главный же вопрос — это позиция самого Карамзина. Как мы постараемся показать, она была весьма далека от масонской.
Не менее интересна и сложна позиция журнала в отношении к Французской революции.
То, что в «Московском журнале» нет прямых суждений на эту тему, нельзя отнести только за счет цензурных трудностей, хотя и забывать о них не следует. Видимо, прямые политические высказывания вообще не входили в план издания. Кроме того, Карамзин слишком близко видел Французскую революцию, чтобы иметь о ней определенные суждения в период, когда события продолжали развертываться с такой быстротой. Однако очевидно, что ни о каком благочестивом ужасе или хоть относительном сближении его с официальной точкой зрения говорить не приходится.
И вновь мы сталкиваемся с системой продуманных намеков и как бы невзначай оброненных суждений. В июльском номере «Московского журнала» за 1791 год Карамзин поместил рецензию на французское издание «Путешествия младого Анахарсиса по Греции в середине четвертого века перед Рождеством Христовым». Рецензия была переведена из иенской Allgemeine Literatur-Zeitung [317]. В ней цитируются слова автора «Анахарсиса»: «Пример нации, предпочитающей смерть рабству, достоин всего внимания и умолчать о нем невозможно». Карамзин снабдил их кратким, но тем более выразительным примечанием: «Г. Бартелеми прав» (МЖ, III, 7, 103). Для того, чтобы понять, как прозвучали эти слова летом 1791 года, следует вспомнить, что положение во Франции после смерти Мирабо резко обострилось: в Мантуе Леопольд разработал план вторжения во Францию со стороны Фландрии, Эльзаса, Швейцарии, Савойи и Испании. 21 июня король бежал вместе со всей семьей, переодевшись лакеем и с подложным паспортом. Это должно было стать сигналом начала вторжения и гражданской войны. В Варенне королевская семья была задержана и, сопровождаемая грозным молчанием народа («ни приветствий, ни оскорблений — таков был призыв»), водворена в Париж.
Наиболее удобным способом выражать свое отношение были рецензии. «Странные люди» уже показали, как Карамзин средствами весьма точного перевода текста, имеющего в оригинале совсем другой смысл, может высказать свое мнение, умело создавая актуальный для русского читателя контекст. Рецензии также часто были переводными (речь идет о рецензиях на иностранные книги и спектакли). Это не мешало им выражать мнение издателя.
В январе 1792 года, когда события во Франции принимали все более радикальный характер, и отмена королевской власти была поставлена в повестку дня, «Московский журнал» в рубрике «О иностранных книгах» опубликовал следующую краткую рецензию: «I. Les Ruines, ou Meditation sur les Revolutions des Empires, par M. Volney. A Paris, aout 1791, то есть Развалины, или размышления о революциях Империй, соч. Г. Вольнея. II. De J.-J. Rousseau etc. par M. Mercier, A Paris, juin 1791, то есть Жан-Жак Руссо и проч. соч. г. Мерсье.
Сии две книги можно назвать важнейшими произведениями французской литературы в прошедшем году» (МЖ, V, 1, 150–151).
Краткость рецензии объясняется весьма просто: ни о каком реферировании этих произведений в русской прессе не могло быть и речи. Даже полное название второй из них привести оказалось невозможно. Во французском оригинале книга называлась: «О Ж.-Ж. Руссо, рассмотренном как один из первых творцов (французское «auteur» допускает значения: творец, создатель, виновник, инициатор) революции». Обе книги принадлежали к наиболее ярким созданиям революционной публицистики не только этого года, но и всего первого этапа революции. Вольней, принадлежавший к младшему поколению французских просветителей, стал активным деятелем революции, участником Национального и Законодательного собрания. Философские воззрения Вольнея эклектически сочетали гельвецианскую апологию разумного эгоизма как основы морали и руссоистский культ доброй природы человека. Однако сила и значение книги Вольнея были не в новизне философских предпосылок, чего не было, а в пафосе, вере в наступление нового счастливого века и в безусловном признании права народа на революционное насилие. В патетической декламации Вольней восклицал: «Неужели же на земле не подымутся люди, которые отомстят за народы и накажут тиранов! Кучка грабителей разоряет народные массы, которые позволяют пожирать себя! О, народы, впавшие в ничтожество, вспомните о своих правах! Всякая власть исходит от вас, всякое могущество есть ваше могущество. Напрасно цари повелевают вам от имени бога, опираясь на оружие. Солдаты, не повинуйтесь!»[318] В отличие от Руссо, Вольней, как и Кондорсе, полон оптимизма. Вера в то, что век Разума наступает для всего человечества, — основа всей его книги: «Да, глухой шум уже доносится до моего слуха. Клич свободы, родившийся на отдаленных берегах, проносится по древнему материку. Этот клич, этот тайный ропот против угнетения раздается в глубинах великой нации. Народ возмущается своим бедственным положением. Он спрашивает, что он есть, чем он должен быть (намек на известную брошюру Сийеса. — Ю. Л.)… Еще один день, еще один порыв мысли — и прорвется великое движение. Начнется новый век — век восторга для народа, неожиданности и ужаса для тиранов, освобождения великой нации, надежды для всей земли!»
Мерсье в своей книге подверг наследие Руссо интерпретации, которая превращала автора «Общественного договора» в прямого предшественника революции. Мерсье выделяет Руссо, ставя его выше всех писателей XVIII века и противопоставляя энциклопедистам. С сочувствием выделяет он намерение Руссо «опровергнуть книгу Гельвеция «Об уме» — книгу опасную во многих отношениях» [319]. Вместе с тем в духе наиболее радикальной публицистики тех месяцев он пишет, что «можно было бы упрекнуть Руссо в том, что он не говорил о восстании, этом законном праве угнетенного народа, признанном самим Создателем, который дал силу человеку, как когти животному, чтобы защищать себя от врага. Восстание народа! Это удар хвоста кита, разбивающий шлюпку гарпунщиков. Восстание, оно спасло недавно Париж от резни и Францию от разрушения. Это первейшее, самое прекрасное и самое неоспоримое право оскорбленного народа» [320].
Особо следует подчеркнуть, что обе книги задевали русское правительство: Вольней резко осудил русско-турецкие войны и попов, которые в обеих враждующих армиях благословляют оружие убийства. Мерсье высказался еще резче: «Народы Европы! Последуйте нашему примеру, примеру нашей революции! Поставьте в порядок дня быстрый переход от деспотизма к свободе. Человек родился сокрушать тиранов, сражать любые дряхлые и высокомерные правительства, сколь бы жестоки, яростны и коварны они ни были» [321]. «Цепи народов были разбиты на площади Победы. Это прелюдия к низвержению тронов всех деспотов. Народы будут плясать на развалинах всех бастилий, всех Шпандау [322] и в Сибири» [323].
Таковы были книги, которые Карамзин называл «важнейшими произведениями французской литературы» 1791 года. Такая характеристика, особенно при отсутствии реферата этих книг, звучала как приглашение их прочесть. Это было не очень трудно: французские книжные магазины продолжали получать литературу из Парижа [324]. Надо иметь в виду при оценке этих, казалось бы, слабых следов сочувственного интереса к развитию событий в Париже, что отношение правительственных сфер к Франции менялось быстро. Уже в 1791 году все отзывы о парижских событиях стали строго контролироваться. Высказывать враждебность по отношению к революции стало ритуально обязательным. В декабре 1791 года русскому послу И. М. Симолину было приказано покинуть Францию.
На этом фоне следует оценивать и рецензии на парижские спектакли, публиковавшиеся на страницах «Московского журнала». Сочувственный отзыв о «Жестокостях монастыря» Ретифа де ла Бретона, подробный пересказ одной из популярнейших пьес революционной сцены «Исцеленный от дворянских предрассудков» Фабра д'Эглантина и с успехом шедшей в Париже драмы «Руссо в последние минуты своей жизни», пересказ «Монастырских жертв» (см. предыдущую главу) не оставляли сомнений в позиции рецензента.
Как же согласовать появление на страницах одного и того же издания цитат из «Кадма и Гармонии» и явно сочувственных намеков на парижские события?
Мы не поддадимся соблазну прибегать под защиту формул о некоей амбивалентности или диалогичности позиции Карамзина. Формулировки эти возникли на другом материале и мало что могут объяснить в нашем.
Стремление к совмещению противоположных точек зрения имеет у Карамзина другую основу. Свое кредо Карамзин выразил словами: «Тот есть для меня истинной философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и тех, которые с ним разно думают» (МЖ, I, 3, 345). Основой важнейших для Карамзина положительных свойств человека: терпимости, толерантности, отсутствия фанатизма — является скепсис. Истина ускользает от человека. Поэтому односторонность и фанатизм наиболее далеки от нее, а одновременное сведение противоположных воззрений порождает сомнение в своей правоте, что, в свою очередь, имеет следствием терпимость по отношению к противоположным убеждениям. А это для Карамзина — гносеологическая основа доброты. Поскольку же исторический прогресс для него есть прогресс доброты, то именно таким образом, а не убежденностью в единственной истинности своего воззрения, достигается общий прогресс человечества.
В этом отношении принципиальной является публикация-перевод двух писем: Бейля Шефтсбери и Шефтсбери Бейлю. Бейль раздираем сомнениями. Невозможность познания истины приводит его к трагическому пессимизму. При этом задаваемые им вопросы — это все те же «вечные вопросы», которые тревожат и Карамзина и с которыми мы уже многократно сталкивались в его сочинениях:
«Когда есть Бог, то от чего происходит зло в мире? Какая есть невидимая и непонятная связь между телом и душею <…> Вот какие важные вопросы остаются у меня без ответа при конце жизни». Для Бейля, который видит смысл жизни в познании, отсутствие ответа лишает жизнь смысла: «Итак мне можно думать, что весь план жизни моей был нехорош. Может быть надлежало бы мне знать с самого начала, что истина есть вымышленная богиня, которая ни мало не чувствует приносимых ей жертв» (МЖ, III, 8, 151).
Ответ Шефтсбери пронизан оптимизмом, поскольку сомнение в той или иной системе не означает для него сомнения в поиске истины, а поиск истины имеет для него, прежде всего, моральный смысл: ищущий усовершенствует свою душу и нравственно возвышается, выполняя тем самым высшую цель человека.
«Знаем мы, какое есть намерение божественного плана, но каким образом исполнение соглашается с целию, сие часто бывает для нас таинством. Первое читаем мы в мысленном мире, который нам ближе, ибо мы находим его в своей внутренности, а второе в чувственном мире, в котором видим только наружную скорлупу. Испытатель старается соединить обе нити своего познания и переходить из одного мира в другой. Если находит он затруднения, которые кажутся ему непреодолимыми, то не лучше ли будет ему остаться при том, что он признает верным, а в рассуждении прочего не беспокоиться».
Подвергая сомнению любую из философских систем, Шефтсбери тем не менее подчеркивает нравственную пользу поиска истины: «Довольно, что существо наше становится возвышеннее и благороднее от распространения сил и познаний наших» (МЖ, III, 8, 157–164).
Такое построение текста задает композиционную схему собственным произведениям Карамзина, таким как «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору». Вспомним и стихотворение Карамзина «Кладбище» (в «Московском журнале» под названием «Могила»), в котором перекличка голосов также дает две противоположные точки зрения.
ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?
Итак, все вопросы: вопрос судеб цивилизации, вопрос «что такое литература и зачем она нужна?» и, наконец, вопрос о том, что я есть и чем мне следует быть, сводились для Карамзина, приехавшего из Европы и оглядевшегося вокруг, к этому — поставленному в заглавии — вопросу. Вопрос волновал не его одного — это был вопрос эпохи.
Огромные общественно-исторические перемены конца XVIII века сопровождались ломкой идейно-теоретических представлений. Век Просвещения отбросил идеал человека-аскета, высмеял представление о жертве как основе морали. На смену им было выдвинуто понятие разумно понятого эгоизма как надежной связи человеческого общества. Эгоизм превращается в антиобщественную силу лишь в обществе, основанном на угнетении, — в справедливой общественной организации человек, заботящийся о своей пользе, одновременно приносит пользу и другим людям. Следуя гельвецианской морали, Радищев писал: «Все деяния человеческие не суть бескорыстны»; «причина к общежитию есть единственна, а именно собственная каждого польза». И далее: «Для того, что человек есть существо самолюбящее и все свои деяния по своей пользе размеряющее, и нужно деяния его наклонять к общему» [325]. Приведем еще суждение Вольнея в «Руинах». Оно показательно именно потому, что Вольней не был оригинальным философом и выражал общераспространенную просветительскую доктрину.
«Себялюбие, стремление избежать страданий, желание обеспечить себе благополучие — таковы были прочные и мощные рычаги, поднявшие человека из его дикого и варварского состояния, в котором он находился по воле природы». «Себялюбие, основа всякой мудрости, стало движущей силой промышленности». «Да привет тебе и уважение, о, человек-творец! Ты измерил небесное пространство, исчислил вес звезд, похитил молнии среди туч, укротил моря и бури, поработил себе стихии» [326].
Просветительская теория разумного и общественно-полезного эгоизма создавала и соответствующий идеал практического поведения. Целью человеческой жизни объявлялось счастье. Оно, как единственная чувственно воспринимаемая реальность, противостояло химерам аскетизма, долга, предрассудков и метафизики. Как писал Добролюбов, основа морали сводится к «реальному требованию человеческого блага, к одной формуле: человек и его счастье» [327].
Однако если в проекции на феодальную действительность теория эта была источником мощных освободительных идей, то, преломленная в практической жизни, она легко вырождалась в оправдание гедонизма и поверхностного культа чувственных радостей.
Приближение эпохи великих самопожертвований, эпохи революций, войн, времени, выразителем которого был герой, а не эпикуреец, а смерть гораздо чаще посещала молодых, чем стариков («сама смерть помолодела, и в старость никто больше не верил», Мюссе), потребовало другой морали и другого идеала человека. Героизм искал своей теории, и поиски Радищевым бессмертия [328] и культ Разума Робеспьера были выражением потребности в новой морали, морали, которая бы учила человека не счастливо жить, а бестрепетно погибать.
Но у этики счастья был глубокий корень, и справиться с ней было не так легко. Корень этот — представление, согласно которому любое философское и социологическое рассуждение должно начинаться с отдельной изолированной человеческой личности. Человечество — это лишь много людей. Поэтому благо человечества — это благо отдельного человека, многократно умноженное. Если оставаться в пределах этой концепции, — а другой в арсенале философии той поры не имелось, — то оправдание смерти надо было найти также в рамках индивидуального бытия. И здесь лучшей точкой опоры в истории философии оказывалось учение стоиков. Не случайно к этике стои фактически обращаются и Шиллер, и Кант, и якобинцы типа Жильбера Ромма. Герои прериаля, «последние монтаньяры» не были поклонниками робеспьеровской религии — их идеалами были Катон и Брут, а школой этики — стоя [329].
Идеи неостоицизма хорошо гармонировали с культом античных добродетелей, героической гибели и, в целом, с культурой неоклассицизма. Поскольку героическое провозглашалось нормой человеческого поведения, единственно достойным человека состоянием, в быт и обыденную жизнь переносились нормы, слова, интонации и жесты, заимствованные из Плутарха и Тацита. Быть человеком — означало быть «римлянином». Не только в Париже, но и в Петербурге и Москве жажда героизма порождала «римскую помпу» (Белинский). Воспитанник кадетского корпуса С. Н. Глинка вспоминал: «Голос добродетелей древнего Рима, голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных душах кадет <…> Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал я под каким живу правлением, но знал, что вольность была душею римлян. Неведал я ничего о состоянии русских крестьян, но читал, что в Риме и диктаторов выбирали от сохи и плуга. Не понимал я различия русских сословий, но знал, что имя римского гражданина стояло на чреде полубогов. Исполинский призрак древнего Рима заслонял от нас родную страну» [330]. В. Оленина, близко знавшая декабриста Никиту Муравьева, вспоминала: «Занявшись особенно историею, натурально предпочел <он> римскую другим, как ближе к нашему времени и его характеру» [331]. Это представление, что римская история «натурально» ближе к характеру событий начала XIX века, чем, например, история средних веков, европейская или русская, поистине замечательно!
Такие идеалы порождали в практическом поведении, с одной стороны, героизм, стоическое отношение к гонениям, уважение к бедности и культ «римского» самоубийства. Примером этого может быть Радищев или Жильбер Ромм и другие «последние монтаньяры», заколовшиеся одним кинжалом, передавая его друг другу, чтобы не отдать себя в руки палача. Но, с другой стороны, оно же легко вырождалось в декламацию, театральность поведения, презрение к обыденности и простоте [332].
Карамзин, современник и почитатель Шиллера, усердный посетитель Национальной ассамблеи, конечно, знал и наблюдал этот тип поведения. В определенные моменты его героическая красота захватывала Карамзина. В начале 1790-х годов красноречие оратора еще способно было его увлечь. И все же его поиски человеческого идеала и нормы, по которой он хотел бы равнять свое собственное поведение, шли иным путем.
Театр и для него был важным ориентиром в этих вопросах. Поэтому особенно интересно посмотреть, чего же Карамзин наиболее настойчиво требует от игры актеров. Оказывается — естественности и простоты! Надо, однако, выяснить, что же вкладывает он в эти понятия. Героический стоицизм исходил из того, что настоящий человек есть человек необыкновенный, человек выше человека. Слабость унижает «римлянина» и должна быть ему чужда. Карамзин кладет в основу своих убеждений мысль о том, что именно обыкновенный, наделенный всеми слабостями, вынужденный бороться с недостатками человек и есть человек в подлинном значении этого слова. В «Московском журнале» он опубликовал отрывки «Из записок одного молодого россиянина». Еще В. В. Виноградов указал на принципиальную значимость этого текста [333]. Здесь находим такое суждение: «Я почитал и любил Руссо от всего моего сердца, — сказал мне барон Баельвиц [334], — влюблен был в Элоизу, с благоговением смотрел на Кларан, на Мельери и Женевское озеро, но его «Confessions» прохладили жар мой, и я перестал почитать Руссо». А я, NN (под этими буквами скрылся сам Карамзин. — Ю. Л.), смотревший на Кларан, хотя и не с благоговением, но по крайней мере с тихим чувством удовольствия, прочитав «Confessions» полюбил Руссо более, нежели когда-нибудь. Кто многоразличными опытами уверился, что человек всегда человек, что мы имеем только понятие о совершенстве и остаемся всегда несовершенными, — в глазах того наитрогательнейшая любезность в человеке есть мужественная, благородная искренность, с которою говорит он: «Я слаб!» (то есть я человек!). Но кто имеет надутые понятия о добродетели, о мудрости человеческой, тот обыкновенно презирает сего искреннего мужа» (МЖ, VI, 4, 67).
Человеческие слабости привлекательнее, чем нечеловеческие добродетели. В этом отношении показательны два стихотворения Карамзина: «Странность любви, или Бессонница» и «Протей, или Несогласия стихотворца». В первом из них автор говорит о своей возлюбленной. Привлекательность ее заключается в слабости, отсутствии красоты и каких бы то ни было «необыкновенных» качеств.
…нимало не важна И талантов за собою Не имеет никаких; Не блистает остротою, И движеньем глаз своих Не умеет изъясняться; Не умеет восхищаться Аполлоновым огнем; Философов не читает И в невежестве своем Всю ученость презирает. … Не Венера красотою — Так худа, бледна собою, Так эфирна и томна, Что без жалости не можно Бросить взора на нее [335].Смысл стихотворения двойной: с одной стороны, речь идет о странности и внелогичности любви, а с другой — о том, что обычные человеческие свойства милее автору, чем сверхчеловеческие достоинства. Человек, сознающий себя далеким от совершенства, по мнению Карамзина, будет чужд и суровости и фанатизма, столь часто сопутствующих добродетели, и героизму. Зато он будет отличаться добротой и терпимостью. Культурный прогресс и нравственное совершенство, с ним связанное, состоят не в создании идеального человека (Кутузов в погоне за этой химерой занялся поисками гомункулуса — искусственного человека, свободного от слабостей и пороков), а в росте терпимости, «совместимости» с другими людьми.
С этим связано стремление Карамзина в «Бедной Лизе» и других повестях изображать «заблуждающихся» героев. Другим следствием такого взгляда явилось резко отрицательное отношение к морализации и морализирующей литературе. Цитируя Бутервека, он писал в «Московском журнале»: «А ты, благочестивый моралист, перестань шуметь без пользы и с сей минуты откажись от смешного требования, чтобы Поэты не воспевали ничего, кроме добродетели! Разве ты не знаешь, что нравоучительное педантство есть самое несноснейшее и что оно всегда вреднее для самой добродетели? Разве ты никогда не чувствовал скуки, когда тебе всё одно твердили?» (МЖ, VIII, 10–11, 130). Здесь пролегла глубокая грань, отделявшая журнал Карамзина от масонских изданий и не позволяющая согласиться с В. В. Виноградовым, называвшим «Московский журнал» «органом масонов-отщепенцев». Искусство для масонов — лишь педагогический прием, тактическая уступка «чувственному человеку». Карамзин убежден, что именно искусство воспитывает. Разработка, усовершенствование душевной тонкости человека достигается эстетическими средствами. Красота — лучший воспитатель. «Сократ говорил, что красота телесная всегда бывает изображением душевной» (МЖ, VIII, 10–11, 23), — писал Карамзин в «Наталье, боярской дочери». Поэтому и любовь — Карамзин считает это чувство эстетическим по существу — не порок и не слабость. Цель масонских журналов — нравоучение, цель «Московского журнала» — художественное наслаждение. Цитируя того же Бутервека, Карамзин писал: «Поэзия есть роскошь сердца. <…> Сие наслаждение возбуждает в нас чувство внутреннего благородства — чувство, которое удаляет нас от низких пороков. Благодарите, смертные, благодарите Поэзию, за то, что она возвышает дух и приятным образом напрягает силы ваши!» (МЖ, VIII, 10–11, 130).
Но если человечность заключается в слабости и быть человеком — это не походить на идеал, то разнообразие характеров становится законом человеческой природы. Образец — един, уклонения от него — множественны. Героические характеры неоклассицизма тяготеют к идеальным архетипам: Бруту, Катону, Регулу, Эмпедоклу и т. д. «Человеческие» герои литературы должны демонстрировать разнообразие душевных свойств. Писатель изображает эти изгибы характеров. Карамзин нашел для него точное определение: «Сердценаблюдатель по профессии» (МЖ, II, 4, 85).
Так определяется личность Поэта. Он должен быть человек, то есть не чуждаться слабостей. Для того, чтобы понимать людей, он должен быть сам человеком. От простых людей он отличается лишь способностью к перевоплощению, даром вмещать в себя не один, а бесчисленное множество характеров. Этому посвящено программное для Карамзина стихотворение «Протей, или Несогласия стихотворца».
Стихотворению предпослана реплика автора: «Говорят, что поэты нередко сами себе противоречат и переменяют свои мысли о вещах. Сочинитель отвечает:
Ты хочешь, чтоб поэт всегда одно лишь мыслил, Всегда одно лишь пел: безумный человек! Скажи, кто образы Протеевы исчислил? Таков питомец муз и был и будет ввек. Чувствительной душе не сродно ль изменяться? Она мягка как воск, как зеркало ясна, И вся Природа в ней с оттенками видна. Нельзя ей для тебя единою казаться В разнообразии естественных чудес. В душе любимца муз такое ж измененье Бывает каждый час; что видит, то поет, И всем умея быть, всем быть перестает» [336].Далее не только все разнообразие поэтических жанров, но и переход от одной философской системы к другой представляется как смена настроений в душе поэта. Героическое допускается в нее на равных правах с идиллическим. И высокая поэзия гражданского служения, и стоическая мораль доступны вдохновению поэта, но не исчерпывают его поэтического мира и воспринимаются им эстетически. Он видит в них красоту, а не истину:
В сей хижине живет питомец Эпиктета, Который, истребив чувствительность в себе, Надежду и боязнь, престал служить судьбе И быть ее рабом. Сия царица света Отнять, ни дать ему не может ничего: Ничто не веселит, не трогает его; Он ко всему готов. Представь конец вселенной: Небесный свод трещит; огромные шары Летят с своих осей; в развалинах миры… [337] Сим страшным зрелищем мудрец не устрашенный Покойно бы сказал: «Мне время отдохнуть И в гробе Естества сном вечности заснуть!» Поэт пред ним свои колена преклоняет И полубога в нем на лире прославляет: Великая душа! что мир перед тобой? И с тою ж кистию, с тем самым же искусством Сей нравственный Апелл распишет слабость вам, Для стоиков порок, но сродную сердцам Зависимых существ, рожденных с нежным чувством… Ах! слабость жить мечтой, от рока ожидать Всего, что мыслям льстит, — надеяться, бояться, От удовольствия и страха трепетать, Слезами радости и скорби обливаться!.. «Хвалитесь, мудрецы, бесстрастием своим И будьте камнями, назло самой природе! Чувствительность! люблю я быть рабом твоим… [338]Такая позиция дает нам ответ на вопрос: почему разнообразие материалов «Московского журнала» не мешает их единству и почему обилие разножанровых отрывков, часто восходящих к весьма отдаленным источникам и содержащих противоречия в оценках и мнениях, не противоречит восприятию всего журнала в целом как единого текста — монолога издателя.
Своеобразно-лирический характер этого монолога поддерживается тем, что через весь журнальный текст, как бы прошивая его единой нитью, проходят, с одной стороны, интимно-биографические обращения издателя к друзьям своего сердца, а с другой — идущее из номера в номер автобиографическое (как казалось читателям) повествование: «Письма русского путешественника». Так, например, в апрельском номере «Московского журнала» за 1791 год, кроме отрывка из «Писем русского путешественника», читатель находил стихотворение «Мишеньке», обращенное к сыну С. Р. Воронцова и напоминавшее о заграничном странствии издателя, и лирический отрывок «Невинность» — дань восхищения Аглае:
«Когда смертные повиновались гласу благодетельной Природы и жили в любви, тишине и мире, тогда Невинность на земле обитала… Но, когда человек, в гибельный час заблуждения восхотел быть мудрее Природы: тогда Невинность возвратилась на небеса в свое отечество. С того времени она уже редко посещает землю и редко бывает видима оку смертного: но я видел ее — в образе любезной Аглаи». Подпись «К» уничтожала всякие сомнения относительно авторства и смысла этого отрывка.
АВТОБИОГРАФИЯ И ПОСТРОЕНИЕ САМОГО СЕБЯ
Непосредственно автобиографические тексты образуют в «Московском журнале» два несмыкающихся и параллельно текущих потока. Один — повествование, погруженное в бытовую обстановку с конкретными приметами места и времени и реальными именами. Другой, также имеющий все приметы автобиографического повествования от первого лица, переносит нас в условно-поэтическое пространство, и действуют в нем аглаи, агатоны, леоны. Однако у этих имен есть «ключи» — читатели, большинство из которых так или иначе было знакомо с издателем или соприкасалось с кругом его знакомых, без труда подставляли под эти имена знакомые образы из реальной жизни издателя.
Чем вызвана такая двойственность?
В свое время А. М. Кутузов убеждал Карамзина не посвящать свое перо описаниям внешнего реального мира — единственная цель писателя есть изображение внутренних душевных состояний: «Не наружность жителей, не кавтаны и рединготы их, не домы, в которых они живут, не язык, которым они говорят, не горы, не моря, не восходящее или заходящее солнце, суть предметы нашего внимания, но человек и его свойства. Все жизненные вещи могут также быть употребляемы, но не иначе, как пособия и средства» [339]. Литературная деятельность Карамзина, казалось, оправдала опасения Кутузова: «Он не может описывать ничего иного, как внешнего внешним образом» [340]. Между тем Кутузов был неправ. Карамзин стремился описывать внутренний мир человека, но не в отрыве, а в связи с внешним. Для него была близка позиция Шефтсбери, который в цитированном уже письме Бейлю утверждал, что «испытатель старается соединить обе нити своего познания (эмпирического — внешнего и умозрительного — внутреннего. — Ю. Л.) и переходить из одного мира в другой». Но акцент мог меняться. В одном случае «сердценаблюдатель» проникал во «внутреннее» через «внешнее», в другом — во «внешнее» через «внутреннее». Однако в обоих случаях Карамзин периода «Московского журнала» мыслил человека в связи с окружающей его жизнью. В этом смысле характерна поправка, которую он внес в концепцию кантианца Бутервека. К словам: «Кто хочет быть Поэтом, тот более всего должен любить человеческую натуру; ибо она пребывает всегда главным предметом Поэзии» — Карамзин сделал примечание: «Человечество и Натура суть два (курсив мой. — Ю. Л.) великие предмета Поэзии. Тот единственно может быть Поэтом, кто взором своим проницает в Человечество и в Натуру глубже нежели другие» (МЖ, VIII, 10–11, 125).
Первое из двух автобиографических направлений представлено «Письмами русского путешественника» — одним из центральных произведений Карамзина, произведением, которое составило эпоху в русской культуре.
Мы видели, что «Письма русского путешественника» можно было бы принять за мистификацию, если бы читатель интуитивно не чувствовал серьезность и значительность этого произведения. Текст преподносится читателю как письма, но фактически письмами не является. Текст, который читатель должен был воспринять как автобиографию, не был автобиографией в том смысле, что, как мы имели возможность убедиться, совсем не преследовал цели рассказывать о событиях жизни автора. Перед нами — художественное произведение, умело «притворяющееся» жизненным документом. Конечно, как мы также могли убедиться, стремление скрыть определенные факты своего реального путешествия появилось у Карамзина, видимо, под влиянием автоцензуры и условий, в которых происходила публикация «Писем». Однако было бы крайне легкомысленно видеть в этом основную причину. Карамзин, бесспорно, предпочел бы вообще не публиковать своего произведения, чем печатать текст, в котором он должен был бы говорить не то, что считал нужным. Различие между биографической и художественной реальностями говорит о том, что для глубинного замысла Карамзина следование подлинным фактам его путешествия не было обязательно. Нужно раз навсегда отрешиться от представления о том, что перед нами — биографический документ, и видеть в «Письмах русского путешественника» художественное произведение, определенное характером замысла, построенного по законам искусства, как их понимал автор.
Каков же был замысел этого произведения?
Цель «Писем» была тесно связана с более общими задачами, которые Карамзин в этот период ставил перед собой. Отношение Карамзина в 1790-е годы к реформам Петра I было безусловно положительным. И в «Письмах», и в планах «Похвального слова Петру I» (1798) Карамзин подчеркивает мысль о единстве путей прогресса для всех народов и, следовательно, о необходимости усвоить культурный опыт европейских государств. «Какой народ не перенимал у другова? и не должно ли сравняться, чтобы превзойти?» (253). Петр разорвал «завесу, которая скрывала от нас успехи разума человеческого, и сказал нам: «смотрите; сравняйтесь с ними, и потом, естьли можете, превзойдите их!» Немцы, Французы, Англичане, были впереди Руских по крайней мере шестью веками: Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все жалкия Иеремиады об изменении Руского характера, о потере Руской нравственной физиогномии (в МЖ было: «Руской народной, моральной физиономии») или не что иное как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении» (254) [341].
Мысль Карамзина обращалась к Петру I на всем протяжении его жизни. Странно было бы предположить, что он не думал о нем, отправляясь за границу. По крайней мере в «Письмах» он уже в Нарве предается размышлениям на эту тему. Если Маяковский назвал цикл американских очерков «Мое открытие Америки», то Карамзин вполне мог озаглавить свое путешествие «Мое открытие Европы». И как «открытие Америки» обращало мысли к Колумбу, «открытие Европы» заставляло думать о Петре. Мы вряд ли ошибемся, если подумаем, что Карамзину не раз приходила на ум параллель между своим путешествием и «Великим посольством».
Однако полагал ли Карамзин, что дело Петра I уже завершено и не нуждается в продолжателе? Думаем, что нет. В процитированном отрывке задумаемся над словечком «почти»: «мы в несколько лет почти догнали их». Что же скрывается за этим «почти»? И был ли Карамзин убежден, что Петр и его реформы не нуждаются в коррективах? Присмотримся. В письме из Лиона от 9 марта 1790 года Карамзин приводит большую выписку из Томсона о Петре Великом и снабжает ее своим переводом, в котором обращают на себя внимание следующие слова о Петре: «Смирив жестокого варвара, возвысил он нравственность человека» (в МЖ было: «моральную натуру человека») (199, 438). Мысль о нравственном возвышении человека как цели реформы запала Карамзину в сознание. Включив в «Письма» перевод слов арии Лефорта из оперы Гретри (текст Буйи) «Петр Великий», Карамзин решительно переосмыслил содержание песни. Наставлять современников «в искусстве жить» Карамзин, видимо, считал своей задачей. «Вторая петровская реформа», реформа не государственного быта, не внешних условий общественного существования, не техники или кораблестроения, а «искусства жить» — цель, которая может быть достигнута не усилиями правительства, а действиями людей культуры, прежде всего писателей. Если мы поймем, что реформа языка составляла для Карамзина важнейшую часть этого преобразования, то нам станет очевидным, что роль главного преобразователя Карамзин отводил себе. Тогда предположение, что свою деятельность он соизмерял с петровской, не покажется нам преувеличенным.
Карамзинская реформа мыслилась как продолжение петровской [342].
Петр осуществил секуляризацию культуры, изъяв ее из рук церкви и передав государству. Начиная с Сумарокова и, особенно, благодаря Новикову, культура ушла из-под власти государственной монополии, но она осталась прерогативой «серьезной» элиты, которая присвоила себе право учить общество. Культура, литература, мораль были переданы в руки избранных идеологов. Карамзин отказался от средств Новикова, но не от его целей. Слить культуру с общежитием, образование со светской беседой, дать обществу мораль без морализации. Как позже Пушкин и Чехов, он считал красоту и изящество основой нравственности. Если языковую реформу Карамзина можно рассматривать как дальнейшую секуляризацию языка, то преобразование культуры было дальнейшей ее «европеизацией». Это было сближение культуры с жизнью образованной части общества, борьба против «педантизма», ориентация на «дамский вкус». Подобно тому, как парижский салон XVII–XVIII веков перевел науку, например, астрономию, философию, поэзию, даже богословие, на язык светской дамы и, освободив культуру от цехового педантизма, сделал среднего образованного человека способным ориентироваться в бурном прогрессе, охватившем все области человеческого знания, задуманная Карамзиным реформа должна была создать нового человека культуры [343].
И здесь напрашивается параллель с молодым Тредиаковским. Переводя роман П. Таллемана на русский язык, Тредиаковский ориентировался на культуру «голубого салона» госпожи Рамбуйе. Однако в новых условиях все меняло свой смысл. Во Франции культура салона порождала прециозный роман, который мог жить лишь в контексте всей системы отношений и атмосферы, господствовавшей в салоне. Салон порождал роман. Переводя «Езду в остров любви», Тредиаковский рассчитывал, что роман в России породит салон как культурное явление, текст создаст себе культурный контекст [344].
Желая передать культуру в руки «светского человека», Карамзин имел в виду не реального человека дворянского света своей эпохи, а культурную личность, которой еще в жизни не было. Его воображению рисовался дворянский интеллигент пушкинской эпохи. Карамзин обращался к аудитории, которую еще предстояло создать. И эту работу по созданию нового типа культурной личности должны были выполнить тексты Карамзина, «Московский журнал» и, в особенности, «Письма русского путешественника».
Эта задача требовала трудного сочетания обширности и серьезности содержания с легкостью и увлекательностью изложения. Карамзин был высочайшим мастером популяризации: неизменно обращаясь к аудитории, которая была заведомо ниже его по культурному кругозору, и стремясь возможно расширить границы своей аудитории, он одновременно сохранял высокий уровень идей, умение не опускаться до читателя, а поднимать его до себя. Эта способность потом с блеском проявилась в его «Истории». Однако эта же задача требовала создания особого образа повествователя, образа, который как бы сделался посредником между автором и читателем. При этом надо было построить образ так, чтобы читатель принял его за самого автора, за Карамзина, и поверил бы в свою иллюзию так же, как он поверил, что читает подлинные письма бесхитростного путешественника, описывающего все, что попадает ему на глаза.
Карамзин разделял просветительскую теорию, согласно которой зритель будет сочувствовать героям пьесы и воспримет идеи автора только, если на сцене увидит себя или сможет вообразить себя в тех же положениях. Расширяя эту концепцию, он хотел, чтобы читатель увидал в «русском путешественнике» не Ментора, учителя с недосягаемым уровнем мудрости, а обычного человека, с которым мог бы сравнить себя. Это заставляло отвергнуть в качестве образца и любимого Карамзиным Стерна [345]. Стернианский повествователь был слишком парадоксален, слишком капризен, слишком из всех рядов вон выходящим. Для избранной Карамзиным цели он не годился. Нужный ему образ повествователя Карамзин не мог найти готовым в литературе. Его приходилось создавать. Это должен был быть странный двойник: читателю надо было думать, что это сам Карамзин, а Карамзин считал, что это его будущий читатель.
Самое поразительное, что эксперимент удался. Карамзин создал не только произведение, но и читателя. У всякого, кто изучает читательскую аудиторию 1780-х и 1800-х годов, создается впечатление, что за эти двадцать лет произошло чудо — возник читатель как культурно значимая категория. В 1770-е годы А. Е. Лабзина (тогда, еще по первому мужу, Карамышева), хотя и очень юная, но уже замужняя женщина, жена европейски известного ученого-геолога и воспитанница писателя Хераскова, еще не знала, что такое роман. Когда заходил литературный разговор о романах в доме Херасковых, ее высылали из комнаты, чтобы молодая женщина не развратилась. «Случилось, раз начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман, и я уже несколько раз слышала. Наконец, спросила у Елизаветы Васильевны (Херасковой — одной из первых женщин-писательниц в России. — Ю. Л.), о каком она все говорит Романе, а его никогда не вижу. Тут мне уж было сказано, что не о человеке говорили, а о книгах, которые так называются; «но тебе их читать рано и не хорошо». Характерно поучение, которое ей сделал Херасков, считавшийся тогда «старостой русской литературы»: «Опасайся читать романы: они тебе не принесут пользу, а вред могут сделать» [346]. Достаточно сопоставить с этим духовный кругозор Татьяны Лариной, чтобы увидеть, какой скачок произошел в читательских интересах. При этом мы говорим именно о той «дамской» аудитории, на которую призывал ориентироваться Карамзин.
Русская литература знала писателей более великих, чем Карамзин, знала более мощные таланты и более жгучие страницы. Но по воздействию на читателя своей эпохи Карамзин стоит в первом ряду, по влиянию на культуру времени, в котором он действовал, он выдержит сравнение с любыми, самыми блестящими, именами.
Образ повествователя в «Письмах» очень сложен: он распадается на целую гамму отличных друг от друга и порой взаимоисключающих проявлений. В целом ряде эпизодов это — чувствительный юноша с теми признаками инфантилизма, которые после Руссо сделались знаком искренности и «естественности». Тип этот сохранился в системе романтизма. Выражения «ребенок», «дитя» как положительные оценки поэта (и особенно часто — женских персонажей) будут устойчиво сопутствовать одному из вариантов романтического героя [347]. Роль чувствительного молодого человека, вздыхающего над Стерном и плачущего, читая Вертера, была легкой, и сразу нашлось достаточно охотников примерить ее на себя. Для нас сейчас интересны не малодаровитые писатели типа Шаликова или Измайлова, принявшиеся усердно опошлять популярный жанр, а читатели. То, с какой легкостью «человек из партера» усвоил фразеологию, маску, роль «чувствительного путешественника», свидетельствует, что это было именно созревшее, уже ждущее своего выражения лицо времени. С одной стороны, это было просто и доступно для имитации, с другой, обыденная жизнь и обыденный человек получали своего литературного — следовательно, «благородного», культурно значимого — двойника. Это подымало читателя в его собственных глазах, внушало уважение к себе и приучало наблюдать себя со стороны в качестве достойного объекта литературы.
Так, уже в 1797 году («Письма» еще не были полностью опубликованы!) оставшийся безымянным молодой человек записывал в своем дорожном дневнике [348].
Моя дорожная записка
Увы! Сердце мое томится; слезы льются обильно из глаз моих; и я стеню с отчаяния, не видя впереди себя ничего, кроме мрака.
Вертер, письмо тридцать второе.
Предисловие
Моя дорожная записка мне нравится, может быть, для того, что моя, и что я могу смотреться в нее, как будто бы в зеркало.
<…> Может статься есть люди, которым минута уединения несносна! Что принадлежит до меня, мне приятно быть с самим собою. Я даю волю моему воображению; оно переносит меня от сцены к сцене, изображает живо в моей памяти прошедшие годы моей жизни, представляет мне отсутствующих любезных, и в то время, как нахожусь я с ними в разлуке, его обольщение дает мне вкушать приятность свидания!
Милая [349]! Сколь часто воображение, льстя сильнейшей привязанности души моей, являет мне тебя! <…> Вертер! Я не удивляюсь, что конторщик отца твоей Шарлоты (так! — Ю. Л.) мог говорить с восторгом об времени, которое провел он на цепи в безумном доме. Он не чувствовал, что он лишен свободы: пружины его воображения были натянуты, страсть занимала всю его способность мыслить, дни, недели, месяцы протекали для него в мечтаниях.
Далее наш автор застрял со своей коляской ночью в ледяной луже. В дневнике это отразилось так:
«Ночь была темная, ни одной звездочки не блистало на небе, ветер шумел уныло в сосновой роще; и в сию меланхолическую пору — между тем, как люди мои трудились около повозки — я сидел посреди рощи на льду… один… и думал.
Вы не угадаете, друзья мои, что занимало мои мысли. Я размышлял не о коловратностях судьбы <…> Нет, милые! Я думал, как живее и красноречивее представить вам мое похождение!» [350]
Еще привычнее чувствовал себя читатель, когда из-за плеча повествователя показывалось лицо модника и щеголя, дамского вздыхателя, любителя щегольнуть французским словцом или знанием светских обычаев. Охотно соединяя эти два типа поведения, читатель совсем уже чувствовал себя литературным героем. И одновременно он получал жест и язык. Жизнь его из безымянного существования превращалась в культурное бытие.
Но вдруг в тексте «Писем» следовал маленький, почти или совсем незаметный сдвиг — и повествователь оказывался на вершинах культуры своего века, равноправным собеседником величайших умов, зрителем важнейших событий. И неизменно он был на уровне своих собеседников и своей эпохи. В голове его вдруг обнаруживалась целая библиотека, история и философия уживались в ней с поэзией, романами и «дней минувших анекдотами». Но переход на эти вершины был столь пологим, путь — таким постепенным, что читатель, только что чувствовавший себя в привычном кругу, не замечал, как оказывался лицом к лицу с высочайшими собеседниками. И ему начинало казаться, что беседовать с Кантом или Гердером — просто и естественно, что и он может так запросто зайти в Национальную ассамблею и оценивать красноречие Мирабо или Мори, а потом зайти побеседовать с Лавуазье или Бартелеми, послушать, как заикается Кондорсе, восхититься Рейнским водопадом и подумать: не поехать ли в Италию? И главное, что он обладает для того, чтобы проделать этот путь вместе с «русским путешественником», необходимым культурным багажом и талантом. Именно в том, как тактично, незаметно поднимал Карамзин читателя до своего уровня, сказался его величайший такт культурного деятеля и талант популяризатора.
Петр I не только прорубил окно, но и открыл дверь в Европу: путешествие по миру европейской культуры было для дворянина XVIII века вполне доступно и ни у кого не вызывало удивления. И все же число людей, видевших Европу своими глазами, по отношению к общей дворянской массе, было невелико. Человеку же свойственно особое переживание пространства: как подлинно реальное воспринимается «свое», домашнее, лично знакомое и привычное пространство. По мере отдаления слабеет чувство реальности. То, о чем только слышал, воспринимается как ирреальное, хотя и существующее. Даже Петербург для большинства московских и провинциальных жителей XVIII века был чем-то не совсем реальным. Один философ сказал: «Мы знаем, что мы умрем, но мы в это не верим». Подобно этому мы знаем, что существуют чужие земли как некоторая географическая реальность. Но верить в их существование мы начинаем, только повидав их и оставив там какие-либо дорогие или просто сильные воспоминания.
То, что Карамзин развернул перед читателем неофициальный облик европейской жизни и «неисторический» образ исторических событий, показав их глазами человека, который еще не разобрался, какие события исторические, а какие нет, заставляло читателя поверить в развернутую перед ним жизнь, пережить чувство очевидца.
И наконец, в глубине текста лежал общий замысел его построения, его художественная идея. Европа развертывается перед читателем не только как географическое пространство, но как мир древней культуры; это — старая Европа, каждый камень, каждая гора или башня которой отягчены историческими воспоминаниями. Обилие экскурсов, поминутное возвращение в прошлое пронизывают всю ткань «Писем». С одной стороны, это характеризует объем того культурного мира, который должен, как внушает Карамзин читателю, сделаться его миром, миром русского европейца. С другой стороны, это должно быть соотнесено с той антиисторической психологией, которая видела в истории лишь цепь роковых ошибок. Мерсье был истинный сын XVIII века, когда в книге о Руссо, рекомендованной Карамзиным русским читателям, восклицал: «L'histoire de France est a bruler et a recommencer» — «Историю Франции должно сжечь и начать заново» [351]. Путешественник Карамзина не жег историю — он жил в ней. Но в развернутой Карамзиным картине есть еще один структурный принцип, требующий от читателя погружения в идеи XVIII столетия. Над письмами витают два великих духа столетия: Вольтер и Руссо. Влияние Вольтера на идеи Карамзина начала 1790-х годов очень велико, весьма значительно количество прямых цитат и еще больше скрытых реминисценций из самых разных сочинений Вольтера. Оценки Пруссии и Англии, Петра Великого и Людовика XIV, политические или философские высказывания путешественника часто ведут нас к мыслям и словам Вольтера. В данном случае для нас важно то, что веря в прогресс и помещая счастливое состояние людей (если оно возможно) в будущем, а не в прошлом, Вольтер с одобрением смотрел на развитие наук, художеств, промышленности и цивилизации. Даже роскошь и контраст между бедностью и богатством находили у него одобрение. Он считал, что роскошь в определенном отношении полезна, поощряя соревнование талантов. Возврат к первобытному равенству он считал химерой, и само это равенство вызывало у него скептическую усмешку. Ньютон, Бэкон, свобода слова и печати, парламентская конституция и свобода торговли сделали для Вольтера Англию лучшей страной старого континента.
Руссо полагал, что свобода несовместима с богатством. Только бедные народы могут быть свободными (в этом с ним соглашался Мабли). Прогресс цивилизации есть прогресс неравенства, деспотизма и разврата. Только в примитивных обществах, где жажда богатства не разжигает преступных страстей, возможно равенство и счастье. Цивилизация противоестественна, естественно же такое состояние общества, при котором каждый может все, что ему необходимо для жизни, сделать сам. Торговля и промышленность представляют собой такое же зло, как и роскошь, предрассудки и социальная несправедливость. Их надо обуздывать моральными законами и, если необходимо, государственным вмешательством. Симпатии Руссо вызывали кантоны Швейцарии с простым, близким к Природе бытом пастухов и сурово-республиканскими нравами горожан.
Карамзин, противопоставляя Англию и Швейцарию, не высказывается в пользу той или иной системы идей. В Швейцарии он одобряет ограничение роскоши, говорит о связи равенства и патриотизма, а в Англии пьет за вечный мир и свободную торговлю. Он не дает читателю решения, а вводит его в сущность идейной жизни эпохи.
В равной мере контрастируют Германия и Франция как царство умозрения и царство «искусства жить».
Карамзин вводил русского читателя в Европу не как любопытного варвара, а как европейца, полноправного владельца ее культурных сокровищ (не случайно его путешественник, глядя на различные достопримечательности, неизменно обнаруживает предварительное широкое знакомство с ними по книгам: он встречается с уже ему известным, а не с диковинными новинками). Но более того, раскрывая различные пути цивилизации и не вынося над ними окончательного суда, выделяя в каждом его положительную сторону, он оставляет окончательный суд за русской культурой, которая еще свободна в выборе своего пути. А для этого нужно Просвещение. Этой цели и призваны служить «Письма русского путешественника».
Однако, как мы уже отметили, в «Московском журнале» есть и другой ряд публикаций, также предлагавших читателю некий образ повествователя [352].
В мартовской книжке «Московского журнала» за 1792 год помещено начало повести «Лиодор». Это один из первых опытов лирического повествования в прозе Карамзина. Перебиваемое обращениями к Аглае, оно отчетливо ритмизировано и пронизано аллитерациями. Слияние внешнего пейзажа и внутреннего настроения повествователя придают тексту подчеркнуто субъективный характер. «Уже холодные ветры навевали бледность и мрак на печальную природу, когда Агатон, Исидор и я поехали в деревню — наслаждаться меланхолическою осенью.
Никогда не забуду я сей осени, столь приятно нами проведенной. Никогда не забуду уединенных наших прогулок, когда мы, сидя на иссохшей траве высокого холма, смотрели на поля опустевшие, на редкие, унылые рощи — внимали шуму порывистого ветра, разносящего желтые листья, — чувствовали трепет в сердцах своих, и с красноречивым молчанием друг друга обнимали» (МЖ, V, 3, 305).
Отношение повести к реальной биографии весьма сложно. С одной стороны, читатели тех лет уже умели прямо относить слова, обращенные к Аглае, в адрес Настасьи Плещеевой, что даже шокировало некоторых из них. В этом ключе отрывок «Невинность» читался как декларация возможности совершенно необычных, чистых и возвышенно-дружественных и одновременно чувствительно-близких отношений между поэтом и его вдохновительницей, между мужчиной и женщиной.
Так читал эти отрывки и Погодин, который, комментируя «Лиодора», уверенно заявлял: «Это было, следовательно, в сентябре 1791 года» [353], «Аглая есть Настасья Ивановна Плещеева» [354]. А приводя посвящение Аглае первой книжки «Московского журнала» на 1792 год, где говорилось: «Наступающий год не возвратит тебе того, чего лишилась ты в прошедшем», — поясняет, что речь идет об «Исидоре, который умер, следовательно, в 1791 году, по возвращении из деревни, где был осенью с Карамзиным и Агатоном» [355].
Однако такое конкретно-биографическое прочтение (безвкусицы перечисления в одном ряду таких имен, как Исидор или Агатон, и фамилии Карамзина Погодин, видимо не ощущал) наталкивается на трудности и скорее характерно для определенной категории читателей, чем для художественной манеры Карамзина. Так, Настасья Плещеева имеет в творчестве Карамзина и другие поэтические имена, например Нанина. Более того, сам Погодин, встретив в «Лиодоре» упоминание могил Исидора и Агатона, должен был с недоумением признаться: «Я не понимаю этого места. Петров умер года через полтора: он читал еще «Лиодора», напечатанного в марте 1792 года, и вызывал Карамзина к окончанию повести: следовательно Карамзин говорит здесь не об его могиле? Следовательно под Агатоном в этой повести разумелся не Петров. Но как же Карамзин мог назвать одним именем два лица, и в таком кратком расстоянии времени! Или это — предчувствие?» [356] Последняя фраза звучит комически.
Дело, конечно, в ином: «поэтические» варианты автобиографии следовали совсем другой логике и еще более свободно варьировали факты. Мы не знаем, каким должен был быть сюжет «Лиодора» (повесть не была окончена, но поэтика отрывка еще не оформилась, и Карамзин собирался ее дописать [357]). Видимо, речь должна была пойти о группе молодых людей, спаянных взаимной дружбой и любовью к поэзии. В № 11 «Московского журнала» за 1791 год Карамзин писал: «Еслибы у нас могло составиться общество из молодых, деятельных людей, одаренных истинными способностями; еслибы сии люди — с чувством своего достоинства, но без всякой надменности, свойственной только низким душам — совершенно посвятили себя литературе, соединили свои таланты и при алтаре благодетельных муз обещались ревностно распространять всё изящное, не для собственной славы, но из благородной и бескорыстной любви к добру, если бы сия любезнейшая мечта моя когда-нибудь превратилась в существенность…»
Осуществить эту мечту не удалось, и Карамзин решил реализовать ее в «автобиографическом» повествовании. Итак, проза дополняла жизнь, а жизнь строилась по законам прозы. Литературный герой и автор сливались. И для читателя, и для самого Карамзина.
КРИЗИС
1792 год был для Карамзина трудным. Последовал разгром новиковского кружка. Сам Карамзин уцелел почти чудом. «Московский журнал» пришлось прервать, видимо, неожиданно для Самого издателя. «Лиодор» так и не был дописан. «Письма русского путешественника» перестали публиковаться на пороге Парижа. Однако 1793 год был еще труднее. В марте скончался Петров. Одновременно события в Париже принимали все более грозный характер: измена Дюмурье, восстание в Вандее, убийство Марата, процесс жирондистов, якобинская революция в мае— июне, — все свидетельствовало, что революция вступила в новую, кровавую, стадию. Закон о подозрительных от 17 сентября 1793 года положил начало «большому террору».
…Лето и осень 1793 года Карамзин провел в имении Плещеевых Знаменском. Здесь было написано историко-политическое размышление в двух письмах: «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору».
Произведение это, выражая душевное смятение его автора, имело, однако, глубокий теоретический смысл. Карамзин почувствовал, что великая эпоха, эпоха, которая открыла человечеству столько истин и возбудила столько надежд, — эпоха Просвещения, закончена. И тут же, не дожидаясь исторической дистанции, он попытался оценить происходящее.
Мелодор напоминает Филалету их общее увлечение идеями Просвещения, верой в прогресс и в добрую природу человека:
«Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в Истории все благородные черты души человеческой, питали в груди своей эфирное пламя любви, которого веяние возносило нас к небесам, и проливая сладкие слезы, восклицали: человек велик духом своим! Божество обитает в его сердце! <…> Кто более нашего славил преимущества осьмагонадесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности». «Конец нашего века почитали мы концем главнейших бедствий человечества, и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью; что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их в точности, и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни» [358].
Слова эти — краткое, но исключительно выразительное резюме настроения людей эпохи Просвещения. Карамзин не излагает чьи-либо теории, а выражает общее настроение. Поэтому отголоски Руссо и Канта, да и многих других мыслителей здесь свободно соединяются. Берется общее: дух оптимизма, вера в преображение человечества не когда-либо, не в отдаленном будущем, а именно сейчас, на глазах живущего поколения. И это не только книжная идея — это живая вера поколения конца XVIII века, его религия, то, что давало цель и смысл жизни. И это настроение именно конца 1780-х — самого начала 1790-х годов. Философы XVIII века парадоксально соединяли теоретический оптимизм с практическим пессимизмом. Они верили в человека, но не верили в осуществимость тех самых идей, которые считали единственно справедливыми. Ни Вольтер, ни Руссо, ни Мабли не подозревали, что взрыв так близок. Но те, кого штурм Бастилии застал молодыми, не только умом, но и всем существом своим поверили, что великое «соединение теории с практикой» настало, что им посчастливилось стать свидетелями конца «главнейших бедствий человечества».
Напрасно видеть в письмах Филалета и Мелодора воспроизведение точной биографической реальности, но «биография души» здесь воссоздана точно. Когда Карамзин писал эти строки, он, может быть, думал о разговорах с друзьями-датчанами в Швейцарии, с Вольцогеном в Париже или с Петровым в Москве или же вспоминал свои восторженные мысли при ночном чтении книг или во время прогулок по Елисейским полям после посещения Национального собрания. Но важно одно: он сам засвидетельствовал свою веру, свой энтузиазм. Он сам написал о том, что великие идеи века были для него не умственной забавой, не игрой пресыщенного воображения, не модой — как это было для очень многих, а воздухом, жизнью, религией.
Тем страшнее было разочарование.
«О Филалет! где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своем основании!
Осьмойнадесять век кончается: что же видишь ты на сцене мира? — Осьмойнадесять век кончается, и нещастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!»
«…Где люди, которых мы любили? Где плод Наук и мудрости? Где возвышение кротких нравственных существ, сотворенных для щастия? — Век просвещения! я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя!» [359]
Мы процитировали эти строки по собранию сочинений Карамзина. Но можно было бы выписать их и из другого источника — из «Писем с того берега» Герцена. Герцен — живой свидетель июньских дней в Париже 1848 года, переживший духовную драму разочарования в святых для него идеалах, выразил свою боль огромной выпиской из письма Мелодора к Филалету. «Эти выстраданные строки, огненные и полные слез, были написаны в конце девяностых годов — H. M. Карамзиным» [360] [361]. Курсивом Герцен как бы выразил свое удивление (интонационный адекват выражения «кем бы вы думали?»), настолько эти «огненные и полные слез» строки противоречили распространенным представлениям о Карамзине. Но мы видим, что они на самом деле не имели в себе ничего неожиданного. Обращают на себя внимание слова: «Где люди, которых мы любили?» Мы не можем ответить на вопрос, кого он вспоминал из тех, кого в Париже успел полюбить. К этому моменту уже все его знакомцы — от Лавуазье и Шамфора до Робеспьера — погибли. По крайней мере, можно утверждать, что в роялистском лагере у Карамзина не было ни одной личной привязанности.
Конечно, легко себе представить дело так: Карамзин, умеренный либерал, испугался, увидав реализацию своих кабинетных мечтаний, и «из республиканца становится убежденным монархистом» [362]. Выражение «испугался» слишком часто употребляется для характеристики взглядов Карамзина в этот действительно критический момент. Карамзин не был столь «пуглив»; в 1798 году он набросал план похвального слова Петру I, где, в частности, писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместимо с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout [363]. Но иногда и чувствительность торжествовала» [364]. Вряд ли, когда Карамзин набрасывал эти пункты, он мог не думать о другом, более близком, примере «некоторых жестокостей», тем более, что и здесь иногда «чувствительность торжествовала».
Чем же «испугала» якобинская диктатура [365] Карамзина, почему она оттолкнула Радищева? Дело, видимо, в том, что предшествующий этап революции воспринимался как реализация просветительских идей. Он был предсказан, ощущался как закономерный, к нему были психологически готовы. Более того, именно за ним ожидалось наступление царства Разума и Справедливости. Он усилил и довел до предела просветительский оптимизм. Новый этап представлял собой критику, которой действительность подвергала идеи Просвещения. Приняв его, надо было признать вчерашнюю веру иллюзией. Надо было пережить то, что чувствует путник, который, проделав долгий и утомительный путь по снежной пустыне, видел уже огонь гостеприимного убежища и знал, что еще шаг — два, и все горести будут позади. И вдруг, подойдя к огню, увидал лишь догорающие бревна и понял, что он один в ледяной ночи, что путь только начинается, а куда идти — неизвестно.
Это было то чувство растерянности, которое охватывает путешественника, когда карты кончились. Такое чувство испытал Герцен, когда в Париже 1848 года сделался свидетелем подавления буржуазией народного восстания. Но история человеческой мысли — не география, и у нее совсем другие карты. Идеалы Просвещения, его лозунги, его требования свободы и равенства, идея прав человека, его гуманность и вера в высокое назначение Природы человека сохраняли свою ценность, особенно в России и в странах, не переживших революции, даже тогда, когда оптимистические иллюзии просветителей подверглись разоблачению, а вечность и безусловность этих лозунгов сделались сомнительными. От того, что русский путешественник заглянул в будущее, настоящее не перестало для него существовать. Оно не стало прошедшим, как в Париже.
Показательно: Карамзин, как позже Герцен в «С того берега», для того, чтобы выразить свои чувства и мысли, должен был прибегнуть к форме диалога. Мысль ищущая монологически не выражалась. Чтобы «найти себя», определить свое отношение к разрушающимся на его глазах ценностям, ему следовало разделить себя на два «я» и дать им в споре искать дорогу в ночи. И вновь, строя свою личность, он создавал модель для современников, строил личность своего читателя. Художественной структурой этого диалога Карамзин — и тут вновь приходит на память «С того берега» — утверждал, что в некоторые моменты духовной истории раздвоение личности необходимо — только оно делает эту личность в какой-то мере адекватной окружающему ее миру.
Второе «я» — Филалет [366]. Филалет — путешественник, недавно вернувшийся в свое отечество. Это — автобиографично. Но путешествие его фантастично: он странствовал от Северного полюса до знойной Африки. Впрочем, мечты о далеких путешествиях не покидали Карамзина. Таким образом, и здесь автобиография, но «внутренняя», а не реальная.
Филалет утешает Мелодора. Утешение его — в создании другой, противоположной, концепции истории. Он продолжает верить в добрую сущность человека и в просвещение и прогресс как основные законы истории: «В одном просвещении найдем мы спасительный антидот (противоядие. — Ю. Л.) для всех бедствий человечества! — Кто скажет мне: науки вредны, ибо осьмойнадесять век, ими гордившийся, ознаменуется в книге бытия кровию и слезами; тому скажу я: «Осьмойнадесять век не мог именовать себя просвещенным, когда он в книге бытия ознаменуется кровию и слезами» [367].
Подобно тому, как эксцессы фанатизма и религиозные преследования не пятнают самой веры, а свидетельствуют лишь о незрелости человеческого ее восприятия, события французской революции не могут бросить тени на способность людей к прогрессу, на ценность идей Просвещения и на веру в человека. Революция — эксцесс, прогресс — закон. Эта идея Филалета сделается на многие годы линией разделения между реакционной и либеральной мыслью в России. Первая будет утверждать, что революция есть плод «разрушительной философии», и требовать перенесения на Вольтера и Энциклопедию (а после 1812 года и на всю французскую культуру) того отлучения, которому подверглись в официальной печати имена Мирабо, Робеспьера и Марата. Шишков в 1813 году призывал своего клеврета Я. И. Бардовского, которого он прочил в историки 1812 года: «Не худо кратким и нечувствительным образом войти в историческое рассмотрение нравственности галльского народа, где откроется широкое поле говорить о ядовитых книгах их, о развратных правилах, о неистовых делах, породивших чудовищную революцию» [368]. Что же касается до тех, кого Шишков считал «зараженными» французским влиянием (а к ним он, имея в виду Карамзина, относил тех, кто «твердит о словах эстетика, образование, просвещение и тому подобных»), то о них он писал: «Я бы ткнул их носом в пепел Москвы и громко им сказал: вот чего вы хотели!» [369]
Либеральная же концепция, которой потом, после 1812 года, станут придерживаться арзамасцы и будущие деятели декабризма, исходила из утверждений Филалета о том, что век Просвещения, Вольтер, Руссо, философы-энциклопедисты не несут ответственности за кровавые события конца века. Их мысль принадлежит человечеству, а не одной Франции, и недопустимо смешивать в одну кучу защиту семейства Каласа и Сервена и пожар Москвы. Все плохое в истории человечества происходит не от просвещения, а от его недостаточности. Филалет видит в прогрессе волю божества и космический закон вселенной. Знакомство Филалета с «Опытом исторического исследования прогресса человеческого разума» Кондорсе, этой итоговой книгой Просвещения XVIII века, сомнительно (книга вышла в 1797 году). Тем более знаменательно совпадение хода мысли.
Итак — два голоса. То, что последнее слово остается за Филалетом, — не решение спора. Он не завершен. Показательно, что Герцен оспорил Филалета и присоединился к Мелодору. Филалет не принимает теории Вико об исторических циклах и восклицает: «Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества» [370]. А Герцен в «Эпилоге» «С того берега» цитирует Вико и пишет: «К концу XVIII века европейский Сизиф докатил тяжелый камень свой, составленный из развалин и осколков трех разнородных миров, до вершины». Но камень вновь сорвался, «а бедный Сизиф смотрит и не верит своим глазам, лицо его осунулось, пот устали смешался с потом ужаса, слезы отчаяния, стыда, бессилия, досады остановились в глазах; он так верил в совершенствование, в человечество, он так философски, так умно и учено уповал на современного человека. — И все-таки обманулся» [371].
Внутренняя жизнь требовала: обдумать, постараться понять.
Внешние обстоятельства говорили, что оставаться в Москве, на виду у властей, — небезопасно.
Карамзин уехал в орловское поместье Плещеевых Знаменское. Он выехал 22 июня 1793 года и пробыл там до конца ноября. В апреле 1794 он уже снова в Знаменском, проводит там лето. В начале мая 1795 года он снова там — до зимнего пути, декабря 1795 года. Этот период его жизни может быть назван «знаменским».
В ЗНАМЕНСКОМ
Екатерина II скончалась 6 ноября 1796 года. Когда Карамзин в июне 1793 года удалился из Москвы, ей оставалось жить менее чем три с половиной года. «Конец ее царствования был отвратителен, — записывал Пушкин в дневнике 1834 года, — Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабку с графом Зубовым. Все негодовали» [372]. Рано одряхлевшая от беспорядочной жизни императрица теряла чувство политической реальности: ей мерещились якобинские или масонские эмиссары, собирающиеся якобы покушаться на ее жизнь. Государство было отдано в руки Платона Зубова, который в короткий срок получил вместе с братьями свыше трех с половиной миллионов рублей и огромные поместья, сделан сначала графом, потом князем. Список его должностей и званий выглядел так: «Светлейший князь, генерал-фельдцейхмейстер, над фортификациями генеральный директор, главнокомандующий флотом Черноморским, Вознесенской легкой конницы и Черноморского казачьего войска командир, генерал-от-инфантерии, генерал-адъютант, шеф Кавалергардского корпуса, Екатеринославский, Вознесенский и Таврический генерал-губернатор, член Военной Коллегии, почетный благотворитель Императорского воспитательного дома и почетный любитель Академии Художеств». Ему были пожалованы все высшие ордена Российской империи. Только непредвиденный случай не дал ему получить звание фельдмаршала. А между тем это был невзрачный, глупый, необразованный, трусливый человек, отличавшийся лишь мужской неутомимостью. Он был на год моложе Карамзина. Ему было 23 года, когда он сделался любовником императрицы, которой в это время перевалило за 60. Жадный, спесивый, лишенный элементарного ума и такта, он пытался руководить государством, до предела усиливая царившую в стране реакцию: перлюстрация писем, цензура, преследования всякого проявления мысли, взятки и циническое нарушение всех законов фаворитом и его многочисленными клевретами, которые расхищали Россию, как завоеванную страну, — таковы были черты его внутренней политики. Во внешней он проявил себя фанатической поддержкой самой слепой части французской эмиграции, разделом Польши, дипломатическими провалами и бутафорски-грандиозными завоевательными проектами.
Литература сделалась трудным и опасным ремеслом. Цензурные и полицейские стеснения губили журналистику. Если в 1789 году, кроме уже выходивших, получили начало 5 новых периодических изданий, то в 1794 — одно, а в 1795 — ни одного. Писатели шли на государственную службу и превращались в чиновников. Богданович перестал писать стихи, зато подал проект одеть писателей в мундиры и присвоить им чины соразмерно достоинству, чтобы литературные заслуги того или иного писателя не вызывали сомнений. Другие — разбегались. Крылов почел за благо скрыться на семь лет из столиц, практически прекратив литературную деятельность.
Карамзин уехал в Знаменское.
Об этом периоде мы снова вынуждены повторить слова: «Ничего достоверного нам неизвестно». Опять приходится прибегать к методу реконструкции, опираясь на литературные тексты и пытаясь восстановить на их основании биографическую реальность.
Не подлежит сомнению, что тяжелое настроение Карамзина в 1793–1794 годах было связано не только и не столько с боязнью за свое личное благополучие. Необходимо было осмыслить происходящее, найти ему объяснения и определить свое место в этом, столь неожиданно показавшем свое трагическое лицо. мире. Таким образом, сразу же задана основная расстановка сил: скрыться в малом мире, чтобы осмыслить происшествия большого. 17 августа 1793 года Карамзин писал Дмитриеву из Знаменского: «Я живу, любезный друг, в деревне с людьми милыми, с книгами и с природою (состав «малого мира» точно очерчен — «милые», книги, природа. — Ю. Л.), но часто бываю очень, очень беспокоен в моем сердце. Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю мою душу? Бегу в густую мрачность лесов — но мысль о разрушаемых городах и погибели людей теснит мое сердце. Назови меня Дон-Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю человечество!»
В этом письме характерно, что политические события вызывают ужас именно тем, что несовместимы с просветительской любовью к человечеству, которая все же остается непоколебленным фундаментом воззрений. Письма на почте читаются, и это заставляет Карамзина говорить только об «ужасных происшествиях Европы». «Разрушаемые города», — конечно, в первую очередь Лион. Но не только. Молодой исследователь Е. Берштейн недавно убедительно показал, что Карамзин имел также в виду столицу немецких якобинцев Майнц [373]. Летом 1793 года Майнц был сожжен и разрушен прусской артиллерией. И Лион, разрушенный комиссаром конвента Фуше, и Майнц, подожженный полководцем контрреволюции герцогом Брауншвейгом, были хорошо известны Карамзину: он посетил их в 1790 году и запомнил цветущими, полными жизни городами. Карамзина «пугали» не якобинцы, а акты взаимной жестокости враждующих сторон. Нет никаких оснований считать, что симпатии его были на стороне роялистов и коалиции. Подводя итоги царствования Екатерины II, «путешественник» (мы старались доказать, что под этим псевдонимом скрылся Карамзин) спрашивал: неужели другу истины «не позволено счесть число мужчин, женщин и детей, которые заплатили жизнью за тридцать лет этого славного царствования в Польше, Швеции, Турции, Персии и более всего в России?» Когда Дмитриев написал оду на взятие Варшавы, Карамзин позволил себе (единственный раз за всю их сорокалетнюю переписку!) выразить прямое неодобрение: «Ода и «Глас Патриота» хороши Поэзиею, а не предметом. Оставь, мой друг, писать такие пиесы нашим стихокропателям. Не унижай Муз и Аполлона» [374].
За европейскими событиями он пристально следит. Брату он пишет о них тоном беспристрастного историка, не отдающего сердечного предпочтения ни той, ни другой стороне. 1793 год с его террором, гибелью поколения революционеров 1790-х годов, затем гибелью самих террористов, казнью Робеспьера убедил Карамзина в том, что реализация утопии не удалась. Идеалисты сошли со сцены, вперед вышли практики обоих лагерей, те, кто приходят на поле боя последними и делят окровавленные трофеи. Тех, кто лично волновал бы Карамзина своей судьбой, на политической арене больше не было. И все же он не может оторвать глаз от этой арены.
Из писем брату Василию Михайловичу:
Село Знаменское, июня 24, 1795.
…В Париже великий голод, и народ недоволен Конвентом. Французская республика, не смотря на свои победы и завоевания, может разрушиться очень скоро. Всё на волоске.
Знаменское, 25 ноября 1795
…Французы вводят теперь у себя новое правление, или конституцию, но спокойствия все еще нет в их республике. Король имеет партизанов во всех провинциях, и в самом Париже, где недавно был бунт, и где перестреляли множество людей [375]. Однако ж по сие время республиканцы сильнее и держат в узде своих неприятелей. Кажется, что республика устоит. Что касается до Польши, то судьба ее решена. Россия, Австрия и Пруссия разделили полюбовно сию несчастную землю [376].
И все же письма к Дмитриеву он помечает, как парижский республиканец: «Salut et fraternite!»
В Знаменском невесело: Плещеевы запутались в долгах, Алексей Александрович уехал в Москву искать выхода из денежных затруднений (из письма Дмитриеву: «Состояние друзей моих очень горестно. Алексей Александрович страдает в Москве, а мы здесь страдаем» [377]). Наконец Карамзин бросается в Симбирск, продает братьям всю свою часть имения (фактически все свое состояние) за 16000 рублей, которые он тут же подарил Плещеевым (дал в долг и никогда больше о нем не напоминал). Настасья Ивановна болеет…
Карамзин — враг напыщенности, торжественности, «бомбаста» — одического парения в поэзии. Поэзия для него — синоним простоты. А это означает, что обыденная жизнь, жизнь в Знаменском, есть предмет литературы. Эту же задачу, но совершенно иными средствами, решал Державин. «Жизнь Званская», жизнь домашняя входят в его поэзию именно потому, что интимный мир ярче, красочнее, причудливее, чем мир официальный. Богатырство — а для Державина именно таково лицо поэзии — всегда индивидуально. И даже официальную тему, если ее надо представить поэтически, следует расцветить интимными красками. Для Карамзина поэтическое обыденно. Но для этого надо научиться смотреть на обыденность поэтически. Итак, простой знаменский быт вводится в литературу. Но по дороге он поэтизируется, стилизуется, и нам, чтобы обрести реальность, надо производить обратную работу дешифровки, «депоэтизации».
Первая стадия «олитературивания» — письмо: Карамзин описывает знаменскую жизнь Дмитриеву. В ход пущен риторический прием: не имеющее признаков описывается как столкновение контрастных признаков, белый свет разлагается на контрастные цветовые поля спектра.
«Здравствуй, мой любезный друг Иван Иванович! Я живу в деревне не скучно и не весело, имею удовольствия и неудовольствия, смеюсь и плачу, езжу верхом и хожу пешком, пишу и за перо не принимаюсь, читаю и не беру книги в руки, сплю и бодрствую, пью мед и ключевую воду — но никакой писатель не опишет всего, что я делаю, и чего не делаю» [378]. Эта жизнь с оглядкой на «писателя» характерна!
Вторая стадия: игра. В сочинениях Карамзина, начиная со 2-й части «Аглаи», печатается повесть «Дремучий лес. Сказка для детей», с подзаголовком: «Сочиненная в один день на следующие заданные слова» (следует список слов). Появление этого странного текста оставалось непонятным, и он не привлек ни разу внимания исследователей. Смысл его раскрылся довольно неожиданно. В справочнике русских изданий на иностранных языках Геннади зафиксирована брошюра:
Les amusemens de Znamenskoe. Lisez-le, ne lisez pas,
Moscow, chez Rudiger et Claudius, 1794.
Брошюру эту долго не удавалось обнаружить. Наконец единственный сохранившийся в библиотеках СССР экземпляр был обнаружен в Исторической библиотеке в Москве [379]. Брошюра примечательна: она содержит литературные игры — разумеется, на французском языке, — которым предаются в Знаменском летом 1794 года Настасья Ивановна Плещеева, Карамзин, некая мадемуазель Полина и еще ряд лиц; в брошюре упоминаются Платон Бекетов и дети Плещеевых Александр и Александра. Значительное место среди литературных игр занимают рассказы, в которых надо было употребить заданные слова. Печатаются тексты на одни и те же слова, составленные Карамзиным и другими участниками кружка. Так, например, на слова: философ — Знаменское — Мискетти — Москва — трубка — куртка — корабль — бумага — пруд — Мишель — поле (все слова, как и весь текст брошюры, по-французски) Карамзин написал короткий рассказ, в жанре лирического монолога. Знаменская реальность переключается в идиллию.
Поскольку этот текст никогда не привлекался исследователями и до сих пор был неизвестен, приводим его в русском переводе:
«Да, друзья мои, я утверждаю, что можно быть счастливым в Знаменском [380], как и в Москве, лишь бы быть философом и уметь ценить жизнь. Без сожаления оставляю я городские удовольствия — я их нахожу много в моем сельском уголке. Они милы моему сердцу. Здесь я не слышу пения Мискетти, но слушаю песни соловья, и одно стоит другого (да простят меня виртуозы искусств!). Сидя на берегу прозрачного пруда, я мирно созерцаю его спокойные волны — разительный образ спокойствия моей души. Пусть благодетельная пыль навсегда покроет мое парадное платье! Я предпочитаю мою куртку из простого полотна, такую удобную и такую легкую. — И когда иду полями, устремляя мой взор то на ковры лугов, всегда столь прелестные, то на лазурный свод неба, всегда столь величественный, — великий Боже, что за сладкое и чистое наслаждение для моего чувствительного существа! — Здесь меня ничто не стесняет; я всегда сам себе господин, я могу делать все, что хочу; могу забываться в мечтах, курить мою трубку, хранить молчание целыми часами, читать или марать бумаги, чтобы немного развлечь моих друзей. Здесь я вижу только тех, кого люблю (исключая, если вам угодно, лишь г-на Мишеля [381], который отнюдь не любезен). Здесь у меня нет забот, и мой корабль в гавани» [382]. Подпись: г. К***. Та же подпись стоит под также написанной на слова сказкой «La foret noire», русский вариант которой Карамзин позже опубликовал в «Аглае». Говоря об этих текстах, мы употребляли глагол «написал». Однако вернее, что французские тексты представляют собой записи устных импровизаций Карамзина. Во всяком случае, они — уникальные образцы французской прозы Карамзина. Сравнение с русским вариантом — сказкой «Дремучий лес» (первый отрывок не имеет такового) — очень интересно: во-первых, русский текст не перевод, а обработка французского. Однако особенно любопытно наблюдать, как Карамзин, сохраняя естественность и непринужденность русской речи, искусно использует французский строй фразы.
В брошюре есть и сочинения других авторов, домашние изделия дилетантов, милые и безыскусственные, как семейный альбом. Да брошюра и соприкасается с традицией альбома, литературы для «своего» круга, обретающей полный смысл лишь для тех, кто знает обстоятельства написания каждой вещи и связывает с ней внетекстовые воспоминания. Эта традиция «домашней литературы» раскрывается для нас в не лишенной интереса перспективе.
В пьесе Настасьи Ивановны «Желанное возвращение» — сама создательница пьесы и ее сын и дочь, ожидающие возвращения из Москвы Алексея Александровича Плещеева. Александру Плещееву в 1794 году исполнилось 16 лет. Карамзин, находясь в Знаменском, посвятил этому событию «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву». Стихотворение, хотя и было опубликовано в ч. 1 «Аонид», т. е. обращено к читателю, не входящему в интимный кружок жителей Знаменского, несет все черты интимной поэзии. К стихам:
Удалимся Под ветви сих зеленых ив —Карамзин сделал примечание: «Сии стихи писаны в самом деле под тению ив», что заставляет воспринимать «сих… ив» как примету конкретного места. Указательное местоимение-жест «сих» обращено к тем, кто видит ивы. Читатель превращается в соучастника интимного кружка.
Александр Алексеевич Плещеев получил образование в знаменитом пансионе аббата Николя, затем легко и быстро поднимался по служебной лестнице, удачно женился и вышел в отставку. В домашнем кругу А. А. Плещеев был известен как поэт, легко писавший любительские шуточные стихи на русском и французском языках, музыкант, участник спектаклей и неутомимый выдумщик. Поселившись в своем поместье Чернь Болховского уезда Орловской губернии, Плещеев близко дружески сошелся с жителями недалекого (40 верст) Муратова — Екатериной Афанасьевной Протасовой и ее дочерьми Машей и Сашей, Особенно же тесной сделалась дружба его с Жуковским: совместные шуточные спектакли, обмен шуточными посланиями, издание журнала «Муратовская вошь», частые взаимные посещения сделали Плещеева и Жуковского приятелями и вдохновителями игровой атмосферы, царившей в Муратове и Черни. Жуковский именует Плещеева Плещуком, Плещепуповым, Александром Чернобрысовичем Плещепуповым, посвящает ему цикл стихотворений («О негр, чернилами расписанный Натурой» и др.) [383]. Атмосфера литературных игр, дружеского любительского поэтизирования и музицирования, домашняя культура — культура поэзии частной жизни, поднимающая ее на уровень лаборатории культурной жизни эпохи, создающая те островки духовной жизни, теплоты и поэзии, в которых будет вырастать поколение совершенно новых деятелей. Они впитают эту теплоту и поэзию, вырастут в ее одухотворяющей атмосфере и потом начнут в ней задыхаться как в искусственном воздухе теплиц и рваться из нее в большой и неуютный мир. Домашний очаг покажется им врагом, но они унесут с собой его тепло. Знаменское и Карамзин, Муратово и Чернь и Жуковский с Плещеевым, Прямухино и молодой кружок Бакунина и его сестер — это как бы три ступеньки одной лестницы. Но у знаменской идиллии есть еще одна перспектива: Жуковский вводит своего друга Плещука в «Арзамас», где он по цвету волос получает кличку Черный Вран. В доме Плещеева арзамасцы провожают уезжающего в Варшаву Вяземского.
Так игра в литературу перерастает в литературу игры.
В Знаменском Карамзин написал и подготовил к печати основные материалы двух томов альманаха «Аглая».
«Аглая» как совершенно новый тип издания в некотором отношении близка к брошюре «Les amusemens de Znamenskoe» — Дух семейной интимности пронизывает альманах. Само название его, как и посвящение второго тома, обращено к Настасье Ивановне; обращение в стихах к Александру Алексеевичу, включение сказки «Дремучий лес», намеки на странствия Карамзина — все придает изданию интимный характер. Но «Аглая» адресована читателю, т. е. к чужому, незнакомому человеку. Интимность здесь превращается в «как бы интимность», имитацию дружески-непосредственного общения. Между писателем и лично неизвестным ему читателем устанавливаются отношения, имитирующие дружескую близость. Создается тип отношения, который в будущем сделается обязательным для альманаха (некоторый оттенок «альбомности») и который в принципе отличен от функционирования книги.
«Альбомность», включение текста не в анонимную аудиторию книги, а в как бы интимный круг близких людей естественно придает авторскому «я» конкретно-биографический характер. Читатель, не колеблясь, отождествляет его с реальным Николаем Михайловичем Карамзиным. Это поддерживается тем, что в ч. 1 включен отрывок из «Писем русского путешественника» (из «английской» части — вся французская была в 1794 году цензурно невозможной), а во 2-й — Письма Мелодора к Филалету и Филалета к Мелодору. Автобиографический характер этих произведений не вызывал у читателя сомнения.
И вдруг это авторское «я» начинает, к удивлению читателя, двоиться. Рассказчик — все тот же путешественник, но рассказ его приобретает лирические и романтические черты, проза начинает напоминать поэзию, а реальное путешествие все более явственно превращается в воображаемое. Автор, каким он создал сам себя в своем воображении, подается читателю как равноправный двойник реального писателя.
Повесть «Остров Борнгольм» предлагает читателю, который уже знаком с «Московским журналом» и первыми публикациями «Писем русского путешественника», верить, что Карамзин действительно, возвращаясь из Англии в Петербург, остановился на датском острове Борнгольм и пережил там таинственные встречи. Позже, когда «Письма» были опубликованы полностью, читатель получал две версии возвращения и мог выбирать любую в качестве «подлинной». Любопытно, кстати, отметить, что, возможно, обе являются плодом литературного вымысла. Г. П. Шторм, рассматривая списки прибывающих в столицу, подававшиеся полицмейстером Н. Рылеевым императрице, обнаружил такую запись: «Из Москвы отставной поручик Карамзин (первоначально описка: Карамзан. — Ю. Л.) и стал в той же части (т. е. во 2-й полицейской части. — Ю. Л.) в доме купца Демута» [384]. На основании этого Г. П. Шторм приходит к выводу, что Карамзин приехал в Петербург 15 июля 1790 года не морем из Лондона через Кронштадт, как это указано в «Письмах», а из Москвы сухим путем. Последнее представляется странным: если уж Карамзин вернулся из-за границы в Москву, ему решительно было незачем спешить в Петербург затем, чтобы обратно направиться в Москву. Такой странный вояж не мог бы остаться незамеченным Плещеевыми, Петровым, Дмитриевым, Державиным, с которыми Карамзин был тесно связан. Между тем ни в каких документах этого круга лиц он не нашел отражения. Можно было бы предположить, что «из Москвы» означает «москвич», если бы в записях этого рода не было обязательным указывать, откуда прибыло то или иное лицо, и делалось это именно такой формулой: из Москвы; из Новагорода, из чужих краев. Может быть, это ошибка, которую надо понимать так, что Карамзин, доехав по морю до какого-то порта (Любека, Кенигсберга или Ревеля?), прибыл в Петербург в карете и по неопытности назвал как место отбытия свой начальный пункт путешествия. Дежурный же унтер-офицер облек ответ в привычную формулу. Мы не можем сейчас решить этот вопрос окончательно, но маршрут прибытия на родину не только в фантастическом «Острове Борнгольм», но и в «документальных» «Письмах русского путешественника» остается под сомнением до обнаружения каких-либо новых материалов.
Две части «Аглаи» заключают в себе цикл повестей («Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Афинская жизнь»), посвященный воображаемым путешествиям в географическом, культурном и временном пространстве. Их сопоставляют с «романом тайн» А. Радклиф, предромантической прозой, но нельзя отрешиться от воспоминаний об акмеистической прозе, которые невольно приходят на память, когда перечитываешь эти произведения: Та же условность мира, в который нас вводит поэт, в сочетании с тонкой стилизацией повествования и вниманием к вещности предметов, которыми автор заполняет свой совершенно призрачный мир; тот же лиризм повествования, ритмичность и звуковая насыщенность прозы и прозрачная ясность семантики слова, сочетание размытости и четкости, ирреальной реальности. Автор в этих повестях путешествует в пространствах, которые Карамзин заведомо не посещал: это Андалузия и рыцарская Скандинавия (на остров Борнгольм Карамзин не ступал даже в «Письмах», как же обстояло дело в реальности, мы вообще бессильны пока установить). Наконец «Афинская жизнь» прямо обнажает воображаемый характер путешествия автора в мир древних Афин. Противопоставление идеального мира, в который погружается автор, и трагического реального составляет основу композиции этой повести. Характерно, что в древнем мире выбран не Рим — отчизна гражданственности и героизма, а Афины, жители которых «везде и во всем искали <…> — наслаждения; искали с жаром страсти, с живейшим чувством потребности, как любовник ищет свою любовницу — и жизнь их была, так сказать, самою цветущею Поэзиею» [385]. Превращение жизни в поэзию — высшая цель. И другие повести посвящены тому же. Любовь в жизни то же, что поэзия в сфере искусства. И, как поэзия, она беззаконна и не подчиняется правилам. Брат любит сестру, покинутый любовник убивает себя на свадьбе неверной. Но, как и мир поэзии, мир страстей, любви и счастья иллюзорен. Повесть начинается словами: «…завертываюсь в пурпуровую мантию (разумеется, в воображении) — покрываю голову большою, распущенною шляпою, и выступаю, в Альцибиадовских башмаках, ровным шагом, с философскою важностию — на древнюю Афинскую площадь». Заканчивается повествование разоблачением иллюзорности этого мира. При этом сельское уединение, которое теперь противопоставляется не городу современному, а само воплощает современность и реальность в антитезе древности и мечте, из идиллической превращается в трагическую: «О друзья! всё проходит, всё исчезает! Где Афины? Где жилище Гиппиево? Где храм наслаждения? Где моя Греческая мантия? — Мечта! мечта! Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собою ничего, кроме догарающей свечки, измаранного листа бумаги и Гамбургских газет, которые завтра поутру (а не прежде: ибо я хочу спать нынешнюю ночь покойным сном) известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников» [386].
Эта принадлежность поэта двум мирам получает окончательное теоретическое обоснование в программном послании к Дмитриеву:
Но время, опыт разрушают Воздушный замок юных лет; Красы волшебства исчезают… Теперь иной я вижу свет, — И вижу ясно, что с Платоном Республик нам не учредить, С Питтаком, Фалесом, Зеноном Сердец жестоких не смягчить. Ах! зло на свете бесконечно, И люди будут — люди вечно. Но что же нам, о друг любезный, Осталось делать в жизни сей, Когда не можем быть полезны, Не можем пременить людей? Оплакать бедных смертных долю И мрачный свет предать на волю Судьбы и рока: пусть они, Сим миром правя искони, И впредь творят что им угодно! А мы, любя дышать свободно, Себе построим тихий кров За мрачной сению лесов [387], Куда бы злые и невежды Вовек дороги не нашли И где б, без страха и надежды, Мы в мире жить с собой могли [388].«Без страха и надежды» — предельно точная формула той позы, в которой находится теперь поэт в отношении к миру. Этому соответствует и декларативный отказ от литературной деятельности, как обращенной именно к этому миру: «На долго прощаюсь с Литературою», — пишет Карамзин Дмитриеву в начале 1795 года [389]… и одновременно развертывает исключительно активную деятельность профессионального литератора. В 1794 году выходит первая часть «Аглаи», две части сборника «Мои безделки», куда вошли сочинения Карамзина в прозе и стихах, извлеченные из «Московского журнала», первая часть переведенных с французского «Новых Мармонтелевых повестей». Была написана повесть «Юлия», опубликованная в 1796 году. В 1795 выходит второй том «Аглаи», Карамзин начинает сотрудничать в «Московских ведомостях», ведет там раздел «Смесь», в котором публикует 169 небольших статеек, отдельным изданием выходит перевод повести Ж. Сталь «Мелина». В 1796 году вышла отдельным изданием повесть «Юлия» (и через год — во французском переводе), первая книга «Аонид», два тома «Аглаи» вторым изданием, отдельным изданием «Бедная Лиза» и в конце года — отдельным изданием «Ода на случай присяги московских жителей императору Павлу I».
Одновременно был написан ряд стихотворений (среди них программного значения), которые публиковались в 1797 году и позже.
Если вспомнить, что вся эта писательская и издательская деятельность требовала постоянных связей с типографиями и книгопродавцами (печатать вторые издания имело смысл лишь когда разошлись первые, надо было следить за спросом), чтения корректур. Издание «Аонид» потребовало большой организационной работы по приглашению авторов, отбору текстов, вплоть до заботы о шрифтах и бумаге. Из письма Дмитриеву: «Дней пять занимаюсь я новым планом: выдать к новому году русский Almanach des Muses в маленькой формат, на голландской бумаге, и проч. Надеюсь на твою Музу: она может произвести к тому времени довольно хорошего. Михайло Матвеевич <Херасков>, Нелединской и проч. что нибудь напишут; а ты мог бы в Петербурге сказать о том Гав.<риле> Романовичу <Державину>, Львову, Козодавлеву и прочим. Они бы также дали нам несколько пиес. Начнем — а другие со временем возьмут на себя продолжение. Откроем сцену для русских стихотворцев, где бы могли они без стыда показываться публике. Отгоним прочь всех уродов, но призовем тех, которые имеют какой нибудь талант! Естьли мало наберется хорошего, поместим изрядное; но подлого, нечистого, каррикатурного, нам не надобно. Таким образом всякой год могли бы мы выдавать маленькую книжечку стихов — и дамам нашим не стыдно б было носить ее в кармане» [390]. Замысел этот реализовался под названием «Аониды».
Перед нами — развернутая программа весьма существенного издания. Прежде всего само название, под которым фигурировал альманах в замыслах Карамзина, свидетельствовало, во-первых, о стремлении ориентировать русскую поэзию на европейскую традицию и, во-вторых, об установке на то, чтобы занять равноправное место среди европейских литератур. Дело в том, что под названием L'almanach des Muses во Франции с 1764 года выходило издание, считавшееся эталоном достижений французской поэзии. В 1770 году Геттингенское общество поэтов начало издавать Musenalmanach, а в 1796 — в один год с Карамзиным — начал выходить Musenalmanach Шиллера. Русская поэзия, по мысли Карамзина, должна была изданием такого альманаха заявить о своей культурной зрелости, равноправно войдя в семью европейских муз. Но достижение этой цели мыслилось путем подчинения поэзии критериям «дамского вкуса», ориентации на изящество и утонченность вкусов культурной элиты.
За этой программой стоял и определенный идеал поэтической биографии. Поэт должен совмещать в себе светского человека и мудреца, разделять человеческие слабости своей аудитории и, духовно над ней возвышаясь, быть ее культурным руководителем. Литература должна быть профессиональной, но литераторы не должны образовывать отдельной касты. Постепенность перехода дилетантской поэзии в профессиональную стирает различие между писателем и читателем. Читатель, погруженный в литературную атмосферу, культурно возвышается.
Культурная ориентация Карамзина была лишена какой-либо политической окраски — она имела эстетический и этический характер. Но нельзя не видеть ее глубокого и упорного противостояния реакции. Реакция имеет не только социально-политический аспект — она органически связана с развращением общества, с разложением человеческой личности. Карамзин упорно «строил» свою личность и личность своих читателей. Человек, который верит в свою духовную ценность и которому уважать ценность другого человека естественно как дышать, — уже не слуга Зубова и не «верноподданный раб». Пушкинская Татьяна нигде на протяжении романа не высказывалась в духе политических освободительных идей и, вероятно, очень удивилась бы, если бы ей предложили на эту тему высказаться. Но только существование таких людей, и в частности таких женщин, в России сделало возможным само движение декабристов, которое иначе повисло бы в безвоздушном пространстве.
Мы говорили уже о том, что сын Плещеева Саша, которому Карамзин в Знаменском писал напутственные стихи, стал потом товарищем Жуковского и членом «Арзамаса». Теперь можно было бы вспомнить, что его сыновья, внуки Настасьи Ивановны, Алексей и Александр были арестованы по делу декабристов и встретились в Петропавловской крепости. Один из них, Алексей, поручик лейб-гвардии конного полка, вступил в 1823 году в Северное общество, а по показаниям Свистунова и Анненкова был также и членом Южного. Его брат Александр был знаком с А. Одоевским и слышал от него о существовании тайного общества, но не донес. По данным «Алфавита декабристов», «присягнул покойно и во время мятежа исполнил долг свой со всею точностию» [391].
Семья Плещеевых не давала культурных лидеров — члены ее неизменно оказывались на периферии общественных движений. Но в определенном смысле это даже интереснее: мы видим массовое явление в его типичных рядовых участниках. То, что мы находим сына Настасьи Ивановны в роли арзамасского «Черного Врана» (дочь ее Александра — девочкой шести лет играет в то, что она «невеста» сорокалетнего А. М. Кутузова, которому она пишет чувствительные французские записки в письмах матери), а внуков — собеседниками Пестеля, Свистунова и А. Одоевского, глубоко символично.
Реки культуры текут по извилистым руслам.
В ПАВЛОВСКОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ…
12 ноября 1796 года Карамзин писал Дмитриеву, находившемуся в саратовской деревне: «Любезнейший мой Иван Иванович! Екатерины II не стало 6 ноября, и Павел I наш император. Увидим, какие будут перемены» [392]. Мы видели, какие надежды возлагались на Павла в кругах, к которым Карамзин был близок. Поэтому неудивительно, что он был настроен оптимистически. В письме к брату — преувеличенные надежды. Из девиза: «жить без страха и надежды» он готов, кажется, выполнять лишь первую часть: «Государь хочет царствовать с правдою и милосердием, и обещает подданым своим благополучие; намерен удаляться от войны и соблюдать нейтралитет в рассуждении воюющих держав. — Трубецкие, И. В. Лопухин, Новиков, награждены за претерпение; первые пожалованы сенаторами, Лопухин сделан секретарем при императоре, а Новиков, как слышно, будет университетским директором. Вероятно И. П. Тургенев будет также предметом государевой милости, когда приедет в Петербург» [393]. Так Карамзин пишет брату 17 декабря 1796 года, выбирая из потока слухов самые благоприятные и преувеличенные в хорошую сторону. Но радужные надежды надеждами, а опыт берет свое. Привычка помнить, что письма на почте читают, уже сложилась. Он явно думает о Кутузове, возможно, и о Радищеве, но предпочитает по почте об этом не писать. Думает он и о себе, но обходит этот вопрос по другой причине. В письме Дмитриеву от 29 декабря того же года он пишет: «Я мог бы ехать в Петербург; но не скажут ли, что я еду искать, добиваться и пр.?» [394] Это очень важное свидетельство. Из него вытекает, что, во-первых, Карамзин считал себя также без вины пострадавшим и, следовательно, имеющим право на государеву милость «за претерпение», как тогда выражались в подобных случаях. Во-вторых, ясно, что он не хотел этим правом воспользоваться, не желая обменивать независимость на милость и тем более самому домогаться этой милости. Наконец, важно, «не скажут ли». Карамзину нужна была независимость, чтобы чувствовать себя человеком, но чтобы быть писателем, ему было необходимо, чтобы читатель знал о его независимости. По Державину, чтобы выполнить свой долг, писатель должен быть вельможей-гражданином, для Карамзина он должен быть частным лицом и честным человеком. Вопреки распространенному мнению, поза писателя — светского человека не была лишена гражданственности: она отрицала не гражданственность, а государственность поэзии. И позже Карамзин, когда он бродил по царскосельским паркам под руку с императором Александром I, беседовал в Твери с его сестрой Екатериной Павловной, был гостем на интимных вечерах вдовствующей и царствующей императрицы, он неизменно видел пред собой частных лиц и светских знакомых. Принцип «ничего не принимать в подарок», «получать меньше, чем заслуживаешь» — залог независимости — на протяжении всей жизни оставался для него незыблемым. И не случайно, когда Николай I, демонстративно и напоказ, оказал умирающему писателю неслыханно щедрую денежную помощь, Карамзин… рассердился. Он почувствовал себя оскорбленным. Царь щедрыми деньгами оценил то, что не продается [395].
Карамзин не поехал в Петербург, но тем энергичнее готовился к расширению писательской деятельности.
Карамзин активно стремился к тому, чтобы русская литература получила признание у европейских ценителей. Еще в 1796 году он, получив из Швейцарии письмо, свидетельствовавшее о том, что патриарх немецкой поэзии Клопшток интересуется его творчеством, писал в «Послании к женщинам»:
Славнейшие творцы И Фебовы друзья, бессмертные певцы Меня в любви своей, в приязни уверяют И слабый мой талант к успехам ободряют [396].Не в силах скрыть своего удовольствия, Карамзин, публикуя стихотворение в 1 томе «Аонид», сделал к этим строкам примечание: «Например, великий Клопшток, которого я никогда не видал, и никогда не беспокоил письмами, уверяет меня в своей благосклонности, и хочет, чтобы я непременно прислал к нему все мои безделки. Признаюсь в слабости: это меня очень обрадовало!»
В последние семь лет царствования Екатерины II всякие связи с заграницей сделались подозрительными — от них приходилось максимально воздерживаться. А установка на то, чтобы русский писатель стал равноправным сочленом семьи европейских поэтов, была для Карамзина принципиальной. Тем скорее он направил свою активность именно в эту сторону в начале павловского царствования, когда ему показалось, что ограничениям этого рода пришел конец. Карамзин завязал тесные связи с журналом «Le Spectateur du Nord», французским журналом, выходящим в Гамбурге. Выбор органа был осуществлен очень умело и свидетельствовал о хорошей информированности Карамзина в профилях различных изданий. Это важно подчеркнуть, поскольку в письме к Дмитриеву Карамзин, в соответствии с принятой им позой, небрежно характеризует эту связь как случайную и возникшую для него совсем неожиданно. На самом деле это было, конечно, не так.
«Le Spectateur du Nord» издавался вне пределов Франции и в этом отношении не мог вызвать опасений у властей в России. Но одновременно положенная в основу издания тенденция к примирению умеренной эмиграции с революцией (также в ее умеренных границах) приводила к тому, что долгое время журнал беспрепятственно распространялся во Франции. Вместе с тем журнал, выходя на французском языке, посвящен был литературе северной Европы: в программу его входило знакомить французов с литературой и культурой Англии, Германии и Скандинавии. Усилиями Карамзина к этому списку была прибавлена Россия. Таким образом, во всех отношениях журнал стоял между: между революцией и эмиграцией, между Францией и неизвестными ей культурами северной Европы. Такая позиция более всего удовлетворяла Карамзина.
Со своей стороны, и журнал занял энергичную прокарамзинскую позицию, что, конечно, придавало вес избранному Карамзиным направлению уже в русском контексте. В февральском номере гамбургского журнала за 1797 год книжку открывал перевод повести Карамзина «Юлия» (пер. Булье; в том же году вышел в Москве отдельной книжкой, вероятно, при участии Карамзина). Публикуя повесть Карамзина, издатель «Северного зрителя» писал: «В проспекте журнала я обещал только анализ этой повести. Но поскольку она невелика, известна только в России и неизбежно потеряет в разборе часть своей прелести, я даю ее здесь полностью. Я делаю это тем более охотно, что, имея литературную сторону, она имеет также и нравственную, что превосходно соответствует заявленным мной целям. Этой повести достаточно, чтобы увидеть, что в стране, которую во Франции еще не разучились рассматривать как варварскую, есть писатели, соперничающие с Мармонтелем и Флорианом».
Выход русской литературы на общеевропейскую сцену соответствовал принципиальной ориентации Карамзина. К сожалению, мы не можем сказать, была ли эта попытка единственной и кто выступал в качестве посредника между Карамзиным и «Северным зрителем».
В 10-м (октябрьском) номере журнала была опубликована статья Карамзина «Письмо в «Зритель» о русской литературе». Статья эта важна во многих отношениях: в ней европейская публика уведомлялась о находке «Слова о полку Игореве», давался реферат еще не опубликованных до конца «Писем русского путешественника» — ценное свидетельство для истории текста произведения, содержалась уникальная оценка Французской революции без оглядки на русскую цензуру и т. д. Для нас сейчас статья любопытна как свидетельство оптимистического настроения, владевшего Карамзиным в начале павловского царствования. Карамзин настолько был уверен в том, что теперь все цензурные трудности позади, что объявил европейским читателям как вышедшую книгу «Письма русского путешественника» в пяти томах. Это означало, что он надеялся беспрепятственно опубликовать парижские письма. На практике об этом оказалось невозможным даже мечтать. В 1797 году удалось напечатать только четыре части, т. е. то, что уже появилось в «Московском журнале». Остальные — пятая и шестая части (материалу оказалось больше, чем на одну часть) — увидели свет лишь в 1801 году. 4 июля 1797 года Павел подписал указ о введении в России цензуры, что привело к возникновению настоящего цензурного террора. Так московская цензура запретила в 1797 году роман девицы Демидовой из Калуги. Дело пошло на утверждение в специально учрежденный Цензурный совет, который, подтвердив запрещение, постановил о романе, что «если он подлинно сочинен девицею, то занималась она делами, совсем до нее не касающимися» [397].
Однако в 1797 году столкновения Карамзина с цензурой еще впереди. Пока он настроен оптимистически. Даже во Французской революции он готов видеть великое историческое событие — неизбежный этап на пути прогресса. Ни до, ни после Карамзин не писал об этом то, что было им опубликовано в гамбургском журнале и, вероятно, содержалось в подготовленном им тогда и не дошедшем до нас варианте «Писем русского путешественника»: «Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается: я ее вижу, но Руссо ее предвидел. Прочтите примечание в «Эмиле», и книга выпадет из ваших рук. Я слышу декламации и «за» и «против», но я далек от того, чтобы подражать этим крикунам. Я признаюсь, что мысли мои об этом не достаточно зрелы. События следуют друг за другом как волны взволнованного моря, и есть еще люди, которые считают, что революция уже окончена! Нет! Нет! Мы еще увидим много удивительных вещей. Крайнее волнение умов служит этому предзнаменованием». В этом контексте достаточно решительно звучит утверждение, что «французский народ прошел через все степени цивилизации, чтобы оказаться на той вершине, на которой он находится в настоящее время», и что русские могут гордиться «быстрым полетом нашего народа к той же цели» (454 и 453). Конечно, под «вершиной» понимаются не политические события во Франции, а достигнутый ею уровень просвещения, но все же самый придирчивый читатель не усмотрит в этих словах попытки осудить избранный Францией путь.
Карамзин вынашивает много планов. Энергия переполняет его. Он берется быть издателем Державина (хлопоты с этим изданием доставили ему потом много неприятностей). В начале 1798 года Карамзин сообщает Дмитриеву: «Месяца через два пошлю извлечение из нового Русского Романа, который может быть никогда не выдет на Русском языке… хочешь знать титул? Картина жизни; но эта картина известна только самому живописцу или маляру; и не глазам его, а воображению» [398].
Замысел этот не был реализован. Гибель архива Карамзина не позволяет судить даже о том, дошло ли дело до каких-либо набросков текста. Между тем указание на то, что роман не сможет появиться по-русски, интригует. Может быть, тщательное изучение французских изданий той поры поможет, как в случае со статьей о Петре III и знаменской брошюрой, что-нибудь узнать. Центральным предприятием Карамзина в 1798 году был, бесспорно, «Пантеон иностранной словесности». Характеризуя план издания, Карамзин писал Дмитриеву: «Я также работаю, то есть перевожу лучшие места из лучших иностранных авторов, древних и новых; иное для идей, иное для слога. Греки, Римляне, Французы, Немцы, Англичане, Итальянцы: вот мой магазин, в котором роюсь всякое утро часа по-три! Мне надобно переводить для кошелька моего; а как благоразумие велит осыпать необходимость цветами, то я в рассуждении переводов сочинил для себя огромный и новый план, которой мне пока очень нравится и оживляет труд охотою. Посмотрим, каково будет Цицероново, Бюффоново, Жан-Жаково красноречие на Русском языке!» [399] Через некоторое время он писал Дмитриеву о «Пантеоне»: «Это род журнала, посвященного иностранной Литтературе» [400]. Ту же мысль издатель подчеркивал в предисловии журнала, говоря, что цель издания популяризаторская: он обращен к читателям, не знающим иностранных языков и, однако, интересующимся иностранной литературой.
Это, конечно, правда. Но не вся.
Правда была еще и в том, что Карамзин рассматривал это предприятие как лабораторию русской стилистики, задумав переводить разнообразные образцы мировой прозы на русский язык.
Правда была и в том, что в план издателя входило соединение широкой популяризации мировой литературы («Даже и восточная литература входит в план») и знакомство читателя с злободневными новинками: иначе «знающие Французской и прочие иностранные языки не стали бы читать моего собрания» [401].
Таким образом, была поставлена широкая просветительная задача: усвоения русской культуре вершинных текстов мировой и выработки адекватных средств передачи этих избранных текстов на русском языке.
Однако и это не исчерпывало замысла издателя.
На протяжении 1790-х годов в мировоззрении Карамзина нарастали элементы субъективизма. Если еще в вопросах, задаваемых им Лафатеру и Канту, виделся ученик А. М. Кутузова, для которого согласование внутреннего (априорного) и внешнего (чувственного) познания всегда было загадкой, то с годами противоречие между бесспорностью нравственных истин и сомнительностью опытного знания все более развивалось в систему субъективистских представлений.
В 1792 году Карамзин напечатал в «Московском журнале» «сказочку» Петрова «Прогулка Арабского Философа Ал-Рашида», где мудрец, научившийся понимать язык насекомых, услышал речь «престарелого насекомого, которое сидело одно на листке и само с собою говорило следующее: «Славные мудрецы моего рода, жившие за многие часы прежде меня, утверждали уже, что бытие мира сего не более осмнадцати часов продолжается, и мне кажется, что они говорили правду <…>. Хорошо бы еслиб слава моя продолжалась, хотя часов тридцать или сорок!» Ал-Рашид усмехнулся, но, подумавши, должен был ужаснуться своей усмешки; ибо часы или годы не все ли равно?» (МЖ, VI, 4, 19–22). Теперь, в 1797 году, Карамзин сам занес в записную книжку: «Время это лишь последовательность наших мыслей» [402]. И далее: «Душа наша способна к самопогружению (contournable en soi-meme); она сама может составлять свое общество» [403]. Ср. в «Пантеоне»: «Ты сам себе лучший друг» [404].
Субъективизм воззрений среди многих философских последствий имел и такое: окружающие события и литературные произведения воспринимались, достигали души человека лишь в той мере, в какой они могли быть результатами ее самовыражения. Человек представал как бы окруженным зеркалами, в которых он видел лишь самого себя. С этих позиций разница между своим и чужим принципиально снималась. Свои душевные переживания можно было выражать с помощью переводов, как это в дальнейшем и делал Жуковский, а дневник превратить в сборник цитат и выписок (ср. «Чужое — мое сокровище» Батюшкова). Карамзин пошел дальше: он не только составил три больших тома выписок из древних, новых и новейших авторов — по сути собственную лирико-философскую исповедь, отличавшуюся поразительным единством, но и предложил эту исповедь читателям, одновременно раскрывая перед ними свой душевный мир и давая им образец для самовоспитания их личности.
Наконец, у замысла была еще одна сторона, не первостепенная для Карамзина начала 1798 года, но все же важная: цитатное построение материала облегчало возможные цензурные трудности и было исключительно ловким тактическим ходом, обнаруживавшим в философе и мечтателе литератора с практическим чутьем.
«Пантеон» поражает умением Карамзина из самых разнообразных источников сделать один текст. В основе — утверждение релятивности знаний: «И как не обманываться? Заблуждение в нас; наши понятия несправедливы, мнения неосновательны, знания неверны» (П, I, 225). Карамзин перевел отрывок из «Естественной истории человека» Бюффона, избрав именно то место, которое, как заметили уже современники, напоминало ход рассуждений в «Трактате об ощущениях» Кондильяка; зависимость же последнего от Беркли была указана еще Дидро. Под заглавием «Мысли первого человека при развитии его чувств» читатель находил: «И теперь еще живо помню ту минуту радости и смятения, когда в первый раз ощутил я чудесное бытие свое. Не зная, что я, где я, откуда взялся, открываю глаза: какое неописанное чувство. Мне кажется, что все предметы во мне и составляют часть моего существования. Смыкаю глаза… кажется мне, что я лишился почти всего бытия своего». «Вдруг слышу звуки… Слушаю — слушаю долго и полагаю, что сия гармония есть я». И далее: «Устремляю взор на тысячу разных вещей и примечаю, что могу терять и находить их, что имею власть разрушать и снова производить сию любезную часть самого себя». «Вдруг легкий свежий ветерок навевает на меня благоухание цветов… Внутренность души моей растворяется для нового приятного чувства. Наслаждаюсь и в наслаждении люблю самого себя». «Рука кажется мне теперь главным орудием бытия моего». Ощупав свое тело, «примечаю, что бытие мое, которое прежде казалось мне неизмеримым в пространстве, имеет пределы» (П, II, 38–43).
На такой философской основе — постоянном балансировании между сенсуализмом просветителей XVIII века (ср. в «Разных мыслях. Из записок молодого Россиянина»: «На систему наших мыслей весьма сильно действует обед. Тот час после обеда человек мыслит не так, как перед обедом» — сентенцию, возмутившую Петрова, который назвал ее «человекоугоднической») и агностицизмом с сильной солипсической окраской — строился «Пантеон». Если в «Письмах русского путешественника» Карамзин утверждал, что состояние души — зеркало окружающего пейзажа, то теперь пейзаж — зеркало душевного состояния: «Внутреннее расположение сердца изливается на все наружные предметы. Щастливый путешественник видит везде романические места, дороги, усеянные цветами, и светлые прозрачные ручейки, каждая хижина есть для него жилище спокойствия, каждый город — театр Искусств и веселия; щастие расписывает все предметы блестящими красками». Путешественник был печален, и все окружающее представляло ему одну картину горести: «Он путешествовал летом: поля были сухи, дорога пыльна, жар несносен. Бедные жнецы казались ему тружениками, которые изнурением сил платят дань общему бедствию человеческого рода. Везде представлялась ему скудность, на каждой перемене окружали его карету нищие» (П, I, 157–159).
Такая система воззрений просто снимала социальный аспект. То, что Радищеву представлялось коренным злом объективной социальной системы, представало в облике настроения, внутреннего излияния души на внешние предметы. Но, снимая социальный аспект, этот подход не противоречил ни политическому, ни этическому, т. е. отрицал революционность, но служил основой либеральных воззрений. А в условиях павловского режима это совсем не означало общественной пассивности. Два аспекта: просвещение народа и требование личной независимости — составляли основу воззрений Карамзина, основу, от которой он никогда не отказывался и относительно которой он никогда не испытывал никаких колебаний. И это не только клало резкую грань между ним и реакцией всех оттенков, но и отнюдь не гарантировало его от преследований, особенно в условиях павловского терроризма. Безупречное личное благородство и высоко развитое чувство чести — вещи, при Павле опасные для человека любых общественно-политических воззрений, — делали его позицию еще более уязвимой.
Уже в «Аглае», полемизируя с Руссо, Карамзин в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» на самом деле направил свои стрелы против тех, кто использовал страх правительства перед французской революцией для того, чтобы наложить узду на просвещение. В «Пантеоне» защита просвещения — особенно просвещения для народа — сделалась одним из центральных мотивов. В отрывке, демонстративно озаглавленном «Просвещение», читатель находил:
«Визирь Муссафер спросил однажды у великого Аарона-Рашида, с каким намерением заводит он Академии, школы и распространяет науки? «Не думаешь ли, о калиф! что просвещенный народ будет лучше повиноваться тебе?» Без сомнения, отвечал Аарон-Рашид, потому что он лучше будет судить о справедливости моих законов. «Но охотнее ли станет платить подати?» — Конечно: он увидит, что я не требую ничего излишнего. «Воины твои лучше ли будут сражаться?» — Гораздо лучше, под начальством знающих предводителей. «Но твои умники, твои мудрецы не вздумают ли вмешиваться в правление? О, царь царей! Не дерзнут ли они искать ошибок в делах твоих?» — Пусть ищут и находят; пусть скажут их мне, чтобы я впредь остерегался и поступил лучше. «Как, ты позволишь, о светильник мира! философам своим говорить смело обо всем, что им придет на мысль? — Иначе они не могли бы просвещать людей» (П, I, 138).
Это читал читатель «Пантеона» в 1798 году.
Конечно, просвещение должно было нести людям не торжество над природой, а моральное совершенство. Но уже то, что оно связывалось со свободой мысли и слова, не могло не показаться — и, как мы увидим, действительно показалось опасным — деятелям реакции.
Столь же острым делался и вопрос свободы личности. Становясь единственной бесспорной реальностью, данной человеку, его личность приобретала особую ценность. Правда, с одной стороны, она часто ценила внутреннюю свободу выше, чем зависимость от внешних обстоятельств, но зато, с другой, она решительно противостояла деспотизму этих внешних сил всеми доступными ей средствами, вплоть до самоуничтожения. Обращаясь к античным источникам и писателям XVIII века, «Пантеон» превозносил героизм Катона и других героев древности, предпочитавших смерть отсутствию свободы. Так, из «Фарсалии» Лукана Карамзин опубликовал отрывок «Катон в Ливии». Здесь Катон обращался к тем, кто встал под его знамена «единственно для того, чтобы умереть истинными Римлянами, и не чувствовать ига Цесарева», и призывал их «не думать о жизни» и «всем жертвовать законам, всем жертвовать погибающей Республике». Подчеркивается субъективный аспект подвига — намерение, а не результат: «Блестящий успех возвышает ли истинное достоинство?» «Если добродетель ценится сама собою, не имею нужды в успехе». «Я лучше хотел бы славно пройти с Катоном чрез Ливию, нежели три раза торжествовать с Помпеем» (П, III, 2, 19, 22).
И «римский» колорит гражданственности, и стоическая мораль подвига не могли не вызывать злободневных ассоциаций: римский маскарад французской революции был еще слишком свеж в памяти.
До какой степени остроты могли в условиях павловского режима доходить тираноборческие настроения Карамзина, свидетельствует стихотворение «Тацит», опубликованное автором в III томе «Аонид» (1798–1799):
Тацит Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом, Достоин ли пера его? В сем Риме, некогда геройством знаменитом, Кроме убийц и жертв не вижу ничего. Жалеть о нем не должно: Он стоил лютых бед несчастья своего, Терпя, чего терпеть без подлости не можно![405]Смысл стихотворения несколько закамуфлирован, и это позволило ему беспрепятственно пройти через цензуру. Но Вяземский имел основание сослаться в 1826 году на последний стих этого текста как на оправдание выступления декабристов. «Какой смысл этого стиха? — писал он. — На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному». Далее он приводил слова И. И. Пущина и, солидаризируясь с ним, заключал, что «мера долготерпения в России преисполнена и что без подлости нельзя не воспользоваться пробившим часом» [406]. Карамзин, конечно, не делал таких выводов, до которых дошел возмущенный казнью декабристов Вяземский. Но мысль о том, что есть предел, за которым терпение из добродетели превращается в подлость, была им выражена с большой силой.
Существование «Пантеона» в том виде, который был ему придан издателем, в обстановке 1798 года способно вызвать удивление. И не случайно журнал очень скоро стал подвергаться цензурным преследованиям. Это новоучрежденное заведение не замедлило показать свои когти. 27 июля 1798 года Карамзин писал Дмитриеву: «Весело быть первым, а мне и последним быть мешает ценсура. Я перевел несколько речей из Демосфена, которые могли бы украсить «Пантеон»; но ценсоры говорят, что Демосфен был республиканец, и что таких авторов переводить не должно и Цицирона также — и Саллюстия также. <…> Что же выдет из моего Пантеона? План издателя разрушился» [407]. И 18 августа ему же: «Цензура как черный медведь стоит на дороге» [408]. Продолжение «Пантеона» сделалось практически невозможным. Однако дело этим не ограничилось. 12 октября 1798 года Карамзин писал Дмитриеву: «…я, как автор, могу исчезнуть заживо. Здешние цензоры при новой эдиции Аонид поставили X на моем послании к женщинам. Такая же участь ожидает и Аглаю, и мои безделки, и письма Руск.<ого> Путеш.<ественника>, то есть, вероятно, что ценсоры при новых изданиях захотят вымарывать и поправлять, а я лучше все брошу нежели соглашусь на такую гнусную операцию; и таким образом через год не останется в продаже может быть ни одного из моих Сочинений. Умирая авторски, восклицаю: да здравствует Российская Литтература!» [409]
Вскоре произошла еще одна неприятность: Ф. Туманский прислал в 1791 году Карамзину в «Московский журнал» несколько стихотворений. Карамзин их не стал печатать, а в письме к Дмитриеву посмеялся над плохими виршами. В январской книжке «Московского журнала» за 1791 год Карамзин напечатал рецензию В. С. Подшивалова на книгу «Палефата греческого писателя о невероятных сказаниях. Преложил и примечаниями своими изъяснил Федор Туманский». Рецензия была резкой. Перечислялись ошибки против языка и грамматики, утрата смысла оригинала. Туманский отвечал выпадами против Карамзина в своих изданиях.
Но вот наступило павловское время. Была учреждена цензура во всех портовых городах, организована проверка иностранных книг. В Риге гражданским цензором был назначен Ф. Туманский. На этом посту он проявил не только усердие, но и прямое самоуправство, упиваясь доставшейся ему властью. Безобидного пастора Зейдера, содержавшего под Дерптом небольшую частную библиотеку, за то, что в ней содержались невинные рассказы Августа Лафонтена — писателя для детского и юношеского возраста, — он представил в доносе опасным заговорщиком, распространителем запрещенной литературы. Зейдер был приговорен к наказанию кнутом и ссылке в каторжные работы. Когда вышел немецкий перевод «Писем русского путешественника», Туманский не только запретил ввоз книги в Россию, но и представил по начальству донос, указав опасные, как он считал, места в книге. Судьба пастора Зейдера вполне могла стать и судьбой Карамзина, поскольку доносы Туманского шли в Петербургский совет цензуры, а тот, насмерть перепуганный, раболепно передавал их самому императору. От каприза и настроения Павла могла зависеть судьба не только книги, но и сочинителя. По счастью, донос пошел к императору через Ростопчина, бывшего тогда в зените милости. А Ростопчин, женатый на двоюродной сестре Настасьи Ивановны Плещеевой (позже, когда Карамзин женился на сестре Плещеевой Елизавете, они стали свояками), просто задержал донос, чем сам хвастался в разговоре с Дмитриевым.
Но доносы на Карамзина поступали и с других сторон. Особенно старался московский сенатор и очень плохой поэт П. И. Голенищев- Кутузов.
Положение Карамзина сделалось исключительно опасным. Не всегда же Ростопчин мог перехватывать доносы и класть их в карман. Да вскоре он и сам, хотя был беспринципным и ловким интриганом, попал в опалу. Печатать стало невозможно.
Но можно было думать…
Писательская деятельность Карамзина почти прекратилась: в 1799 году он выпустил в свет только третий том «Аонид» и второе издание «Детского чтения», а в 1800-м и в первые месяцы 1801 — до гибели Павла — ничего. Карамзин «авторски умер».
Не менее мучительно складывалась и личная жизнь писателя в эти годы. Настасья Ивановна была чувствительна и капризна, а в девяностые годы ее терзали болезни и долги. Деньги, подаренные Карамзиным, сразу разошлись, а сын женился, сестры, а затем и дочери стали невестами. Нежная платоническая дружба, вся сотканная из полутонов и полупризнаний, плохо выдерживала напор житейских забот. Каждому дню довлела злоба его. Карамзин спасался в Знаменском от московских доносов и сплетен, ославивших его «опасным», а в Москве — от знаменских «кружений сердца».
Дружба Карамзина с Настасьей Ивановной Плещеевой и ее мужем началась около 1785 года. По крайней мере, в 1795 году Карамзин в «Послании к женщинам» писал:
десять лет тот день благословляю, Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз… [410]Правда, к концу 1790-х годов наступило известное охлаждение. По крайней мере, 25 июня 1799 года Карамзин писал Дмитриеву, что Настасья Ивановна «давно уже обходится со мною холодно» [411], однако он продолжает хлопотать об улаживании запутанных дел Плещеевых, а в 1801 году женится на ее сестре Елизавете.
Сентиментальная дружба с Настасьей Ивановной занимает значительное место в биографии Карамзина, и это заставляет нас остановиться на природе этого чувства. Прежде всего, следует отметить, что сам Карамзин превратил его из факта своей интимной биографии в факт культуры своего времени и своей литературной деятельности. Он не просто подчеркивал свои нежные чувства к этой женщине, но демонстративно (под прозрачным поэтическим псевдонимом Аглая) посвящал ей свои труды, писал ее имя на титульном листе своего альманаха, публиковал посвященные ей стихотворения, называл себя нежным другом нежнейшей женщины. Когда Павел I избрал своей дамой сердца Анну Лопухину и сделал ее объектом, видимо, платонического рыцарского культа, он также афишировал публично свое преклонение: дознавшись, что имя Анна (Ханна) по-древнееврейски означает «благодать», он назвал этим именем военный фрегат, приказал написать «благодать» на гренадерских шапках и корабельных флагах. Это было публичное признание в любви, пусть даже рыцарской fin amor [412]. Между тем Карамзин, публикуя в «Московском журнале» отрывок «Невинность», как бы заверил читателя, что нежное чувство, испытываемое издателем к его «Аглае», не есть любовь в привычном и традиционном значении этого слова.
В эпоху романтизма немало было сказано презрительных слов в адрес сентиментальной дружбы между женщиной и мужчиной. Романтик, ценивший силу страстей и признававший только «пламенные» чувства, видел в ней лишь душевную дряблость, искусственность, ложные и лживые эмоции века фарфоровых пастушков или же лицемерное прикрытие для испорченных нравов века. Эти страстные инвективы перешли на страницы исторических трудов, и полемика младшего современника заменяет хладнокровный анализ историка. На самом деле, перед нами серьезный культурный феномен, и в нем стоит разобраться беспристрастно.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что сам глагол «любить» подвергся в кругу людей, причастных к «чувствительной» культуре, семантическому расширению: он начал употребляться в значении сильной сердечной склонности и мог не иметь какого бы то ни было оттенка эротизма. Соответственно с него было снято табу: из редко и лишь в особых ситуациях употребляемого слова он сделался одним из наиболее употребительных. Настасья Плещеева пишет Кутузову: «Ежели и вы перестанете меня любить, то я не знаю, как возмогу я перенести сие. Хотя у вас я всегда в десятых была, но что делать, по нещастию вы у меня в сердце не десятый и очень, очень я вас люблю». Не получив несколько недель писем от Кутузова, она ему пишет, используя лексику, которая могла бы казаться свидетельством любовной досады, если бы характер отношений этих корреспондентов нам не был доподлинно известен: «Я ясно увидела, что в сем мире люди все одинакие человеки, и все равны, привержены к изменам и ко всему подобному. По нещастью, я еще не сыскала в здешнем мире такого, кто бы подобно мне, нежно любить мог [413]; но теперь я о сем и не тужу; всякий любит своим манером, и я должна быть довольна тем, что есть люди, которые любят меня бескорыстно, прямым сердцем столько, сколько могут, из которого числа вы теперь совсем исключены. Я совершенно уверена, что вы не только не любите меня, но совершенно никогда и не думали». В ответе Кутузов просит: «Бога ради, не предавайтесь меланхолическому вашему расположению, старайтесь рассевать мрачные мысли, рождаемые им, и не огорчайте черным воображением неоцененные сладости дружбы» (обратим внимание на то, что частное письмо к женщине-другу он пишет слогом литературного произведения!). И далее: «Я, со своей стороны, не взирая на сказанное вами, уверен, что вы меня любите и любите по-прежнему» [414].
Приведем большой отрывок еще одного ее письма, интересного тем, что одни и те же выражения употребляются ею в жалобах на мужа и на Карамзина, хотя очевидно, что речь идет о разных чувствах и отношениях. При этом следует не забывать, что Настасья Ивановна, по крайней мере (год ее рождения мне неизвестен), на 12 лет старше Карамзина и характер отношений между ними абсолютно исключает какую-либо двусмысленность, что Кутузову, строгому моралисту, к которому обращено цитируемое письмо, конечно, известно:
«Божусь вам, что я боюсь сойти с ума: можно-ль, что я всех так люблю много, а меня никто? Алексей Александрович <Плещеев> любит меня, это правда, но не так, как я его. Его пасмурный вид меня сокрушает, как бы я на него сердита ни была, а ежели он огорчится, то я уже плачу и прошу прощения. Усмешка на его лице делает меня довольной. Я чувствую уже в сердце от горя облегчение, когда я его спокойна вижу. Но [415] это ж он как плотит? Это правда, что он редкий супруг; то делает, что редкие могут сделать; но нет в нем той нежности, которую я имею. Он может видеть меня грустною и не спросит меня, о чем грущу. Это будто любовь! А друг мой Николай Михайлович совсем переменился. Не только не находит со мною удовольствия, он уже всеминутно скучает <…> одним словом, я вижу совершенно, что я ему такая тягость, как камень на сердце. Много, много бы я с вами говорила и плакала; знаю, что вы, если не от дружбы, то бы из жалости выслушали меня, пожалели бы обо мне. А чувствительному сердцу и то великое облегчение». И далее: «Вот говорят, что дружбы ничего на свете нет лучше, что она вечная и измены в ней не бывает. А я, право, любви не знаю, как в ней люди страдают, и не ведаю, но от дружбы во век мой много страдала». «Кто думал, чтобы Николай Михайлович перестал любить меня. Ан, вот это случилось! Он меня иногда уверяет, что любит; но в самое то же время говорит, что он имеет понятие о лучшем друге и о живейшей дружбе, — то неужели я могу думать, что человек может быть доволен этакой дружбой? Вообразите ж себе, каково все это сносить!» Далее идет характерное напоминание: «Помните, что и вас я считаю за драгоценную вещь <очевидный галлицизм — chose. — Ю. Л.>, что дружба ваша есть неоцененна».
К этому, выдержанному в повышенно-эмоциональных тонах, письму приложена бытовая записка совсем иных интонаций: «Алексей Александрович, слава Богу, здоров, не пишет за хлопотами; ежели его и милорда Рамзея ждать, то век не писать. Они уверяют — в четверг <т. е. в следующий почтовый день. — Ю. Л.> писать будут». И, наконец, к письму следует еще одна приписка — от «жены» Кутузова <так называют в дружеском кругу восьмилетнюю дочь Плещеевых Александрину. — Ю. Л.>. Девочка пишет Кутузову пресерьезные французские и французско-русские письма:
«Милый мой друг! Желаю тебе всякого блага. Сделай милость, напиши ко мне особливое письмо. Как приедешь, услышишь, что я говорю по французски. Mon cher ami, venez me consoler de votre absence. Adieu, mon ami, je suis votre amie [416] Александра Плещеева» [417]
Малолетняя «жена» Кутузова также владеет языком чувствительности. Еще за год до этого, видимо, семилетняя Александрина писала ему с нежной изысканностью: «Mon cher ami! Je vous aime et vous aime beaucoup, beaucoup. Je souhaite vous voir bientot. Je vous suis toujours fidele. Votre fidele amie
Alexandre de Pleschejeff-Coutousoff» [418][419].
Достойно внимания, что серьезные чувства Настасьи Ивановны и игра ее дочери выражаются одними и теми же словами. Еще более примечательно, что если убрать в письме Настасьи Ивановны имена, то невозможно будет отличить, где она говорит о муже, а где о друге. Дружба и любовь выражаются одними и теми же словами. И это не потому, как можно было бы думать, что дружба есть форма любви, ее эвфемистическое название для случаев, когда прямое наименование чувства было бы неудобно. Не дружба есть разновидность любви, а любовь — разновидность дружбы. Дружба — более обширное чувство, занимающее на шкале культурных ценностей времени порой более высокое место, чем любовь. Дружба связывает людей — мужчин и женщин — в союз, более обширный, чем любовный, и, заимствуя лексику у любви, очищает чувство от чувственности. Дружеская лексика совершенно одинакова, независимо от того, мужчине или женщине-другу пишется письмо.
В чем же историко-культурный смысл таких отношений между женщиной и мужчиной, при которых взаимная нежность «очищена» от эротического момента? В чем для участников этой игры прелесть отношений, смысл и природу которых мы можем понять, сопоставив с романтической эпохой. Для последней мужчина и женщина — друзья — это или будущие, или бывшие любовники. Их ожидает или пылкая страсть, или отчуждение. Поэтому такая дружба кратковременна, неверна и почти всегда — притворство, уловка кокетства, столь ненавистного ценящим искренность выше всего романтикам.
Чувствительная дружба — не любовь, хотя и тешит себя опасной игрой приближения к ее краю. И все же ценится она именно тем, что это не любовь, что можно годами быть в переписке с женщиной, вечерами просиживать у камина, слушая ее игру на клавикордах, читать с ней «Вертера», совершать чувствительные прогулки и не любить ее, не быть ее любовником и не ждать от нее чувственной любви. Можно как бы не замечать ее пола (разумеется, только «как бы») и, жертвуя временем, покоем, иногда деньгами, видеть в ней лишь нежного друга. В этом освобождении женщины от альтернативы: быть или женой, или любовницей — и предоставлении ей третьей возможности — быть другом (само слово не имеет формы женского рода!) был исторический смысл, который нам, возможно, раскроется из некоторых параллелей.
Французский салон XVII века выработал особый тип женщины, который получил наименование «прециозниц» и перешел к потомкам, осмеянный Мольером в «Смешных жеманницах». Между тем это было серьезное явление, заслуживающее внимания историка. Если оставить в стороне смешные преувеличения, естественное следствие моды, то в «прециозницах» можно заметить интересные черты. Эти царицы салонов, изящные красавицы чем-то неожиданно напоминают русских нигилисток 1860-х годов. (Особенно нигилисток не разночинного происхождения, например, сестер Корвин-Круковских и их подруг). Они не хотят быть женщинами: елико возможно уклоняются от браков, иногда откладывая их на десять и более лет и приводя в отчаяние своих поклонников. Их привлекают «неженские» занятия: их идеал — ученая женщина. Из наук пользуются престижем именно «неженские»: математика, астрономия, естествознание. Они изучают древние языки. Они вмешиваются в политику. Мазарини во время заключения Пиренейского мира жаловался испанскому послу дону Луису де Харо: «Как вы счастливы! У вас, как и повсюду, существуют две разновидности женщин: в изобилии кокетки и ограниченное число порядочных женщин. Первые думают лишь о том, чтобы нравиться своим любовникам, вторые тем же озабочены относительно своих мужей. И те, и другие желают лишь роскоши и удовлетворения своего тщеславия. Наши напротив — будь то скромницы, старухи, молодые, дуры или умницы — хотят вмешиваться во все дела. Порядочная женщина не ляжет в постель со своим мужем, а кокетка со своим любовником, если они еще не обсудили сегодня все государственные дела. Они хотят все знать, во все вникать и, что хуже всего, во все вмешиваться и все портить. Среди них есть такие, которые ежедневно ставят нас в затруднения, каких не знал и Вавилон» [420].
Это была, бесспорно, ранняя форма борьбы за женское равноправие. Не случайно Мари де Гурней назвала свой небольшой трактат, вышедший в 1622 году, «Равенство мужчин и женщин». В романе аббата дела Пюра, одном из наиболее существенных источников по истории «прециозниц», его героини вооружаются против брака, власти мужей и родителей и обсуждают проблемы развода и ограничения деторождения. Их любимое занятие — состязание с мужчинами в уме, находчивости, тонкости суждений или поэтическом даре. Современники с раздражением отмечали, что из трех кавалеров: сурового воина, изрубленного на войне, модного щеголя и ученого аббата, кокетливого и надушенного, но говорящего по-латыни и рассуждающего о строении вселенной или смысле строки древнего автора, именно этот последний более всего имеет шансов на успех.
«Прециозницы» XVII века миновали вместе со своей эпохой, но наследницами их сделались хозяйки салонов Парижа в XVIII веке. То, что хозяйка салона была, как правило, женщина в летах, часто старуха, не мешало ей быть притягательным центром определенного культурного круга. Она привлекала сердца любезностью, привязанностью к своим друзьям, умением управлять беседой «высшей образованности» (Пушкин).
В русском салоне XVIII века эта сторона его культурного образца не получила развития, хотя определенные тенденции к культурной эмансипации можно видеть в появлении женщин-писательниц в кругах Хераскова и Княжнина. Однако в целом положение женщины в послепетровской культуре было иначе ориентировано. Основным противником были здесь не мужчины как таковые, с их стремлением к господству, а сторонники «старых нравов», отрицавшие за женщиной право на любовь по своему выбору. Естественно, что главные усилия направлялись в этих условиях на культивирование любви и утверждение мысли о том, что она-то и есть единственное предназначение женщины. Как позже романтики, люди «европеизированной» русской культуры полагали, что именно в любви женщина реализует свою свободу. И поскольку всякое явление культуры под влиянием моды и быта получает в реальности упрощенного двойника, кокетка XVIII века не думала предпочесть платонического умника понятному и привлекательному для нее щеголю. Средние века ценили в женщине душу и с подозрением, если не ужасом, косились на ее тело. «Просвещенный» XVIII век хотел видеть в женщине именно женщину, ее тело (Гейне играл и дразнил своих читателей, когда писал:
Но ты мне душу предлагаешь — На кой мне черт душа твоя! —но для массовой культуры XVIII века это была непреложная истина).
Сентиментальная дружба вытекала из убеждения в том, что самое высокое в человеке — это человек. И в женщине надо видеть человека. А это возможно, лишь потеснив любовь и отдав высшее место чувству, которое уравнивало бы женщину и мужчину, делая признак пола необязательной, хотя именно поэтому острой, приправой. Таким чувством была дружба.
И именно поэтому отношения со знаменскими друзьями были для Карамзина не просто фактом его интимной биографии — он демонстративно связал их со своим творчеством, придал им (для эпохи, когда количество читающих не превышало нескольких сотен) публичность. Настасья Ивановна не была ни прециозницей, ни ученой женщиной, да это и не было нужно. Это было бы даже вредно, поскольку человек — это совсем не тот, кто про себя говорит: «Мыслю, следовательно, существую». Человек — существо чувствующее и чувствительное, человеческое раскрывается не в исключительных представителях рода человеческого — чем обычнее, тем человечнее. И Настасья Ивановна вполне могла бы сойти за «автора», писательницу или «прециозницу» из Голубого салона г-жи Рамбуйе: она была образована лучше, чем обычные провинциальные помещицы, а пожалуй, — и московские дамы: хорошо говорила и писала по-французски, сочиняла на французском языке рассказы и пьесы, руководила домашним театром, а позже даже издала книгу [421]. Но не это культивировала она в себе, а чувствительное сердце. Она это делала в простоте женского инстинкта. Но для Карамзина это превращалось в программу: человек, существо чувствующее и чувствительное, именно этим отличается от минералов и животных. Самые слабости его — залог человечности. Женщина — самая чувствительная и слабая часть человечества. Следовательно, именно в ней человеческое сконцентрировано в наибольшей мере. Именно она, своим чутьем, становится нравственным компасом общества и его художественным законодателем. Ее надо воспитать, развив ум и чувства, но сохранив непосредственность и того и другого.
Женская дружба сыграла огромную роль в жизни Карамзина: он остался сиротой в младенчестве, и потребность материнства проявилась в его юношеском влечении к «женской дружбе». Однако для нас сейчас интересны не спорные тайны подсознания, а то, как биографический факт преломлялся в карамзинской программе строительства своей личности.
Представление о том, что именно дружба как высшее единение освящает узы брака, под непосредственным влиянием Карамзина вошло в сознание поколения, сделалось частью «программы поведения» его наиболее культурной части и, замыкая круг, реализовалось и в человеческой биографии Карамзина. Именно как высокая дружба строились его отношения со второй женой, Екатериной Андреевной (в девичестве Колывановой). Потрясенный неожиданной смертью своей первой жены, Карамзин, вступая во второй брак, дал себе слово никогда не разлучаться с Екатериной Андреевной. Только два раза он не смог выдержать свою клятву: когда, отправив семью из Москвы в 1812 году, собирался участвовать в ее обороне и когда повез первые 8 томов «Истории» царю.
И когда в русской литературе — от пушкинской Татьяны до тургеневских героинь — женщина выступает в роли высшего нравственного критерия и писательского идеала именно потому, что она совмещает в себе и романтическую силу чувства, и карамзинскую готовность не сводить к любви предназначение женщины, мы отчетливо видим сложные пути развития идей. Литературный генезис женского идеала в России XIX века исключительно сложен. Он вобрал в себя и декабристскую гражданственность, и тютчевское начало, и многое другое. Но карамзинская струя влилась в эту реку и придала ей свой оттенок.
А между тем в жизни Карамзина была еще одна, и немаловажная, сторона. Мы почти ничего не знаем о его сердечных увлечениях. А их было немало. Глухие отклики в письмах Дмитриеву говорят об этом красноречиво. 17 июня 1797 года он пишет Дмитриеву: «Мне что-то все очень грустно». «Желаю только спокойствия Настасье Ивановне и семейству ее. Естьли жизнь моя нужна в свете, то разве для нее; не смотря на частые и смешные ссоры, она очень любит меня. Я также сердечно к ней привязан. Чрезмерно беспокоюсь, мой милой друг, о другом человеке; она поехала из Москвы больная, уверив меня самым нежным, самым трогательным образом в любви своей. Не знать, что с нею делается! жива ли, здорова ли она! Писать — но может быть ей не отдадут письма моего. Однакожь решусь. Часто вижу печальные сны, и делаюсь суеверным. Клянусь Богом, что готов отказаться от любви ее с тем условием, чтобы она была жива, здорова и щастлива» [422]. 10 августа 1797 года: «Я, друг мой, надеюсь когда нибудь сделаться философом. Лет за десять перед сим, или больше, Н. И. Новиков, закладывая в воспитательном доме свой дом и деревню, просил меня быть в числе личных порук. Теперь выходит всей суммы около 150000 рублей, и велено описать все наше имение; хотели даже описать и мои книги, и мои фраки. Таким образом я лишусь, может быть, и последнего. Поверишь ли, что это меня не трогает? Если бы только мои Плещеевы могли выпутаться из долгов, я согласился бы работать день и ночь для своего пропитания. — Прости, мой милой друг! Другое тревожит меня. Она живет или страдает в 10 верстах от Москвы, больна, кровь льется из груди, и я не могу видеть ее!» [423] Но уже 16 ноября в письме мелькает: «Я ныне весь в италиянском языке; сплю и вижу Метастазия; его Liberta знаю наизусть» [424]. «Liberta» — это свобода. Но «Liberta» Метастазио посвящено свободе любовника, расставшегося с ветреной любовницей и освободившегося от цепей страсти. И недаром — 10 декабря 1797 года: «Милая и нещастная ветреница скатилась с моего сердечного горизонта без грозы и бури. Осталось одно нежное воспоминание, как тихая заря вечерняя» [425]. И тут же намек на какое-то новое увлечение. Летом 1800 года меланхолическое письмо: «Прошли те лета, в которые сердце мое ждало себе в гости какого-то неописанного щастья; прошли годы тайных надежд и сладких мечтаний! Рассудок говорит, что мне уже поздно думать о приобретениях; даже и то, чем наслаждаюсь должно мало по малу исчезнуть. Так на шумном пиршестве утружденные гости один за другим расходятся; музыка умолкает; залы пустеют, свечи гаснут, и хозяин ложится спать — один! Природа очень многое хорошо устроила; но для чего сердце не теряет желаний с потерею надежды? Для чего, например, перестав быть любезным, хотим еще быть любимыми?» [426] 15 ноября 1800 года: «Настасья Ивановна скоро едет в Петербург. Ты не забудешь моей просьбы: ни слова, ни слова о моем расположении к известной тебе девице! Она есть ничто иное как страшная, безрассудная кокетка. <…> С княгинею я почти расстался. Суди теперь, на какую погоду указывает барометр моего сердца!» [427] С Настасьей Ивановной нельзя говорить на эти темы не только щадя ее чувство нежной дружбы. Есть и другая причина: Карамзин уже почти влюблен в ее младшую сестру Елизавету, которую знает еще ребенком, на которой женится в апреле 1801 года и которая, родив ему дочь Софью, умрет через год после свадьбы.
«С бледным лицом, открытой головой, шел он около пятнадцати верст до Донского монастыря (от Свирлова под Москвой, где скончалась Елизавета Ивановна, до Донского монастыря, где ее похоронили. — Ю. Л.) подле печальной колесницы, положа руку на гробницу; сам опускал ее в могилу; бросил первую горсть земли. Друзья подошли к нему, предлагали ему место в карете. «Оставьте меня одного, — отвечал Карамзин, — приходите завтра. Присутствие ваше будет необходимо»» [428].
Мы остановились на этой стороне жизни писателя не случайно: для Карамзина любое разграничение биографии на «важные» и «неважные» ее стороны искажает перспективу (фактически такое разграничение, конечно, остается — уничтожить его невозможно: это означает лишь, что возведение того, что прежде считалось «неважным», «частным», в ранг основного составляет сознательную установку писателя). В связи с этим меняется и место, которое отводится «личным» чувствам и главному из них — любви к женщине. Как мы уже говорили, любовь в системе Карамзина стоит рядом с искусством. Можно вспомнить пушкинское:
…Из наслаждений жизни
Одной любви Музыка уступает;
Но и любовь мелодия… [429] [430]
Любовь, как и искусство, является воспитателем, цивилизатором. Поэтому центр внимания переносится на ее одухотворение, «воспитание воспитателя». XVIII век узаконил место «страсти нежной» среди чувств, дозволенных человеку и являющихся предметом литературы и философии. Однако в борьбе со средневеково-религиозными концепциями любви «небесной» или аскетического торжества над этим чувством вперед выдвинулось представление о любви-счастье и любви-наслаждении. Сенсуалистическая философия придавала теории страстей чувственный (в философском, а не бытовом значении этого слова) характер. Так, Кондильяк в «Трактате об ощущениях» утверждал, что мы любим то, что приятно действует на наши органы чувств, и сильнее любим то, что сильнее и приятнее на них действует. Переходя со страниц книг в сферу реального поведения людей, идея чувственности теряла свой философский характер и обретала упрощенно-бытовой. В соединении с общим моральным упадком «старого общества», «новая» философия давала порой неожиданные плоды, реализуясь в уродливых гримасах светского поведения.
Разврат, бывало, хладнокровный Наукой славился любовной, Сам о себе везде трубя, И наслаждаясь не любя. Но эта важная забава Достойна старых обезьян Хваленых дедовских времян: Ловласов обветшалых слава Со славой красных каблуков И величавых париков [431].В воспоминаниях А. Е. Лабзиной есть любопытный рассказ о разговоре ее с ее первым мужем, известным химиком и естествоиспытателем А. М. Карамышевым. Когда она стала его упрекать в том, что он заводит любовниц, он ей отвечал: «Разве ты думаешь, что я могу тебя променять на тех девок, о которых ты говоришь? Ты всегда моя жена и друг, а это — только для препровождения времени и для удовольствия». — «Да что ж это такое? Я не могу понять, как без любви можно иметь любовниц? Ежели бы со мной сие случилось, то я бы перестала тебя любить, но это выходит — скотство и грех перед Богом и нарушение тех клятв, которые ты давал мне перед Евангелием! Остерегайся, мой друг, чтоб правосудие Божие не постигло тебя!» Он засмеялся и сказал: «Как ты мила тогда, когда начинаешь филозофствовать! Я тебя уверяю, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное, и я не подвержен никакому ответу» [432]. Превращение «наслаждения натурального» в одухотворенное культурой чувство ставит его в один ряд с высшими проявлениями духовной жизни. Отсюда в любви ценятся черты, удаляющие ее от непосредственно физического влечения. Высокую оценку получает страдание. Это сближает любовь с гражданскими чувствами, где также способность страдания — критерий высоты и достоинства. Как Катон в «Пантеоне» (из Лукана) призывал «терпеть величайшие бедствия» и слова «счастливый человек» употреблял уничижительно, так и «героизм любви» проявляется в самопожертвовании и готовности к бедствиям.
В искусстве карамзинисты ценят «элегантность» (ненавистное Шишкову слово!), в любви ей соответствует «деликатность», тонкость чувства, способность воспринимать оттенки и степени его. Как и в искусстве, законодателями в любви должны быть в данной системе культурных ценностей женщины. «Дамский вкус» и здесь признается высшим авторитетом. Более того, женщине отводится высокая общественная роль воспитателя. Именно она одухотворяет общество и облагораживает чувства мужчин.
И здесь проявляется еще одна существенная сторона позиции Карамзина. Когда он апеллировал к дамскому вкусу в литературе или к языку светского общества, он имел в виду не реальных дам и не реальное светское общество своей эпохи: в свете говорили по-французски, а современницы Карамзина русских книг не читали.
Чувственная любовь всегда направлена на объект, сентиментальная любовь-дружба была адресована другой личности, самостоятельному субъекту чувства. Монолог сменялся диалогом, подавление — равноправием. Ослаблялась энергия чувства, но увеличивалась его толерантность. «Рёва», «плакса» — новая маска в новом любовном сценарии.
Он имел в виду общество, которое еще предстоит создать усилиями литературы, в первую очередь его, Карамзина, собственным творчеством (литература должна учиться языку у общества, но сначала это общество создать!). В равной мере дамский вкус должен стать законодателем в литературе, но предварительно литература — его, Карамзина, произведения — должна воспитать этот самый дамский вкус.
Точно так же и в любви. Женщины — воспитательницы чувств. Но их чувства следует воспитать. И это достигается собственным поведением поэта, которое, превращенное в его поэзию и воспринимаемое сквозь призму его поэзии, делается образцом «чувствительной» любви.
Воспитание чувств, культура душевной жизни для Карамзина единственно реальный путь прогресса. Поэтому разграничение общественного и личного для него совершенно бессмысленно: только в личном совершается общественное. Но как писатель может воспитывать общество, когда цензура принуждает его к молчанию? Карамзин ищет путей. Он пытается одухотворить жизнь салона, превращая его в оазис культуры, напоминающий блестящие кружки Ренессанса или философские салоны XVIII века. Неподвластная цензуре устная культура салона — смесь игры и философии — исподволь подчиняется общественно-воспитательным задачам. Карамзин, страстный сторонник замены в светском обществе французского языка русским, готов даже стать французским писателем, чтобы приохотить русских дам к литературе и выиграть сражение на поле противника. В этом смысле интересен один загадочный эпизод из творческой биографии писателя.
В письме из Парижа, помеченном «июня…», «Писем русского путешественника», Карамзин поместил сцену в салоне госпожи Гло*. Путешественник узнает, что завтра в салоне «будет чтение. Аббат Д* привезет мысли о любви, сочинение сестры его, Маркизы Л*». «В 9 часов хозяйка вызвала аббата Д* на сцену. Все окружили софу. Чтец вынул из кармана розовую тетрадку, сказал что-то забавное и начал. <…> Жаль, что я не могу от слова до слова пересказать вам мыслей Автора». Далее идут отрывки, «которые остались» у путешественника «в памяти». «Слушатели при всякой фразе говорили: браво! c'est beau, c'est ingenieux, c'est sublime [433], a я думал: хорошо, изрядно, высокопарно, темно, и совсем не женской язык!» (289). Письмо это относится к той части «Писем», корректуру которой Карамзин читал летом 1796 года. Книга вышла в конце января 1797 года (объявление о выходе см. в «Московских ведомостях» от 28 января). А в письме Дмитриеву от 10 декабря 1797 года, признаваясь в новых любовных увлечениях («Боюсь кораблекрушения, но распускаю парусы! Досадное сердце не слушает рассудка»), он посылает на французском языке обширный текст «Несколько мыслей о любви» и сопровождает его следующим примечанием: «Прилагаю Quelques idees sur l'amour. Не сказывай никому, что эта пиэса моя. Я назвал ее сочинением одной дамы; и так не противоречь мне» [434].
Текст, посланный Дмитриеву, — другой по сравнению с опубликованным в «Письмах». Естественно возникает вопрос: что такое «Несколько мыслей о любви» и с какой целью они написаны? В письме Дмитриеву, писанном в последний день 1797 года, видимо, отвечая на недоуменные вопросы или критику корреспондента, Карамзин писал: «Мысли мои о любви брошены на бумагу в одну минуту; я не думал писать трактат, а хотел единственно сказать, по тогдашнему моему чувству, что любовь сильнее всего, святее всего, несказаннее всего» [435]. Слова эти, представляющие «Мысли» некоторым лирическим излиянием, непроизвольным голосом влюбленного сердца, противоречат тому, что Карамзин приписал авторство некоей неизвестной нам даме и достаточно широко распространял. Последнее вытекает из просьбы не разоблачать в Петербурге затеянную Карамзиным в Москве литературную мистификацию. Просьба эта могла иметь смысл только, если Карамзин распространял или собирался распространить свое сочинение в определенном кругу.
Какую цель могли иметь эти действия?
Парижская дама (вероятно, также вымышленная Карамзиным), по его же оценке, изъяснялась «высокопарно, темно» и употребляла «совсем не женской язык». Можно предположить, что в «Мыслях» Карамзин хотел дать образец языка подлинной страсти. В письме к Дмитриеву он настойчиво противопоставлял «рассуждение о страсти», «философию» — голосу страсти, излиянию чувства: «Философия и страстная любовь не могут быть дружны», «рассуждать о страстях может лишь равнодушный человек» [436]. Еще важнее было другое: Карамзин, видимо, хотел дать образец «женского языка».
Это был замысел педагога и популяризатора: от женщин зависит воспитание. Следовательно, надо воспитывать женщин. А для этого их надо приохотить к литературе и одновременно облечь их чувства в благородные книжно-письменные формы выражения и тем самым облагородить самые чувства. Все это будет достигнуто, если женщины сделаются писательницами. Не беда, что сначала они будут писать по-французски. Ведь еще летом 1824 года Пушкин считал этот язык естественным для выражения женской любви:
Итак, писала по-французски… Что делать! повторяю вновь: Доныне дамская любовь Не изъяснялася по-русски [437].Если мы правильно расшифровали замысел Карамзина, то делается понятным и его желание скрыть свое авторство за вымышленным лицом мифической дамы — следовало показать пример и убедить, что женщина может быть изящным сочинителем. Требование русской речи придет позже. Итак, мы снова перед парадоксом языковой программы Карамзина: ориентироваться на читателя и одновременно создавать своего читателя. И здесь мы вновь видим ученика Новикова — воспитателя, продумывающего поэтапность воспитания с тем, чтобы каждый раз давать воспитуемому посильное и понятное, последовательно усложняя задачу. Но здесь и разница: Новиков воспитывает нравственность, накладывая на души учеников возрастающее «бремя неудобь носимое», Карамзин — культуру, искусство жить и чувствовать, стремясь сделать бремя легким и приятным, соответствующим слабостям человеческой натуры.
Последние годы века были для Карамзина тяжелыми, и успехи в московских салонах не могли их украсить. История загадывала кровавые загадки Сфинкса и, подобно Сфинксу, грозила пожрать неспособных разгадать ее тайны. Личная жизнь была тяжела и запутана. Путь был уже избран — профессиональный писательский труд. Но как идти по этому пути с поднятой головой, не жертвуя ни независимостью, ни честью, ни убеждениями? Как быть литератором, когда литература «лежит под лавкой»?
Но именно в это трудное время шло напряженное созревание писателя, трудное «сотворение себя».
Период сотворения собственной личности завершился для Карамзина тяжелым катарсисом. Не только мрачные переживания, но и тяжелая физическая болезнь отмечают рубеж, который делит его жизнь на две большие полосы. 7 февраля 1799 года Карамзин писал Дмитриеву: «Я не задохнувшись не могу взойти на самое низкое крыльцо, бледнею, худею, и плачу от истерики, как женщина». А в октябре 1799 года: «Желаю только одного: умереть покойно» [438].
Он считал, что умирает.
Он не умер. Но начало нового века было для него и началом новой жизни. Период «строительства» своей личности завершился. Карамзин вошел в девятнадцатый век другим человеком.
НА РУБЕЖЕ
Карамзин не умер — ему предстояло еще четверть века жить, творить и быть свидетелем, «собеседником на пиру богов» — участником величайших событий. Путь продолжался. Было бы ошибкой думать, что произошло чудесное мифологическое превращение, и «новый» Карамзин был совсем другим человеком, ничем не связанным со «старым». Путь был единым, и по нему шел все тот же человек. Он по-прежнему ощущал себя путешественником. Только если в 1790-е годы путешественник по Европе сменился путешественником в мир фантазии, то теперь это был трезвый и строгий путешественник в царство политики и истории.
Карамзин — не старик. Он начинает новую жизнь: заново женится и избирает совершенно новое поле деятельности, поле, требующее не только таланта и труда, но и совсем новых знаний и навыков.
Пушкин, отмечая, что Карамзин в зрелых годах и на вершине славы как бы начал второй раз юношеский труд учения, писал: «У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина, — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты (т. е. примечания. — Ю. Л.) Русск<ой> ист<ории> свидетельствуют обширную ученость Кар<амзина>, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению» [439].
Карамзин не мог бы начать этой второй жизни, если бы не прожил первой. И все же он другой человек. Карамзин XVIII века весь пронизан был игрой. Его личность могла себя выразить только в многоликости. А господство эстетического подхода позволяло ему примерять различные и взаимоисключающие маски и жесты.
Противоречий сих в порок не должно ставить Любимцам нежных муз; их дело выражать Оттенки разных чувств, не мысли соглашать; Их дело не решать, но трогать и забавить [440].Этот облик личности не исчез, но отступил глубоко на задний план. И. И. Дмитриев связал в свое время многообразие личности с сентиментальной чувствительностью, сочинив подпись к портрету Карамзина:
Он дома — иль Шолье, иль Юм или Платон; [441] Со мною — милый друг; у Вейлер — селадон;
Бывает и игрок — когда у Киселева [442], А у любовницы — иль ангел, или рева [443].Пародисты и литературные неприятели еще продолжали по старой памяти именовать его Ахалкиным или Новым Стерном. Но Карамзин был уже другим. Утративший иллюзии, сдержанный, внешне суховатый, запретивший себе мечты о счастье, постоянно погруженный мыслями в судьбы народов, он уже не был ни «селадоном», ни «ревой». Вспомним впечатление Жермены Сталь, которая встретилась с Карамзиным и оставила в записной книжке краткую строку: «Сухой француз — вот и всё» [444]. Г-жа де Сталь привыкла к поклонению и настроена была романтически. Она простила бы любую экзотику, любой эксцентризм поведения «московита» — но встретила человека, которого уже нельзя было удивить ничем, в том числе ни блестками салонного красноречия, ни даже ореолом жертвы наполеоновских гонений. Забавно слушать от нее слово «француз» как осуждение, но Карамзин давно уже был выше того, чтобы напоказ украшать себя каким-либо «местным колоритом».
В 1790-е годы Карамзин сделался свидетелем крушения надежд целой исторической эпохи. Он вышел из этого горнила закаленным, но и с душой, покрытой шрамами. Отпала игра, отброшено было все показное. В его характере не осталось ничего, что можно было бы назвать суетностью. Появилось величие. Он ничего не ждал от жизни для себя.
Характер сложился, но развитие личности не остановилось. Да и не мог остановиться мыслящий и чувствующий человек, которому предстояло быть свидетелем событий, ждавших Карамзина впереди.
Новый век начался новым царствованием. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года Павел I был убит. На престоле оказался Александр I. Жители столиц ликовали. В Карамзине проснулся дух политика.
В 1801 году Карамзин приветствовал нового императора политическим нравоучением:
Сколь трудно править самовластно, И небу лишь отчет давать!… … Но можно ли рабу любить? Ему ли благодарным быть? Любовь со страхом не совместна; Душа свободная одна Для чувств ее сотворена [445].Тогда же, на рубеже двух веков и двух периодов своего творчества, он написал «Историческое похвальное слово Екатерине II». Тема была подсказана тем, что Александр I в манифесте, объявлявшем о вступлении его на престол, обещал царствовать «по законам и по сердцу августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины Вторыя». Каким Карамзин представлял себе царствование Екатерины II, он сам сказал Александру I позже, в 1811 году, в безжалостной «Записке о древней и новой России». Сейчас он предпочел под именем Екатерины начертать идеальный образ, своего рода монархическую утопию. «Слово» противоречиво — это произведение переходной эпохи. Карамзин защищает самодержавие как единственно подходящую форму для обширной империи и для нынешнего состояния нравственности. Это не мешает ему подчеркивать, что в идеале, для общества, воспитанного на гражданской добродетели, республика предпочтительнее. Но «Республика без добродетели и геройской любви к отечеству есть неодушевленный труп» [446]. Это была формула «республиканизма в душе», к которой Карамзин впоследствии прибегал неоднократно и которая не могла убедить его революционных современников. Однако поражает тон сочинения. Оно начинается обращением не к «любезным читателям», а так, будто ее предстоит читать перед многолюдным собранием патриотов: «Сограждане!» Это, вероятно, первый случай, когда русский писатель так обращался к своим читателям. Так защищать самодержавие мог только человек, впитавший красноречие Национального собрания. Карамзин защищал власть, ограничивающую свободу, но защищал ее как свободный человек. Да и самодержавие в его изложении выглядело необычно. Это не был безграничный деспотизм. Свобода и безопасность отдельной личности, частного лица была той стеной, перед которой должна была остановиться власть любого самодержца. Екатерина, в изображении Карамзина, «уважала в подданном сан человека, нравственного существа, созданного для щастия в гражданской жизни». «Она знала, что личная безопасность есть первое для человека благо, и что без нее жизнь наша, среди всех иных способов щастия и наслаждения, есть вечное, мучительное беспокойство» [447]. При этом Карамзин ссылается на первый манифест Екатерины II и на ее Наказ — оба документа, как он, конечно, знал, были негласно дезавуированы самим правительством.
ПОЛИТИК
Карамзин не любил политики. Для философов XVIII века слово «политика» звучало как нечто тайное, основанное на коварстве и порожденное злоупотреблениями абсолютизма. Ей противостояли открытая речь оратора к народу или публичная дискуссия народных представителей. «Политика гораздо в большей мере имеет источником извращенность человеческого ума, чем его величие», — писал Вольтер (позже в тон ему Бальзак скажет: «Великий политик должен быть негодяем, погруженным в абстракции»). Карамзин разделял эти представления. В опубликованной в 1798 году части «Писем», описывая могилу Ришелье, он замечал: «Я представил бы Кардинала не с Христианскою, святою Религиею, а с чудовищем, которое называется Политикою, и которое описывает Вольтер в Генриаде:
Дщерь гордости властолюбивой, Обманов и коварства мать, Все виды может принимать: Казаться мирною, правдивой, Покойною в опасный час; Но сон вовеки не смыкает Ея глубоко-впавших глаз; Она трудится, вымышляет; Печать у Истины берет И взоры обольщает ею; За Небо будто восстает, Но адской злобою своею Разит лишь собственных врагов (282).Тем более удивляет решение Карамзина издавать (неслыханная в России вещь!) политический журнал. Подобно тому, как прежде он стремился формировать вкусы читателей, теперь он ставит перед собой цель образовывать их политические воззрения, создавать в России общественное мнение. Желание «построить тихий кров / За мрачной сению лесов», кажется, забыто. 9 октября 1801 года в № 81 «Московских ведомостей» появилось объявление, уведомлявшее читателей от имени Карамзина: «С будущего Января 1802 году намерен я издавать Журнал, под именем Вестника Европы, которой будет извлечением из двенадцати лучших Английских, Французских и Немецких журналов. Литература и Политика составят две главных части его». Уже в первом номере обнаружилось, что именно раздел политики — основа журнала: другой раздел назывался «Литература и смесь», и, несмотря на то что в нем за два года было опубликовано несколько важных повестей издателя, основной материал раздела составляли мелкие заметки и переводы из Жанлис, Дюкре-Дюмениля, Гарве — писателей, которых Пушкин в 1830 году назвал грибами, «выросшими у корн<ей> дубов» (XI, 496). Зато в разделе политики систематически печатались программные статьи самого издателя. Это было решительным новшеством. В России политических журналов доселе не бывало вообще. Правда, в 1790 году ученик Новикова П. А. Сохацкий начал издавать «Политический журнал» (с переменой названия выходил до 1830 года), но это было полностью переводное предприятие — дословная копия гамбургского консервативного издания. Никакой роли в русской общественной жизни журнал этот не сыграл. Кроме того, Сохацкий издавал свой журнал по инициативе куратора московского университета Мелессино, т. е. от имени авторитетного учреждения, а на титуле значилось, что и в Гамбурге изданием ведает «Общество ученых мужей». «Политический журнал» был официальным изданием. Карамзин же был частное лицо, и решение его издавать политический журнал воспринималось если не как дерзость (времена все же были либеральные), то, по крайней мере, как смелость.
Успех превзошел все ожидания: число подписчиков достигло огромной по тем временам цифры в 1200 человек. Первую книжку журнала, которая вышла, когда подписчиков было 580 (Карамзин и тогда считал, что «пренумерантов немало»), пришлось допечатывать.
Политическая позиция издателя была ясно заявлена уже в первом номере. Здесь было опубликовано «Письмо к издателю» (автором был сам Карамзин), в котором выражалась надежда, что «вся Европа, наскучив беспорядками и кровопролитием, заключает мир, который, по всем вероятностям, будет тверд и продолжителен». Время смут и мятежей окончилось. Наступило время мира и спокойствия.
События конца XVIII века были, по мнению Карамзина, попыткой воплотить в жизнь утопии республики или идеального романтического самодержавия. И то, и другое обернулось кровью. «Что сделали Якобинцы в отношении к Республикам, то Павел сделал в отношении к Самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного» [448].
Робеспьер хотел сделать французов римскими республиканцами, Павел русских — идеальными вассалами рыцарских романов или оловянными солдатиками прусского короля. И то, и другое были химеры. Теперь наступил век трезвой реальности, и «мечтательная» философия уступает место политическому реализму. Политический реализм — программа Карамзина в период «Вестника Европы».
Весь материал «Вестника» строго организован вокруг двух идеальных центров: положительного образа государственного мужа — практика, твердо направляющего к общему благу легкомысленных и эгоистичных людей, от которых он не требует чрезвычайных добродетелей и слабостями которых умеет пользоваться, и гибельного образа мечтателя на престоле, самые добрые намерения которого обращаются во вред государству.
Первый образ устойчиво связывается с фигурой Наполеона Бонапарта, первого консула Французской республики.
«Вестник Европы» Карамзина — журнал откровенно бонапартистский.
Для современного нам читателя это звучит странно. В 1802 году это выглядело иначе. С. Н. Глинка, известный патриот, провозглашавший в 1812 году Наполеона людоедом и сыгравший своим журналом «Русский вестник» немалую роль в возбуждении «отечественнолюбивого духа» в русском обществе, на рубеже веков был пламенным бонапартистом. Эти чувства разделял с ним его друг А. А. Тучков, в будущем герой Бородинского сражения, погибший со знаменем в руках у Семеновского редута. С. Глинка позже вспоминал: «С отплытием Наполеона к берегам Египта мы следили за подвигами нового Кесаря; мы думали его славой; его славой расцветала для нас новая жизнь. Верх желаний наших было тогда, чтобы в числе простых рядовых находиться под его знаменами. Но не одни мы так думали и не одни к этому стремились. Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом». «На чреде консула он казался нам потомком Камиллов, Фабрициев и Цинцинатов» [449].
Л. Н. Толстой, глубоко проникший в неуловимые оттенки духа времени, порой ускользающие от внимания историков, не случайно сделал в первых главах «Войны и мира» и князя Андрея Болконского, и Пьера Безухова бонапартистами.
Уже в первом номере «Вестника» Карамзин опубликовал «Всеобщее обозрение», ясно выражавшее программу издателя: «Кто не занимался ею (французской революцией. — Ю. Л.) с живейшим чувством, кто не желал ревностно успехов той или другой стороне <какой стороне желал успехов сам издатель, благоразумно не уточняется. — Ю. Л.>! И многие ли сохранили до конца сей войны то мнение о вещах и людях, которое имели они при ее начале?» Положение Франции оценивается сквозь призму представлений о принципате Августа или идей «республиканской монархии» Руссо: «Франция, несмотря на имя республики, есть теперь в самом деле ничто иное, как истинная монархия». В свете этого дается и деятельность первого консула: «Он, конечно, заслуживает признательность Франции и почтение всех людей, умеющих ценить чрезвычайные действия геройства и разума. Его внешняя политика и внутреннее правление достойны удивления не менее Маренгской победы» [450]. Особо выделяется «надпартийность» первого консула, его стремление выбирать сотрудников, руководствуясь практическими соображениями их годности, а не доктринами: «Бонапарте не подражает Директории, не ищет союза той или другой партии, но ставит себя выше их и выбирает только способных людей, предпочитая иногда бывшего дворянина и Роялиста искреннему Республиканцу, иногда Республиканца Роялисту» [451]. Вообще же отношение к роялистам, находящимся в эмиграции, не примирившимся с Францией и мечтающим о реставрации, более чем прохладное: «Роялисты должны безмолвствовать. Они не умели спасти своего доброго короля, не хотели погибнуть с оружием в руках, а хотят только возмущать умы слабых людей гнусными клеветами <…>. Франции не стыдно повиноваться Наполеону Бонапарте, когда она повиновалась госпоже Помпадур и Дю-Барри». «Мы не знаем предков консула, но знаем его — и довольно» [452].
Абсолютная власть в руках первого консула позволяет ему выступать в роли примирителя и возвышаться над эгоизмом отдельных воль частных лиц и политических деятелей. «В консульском совете ему смело противоречат, он слушает, доказывает и делает по-своему, когда уверен, что лучше других видит». «Всякий благоразумной уверен в необходимости консульской власти, которая должна все соглашать и все устремлять к общей цели (курсив мой. — Ю. Л.). Бонапарте пользуется талантами людей, не принимая никаких внушений личной вражды и не думая о их частном образе мыслей. Таллеран не любит Фуше, Фуше не терпит Таллерана, но оба они министры». Политика Бонапарта — не политика его кабинета: «…великая душа Консула, желая блага Французам, желает его, конечно, и всему Человечеству: вот разница между Бонапартиевой и Таллерановой политикой. Таллеран извивается умом своим как змея, а Бонапарте — как молния!» [453]
Идея сильной власти, поставленной выше всех общественных институтов, имеет философскую основу: она базируется на представлении об антиобщественном эгоизме как врожденном свойстве человека. Вера в человека сменилась горьким презрением к низким свойствам души, не исправленной патриотизмом и просвещением. Поэтому презрение к людям, которое демонстрирует порой Бонапарт, не дискредитирует его. Оно лишь характеризует его как трезвого политика, видящего перед собой реальных людей, а не иллюзорные химеры философов. На вопрос, почему Бонапарт уничтожает республиканские институты, следует ответ: «Не многие имели в свете такие средства возвысить человечество (т. е. возродить республику. — Ю. Л.), но для сего нужно уважать людей, а противники его говорят, что он презирает их. Мудрено ли, когда Бонапарте видит столько низости в душах?» [454]
Если облечь высказывания «Вестника Европы» 1802–1803 годов в определенную политическую формулу, окажется, что реальным содержанием монархизма Карамзина в этот период было президентское правление с очень сильной властью президента как в исполнительной сфере, так и в области законодательной инициативы. Главе государства принадлежала высшая воинская власть и роль конечного арбитра во всех государственных вопросах. Однако сохранение ряда республиканских институтов, выборность законодательных органов и свобода печати (попытки ограничить ее во Франции вызывают в «Вестнике» осуждение) не дают превратиться этому правлению в деспотическое. А сила правительства — гарантия от анархии.
Тень принципата Августа ложится на эти идеалы и облекает их в «римскую помпу», все еще не потерявшую для Карамзина обаяния.
О том, что идеалы издателя «Вестника» следует толковать именно так, свидетельствует интересный пример: в номере втором журнала за 1802 год было опубликовано «Письмо из Соединенных Американских Областей», в котором дается портрет президента Джефферсона — идеального главы государства. Портрет этот текстуально близок к характеристикам, которые даются в «Вестнике» Бонапарту. Даже вождь гаитянского восстания негров Туссен-Лювертюр получает в «Вестнике» положительную характеристику, пока кажется, что он способен ввести восстание в рамки порядка, и пока его поддерживают бонапартистские газеты Франции: «Туссен-Лювертюр есть, как Бонапарте, победитель и примиритель» (1802, № 3, «Письмо из С.-Доминго»). Одновременно постоянную иронию издателя вызывает английский парламентаризм. В нем подчеркивается купеческий или аристократический эгоизм и отсутствие подлинной демократии.
Такая позиция была очень своеобразна: она ставила Карамзина вне рядов русского англоманского либерализма начала века и еще в большей мере отгораживала его от тех, кто оставался верен традициям философии XVIII века с ее верой в доброту человека и народный суверенитет. Но не менее чужды были издателю «Вестника Европы» любые оттенки идеологии эмигрантов, сторонников Бурбонов и теоретиков легитимизма. Показательно, что, процитировав отрывки из «Гения христианства» Шатобриана («Вестник Европы», 1802, № 11, с. 242), Карамзин комментировал: «Мы не умеем вообразить ничего нелепее такой нелепицы. Вот как пишут во Франции некоторые новые литераторы».
Другой смысловой центр журнала — образ слабого правителя, который, поддавшись корыстным увещеваниям окружающих его вельмож, облекавших свой эгоизм в либеральную фразеологию, превратил верховную власть в фикцию, передал ее в руки честолюбцев, создал вместо провозглашенной демократии аристократическую олигархию и погубил свое государство. Так, в № 4 «Вестника» за 1802 год было опубликовано «Письмо из Константинополя». Оно начинается, казалось бы, оптимистическим сообщением: «Нынешнее Турецкое правление есть уже не древнее деспотическое, на темном Алькоране и воле султана основанное». Далее говорится, что два верховных советника «Рашид Рейс Эффенди или министр иностранных дел и Челеди-Эффенди или собиратель налогов» «в тишине» сочинили конституцию и «в тишине произвели ее в действо». Однако умаление власти султана лишь увеличило власть вельмож: «Последствие доказало, что такая Аристократия не годится для Турецкого народа». Вспыхнули восстания, и вождь бунтарей Пасван-Оглу заявил, «что он готов покориться Султану, если Селим захочет сам собою царствовать (курсив мой. — Ю. Л.), но что собрание 10-и разбойников не должно располагать имением и жизнию правоверных». Началась гражданская война, но солдаты «не чувствуют большой ревности сражаться за 10 Аристократов, ни мало не заслуживающих любви народной» [455].
С этим «Письмом из Константинополя» интересно сопоставить статью Карамзина (подпись: О. Ф. Ц.) «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича». Здесь, как и в известии о бунте Пасван-Оглу, говорится о том, что передача власти в руки вельмож вызвала народный мятеж. Попытка ослабить монархическую власть лишь утяжелила участь народа и гнет несправедливостей. Уничтожение олигархии успокоило мятеж. «С этого времени царь Алексей Михайлович начал царствовать сам собою (курсив мой. — Ю. Л.; характерно точное совпадение формулы с «Письмом из Константинополя»)». «Он видел, сколь опасно для монарха излишне полагаться на бояр» [456].
В «Вестнике» много и других примеров этого рода (материал черпается из известий о гражданских раздорах в Швейцарии, Гаити и других иностранных сообщений). За образом доброго, но слабого и неопытного монарха, уступающего власть честолюбивым вельможам, легко просматривался Александр I. Слухи о деятельности «Негласного комитета», в котором Строганов, Новосильцев, Чарторижский и Кочубей, как Рашид Рейс Эффенди и Челеди Эффенди, «в тишине» «сочиняли» конституционные реформы, распространялись в это время достаточно широко, и конституционные планы Александра I ни для кого не были секретом. Ссылаясь на мемуары Адама Чарторижского, вспоминавшего, что тайны Негласного комитета «вскоре стали всем известны» [457], А. В. Предтеченский заключает: «Да и невозможно было сохранить в полной тайне само существование комитета, коль скоро к его работе привлекался довольно значительный контингент лиц» [458]. В числе лиц, хорошо осведомленных о деятельности комитета, А. В. Предтеченский называет А. Р. Воронцова, Н. С. Мордвинова, П. А. Зубова, П. В. Завадовского, Д. П. Трощинского, M. M. Сперанского, Г. Р. Державина, Н. П. и С. П. Румянцевых. Вероятно, осведомлен был и И. И. Дмитриев. Трудно представить, чтобы Карамзин не был в курсе обсуждавшихся в Зимнем дворце планов.
Антитеза Наполеон — Александр составляла организующую нить политической позиции «Вестника Европы». Это делается особенно очевидным, когда мы сверяем тексты, которые редактор «Вестника» представляет как переводы, с их реальными оригиналами. Нам удалось, хотя Карамзин нарочито туманно указывает на источники, установить большое число статей, «переводы» которых публиковались в «Вестнике Европы». Обзор этих материалов делает очевидным, что мы имеем дело с программными статьями, выражающими позицию самого издателя. Так, например, «Письмо из Константинополя», конечно, писалось не в столице Оттоманской империи. Это комбинация отрывков из книги «Путешествие в Оттоманскую империю, Египет и Персию, произведенное по приказу правительства в период шести первых лет республики Г. А. Оливье, членом национального института и проч., и проч., т. 1, Париж., девятый год республики» (по-французски) и «Политического журнала», октябрь 1801 г. (Карамзин, видимо, пользовался немецким оригиналом, а не позже появившимся русским изданием). Сопоставление убедительно показывает свободу и субъективность интерпретации Карамзина. Например:
«ПИСЬМО ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ» КАРАМЗИНА: «ПУТЕШЕСТВИЕ» ОЛИВЬЕ: О Пасване-Оглу * Сим первым успехом он прославился по всей империи, и народ, почти везде недовольный новой (курсив Карамзина) системой Дивана, явно желал Па-свану дальнейшего счастья, считая его великим воином и другом старинных обычаев. Его первые успехи создали ему репутацию талантливого полководца и заставили видеть в нем человека, целиком преданного делу народа (перевод мой. — Ю. Л.). «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» Последствие доказало, что такая Аристократия не годится для Турецкого народа. Неоспоримо выводимое из того следствие, что для турок годится только деспотический образ правления. (перевод П. А. Сохацкого). Причины реформы * «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» …мать добродушного Селима III <…> была встревожена слухами <ложными. — Ю. Л.> о всеобщем неудовольствии народа, о разных бунтах в провинциях и предложила сыну своему сей новый план хитрых честолюбцев, как самое лучшее средство успокоить империю. Селим принял его охотно, уступая часть власти своей для государственного блага. Селим хотел вместо сонного правления своего предшественника вновь ввести строгость военной власти. Дикое рвение его завело его слишком далеко. Он боялся своих вельмож… <перевод мой. — Ю. Л.>Испуганный восточный деспот, уступающий угрозам дворцовых заговорщиков, конечно, не мог вызвать никаких ассоциаций с Александром I 1802 года. Но перед русским читателем предстал молодой и поддающийся влияниям самодержец, которого хитрые честолюбцы убеждают ограничить свою власть ради «государственного блага». Точно такой же стиль работы над источниками можно было бы продемонстрировать и на примере других статей «Вестника Европы».
Значительной темой «Вестника» была проповедь просвещения. Она тесно связывалась для Карамзина с решением крестьянской проблемы. «Вестник» решительно высказывался (в статье «Письмо сельского жителя») против планов немедленного освобождения крестьян, но категорически настаивал на широком просвещении народа, которое должно предварить и подготовить отмену крепостного права: меру необходимую и справедливую, но требующую нравственной и просветительской подготовки.
Попытки реализовать химеру теоретиков могут прикрывать или благородство трагически обреченных мечтателей, или своекорыстный эгоизм честолюбцев — и тем и другим противостоит осторожная мудрость государственных практиков. Таков конфликт между благородной носительницей идеалов новгородской свободы, «Катоном своей республики» Марфой, идеалов, уже преданных и обреченных на гибель падением нравов и эгоизмом новгородцев, и суровым орудием государственной пользы Иоанном в повести «Марфа Посадница».
Весь «Вестник Европы» — это как бы единый монолог издателя, выражающий его политическую программу. Карамзин не доверял государственным способностям Александра I, хотя и верил в его «прекрасное сердце». Он надеялся на длительный мир и союз с Бонапартом.
Приступая к изданию «Вестника», Карамзин был настроен оптимистически. Одну из программных статей журнала он назвал «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени». Но жизнь снова готовила ему разочарования. Не последним из них было разочарование в Бонапарте. В связи с провозглашением первого консула императором, он писал брату: «Наполеон Бонапарте променял титул великого человека на титул императора: власть показалась ему лучше славы» [459]. Надежды на прочный и длительный мир также не оправдались. Все больше становилось ясным, что Александр I не собирается ограничивать самодержавия и тем не менее ведет именно ту политику химер и «мечтаний», против которой предупреждал редактор «Вестника». Наконец, как политик Карамзин оказался одиноким. Консерваторы видели в нем опасного якобинца, либералы «дней александровых прекрасного начала» — закоренелого ретрограда. Читатели охотно покупали «Вестник», но смотрели на журнал как на интересное чтение, свежую, прекрасно изложенную информацию. «Парадоксы Карамзина», как назвал Пушкин идеи редактора «Вестника», оставляли читателя равнодушными.
Карамзин положил перо журналиста. Он взял перо историка.
ОТРЫВКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ
1 июля 1810 года Карамзин получил при милостивом рескрипте Александра орден Владимира 3-й степени. Через несколько недель попечитель Московского учебного округа П. И. Голенищев-Кутузов написал новоназначенному министру народного просвещения гр. Разумовскому письмо, отправив его с оказией:
Милостивый государь граф Алексей Кирилович!
Имея толь верный случай, решился писать к в.<ашему> с.<иятельству> и о том, чего бы не хотел вверить почте. Ревнуя о едином благе, стремясь к единой цели, не могу равнодушно глядеть на распространяющееся у нас уважение к сочинениям г. Карамзина; вы знаете, что оные исполнены вольнодумческого и якобинского яда. Но его последователи и одобрители подняли теперь еще более голову, ибо его сочинения одобрены пожалованием ему ордена и рескриптом его сопровождавшим. О сем надобно очень подумать, буде не для нас, то для потомства. Государь не знает, какой гибельный яд в сочинениях Карамзина кроется. Оные сделались классическими. Как могу то воспретить, когда оные рескриптом торжественно одобрены. Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать, а давно бы пора его запереть; не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь. Вы не по имени министр просвещения, вы муж ведающий, что есть истинное просвещение, вы орудие Божие, озаренное внутренним светом, и подкрепляемое силою свыше; вас без всякого искания сам Господь призвал на дело его и на распространение его света; в плане неисповедимых судеб его вы должны быть органом его истины, вопиющим против козней лукавого и его проклятых орудий. И вы, и я дадим ответы пред судом Божиим, когда не ополчимся противу сего яду, во тьме пресмыкающегося и не поставим оплота сей тлетворной воде, всякое благочестие утопить угрожающей. Ваше есть дело открыть государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготе, яко врага Божия и врага всякого блага и яко орудие тьмы. Я должен сие к вам написать, дабы не иметь укоризны на совести; если бы я не был попечитель, я бы вздыхал, молился и молчал, но уверен будучи, что Богу дам ответ за вверенное мне стадо, как я умолчу пред вами, и начальником моим, и благодетелем. Карамзина превозносят, боготворят! Во всем университете, в пансионе читают, знают наизусть, что из этого будет? Подумайте и полечитесь о сем. Он целит не менее, как в Сиесы или в первые консулы — это здесь все знают и все слышат. Я молчу и никому о сем ни слова не писал, ни говорил, а к вам я обязан это сделать. Пусть что хотят, то делают, но об университетах надобно подумать и сию заразу как-нибудь истребить. Вы меня благоразумнее, опытнее; вы мудрости и доброты более меня в тысячу раз преисполнены! Попекитесь о сем. Тут не мое частное благо, а всеобщее! В том вам сам Господь поможет. Умолять же о том его милосердие не престанет и о вас яко о благодетеле тот, который с сердечною привязаностию, глубочайшим почитанием и беспредельною благодарностию есмь и всегда пребуду М. Г. В. С. [460] преданнейшим и обязательнейшим слугою П<авел> Г<оленищев-> К<утузов>.
Тогда же на Карамзина поступило еще несколько доносов В одном он обвинялся в общении с иностранцами и вынужден был оправдываться.
Работа над Историей была в разгаре. Летом 1808 года был закончен IV том, когда находка одного из важнейших источников — Ипатьевской летописи — потребовала новых дополнений к уже сделанному. К лету 1812 года история дошла до царствования Ивана III. В работе был VI том. Началась война. Неприятель приближался к Москве. Стихийный исход московских жителей, гибельность которого для французов раскрылась позже, казался Карамзину, как и многим современникам, трусостью. Коренной москвич, он не хотел покидать Москвы и готовился погибнуть в ее стенах. Отправив семью, он переселился в дом московского военного губернатора Ростопчина, куда поступали самые верные новости из армии. Питаться городскими слухами было невыносимо. Отпуская в действующую армию молодого историка Калайдовича, Карамзин сказал, что, если бы имел взрослого сына, он также отправил его в бой [461]. Благословил на гибель отправившихся участвовать в Бородинском сражении Жуковского и Вяземского и сам готовился пойти в ряды ополчения.
В доме Ростопчина в Сокольниках после известия о Бородинском сражении произошел важный разговор, содержание которого мы знаем в пересказе А. Я. Булгакова. При известии об отходе армии присутствующих охватила паника. Булгаков писал: «Я никогда не забуду пророческого изречения нашего историографа, который предугадывал уже тогда начало очищения России от несносного ига Наполеона. — Карамзин скорбел о Багратионе, Тучковых, Кутайсове, об ужасных наших потерях в Бородине и наконец прибавил: «Ну, мы испили до дна горькую чашу… Но зато наступает начало его и конец наших бедствий. Поверьте, граф, обязан будучи всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет!» — Казалось, что прозорливый глаз Карамзина открывал уже в дали убийственную скалу Св. Елены! В Карамзине было что-то вдохновенного, увлекательного и, вместе, отрадного. Он возвышал свой приятный мужественный голос, прекрасные глаза его, исполненные выражения, сверкали. В жару разговора он часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, всё говоря; и опять садился. Мы слушали молча…» [462] Карамзин оставался в почти пустой Москве. 30 августа он писал жене: «Вижу зрелище разительное: тишину ужаса, предвестницу бури. В городе встречаются только обозы с ранеными и гробы с телами убитых» [463]. Он выехал из Москвы 1 сентября, захватив лишь рукописи «Истории». Дом, библиотека — все сгорело, но он и не думал об этом заботиться.
«Накануне, или в самый день приближения французов к Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав. Там неожиданно он увидел С. Н. Глинку, который подле заставы, на груде бревен сидел, окруженный небольшою толпою, разрывал и ел арбуз, бывший у него в руках, и ораторствовал, обращаясь к окружавшим его. Завидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему: «Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды и бежите от своих возлюбленных! Ну, с богом! Добрый путь вам!» Карамзин прижался в уголок своей коляски и, раскланиваясь с Глинкою, спешил удалиться, боясь, что он сделает с ним какую-нибудь историю. Этот анекдот слышал я от А. С. Пушкина, которому рассказал его сам Карамзин» [464]. Сергей Глинка был честный и добрый, но экспансивный и взбалмошный человек, и его неосторожные выкрики могли стоить Карамзину жизни — всего через несколько часов толпа разорвала перед домом Ростопчина купеческого сына Верещагина, когда Ростопчин крикнул, что это предатель и из-за него погибает Москва.
Из писем Карамзина П. А. Вяземскому:
21. VIII.1818 … не мешаю другим мыслить иначе. Один умный человек сказал: «Я не люблю молодых людей, которые не любят вольность». Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить меня, а я вас. Потомство увидит, что лучше или что было лучше для России. Для меня, старика, приятнее итти в комедию, нежели в залу Национального собрания или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец и таким умру».
11. XII.1818 …Не знаю, когда мы будем вольны оставить Петербург; а я люблю свободу, хотя и не либеральность.
26. VIII.1819. Так водится в здешнем свете: одному хорошо, другому плохо, и люди богатеют за счет бедных. Шагнуть ли из физического в свет политический? Раздолье крикунам и глупым умникам; не худо и плутишкам, а нам с вами что? Не знаю… [465]
Из писем Александра Тургенева:
Вчера Карамзин читал нам покорение Новгорода и еще раз свое предисловие. Право нет равного ему историка между живыми <…>. Его Историю ни с какою сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России, т. е. она излилась из материалов и источников, совершенно особенный, национальный характер имеющих. Не только это будет истинное начало нашей литературы; но история его послужит нам краеугольным камнем для православия, народного воспитания, монархического чувствования и Бог даст русской возможной конституции. Она объединит нам понятия о России или, лучше, даст нам оные. Мы узнаем, что мы были, как переходили до настоящего status quo и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным преобразованиям…
…Истинно Грозный Тиран, какого никогда ни один народ не имел ни в древности, ни в наше время — этот Иоанн представлен нам с величайшею верностию и точно русским, не римским тираном. И этот Карамзин не член Российской Академии! [466]
Из письма Карамзина Вяземскому 17 декабря 1819 года:
Хочу в торжественном собрании пресловутой Российской Академии читать несколько страниц об ужасах Иоанновых: президент счел за нужное доложить о том через министра государю!
Из письма Дмитриеву 29 декабря 1819 года:
Что, еслибы Академия Наук или Российская задала ученым решить: в каком отношении находится размножение кабаков к успехам просвещения, нравственности и веры христианской? Это показалось бы дерзостью в век либеральной. Не знаю, дойдут ли люди до истинной гражданской свободы; но знаю, что путь дальний и дорога весьма не гладкая. — Естественным образом переходя от таких умствований к Рос.<сийской> Академии, скажу, что ее торжественное собрание должно быть 8 ген<варя>, в день нашего семейственного праздника (моей женитьбы): я вызвался читать о царе Иване из своего девятого тому. Докладывали государю: он позволил, в чем и нельзя было сомневаться; но видишь, как любезной Александр Семенович осторожен!
Из воспоминаний митрополита Филарета в письме Ф. П. Литке 5 мая 1867:
<Карамзин> читал из своей истории царствование Иоанна Грозного. Читающий и чтение были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более бы покрыла тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя [467].
Из писем Александру Тургеневу:
Село Остафьево. 17 ноября 1815 года
Любезнейший Александр Иванович! Десять дней тому, как мы погребли милую нашу дочь Наташу, а другие дети в той же болезни, в скарлатине. Не скажу ничего более. Вы и добрый Жуковский об нас пожалеете. — Это не мешает мне чувствовать цену и знаки вашей дружбы. Только не легко говорить. Отвечаю на главное на наше omnis morior [468]. Жить есть не писать историю, не писать трагедию или комедию: а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душею к его источнику; все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, — не исключая и моих осьми или девяти томов. Чем долее живем, тем более объясняется для нас цель жизни и совершенство ее. Страсти должны не счастливить, а разрабатывать душу. Сухой, холодный, но умный Юм, в минуту невольного живого чувства, написал: douce paix de l'ame, resignee aux ordres de la Rrovidence! [469] Даже Спиноза говорит о необходимости какой-то неясной любви к Высшему для нашего благоденствия! — Мало разницы между мелочными и так называемыми важными занятиями; одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте, что и как можете: только любите добро; а что есть добро — спрашивайте у совести. Быть статс-секретарем, министром или автором, ученым: все одно! Обнимаю вас в заключение. Пока живу и движусь, присылайте мне относящееся к русской истории.
Москва 13 апреля 1816 года
…Я не мистик и не адепт [470]; хочу быть самым простым человеком, хочу любить как можно более, не мечтаю даже и о возрождении нравственном в теле. Будем в среду немного получше того, как мы были во вторник, и довольно с нас ленивых!
Ц.<арское> С.<ело> 6. сент.<ября> 1825 год
…Для нас, Русских с душею, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России… [471]
ОДИНОКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В России все совершается быстро…
Казалось, еще вчера Карамзин был молодым человеком, подающим надежды литератором, которого учили, журили, поощряли. И вдруг он обнаружил, что пришла слава и ушла молодость, что даже враги признают его мэтром и главой литературы, что он историограф и надворный советник (чин, конечно, небольшой, равный армейскому майору, но друг Дмитриев уже был сенатором, а Карамзин, «в чиновных гордецах чины возненавидя», хотел бы вообще избегнуть этого необходимого в России украшения) и что уже подросло молодое поколение, которое видит в его новизне старину, стоящую поперек их дороги. Шишков по старой памяти продолжал твердить, что на его, Шишкова, стороне «многие духовные и светские особы, службой, летами и нравами почтенные», и именовал Карамзина и его сторонников: «господа журналисты и большая часть молодых людей (нынешнего образа мыслей)» [472], но отныне для Карамзина нападки стариков дополняются критикой из лагеря молодых.
Еще в конце 1790-х годов юноша Андрей Иванович Тургенев — старший из четырех братьев Тургеневых [473], встретя Карамзина в московской книжной лавке, написал ему отрочески-восторженное письмо, которое так и не решился отправить, но уже в марте 1801 года на заседании «Дружеского литературного общества» он со всем пылом ниспровергателя авторитетов объявил влияние Карамзина вредным. Здесь в самом начале нового века в полуразрушенном домике около Новодевичьего монастыря в Москве, где собирались молодые члены общества, впервые были произнесены обвинения, которые потом неоднократно предъявляли Карамзину «молодые якобинцы» (выражение Пушкина): «Скажу откровенно: он более вреден, нежели полезен нашей литературе, и с тою же откровенностию признаюсь, что и сам я и, может быть, не я один лучше желал написать то, что он, нежели все эпические наши поэты. Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее, не столько применялись к мелочным родам, пусть бы мешали они с великим уродливое, гигантское, чрезвычайное…» Тот, кто, по мнению Андрея Тургенева, даст русской литературе новый толчок вперед, «должен быть теперь второй Ломоносов, а не Карамзин. Напитанный русской оригинальностью, одаренный творческим даром, должен он дать другой оборот нашей литературе; иначе дерево увянет, покрывшись приятными цветами, но не показав ни широких листьев, ни сочных питательных плодов» [474].
Отныне все, с кем Карамзин будет встречаться, беседовать, спорить, все, чьим мнением он будет дорожить: Жуковский и Александр Тургенев, Чаадаев и Вяземский, Пушкин и декабристы, Александр I и Блудов, — все моложе его.
Слава несет с собой много опасностей. Среди них есть и такая: имя писателя начинает повторяться все чаще и чаще, его сторонники создают канон преклонения, а противники — памфлеты и пародии. И то, и другое легко превращается в застывшие маски, которые заслоняют от современников скрытое под ними живое лицо. Маска проще лица, и она всегда неизменна. У нее нет неожиданных выражений, она неподвижна и не знает игры оттенков. Поэтому с ней легче вести тот мнимый диалог фиктивного общения, которым подменяют мучительно-трудный процесс контакта с яркой и своеобразной чужой личностью. Враги поносят славного писателя, друзья — прославляют. Но и те, и другие мумифицируют его. Так им удобнее «общаться». И именно в зените славы великий поэт чаще всего чувствует вокруг себя нарастающий холод одиночества. Карамзин не избежал этой участи.
Именно в начале XIX века создаются те пародийные или апологетические маски, которые надолго заслонят реальное лицо Карамзина.
Отношения со старым — и единственным из поколения сверстников — другом И. И. Дмитриевым застывают и приобретают черты ритуала. Многолетняя переписка сохраняет идеальную видимость дружеской близости и хранит застывшие формы культа дружбы. Но реальной близости нет, и когда Карамзин и Дмитриев после долгих лет нежной переписки встретились, то выяснилось, что писать им легче, чем говорить: в письме отработанные формы и обороты легко изображают близость и дружество, но, когда глядишь в глаза бывшего друга, выясняется, что ничего этого уже давно нет. Дмитриев с горечью вспоминал об этом единственном свидании в Царском Селе: «Здесь я бывал с ним по нескольку дней неразлучным, но не помню, чтоб хотя четверть часа мы были без свидетелей. Казалось, будто мы встречались всё мимоходом. Двор, изредка и слегка история, городские вести были единственным предметом наших бесед, и сердце мое ни однажды не было спрошено его сердцем. Я уверен был и тогда в его любви, а чувствовал грусть и не мог вполне быть довольным» [475].
Переезд Карамзина в 1816 году в Петербург связан был со сменой его окружения. Вместо Дмитриева, В. Л. Пушкина, Шаликова теперь его слушатели и собеседники — арзамасцы. В письмах жене он выделяет их из всей массы новых петербургских знакомцев: «Здесь из мужчин всех любезнее для меня Арзамасцы: вот истинная Русская Академия, составленная из молодых людей умных и с талантом!» Правда, тут же добавляет: «Жаль, что они не в Москве или не в Арзамасе» [476]. Последнее многозначительно. Первый слой смысла связан с тем что Петербург — город придворный, и встречаться с «любезными Арзамасцами» можно только живя в Петербурге и приняв условия жизни в столице. Но, возможно, есть здесь и другой оттенок. Карамзин не уставал подчеркивать, что он частное лицо, и принципиально чуждался государственной службы. Арзамасцы были не только служилые люди, но и прочно стояли на дороге карьеры — бюрократической или придворной. В трудную минуту, когда Карамзин привез в феврале 1816 года первые восемь томов своей истории в Петербург для получения разрешения и средств на их печатанье, а царь «душил его (по выражению Карамзина) на розах» — не давал аудиенции, держа писателя в неизвестности и вынуждая его предварительно смирить свою гордость и нанести визит Аракчееву, встречи и беседы с арзамасцами были истинной отдушиной. «Здесь, — писал он жене, — не знаю ничего умнее Арзамасцев: с ними бы жить и умереть» [477].
И в дальнейшем этот круг оставался самым близким к Карамзину. Здесь создавали подлинный его культ. Это была основная часть его постоянной аудитории в последние десять лет жизни.
Однако была ли дружба? Дружбы не было уже потому, что не было равенства: Карамзин говорил — его благоговейно слушали. Но более того: не было ни единства мнений, ни единства или близости психологического склада. «Старшие» арзамасцы: Дашков, Блудов, Уваров — не уставали и при жизни Карамзина, и после его смерти клясться его именем и были при этом, конечно, искренни. Однако в политическом отношении они примыкали именно к той линии правительственного либерализма 1810-х годов, которую Карамзин не одобрял и в императоре. На первый взгляд Карамзин выглядел более «правым», а арзамасские «тори» — более «левыми» либеральными консерваторами. Однако имелась глубокая разница: Карамзин презирал либеральные фразы и высоко ценил человеческое достоинство. У него были твердые собственные убеждения. Не случайно, добившись наконец аудиенции, он в разговоре с царем предложил, как он пишет жене, «свои требования» (слово «требования» он подчеркнул). Речь шла о деньгах на издание и о праве издавать историю без цензуры. И рядом в его требования входило «право быть искренним»! [478] Арзамасские «тори» были ловкими карьеристами, лощеными бюрократами и собственного мнения не имели. Его заменяло изящество слога и европейские манеры. С переменой придворных веяний они меняли взгляды. Либералы александровского времени, они легко сделались судьями декабристов, министрами Николая I, a кто дожил — и Александра II. Раболепные перед старшими, наглые с подчиненными, они были сателлитами, а не друзьями. И сателлитами не бескорыстными: близость к Карамзину придавала «и в самой подлости оттенок благородства», что было полезно и в свете, и в службе.
Иными были отношения с Жуковским и Александром Тургеневым. Здесь было искреннее обожание со стороны младших и теплая «почти дружба» со стороны Карамзина. Но и здесь, видимо, были психологические барьеры, благодаря которым «почти» все же не исчезало. Жуковский писал Дмитриеву: «Можно сказать, что у меня в душе есть особенное хорошее свойство, которое называется Карамзиным (курсив Жуковского): тут соединено все, что есть во мне доброго и лучшего» [479]. Помыслы Жуковского были чисты и возвышенны. Но Жуковский всю жизнь оставался ребенком; он мог совсем по-детски резвиться с павловскими фрейлинами, углубляться в мечтательный мистицизм при дворе, не замечая по чистоте душевной, что рядом с его порывами и сливаясь с ними, существует голицынское «мистики придворное кривлянье» (Пушкин). Карамзин же был деист и скептик. Он глубоко верил в Провидение, но от мистицизма излечился раз и навсегда, еще когда порвал с московскими наставниками в 1780-е годы. Пиетизм, возведенный в государственную политику, он осуждает, а придворное благочестие ему претит. Отношения с Голицыным очень натянутые (а Александр Тургенев — правая рука Голицына!), так что замечание в письме Дмитриеву от 23 апреля 1817 года: «С. С. Уваров в большом кредите у князя А. Н. Голицына» [480] — звучит иронически, тем более в соседстве с сожалением о том, что Стурдза «портит свой ум мистическою вздорологиею» [481] (курсив Карамзина). И через несколько дней ему же: «Князь Голицын хороший человек и всегда учтив со мною, но я к нему совсем не близок и с Кошелевым (мистический друг Александра I. — Ю. Л.) не знаком; даже и текстами [482] не промышляю. Иногда смотрю на небо, но не в то время, когда другие на меня смотрят» [483]. И наконец — «Мнение русского гражданина», суровая отповедь Александру I в связи с превращением деятелями Священного Союза религии в политику: «Солнце течет и ныне по тем же законам, по которым текло до явления Христа-Спасителя: так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов; все осталось, как было на земле и как иначе быть не может: только возвысилась душа в её сокровенностях, утвердилась в невидимых связях с рожеством, с своим вечным, истинным Отечеством, которое вне материи, вне пространства и времени. Мы сблизились с Небом в чувствах, но действуем на земле, как и прежде действовали. Несмь от мира сего, сказал Христос: а граждане и Государства в сем мире <…>. Евангелие молчит о Политике; не дает новой: или мы, захотев быть Христианами-Политиками, впадем в противоречия и несообразности. Меня ударят в ланиту: я как Христианин должен подставить другую. Неприятель сожжет наш город: впустим ли его мирно в другой, чтобы он также обратил его в пепел?» Посетив Комиссию по составлению законов, Карамзин сказал: «Вы витаете на луне, не давая себе труда узнать Россию».
Атмосфера придворной мечтательности в конце 1810-х годов не противоречила ни романтическому мистицизму Жуковского, ни филантропической суете Александра Тургенева, который постоянно кому-то помогал, за кого-то хлопотал, заступался перед «сильными мира сего» и пытался устроить мезальянс человеческой доброты и бюрократической псевдодеятельности.
Карамзин уже давно был человеком без иллюзий. В его политическом реализме была немалая доля цинизма, но не было ни обмана, ни самообмана. Он любил Жуковского («Сию минуту целую Жуковского, говоря с ним о тебе», — писал он жене. И добавлял: «Есть добрые люди на свете!» [484]), любил Александра Тургенева, но равенства чувств не было, и ощущение одиночества не исчезало, а росло.
Но сложнее всего складывались отношения с той частью молодого поколения, мнением которой Карамзин, вероятно, дорожил более всего — с молодыми свободолюбцами: Вяземским, Пушкиным, Николаем Тургеневым, Никитой Муравьевым. Ему казалось, что они лишь повторяют давно им пройденные уроки истории, а им казалось, что он безнадежно отстал, представляет собой «век минувший». Самое же обидное было в том, что они смотрели не внутрь, а как-то мимо него. Он искал, мучился, менялся, а они спокойно или насмешливо надевали на него (даже те, кто искренне его любил, как Вяземский, или соединял эту любовь с ревнивой жаждой иконоборчества, как Пушкин) какую-либо маску и считали, что он уже весь разгадан.
Сначала они, как Андрей Тургенев, видели в нем сентиментального вздыхателя, с которым не по пути героям будущих гражданских битв. Вместе с архаистами они предсказывали, что История Карамзина будет лишь вторым изданием «Бедной Лизы». В 1810 году Марин, гвардейский сатирик поколения Дениса Давыдова, Милонова и Андрея Тургенева, участник переворота 11 марта 1801 года, жестоко израненный на Аустерлицком поле, писал:
Пускай наш Ахалкин стремится в новый путь И, вздохами свою наполни томну грудь, Опишет, свойства плакс дав Игорю и Кию, И добреньких славян, и милую Россию [485].А в первую половину апреля 1816 года, видимо, в связи с публикацией объявления в «Сыне отечества» о готовящемся выходе первых томов «Истории государства Российского» [486] Пушкин-лицеист писал в том же духе:
Послушайте: я сказку вам начну Про Игоря и про его жену, Про Новгород и Царство Золотое, А может быть про Грозного царя… — И, бабушка, затеяла пустое! Докончи нам «Илью-богатыря» (II; I, 39).Однако вскоре образ «ахалкина» и «плаксы» был подменен в этих кругах другим, гораздо менее безобидным. Еще «История государства Российского» только печаталась, а декабрист Николай Тургенев, по пересказам брата Александра и впечатлению от бесед с историком, начал высказывать опасения относительно политического направления этого труда. 30 ноября 1816 года он писал брату Сергею, занимавшему дипломатический пост в Константинополе: «Карамзина история началась печататься. Многие, в особенности брат Ал<ександр> Ив<анович> очень ее хвалят. Что касается до меня, то я ничего еще не читал, но посмотрев на Карамзина, думаю, что мы будем лучше знать facta русской истории, но не надеюсь, чтобы сие важное для России творение распространило у нас либеральные идеи; боюсь даже противного» [487].
Молодые свободолюбцы ведут себя в обществе Карамзина совершенно иначе, чем благоговейно внимающие ему истые карамзинисты. Они спорят — и спорят решительно, даже дерзко. В том же письме Николай Тургенев продолжает: «Я осмелился однажды заметить на слова его: «Мне хочется только, чтобы Россия подоле постояла» — «Да что прибыли в таком стояний?» и нашел сегодня в Арндте (далее по-немецки, даем в переводе. — Ю. Л.) «О крестьянстве»: «Китайская неподвижность еще не счастье и лежит далее всего от государства, заслуживающего названия человеческого» [488].
Но вот первые восемь томов истории появились. И на фоне общего и бесспорного успеха (в 25 дней продано 3000 экземпляров, «это хоть бы и не в России», — восклицал Николай Тургенев) раздаются критические голоса из декабристского лагеря. В 1818–1819 годах Карамзину приходится пережить целую серию острых споров с наиболее близкими к нему представителями радикальной молодежи. Эти мальчики, выросшие на его глазах в семьях, в которых он был своим человеком и другом дома, в среде, в которой поклонение ему было нормой, а каждое слово — приговором, не подлежащим апелляции, голосами, еще не утратившими юношески резких интонаций, бросали ему страшные упреки или же насмешливо улыбались в ответ на его слова, будто они знали что-то такое, чего он не знал и узнать уже никогда не сможет.
Старший современник Карамзина Михаил Никитич Муравьев был его другом и отчасти покровителем. Как товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета он выхлопотал Карамзину звание придворного историографа. В 1807 году он скончался, но с семьей — вдовой Екатериной Федоровной и подрастающими сыновьями — у Карамзина давние близкие отношения. В 1816 году уже во втором письме из Петербурга он сообщает жене: «Я оставил мерзкую отель-гарни и переехал к доброй Катерине Федоровне Муравьевой, которая, узнав, что я буду в Петербурге, велела топить для меня свой верхний (т. е. второй — на третьем жили сыновья. — Ю. Л.) этаж» [489]. «Милая, добрая Катерина Федоровна» ему как «сестра родная» [490]. А старший сын ее Никита — один из основателей и идеологов декабристского движения. Именно у него, у «беспокойного Никиты» (Пушкин), в том же доме, в котором Карамзин пишет свою Историю и читает корректуры, собираются «члены сей семьи».
Сразу же после выхода первых восьми томов Никита Муравьев погрузился в их чтение и начал писать опровержение. Прежде всего он защищает право молодого поколения быть несогласными: «Неужели творение сие не возродило многих различных суждений, вопросов, сомнений! Горе стране, где все согласны. Можно ли ожидать там успехов просвещения?» [491] Свой разбор предисловия к «Истории» Карамзина Никита Муравьев начал полемически: «История принадлежит народам» — и построил его как последовательное опровержение монархической концепции историка. Одновременно он приступил к систематическому анализу-опровержению карамзинской истории. Текст этого труда дошел до нас лишь в отрывках [492]. Зато сохранились и недавно были обнаружены маргинальные заметки Никиты Муравьева на тексте «Писем русского путешественника» (изд. 1814 г.). Замечания на «Историю государства Российского» готовились как программный документ и предназначались к общественному распространению. Они были предварительно показаны самому историографу, и он выразил согласие с тем, чтобы их «пустить в публику». Поэтому резкие по смыслу возражения были здесь облечены в корректную и уважительную форму. Иное дело — заметки на «Письмах русского путешественника». Они писались для себя, и здесь в полной мере сказалось представление молодого свободолюбца о своем умственном превосходстве над «устаревшим» писателем. Против рассуждений о Французской революции появляются пометы: «Так глупо, что нет и возражений», «неправда», «дурак» [493].
Еще более болезненными для Карамзина были отношения в 1818–1819 годах с наиболее любимыми из молодого поколения — Вяземским и Пушкиным. Князь Петр Андреевич Вяземский — брат жены Карамзина и фактически его воспитанник — соединял преклонение перед литературным авторитетом и человеческим благородством Карамзина со свободолюбием, облекавшимся порой в формы крайнего бунтарства. В конце 1810-х — начале 1820-х годов он находился в апогее своего радикализма и, хотя не был членом тайных обществ, но, бесспорно, принадлежал к кругу ближайших к декабристам деятелей. Летом 1818 в Царском Селе и особенно интенсивно в январе-феврале 1819 года в доме Е. Ф. Муравьевой Карамзин встречался с молодыми друзьями (в письме Дмитриеву: «Здесь у нас только молодые друзья» [494]). Здесь между Карамзиным, работавшим над IX томом, посвященным «ужасам» времени Ивана Грозного (слово «ужас» воспринималось как калька французского «террор», что придавало политическим разговорам определенную перспективу), Вяземским и Пушкиным протекали беседы, переходившие в острые споры. Есть основания полагать, что обсуждалась судьба Радищева [495]. Результатом явился болезненный конфликт — почти на грани разрыва — Вяземского с Карамзиным. Карамзин скрывал боль и обиду и писал Вяземскому спокойно-ласковые письма. Но Екатерина Андреевна во французской приписке к письму от 23 марта 1820 года выразила боль за нанесенную мужу рану: «Г-н Тургенев, Александр отправился в Москву вместе со своим братом Сергеем. Последний, очевидно, не очень-то ценил общество моего мужа, поскольку, отправляясь в Константинополь на неопределенное время, он даже не дал себе труда зайти попрощаться. Кто знает, дорогой князь Петр, кто знает, может быть наступит время, когда, живя в одном городе, вы уж не захотите с нами встречаться, ибо для вас либералов не свойственно быть еще и терпимыми. Следует иметь те же взгляды, а без этого нельзя не только любить друг-друга, но даже встречаться».
Карамзин сделал приписку: «Обнимаю вас, любезнейшие друзья, прочитав не без улыбки, что пишет к вам жена о либеральных, которые не либеральны даже в разговорах» [496].
Очень острые формы принял конфликт с Пушкиным. В сохранившихся автобиографических отрывках Пушкина имеется сцена: «Однажды начал он (Карамзин. — Ю. Л.) при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: Итак вы рабство предпочитаете свободе. Кара<мзин> вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Кар<амзину> стало совестно, и, прощаясь со мною как обыкн<овенно>, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности. Вы сегодня сказали на меня <то>, что ни Ших<матов>, ни Кутузов на меня не говорили» (XII, 306). Не всегда стычки завершались столь мирно. Еще в 1826 году Пушкин с волнением писал Вяземскому: «Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить» (XIII, 285–286). Следствием была хлесткая эпиграмма, вполне гармонировавшая с критикой первых томов «Истории» «молодыми якобинцами»:
В его «истории» изящность, простота Доказывают нам, без всякого пристрастья, Необходимость самовластья И прелести кнута [497].А то, что говорят чацкие, повторяют репетиловы. Николай Тургенев с сарказмом записал клубный разговор: «В английском клобе» «об истории один любитель — карт и биллиарда — сказал мне: «Оно хорошо, да робко пишет»» (курсив Тургенева. — Ю. Л.) [498].
Итак, реакция молодого поколения, с одной стороны, обнаружила расхождение историка со злобой дня его времени. Критика декабристов имела глубокие корни в «духе времени». На фоне умственной жизни декабристской эпохи сентенции Карамзина выглядели архаичными. Но, с другой стороны, она обнаруживала стремление упростить ситуацию, подменить реального Карамзина более удобной для полемики маской. Маска эта была «защитник самовластья» (Карамзин, раздраженный нетерпимостью своих оппонентов, бросил однажды: «Те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе»), «изящный писатель», «безнадежно отставший от умственной жизни века». Безапелляционный приговор Николая Тургенева («Хваленной их Карамзин подлинно кажется умным человеком, когда говорит о русской истории; но когда говорит о политике <…> то кажется ребенком» [499]) превратился в эпиграмму:
Решившись хамом стать пред самовластья урной, Он нам старался доказать, Что можно думать очень дурно И очень хорошо писать.«Хам» на языке Николая Тургенева — крепостник; противопоставление прекрасного стиля «Истории» и слабости мысли ее автора — постоянный мотив оценок Николая Тургенева. Эпиграмма «явно вышла из тургеневского кружка», с основанием заключает В. Э. Вацуро [500].
На Карамзина надета новая маска: ««Молодые якобинцы» зачисляют в «невежды», сторонники рабства», — резюмирует Н. Я. Эйдельман [501]. И это в то самое время, когда он «пишет Ивашку», тот самый IX том своей истории, выход которого сразу превратит его в глазах левой молодежи в другого человека. Он сразу делается «наш Тацит» (Рылеев).
…Тацит-Карамзин С своим девятым томом… [502]Бестужев, Н. Муравьев, Штейнгель, Лорер восторженно отзываются о девятом томе «Истории». Не любивший Карамзина Кюхельбекер также считал, что «IX том «Истории государства Российского» — лучшее творение» [503] его.
Оценки менялись, но взаимопонимания по-прежнему не было. Не менялось стремление вести диалог не с реальным писателем, а с его застывшим условным двойником. «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют», — писал Пушкин (XII, 34). Карамзин не был глупцом. Время и опыт для него существовали. Карамзин менялся. Чем дальше продвигался его труд, чем больше развивались события вокруг него, тем непонятнее становился ему их смысл. Он всегда верил в совершенствование человека и человечества, в прогресс и успехи разума. Он слишком был связан с восемнадцатым веком, чтобы легко отказаться от этой веры. Но время и. опыт говорили о противном. Оставалась вера в то, что история имеет свой смысл, пусть и загадочный для человека. Историк наблюдает ее таинственное движение и, даже не постигая ее смысла, предчувствует его. Пушкинский Евгений в «Медном всаднике» восклицал:
иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей? (V, 142).Карамзин «Вестника Европы», Карамзин первых томов «Истории» ответил бы ему, что перед общим частное должно быть приносимо в жертву. Сейчас, в конце жизни, его ответ внешне исполнен смирения перед Провидением, но внутренне полон скепсиса и глубокого смятения. Он записывает (оригинал по-французски): «Бог — великий музыкант, вселенная — превосходный клавесин, мы лишь смиренные клавиши. Ангелы коротают вечность, восхищаясь этим божественным концертом, который именуется случай, неизбежность, слепая судьба» [504].
Итак, то, что гармония в некотором высшем, не доступном человеку смысле (а отнюдь не в смысле государственного приоритета общего над частным), то с человеческих позиций рисуется как бессмысленный случай и слепой рок. А поскольку автор IX тома, посвященного «тиранствам Иоанновым», и X–XI, рассказывавших о смуте, знал, что случай, неизбежность и слепая судьба не только слепы, но и кровавы, то доступность для человека наслаждаться таким концертом делалась весьма проблематичной.
Еще более примечательна другая запись этих же последних месяцев. Задумав историю как историю государства, Карамзин исходил из просветительского представления о разумном начале как основном содержании истории. А поскольку Разум сосредоточивается в великих людях и актах управления, то история есть история государства.
В 1802 году в первом же номере «Вестника Европы», Карамзин заявил: «Превосходные умы суть истинные герои истории».
Вера в «превосходные умы» (и, следовательно, в государственность) подорвана. Странно, но историк государства Российского явно не горит желанием добраться до Петра, собираясь закончить повествование смутой, т. е. распадом государственности. Осенью 1824 года, еще до последней болезни и подкосивших его событий конца 1825 года, он уверенно сообщает Дмитриеву, что закончит историю концом смутного времени: «Еще главы три с обозрением до нашего времени, и поклон всему миру, не холодный, с движением руки на встречу Потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно» [505].
Этому настроению, этому пониманию истории соответствует запись: «Мы все как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя виновниками великих происшествий!» [506] Если к этому изречению добавить, что носителем таинственной воли Провидения является стихийная, бессознательная жизнь народа, а не «муха на возу» — «превосходные умы», то перед нами будет нечто, очень близкое к толстовской философии истории периода «Войны и мира». Карамзин не говорит этого, но именно такова историческая перспектива движения его мысли.
И в другом он сближается с Толстым: смысл истории скрыт, но бесспорна, рядом с ее таинственной жизнью, ценность человеческой личности. А ценность эта — и здесь путь к позднему Пушкину — в уважении к себе, личной независимости как необходимом условии существования.
Последние десять лет Карамзин провел при дворе: он постоянный собеседник императора в его «зеленом кабинете», т. е. во время утренних прогулок по аллеям царскосельского парка, частый гость у вдовствующей и царствующей императриц, великих князей и великих княгинь. Его ласкают, ему даже льстят. Он искренне любит Александра как человека, ясно видя все его слабости, откровенен и прост с Марией Федоровной, Елизаветой Алексеевной. Но ни на минуту он не забывает, что он носит два высочайших звания: Человека и Карамзина. Он не борется за сохранение своего достоинства, как не борется за право дышать, — он неотделим от него.
Но то, что так естественно для него, совсем не таково для других: всю жизнь приходится плыть против течения. Особенно в последние десять лет. Он принципиально не вступает в полемики, не защищается от доносов [507]. Дмитриев требовал, чтобы он защитил свою «Историю» от нападок Каченовского, напоминая о достоинстве звания придворного историографа. Карамзин отвечал: «Не стою ни за что, мне не принадлежащее; а что мое, того у меня не отнимут». «Ты говоришь о достоинстве Историографа: но Историограф еще менее Карамзина (между нами будь сказано)» [508]. Сообщая Дмитриеву же, что государь «велел заплатить 2000 рублей за домик» для Карамзиных «в Петергофе на 48 часов», он тотчас же добавляет: «Я не продам души за 2000 р.» [509].
Отношения с царем приобретают исключительную сложность: личная привязанность к Александру как человеку, вера в то, что бескорыстный голос честного человека, говорящего царю истину, нужен России, сочетается с ясным сознанием недостатков государя, отвращением ко двору, вельможам, свету.
«Мне гадки лакеи, и низкие честолюбцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить государя. К нему не лезу и не полезу. Не требую ни Конституций, ни Представителей (курсив Карамзина. — Ю. Л.), но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя Русского: вот противоречие, но только мнимое!» [510]. «Республиканец по чувствам (или, как Карамзин говорил в других местах, «республиканец в душе») имеет двойной смысл: в общественном отношении это означает признание, что в идеале республика есть лучшая форма государственного правления. Это мечта всякого честного человека. Но, как всякая мечта, она осуществима лишь в чрезвычайных условиях — требует добродетельного народа. Она не план для перестройки общества, а критерий его устроенности. Подобно тому, как высокие идеалы христианства, никогда полностью не реализуясь, сохраняют роль морального критерия, без которого общество потеряло бы нравственную ориентировку, идеалы республиканизма, оставаясь вне государственной практики, выполняют функцию политического критерия.
Но у этой формулы есть и личный аспект: республиканец, для Карамзина, — это человек античных добродетелей, стоик, патриот, «человек грядущих поколений», как говорил у Шиллера маркиз Поза. В этом смысле быть республиканцем можно при любом правлении. И в этом смысле верноподданный русского царя придворный историограф Карамзин, — конечно, республиканец.
Вельможи, окружающие императора, поражают его ничтожеством. Даже умнейшие из них застыли и отстали на десятилетия (странно читать такие упреки под пером того, кто слывет консерватором и ретроградом!). «…Видел H. H. Новосильцова: как он постарел! И все еще говорит об Адаме Смите <…>. Новосильцев еще орел в сравнении с другими; благороден душою, не лакей, и знает — Адама Смита!» [511] Из этих строк следует, что остальные душой неблагородны, лакеи и даже Адама Смита не читали. Эти слова написаны в 1817 году. А вот в 1822: «Нынешние вельможи, буде их можно так назвать, не имеют в себе ничего пиитического, ни исторического» [512]. Много сил уходит на то, чтобы ни в чем не слиться с придворными. 10 июня 1819 года Катерина Андреевна родила сына Владимира. Карамзину настойчиво дают понять, что следует «просить государя быть крестным отцом новорожденного». В 1817 году Карамзин уже один раз отклонил эту честь («подарков не желаем» [513]) и теперь поступает по «старой системе». Царь «крестит обыкновенно у генерал-адъютантов, у придворных etc.; а мы не придворные: сердечно благодарим за всякой знак милости, а не просим или не напрашиваемся» [514].
Так складывается идеал жизни, в значительной мере предвосхищающий пушкинский идеал 1830-х годов. В центре мира Карамзина в петербургский период — семья, Дом. Здесь сосредоточены подлинные ценности, здесь человек обретает Независимость. Мир этот активно противопоставлен миру «лакеев», придворных искателей и вельмож. В дни, когда Карамзина настойчиво толкают к тому, чтобы он искал протекции у Аракчеева (царь без этого не принимает), когда Аракчеев через своего ставленника Пукалова прямо обещает помощь и содействие, Карамзин пишет жене: «Видишь, что муж твой Гурон (т. е. дикарь. — Ю. Л.): не поехал к графу Аракчееву, не воспользовался даже и благорасположением Пуколова (Карамзин даже не дает себе труда правильно запомнить фамилию мужа фаворитки всесильного фаворита)! Чего же мне ждать? Уважения твоего и собственного» (курсив мой. — Ю. Л.) [515].
Для Пушкина Дом был звеном в цепи подлинно исторического существования, местом, где встречается прошедшее с будущим. Родовой дом на родовой земле с могилами предков и вместе с тем дом, в котором будут жить сыновья и внуки, становится символом непрерывности культуры. «Самостоянье человека», овладевшего «наукой первой» — «чтить самого себя», сливается с исторической жизнью народа и бессмертием Природы («Вновь я посетил…»).
Переживания Карамзина последних лет и сходны, и отличны. Для Пушкина этот символический образ имел и реальное бытие. Он был воплощен в образе Михайловского, и поэтически, и в планах, которые Пушкин пытался реализовать, противоположного «свинскому Петербургу». Карамзина не тянуло на родину, в деревню. Дмитриеву, уехавшему в деревню, Карамзин писал: «Любезный Симбирск, Волга, Свияга! мне уже, вероятно, не видать вас: признаюсь, и не желаю видеть!» [516]
Роль анти-Петербурга первые годы пребывания в нем играет Москва. Она отождествляется с миром частной жизни и собственного достоинства. «Надобно забыть Петербург: докажем, что и в России есть благородная и богу не противная гордость; продадим Вторускую деревеньку и станем век доживать в Москве» [517]. «Мысли мои стремятся под сень Кремля: там и дружба, и покой, и независимость». «Счастлив, кто независим; но как трудно быть счастливым, т. е. независимым» [518].
Но он и сам не верит, что будет доживать в Москве, и, по существу, она его не тянет так же, как и Симбирск. Дом и семья для него — понятия не пространственные: там, где Катерина Андреевна, дети, мир его мыслей и чувств, мир, в котором он чувствует себя любимым и свободным, — там и Дом. А вообще к месту он не привязывается. На месте его держит работа. В душе же он все тот же путешественник, и как только мелькает мысль об окончании исторического труда, сразу же за ней — другая, о путешествии. Всего за месяц до смерти он с раздражением писал Вяземскому: «Как вы далеки от истины, думая, что мне трудно сдвинуться с места!» [519]
У Карамзина стихия истории — органическая часть его мира. Но у Пушкина Дом — звено Истории, у Карамзина — Дом на берегу Истории. А океан Истории бушует в кабинете историографа, шевелит бумаги на его столе. Это тоже непрерывное путешествие. Когда-то он набросал по-французски предисловие к первому тому: «Вы хотите читать историю? Это будет долгое путешествие…» [520] А Пушкин нашел точный образ, который потом, повторенный Белинским, вошел в общее употребление: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом» (XI, 57).
Двойное зрение — взгляд частного человека, в мире которого нет ни чинов, ни рангов, и взгляд честного историка, который все оценивает нелицеприятным судом потомства, определяет и один из коренных вопросов жизни Карамзина в Петербурге — отношение к Александру I. Карамзин отказывается видеть в царе царя. Это или же добрый знакомый («вижу в нем более человека, нежели царя» [521]), или же историческое лицо, действия которого будет судить потомство.
В качестве первого он «любезный», «добрый». Он запросто заходит справиться о здоровье Катерины Андреевны, галантно танцует с ней на балах. «Государь расстался с нами очень ласково: был у нас; заглянул даже в кабинет, то есть в нашу спальню подивился тесноте и беспорядку» [522]. Карамзин привязан к нему как к человеку, хотя и прекрасно видит его человеческие слабости.
Но когда Александр заходит ранним утром в китайский домик историографа, чтобы пригласить его на прогулку в «зеленом кабинете», по аллее екатерининского парка Карамзин идет под руку с человеком истории. А у историографа для человека истории на языке может быть только историческая истина. И истина эта чаще всего горька.
Еще в 1811 году, едва познакомившись с Александром, Карамзин подал ему «Записку о Древней и Новой России», в которой, оценивая деятельность правящего императора, писал: «Здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину» [523]. Твердости духа ему хватало. 17 октября 1819 года, во время трехчасовой беседы в кабинете царя, Карамзин сказал Александру, оспаривая его политику в отношении Польши (свои слова он сам записал, придя домой, «для потомства», ибо разговоры исторических лиц принадлежат истории): «Я сказал ему по-французски (далее французский текст, даем в переводе. — Ю. Л.): Ваше величество, у вас много самолюбия… Я не боюсь ничего, мы оба равны перед Богом. То, что я сказал вам, я сказал бы вашему отцу… Я презираю скороспелых либералистов: я люблю лишь ту свободу, которой не отнимет у меня никакой тиран… Я не нуждаюсь более в ваших милостях» [524].
Это был не единственный подобный разговор.
Оценка историка была суровой, и Карамзин отказался после внезапной смерти царя писать что-либо о нем: «Нам лучше безмолвствовать красноречиво. От русской фабрики (т. е. писаний в русской прессе. — Ю. Л.) меня тошнит. Я не напишу ни слова: разве скажу что-нибудь в конце XII тома или в обозрении нашей новейшей Истории — через год или два, если буду жив. Иначе поговорю с самим Александром в полях Елисейских. Мы многого не договорили с ним в здешнем свете» [525].
Но царь любил напомнить, что он царь. Он любил играть масками и резкими переменами условий игры обескураживать собеседника. Карамзин его привлекал именно тем, что в нем чувствовалась жизнь духа, недоступная ни царской милости, ни царскому гневу. Презиравший людей и поэтому любивший унижать тех, кто сам любил унижаться, он чувствовал, что над душой Карамзина власти не имеет. И все же постоянно пробовал доказать самому себе, что и Карамзин такой же, как все. Так, когда Карамзин привез первые восемь томов, чтобы получить высочайшее одобрение и средства на печатанье, Александр подверг его унизительнейшему испытанию: шесть недель царь не назначал аудиенции, томил слухами, дразнил ласковыми приемами у великих княгинь, назначал и отменял встречу, выдавливая из Карамзина согласие на унизительный визит к Аракчееву как предварительное условие приема. Карамзин выдержал этот мучительный искус: прождав бесполезно месяц, он вылил свое негодование в разговоре с сестрой царя вел. княгиней Екатериной Павловной: «Я сказал ей всё», «я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом» [526]. Визит же к Аракчееву он сумел обставить так, чтобы ни иотой не поступиться собственным достоинством: временщик сам пригласил его и сам предложил помощь — Карамзин, как всегда, ни о чем не просил.
И сразу вдруг милости, любезность, щедрая помощь…
Александр и в дальнейшем «проверял» Карамзина. Карамзин горько недоумевал в 1818 году: «Зачем так часто звали нас, не знаем; зачем некоторое время приметно (avec affectation [527]) охолодели к нам, не ведаем» [528].
Карамзин оставался неизменным. Частное лицо, честный человек, представитель потомства в современности.
Профессиональные историки последующих поколений были правы, указывая, насколько далеко их наука ушла вперед от Карамзина. Но не следует упускать из виду, что историограф и профессор-историк не совсем синонимы. Последний изучает историю, но ни Соловьеву, ни Ключевскому не пришло бы в голову считать себя равным историческим лицом в ряду изучаемых им деятелей. Историограф Карамзин — наблюдатель «минут роковых» и собеседник крупнейших исторических деятелей своей эпохи, судья, а не только знаток веков минувших, считал себя лицом, принадлежащим истории.
Гоголь подвел итог: «Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим <…> Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству» [529].
ИТОГИ
Роль Карамзина в истории русской культуры не измеряется только его литературным и научным творчеством. Карамзин-человек был сам величайшим уроком. Воплощение независимости, честности, уважения к себе и терпимости к другому не в словах и поучениях, а в целой жизни, развертывавшейся на глазах у поколений русских людей, — это была школа, без которой человек пушкинской эпохи, бесспорно, не стал бы тем, чем он сделался для истории России. Не случайно декабристы, порой очень остро критиковавшие сочинения Карамзина, неизменно с высочайшим уважением отзывались о его личности.
И вместе с тем нельзя пройти мимо того, что своей жизнью Карамзин преподал и отрицательный пример, и когда подходишь к концу его глубоко героической жизни, охватывает скорее печаль, а не радость, которую естественно было бы чувствовать, думая о человеке, проявившем высокую красоту души и не сошедшем с избранного им пути.
Почему? Почему нет чувства победы?
Карамзин умер, не дожив до 60 лет. Конечно, в жизни его было много горестей и еще больше непрерывного труда. Конечно, потрясение и простуда, которых ему стоил день 14 декабря 1825 года, сыграли свою роль. И все же нельзя отделаться от мысли, что главная причина его ранней смерти коренилась глубже.
Карамзин был труженик и ценил свое здоровье как условие, обеспечивающее возможность напряженной работы. Он следил за собой, как спортсмен, и вел размеренный образ жизни. Живший с ним долгие годы в одном доме воспитанник и друг Карамзина П. А. Вяземский вспоминал: «Карамзин был очень воздержан в еде и питии. Впрочем, таковым был он и во всем в жизни материальной и умственной: он ни в какие крайности не вдавался; у него была во всем своя прирожденная и благоприобретенная диетика. Он вставал довольно рано, натощак ходил гулять пешком или ездил верхом в какую пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвратясь выпивал две чашки кофе, за ним выкуривал трубку табаку (кажется, обыкновенного кнастера) и садился вплоть до обеда за работу, которая для него была также пища и духовная и насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса, которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал его с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива, а стакан этот был выделан из дерева горькой Квассии. Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеных яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо, и преимущественно с гигиеническою целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда» [530].
Почему же здоровье Карамзина так скоро оказалось безнадежно подорванным?
Последние десять лет жизнь Карамзина протекала внешне в обстановке идиллии: любящая семья, круг друзей, работа, уважение, небольшой, но твердый материальный достаток — плод непрерывного труда. И все же, когда читаешь лист за листом документы, письма, воспоминания, вдруг начинает веять ужасом. Гостиная уютно освещена, но за окнами — тьма. Под тонкой корочкой бытового благополучия кипит мрак.
Карамзин построил свою жизнь так, чтобы жить, ни на что не надеясь. Жизнь без надежды…
В 1794 году он призывал Дмитриева жить «без страха и надежды». В последнем номере «Московского журнала» Карамзин поместил переводной отрывок «Надежда»: «Жизнь есть обман — счастлив тот, кто обманывается приятнейшим образом. Надежда! Ты дщерь неба? сопутница горестных? утешительница несчастных? Нет! ты обманщица!» «Наконец — о блаженная минута! — являются душе страдальца картины радости и счастья; образ за образом пролетает мимо очей его — один другого светлее, один другого радостнее — какое прекрасное смешение цветов! Как все живо, естественно, правдоподобно!»
«…Но се приближается угрюмая существенность с медным жезлом своим и привидение скрывается — густая тьма поглощает свет и все прелестные образы…….. и только одни слезы в очах остаются» (МЖ, 1792, VIII, 12, 206–207).
Но тогда это была литература — немного игра, чуть-чуть кокетство. Потом это сделалось основной мыслью жизни.
Через всю жизнь Карамзин пронес один особенно ему близкий образ — образ Дон Кихота. В начале «Писем русского путешественника» он назвал себя «рыцарем веселого образа», вспоминая и героя Сервантеса, и Стерна, который также сравнивал себя с Дон Кихотом [531]. В дальнейшем он вспоминал этого героя неоднократно. 17 августа 1793 года он пишет Дмитриеву: «Назови меня Дон Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество!» [532] А 12 апреля 1820 года, при известии о революции в Испании, писал Вяземскому: «История Гишпании очень любопытна. Боюсь фраз и крови. Конституция кортесов есть чистая демократия, a quelque chose pres [533]. Если они устроят государство, то обещаюсь итти пешком в Мадрит, а на дорогу возьму Дон Кишота или Кихота» [534].
Кстати, когда Карамзин называл сборник своих произведений «Мои безделки», он, конечно, помнил беседу Дон-Кихота в барселонской типографии:
«— Как называется эта книга? — осведомился Дон Кихот. Переводчик же ему ответил:
— Сеньор, итальянское заглавие этой книги — La Bagatelle.
— А чему соответствует на испанском языке слово la bagatelle? — спросил Дон Кихот.
— La bagatelle, — пояснил переводчик, — в переводе на испанский язык значит безделки, но, несмотря на скромное свое заглавие, книга эта содержит и заключает в себе полезные и важные вещи».
Образ Дон Кихота принадлежит к тем персонажам мировой литературы, которые обладают способностью неожиданно выглядывать из-за плеча совсем далеких от них, казалось бы, людей.
Разговор Иешуа и Пилата в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»:
— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?
— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете. <…>
— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?
— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. <…> Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы» [535].
А вот эпизод из «Дон Кихота»: принятый как странствующий рыцарь в замке герцога, Дон Кихот подвергся оскорблениям со стороны священника, который называет его «пустой головой» и советует выбросить вздор из головы и убираться домой. На поток брани герой Сервантеса отвечает: «Я не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека [536]. Единственно, о чем я жалею, это что он не побыл с нами, — я бы ему доказал, что он ошибается» [537].
Булгаков любил роман Сервантеса, читал его в подлиннике, работал над сценарием по его тексту и, конечно, не случайно придал своему Иешуа черты ламанчского рыцаря.
Дон Кихот — воплощенная вера, на вере в торжество добра строится вся его жизнь. На вере и надежде стоит и Иешуа:
«— И настанет царство истины?
— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.
— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат…»
Когда у Дон Кихота отняли надежду, он умер.
Карамзин был Дон Кихот, утративший надежду. Из трех христианских добродетелей он был щедро наделен любовью, принуждал себя иметь веру, но надежда его покинула на середине пути. Семья, работа, размеренный ритм жизни — все это была его крепость, но и его скала Святой Елены, стена, за которой он и спасался, и погибал.
Он был обречен, и это разрушало его здоровье.
Вокруг него царила атмосфера доброты. Но от этой доброты на энтузиастов, на тех, кто хотел действовать и предпочитал не углубляться во вчерашний день, чтобы не слишком ясно представлять себе завтрашний, веяло холодом.
Несчастью верная сестра,
Надежда… —
сказал Пушкин. Карамзин никогда не повторил бы этих строк: «Несчастью верные сестры — работа, верность себе, чистая совесть, чувство собственного достоинства…»
Незадолго до смерти Карамзин записал уже цитированные нами горькие слова о том, что историей управляет не разум философа и даже не разум государя, а голая сила — «палица, а не книга». Правда, он сделал оговорку о том, что палицу в руки силе влагает бог, но сам в это вряд ли убежденно верил: ему доводилось видеть палицу в слишком многих руках, видеть, как она переходит из одного лагеря в другой, чтобы быть уверенным в том, что ею управляет высшая мудрость. В письмах к Дмитриеву и в других известных нам документах последних десятилетий всякий раз, когда в душе его возникает возмущение, несогласие, когда исторические события ставят его в недоумение или вызывают глубокую грусть, он гасит эти чувства ссылкой на загадочную волю Провидения. Но душа и ум его были чужды и наивной вере отцов, и мистицизму как Кутузова, так и Жуковского. Он был и оставался деистом и скептиком XVIII века, но скептиком, утратившим веру даже в скептицизм, сомневающимся даже в сомнении. Именно этим чувством продиктованы строки, вышедшие из-под пера, начертавшего некогда в предисловии к «Истории государства Российского», что «правители, законодатели действуют по указаниям истории».
«Аристократы! вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувство, а не теорию. — Речи и книги Аристократов убеждают Аристократов; а другие смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу Аристократии: палица, а не книга! — И так сила выше всего? Да, всего, кроме бога, дающего силу!
Либералисты! Чего вы хотите? Щастия людей? Но есть ли щастие там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти?
Основание гражданских обществ неизменно, можете низ поставить на верху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание.
Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый самому себе, с помощию божиею» [538].
Слова эти полны самого полного, самого горького разочарования. Последние иллюзии отброшены: политическая борьба рисуется не как столкновение порядка с беспорядком, не как борьба сомнительной новизны и хода вещей, освященного временем и традицией, а как непримиримый конфликт аристократии и народа, тех, кто владеет благами жизни, и тех, кто их лишен. Это — столкновение интересов, прикрываемое «речами и книгами». Освобождение от иллюзий доходит здесь до грани цинизма и одновременно политического ясновидения. Его можно сопоставить с жесткой трезвостью «Замечаний о бунте», представленных Пушкиным Николаю I вместе с «Историей Пугачева». Там Пушкин также мотивировал невозможность соглашения между дворянами и народом тем, что «выгоды их были слишком противуположны» (IX, I, 375). К этому можно было бы прибавить, что слова: «Свободу дает не Государь, и не Парламент» — нельзя не сопоставить с пушкинским:
Зависеть от властей, зависеть от народа — Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать; для власти, для ливреи Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи… [539]Стихотворение «Из Пиндемонти», откуда взяты эти строки, относится к тому же периоду творчества Пушкина, что и «Замечания о бунте» (1835–1836 гг.).
Сходство формулировок не может заслонить глубины различий позиций Пушкина и Карамзина. И все же это не просто словесное совпадение: перед нами — разные моменты развития общей культурной традиции.
Бросается в глаза еще одна особенность процитированной записи Карамзина: аристократы (которые, кстати, определены и употребленным как синоним словом «сервилисты»; однако слово «сервилист», от латинского «servilis», «рабский», имеет резко оценочный и, бесспорно, уничижительный характер; словарь Д. Н. Ушакова определяет «сервильный» как рабски угодливый, раболепный) и демократы в равной мере осуждены Карамзиным. Но нетрудно заметить, что интонации осуждения их весьма различны: действия аристократов корыстны, действия демократов несбыточны. Слово «либералист» Карамзин произносил с иронической улыбкой, слово «сервилист» — с отвращением. Наконец, признавая, что сила — единственный критерий, применимый в истории, и оправдывая силу волей Провидения, Карамзин с его жизненным и историческим опытом не мог не думать о том, что сила, сегодня находящаяся в руках аристократов, завтра может перейти к их противникам. Он не мог забыть наглядных уроков истории, когда сила попеременно оказывалась в руках якобинцев, Наполеона, его противников. В чьих руках находится сила сейчас, в 1825 году, для вдумчивого историка было решить не так легко.
Запись показывает, что Карамзин зашел в своих исторических размышлениях настолько далеко, что его же собственные принципы, положенные им в основу «Истории», перестали казаться ему полностью удовлетворительными.
Принято считать, что смерть оборвала работу Карамзина над его «исторической поэмой» (как он однажды назвал в письме к Вяземскому свой труд). Это противоречит решительному заявлению самого Карамзина, сделанному задолго до последней болезни, что труд историка он оставляет. Мало обращают внимания, что место русского консула во Флоренции, которого он добивался в последние месяцы своей жизни, одновременно означало отказ от должности историографа.
Это не были настроения минуты. Это были глубоко продуманные решения, принятые еще до неожиданной смерти Александра I. Последняя беседа Карамзина с царем 28 августа 1825 года была с обеих сторон овеяна меланхолической грустью. И все же оба они (еще не зная, что это действительно их последняя встреча, что царь умрет через три месяца, а Карамзин менее чем через год) ясно видели, что это разрыв, окончательный и бесповоротный. Позже, в письме, обращенном к потомству, Карамзин с горькой откровенностью подвел бесплодный итог своих десятилетних попыток влиять на императора: «Я всегда был чистосердечен. Он всегда терпелив, кроток, любезен неизъяснимо; не требовал моих советов, однакожь слушал их, хотя им, большею частию, и не следовал, так, что ныне, вместе с Россиею оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслию о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца: ибо эти милости и доверенности остались бесплодны для любезного Отечества» [540].
И тут последовали новые удары.
Смерть Александра I и 14 декабря, которое сами карамзинисты называли «вооруженной критикой на «Историю государства Российского»», его сломили. Ему вдруг захотелось совсем новой жизни. Он ведь был путешественник в душе и всегда мечтал о странствиях. В трудную минуту, в 1798 году, он писал Дмитриеву: «Когда русский мороз (мороз здесь — понятная и уже привычная метафора. — Ю. Л.) заставляет меня стучать зубами и стягивает неприятным образом все мои фибры, тогда живо представляю себе щастливый климат Хили, Перу, островов св. Елены, Бур-Бона, Филиппинских, и веселюсь мыслию, что там будет покоиться прах мой, под сению вечно-цветущих, вечно-плодоносных дерев» [541].
И вот он, стоя одной ногой в могиле, хлопочет о месте дипломата в Италии. И когда близкие высказывают опасения относительно трудностей, связанных с путешествием, он, всего за три недели до смерти, раздраженно упрекает их в непонятливости. Только путешествие может вернуть его к жизни. Продолжать «Историю» он решительно отказывается. Он пишет Вяземскому: «С этого места сорвала меня буря или болезнь, и я имею неописанную жажду к разительно-новому, к другим видам природы, горам, лазури италианской etc. Никак не мог бы я возвратиться к своим прежним занятиям, если бы здесь и выздоровел» [542]. Нужно оценить силу выражений, вырвавшихся из-под дрожащего от слабости пера, чтобы понять страсть охватившего Карамзина порыва. Это была именно жажда.
Захотелось разительно-нового. Нового неба, новой земли.
22 мая 1826 года Карамзин скончался.
В Кронштадте стоял готовый к отплытию фрегат, на котором русский путешественник должен был отправиться в свое новое путешествие.
Путь не был окончен. Он умер, сидя в кресле. Словно присел перед дорогой.
ЭПИЛОГ
Карамзин не успел закрыть глаза, как началась работа по посмертной его канонизации, устранению из его облика всего смятенного, трагического, незаконченного и — следовательно — живого. Прежде чем внести в Пантеон, надо было превратить его в монумент. Мертвого стремились завербовать в союзники и его именем освятить суету своих дел и расчетов. Прежде всего в эту работу включился Николай I, уже показавший себя в 1826 году не только бессердечным палачом, но и умелым комедиантом. Демонстративные милости были первым шагом к созданию официальной легенды о Карамзине. Именно «святого» Карамзина противопоставил царь «крамольному» Пушкину после смерти поэта: «Карамзин умирал, как ангел», а Пушкина, сказал Николай Жуковскому, «мы насилу довели» «до смерти христианской». Николай именем Карамзина упрекал уже мертвого Пушкина.
Именем Карамзина клялся Блудов, когда писал Вяземскому одно из самых подлых писем в истории русской литературы: выполняя поручение Бенкендорфа, вчерашний арзамасец, судья декабристов, уже ухватившийся за портфель товарища министра внутренних дел, написал Вяземскому — своему давнему другу — письмо, наполненное скрытыми за дружеским увещеванием угрозами («осторожность, — грозил он Вяземскому, — также обязательна, особенно для отца семейства»). Здесь русскому литератору предъявлялись дотоле неслыханные требования: объявлялось, что просто молчание недостаточно, отказ в раболепном служении правительству уже является преступлением. Похвалы Байрону и Руссо также дают повод для подозрений, поскольку Байрон «был отъявленным врагом всех существующих установлений». Даже занятия политической экономией возбуждают сомнение в лояльности. Вяземскому предлагалось оставить стремление к «эфемерной славе дерзости и оригинальности» (всякая оригинальность, даже в литературе, есть уже крамольная дерзость!). Письмо завершалось кощунственным соединением авторитета и памяти Карамзина с политикой III отделения по удушению литературы. «Итак, я вам говорю и повторяю: будьте не только благоразумны и осмотрительны, но и полезны <…>. Этот совет я вам передаю по повелению свыше (курсив оригинала. — Ю. Л.); но в то же время это и совет друга; я даю его шурину того, кто был… как бы выразиться?.. кто был почти совершенным, потому что в этом дольнем мире нет полного совершенства. Я говорил вам также и от его имени и хотел бы обладать его языком, если бы осмелился считать себя способным подражать ему» [543].
Но тот же Вяземский в дальнейшем использовал авторитет Карамзина как тяжелое орудие в борьбе с Полевым. Теперь уже именем Карамзина пользовались те, которые сами пострадали от подобных приемов. Профессор и цензор Никитенко записал городские слухи в связи с запрещением «Московского телеграфа» Н. Полевого: «Везде сильные толки о «Телеграфе». Одни горько сетуют, «что единственный хороший журнал у нас уже не существует». — Поделом ему, — говорят другие: — он осмеливался бранить Карамзина» [544]. Возможно, толки эти достигли даже слуха давно уже безумного Батюшкова, смешавшись с давними воспоминаниями о боях арзамасцев с шишковистами. По крайней мере, когда тот же Никитенко посетил больного через несколько месяцев после гибели «Телеграфа», то в безумном бреду он уловил, что Батюшков жаловался, «как кто-то влачил в пыли Карамзина и русский язык» [545]. Батюшков уверял, что сам это видел. Как позже вспоминал Аполлон Григорьев, «всякое критическое замечание насчет Карамзина считалось святотатством» [546].
А это, естественно, порождало противоположное движение.
Карамзина возносили на пьедестал и свергали с него. И не обращали внимание на то, что как-то незаметно писатель и человек, всю жизнь искавший и умерший, упав от изнеможения на пути, подвижник просвещения, достойный в этом отношении быть поставлен в одном ряду с Новиковым, реформатор языка и Колумб русской истории, был подменен мраморным двойником, одинаково удобным для преклонения и поношения.
Но история напоминает Мальстрем: то, что она поглощает, она возвращает обратно. Карамзин возвращается…
ЭПИЛОГ ЭПИЛОГА
Карамзин создавал себя — создавал писателя, создавал человека. И одновременно он создавал русской культуре образцы Писателя и Человека, которые входили в сознание поколения, формируя личности и биографии других писателей. Он создавал еще две важнейших фигуры в истории культуры: русского Читателя и русскую Читательницу.
Влияние писателей на культурную жизнь может быть двояким. Наследие одних переходит потомству вместе с их именем. Каждая их строка напоминает о том или ином произведении. Как правило, это удел гениев. Их творчество глядит на нас собраниями сочинений с полок библиотек, а сами они — с монументов на площадях городов. Но есть и другая судьба, есть и другое влияние. Анна Ахматова сказала однажды о родной земле:
…ложимся в нее и становимся ею, Оттого и зовем так свободно — своею.Эти писатели ложатся в землю родной литературы и становятся этой землей. Их наследие может утратить имя, перестать ощущаться как чье-то наследие. Оно делается почвой. Такова была судьба Карамзина во второй половине XIX–XX веке. Его перестали читать — он сохранился лишь как детское чтение (поразительно, но с 1960-х годов происходит ощутимый процесс возрождения Карамзина как активно читаемого писателя). Но в почве русской культуры продолжали жить, перерождаться, обретать новые виды и формы те элементы, которые были созданы им.
Карамзин создал стереотип русского путешественника по Европе. И десятки русских писателей — от Василия Львовича Пушкина до Достоевского — поверяли свои впечатления «по Карамзину», копировали или спорили, пародировали, но неизменно точкой отсчета своего поведения брали образ Карамзина. Читая рассказ Толстого «Люцерн», современный нам читатель не видит тени Карамзина, лежащей на его страницах. Но Толстой знал, с кем он спорит, и его читатели тех лет знали это тоже.
Маяковский, покидая Париж в 1925 году, написал:
Подступай к глазам, разлуки жижа, сердце мне сантиментальностью расквась! Я хотел бы жить и умереть в Париже, Если б не было такой земли — Москва [547].Слово «сантиментальность» совсем не случайно у Маяковского: стихи эти — весьма точная цитата. «Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции», — писал Карамзин, расставаясь с Парижем. Маяковский не только наизусть помнил эти слова, но, прощаясь с Парижем, ощутил себя все тем же «русским путешественником» за границей. Параллель эта вызвала у него даже некоторую досаду, что видно из иронических в собственный адрес слов о сердце, расквашенном сентиментальностью.
Но у образа «русского путешественника» было еще одно будущее: он трансформировался в образ «русского скитальца». Не случайно Герцен в Париже 1848 года вдруг так горячо перекликнулся душой с уже почти забытым им Карамзиным. Вряд ли случайно и то, что Достоевский, когда работал над «Подростком», «думая воскресить мечты детства», «читал Карамзина» [548]. Вообще в теме «Россия и Запад», как только она в той или иной форме возникает, неизменно мелькнет тень Карамзина.
Но и другие «роли», созданные Карамзиным, не пропали в человекостроении русской литературы. Они выступают в тургеневском сочетании глубокой скептической разочарованности с культом красоты, и слова: «Венера Милосская <…> несомненнее римского права или принципов восемьдесят девятого года», — таят в себе позу, генетически восходящую к Карамзину второй половины 1790-х годов. Достоевский это чутьем уловил, и именно «Довольно» инспирировало образ Тургенева — Кармазинова. Но еще глубже и органичнее связь Карамзина-историка и исторического мыслителя 1820–1826 годов с автором исторических размышлений в «Войне и мире». Если Карамзин начинал свою Историю с твердой верой в государство и, следовательно, в силу правительственной деятельности, то занятия, размышления — особенно в связи с временем Ивана Грозного — все больше подводили его к мысли о загадочности исторических судеб народов и о фактическом бессилии личного начала.
Недавно А. Зорин [549] обратил внимание на возможность не только «ролевого», но и «ситуационного» поведения, когда определенная литературная маска прикрепляется не к лицу, а к некоторой бытовой ситуации. При перемене ситуации участники ее меняют литературный стереотип. Поясним эту мысль примером из пушкинской «Метели»: ««Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно…» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже). «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно…» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux)» [550]. Бурмин, как и Онегин, цитирует героя «Новой Элоизы» Руссо не потому, что отождествляет себя с ним. Отождествляется ситуация, что позволяет найти готовые формулы выражения чувств и дает общий «язык ситуаций», избавляя от непонимания.
И в этом случае роль Карамзина была огромна. Приведем лишь пример, когда карамзинский текст становится ситуативным кодом, позволяющим двум мальчикам, Герцену и Огареву, построить свои отношения. Вот отрывок из «Моей исповеди» Огарева: «Много я выстрадал внутреннего укора, прежде чем решился назвать тебя другом.
Решение мое пришло очень смешно. Запольский (учитель русской словесности. — Ю. Л.), который был уже и твоим учителем, дал и тебе и мне читать Карамзина. Нам очень понравилось: «Цветок на гроб моего Агатона». Ты мне сказал — не то, чтоб очень развязно: «Вам бы надо завести своего Агатона». Я не понял, и думал, что ты советуешь мне купить сочинения Карамзина, которых у меня в собственности не было. Ты захохотал. «Нет, вы меня не поняли, — сказал ты, — я говорю о друге».
Я сконфузился, покраснел до ушей от своей глупости и не отвечал. Долго после я думал о «моем Агатоне», думал, что тебе хочется, чтоб я так назвал тебя; меня мучила робость и непреодолимое влечение дать тебе это имя, которое, пожалуй, и забавно, но тогда вовсе не казалось смешным. Моя нерешительность сделала то, что дружба страстная, деятельная, ищущая ответа на все неясные стремления к мысли и подвигу, установилась между нами прежде, чем мы сказали друг другу ты» [551]. Если робость задержала переход на «ты», то сама возможность ранней осознанности сложного и страстного чувства оказалась возможной потому, что модель его уже была дана в культурной традиции. Карамзин дал двум мальчикам название для их «ищущего» чувства, модель отношений, помог превратить неясное движение молодой души в осознанный акт культуры. Точно так же, когда юным братьям Достоевским надо было найти адекватные их чувству слова, чтобы написать их на могиле матери, они нашли их у Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра». Позже эта надпись сатирически преломилась в рассказе «Бобок» — нить продолжала тянуться.
Однако это скрытое, так сказать анонимное, присутствие Карамзина в русской литературе на наших глазах сменяется личным возвращением его в число читаемых писателей прошлого. Михаил Михайлович Бахтин за несколько месяцев до своей кончины произнес замечательные слова: «Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник возрождения». Праздник этот приходит к Карамзину.
Закон возвращения к истокам — общий закон культуры.
Но тут нас не оставят. Лет через пятьдесят, Как ветка пустит паветвь, Найдут и воскресят [552].В двадцатом веке произошло воскрешение многого из того, что предшествующее столетье безоговорочно относило к мертвому наследию, интересному лишь для историков и архивариусов. Читательски воскресли Державин и Баратынский, Тютчев стал одним из самых читаемых русских поэтов. На наших глазах произошло «воскрешение» древнерусской литературы, находящей себе читателей далеко за пределами круга специалистов. Казалось бы, нет ничего необычного в том, что теперь очередь дошла и до Карамзина, и издания его произведений появляются одно за другим. И все же в «воскрешении» Карамзина есть одна ощутимая особенность, выделяющая его из всего ряда: Карамзин возвращается в литературу как личность. Его живое лицо, его душа, да простят мне это не очень модное понятие, едва ли не нужнее современной литературе, чем его произведения. Этому надо найти объяснение.
Бывают периоды, когда в литературе видят лишь определенное количество книг, нечто вроде библиотеки. Тогда возникают теории, согласно которым Гоголь был плохим мыслителем, но, вопреки этому, «Мертвые души» — гениальное произведение, Достоевский был реакционер, но, независимо от его личных устремлений, его романы содержат глубокую жизненную правду. Собственный путь писателя как бы отделяется от его литературного труда. В писателе видят только «представителя», а не ищущую личность. Тогда возникают попытки представить историю литературы как некий обезличенный процесс. Но любой взгляд на прошлое продиктован соображениями современности, поскольку вчерашний день неизбежно кончается сегодняшним.
В свое время Белинский в «Литературных мечтаниях» высказал глубокую мысль о том, что культура может иметь великих писателей и гениальные произведения и не иметь литературы. Литература не полка книг — она живой организм, и держится этот организм единством атмосферы, наличием определенных неоспоримых ценностей. После того, как мир средневековых культурных ценностей и моральных устоев сменился светской по своей природе культурой нового времени, литература — особенно это заметно в России — взяла на себя роль духовного и этического руководителя общественной жизни. Атмосфера честности, душевного благородства, бесстрашного поиска истины — воздух литературы. Без него она погибает.
А атмосфера эта создается лишь ценой величайших и трудных личных усилий.
Карамзин создал много произведений и среди них — замечательные «Письма русского путешественника» и великую «Историю государства Российского». Но величайшим созданием Карамзина был он сам, его жизнь, его одухотворенная личность. Именно ею он оказал великое моральное воздействие на русскую литературу. Постоянно «выковывая себя», он создал живой эталон русского писателя, эталон, в котором душевное благородство мыслилось не как высокое достоинство, а лишь как естественное условие человеческой жизни и минимальное из требований, предъявляемых к литератору. Высочайшие этические требования Карамзин ввел в литературу как обыденные. И когда Жуковский, Пушкин, а за ними и все великие писатели XIX века продолжали строительство русской литературы, они начинали уже с заданного Карамзиным уровня как с само собой разумеющейся основы писательского труда.
Читатель это чувствовал и отвечал литературе безусловным доверием. А это доверие также составляет основу атмосферы, в которой живет литература.
В этом — особенность и историческая необходимость воскрешения Карамзина. В этом его сегодняшняя нужность.
Чаадаев, который, пожалуй, ни в одном пункте не сходился с идеями Карамзина, однажды написал о нем: «С каждым днем более и более научаюсь чтить его память» [553]. С тех пор прошло много дней, но слова эти продолжают жить.
Ими и хочется завершить книгу.
Произведения H. M. Карамзина и основная литература о нем
Карамзин Н. М. Сочинения: В 9 т. М., 1820.
Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1966.
Карамзин H. M. Сочинения: В 2 т. Л., 1984.
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. (Лит. памятники).
Карамзин Н. М. История государства Российского. 2-е изд. Спб., 1818–1829. Т. 1—12.
Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. Спб., 1914.
Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка: Спб., 1862. Ч. 1.
Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866.
Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примеч. и объяснениями. М., 1866. Т. 1–2.
Сиповский В. В. H. M. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». Пб., 1899.
Эйхенбаум Б. М. Карамзин // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л., 1924.
Гуковский Г. А. Карамзин // История русской литературы. М., Л., 1941. Т. 5.
Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России первой
четверти XIX века. М.; Л., 1957.
Макогоненко Г. П. Литературная позиция Карамзина в XIX в. // Рус. лит. 1962. № 1.
Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л., 1969. (XVIII век; Сб. 8).
Ланда С. С. Дух революционных преобразований. 1816–1825. М., 1975.
Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». 2-е изд. М., 1986.
Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983.
Осетров Е. И. Три жизни Карамзина. М., 1985.
Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века // Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
Cross. A. G. N. M. Karamzin. A Study of His Literary Career (1783–1803). London; Amsterdam, 1971.
Rothe Hans. N. M. Karamzins europaische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Ver. Gehlen, Bad Homburg v. d. H.; Berlin; Zurich. 1968.
Примечания
1
Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1957. Т. 4. С. 181–182.
(обратно)2
Давыдов Д. В. Соч. М., 1962. С. 158.
(обратно)3
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л., 1948. Т. 5. С. 102.
(обратно)4
Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Спб., 1862. Ч. 1. С. 134. Оригинал по-французски (перевод мой. — Ю. Л.).
(обратно)5
Карамзин Н. М. Соч. Спб., 1848. Т. 3. С. 370.
(обратно)6
Фомин А. А. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров: Новые данные о них по документам архива П. Н. Тургенева // Рус. библиофил. 1912. № 1. С. 36–38. Ср.: Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). Л., 1960. С. 193–198.
(обратно)7
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3, кн. 1, С. 218.
(обратно)8
Кант Иммануил. Соч. в 6 тт., т. 5. М., 1966. С. 219.
(обратно)9
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 654.
(обратно)10
Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 288–289, 195, 139.
(обратно)11
Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 3. С. 47.
(обратно)12
Карамзин этого письма, видимо, не получил: 15 июля он уже прибыл в Россию. До нас дошла копия, тайно сделанная в полиции, следившей за перепиской всего новиковского круга лиц.
(обратно)13
Карамзин H. M. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. С. 509. Далее ссылки на это издание даются в тексте (в скобках указан номер страницы). В этом издании (серия «Литературные памятники») дана подробная мотивировка, почему необходимо сохранять орфографию и графический облик сочинений Карамзина (С. 516–524).
(обратно)14
Карамзин Н. М. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866. С. 14 (далее: Письма к Дмитриеву).
(обратно)15
Что я существую (фр.).
(обратно)16
Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII-го века, 1780–1792 гг. Пг., 1915. С. 2 (далее: Барсков).
(обратно)17
См.: Сиповский В. В. H. M. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». Спб., 1899 (далее: Сиповский).
(обратно)18
Гипотеза вполне правдоподобная, но ни подтвердить, ни опровергнуть ее нет возможности: все бумаги Карамзина до 1812 года сгорели в огне московского пожара.
(обратно)19
Кислягина Л. Г. Формирование общественно-политических взглядов H. M. Карамзина (1785–1803 гг.). М., 1976. С. 35, 77. Впрочем, эта неточность, возможно, есть результат общей небрежности этой, имеющей ряд достоинств, книги: так, здесь поэт Виланд превращен в философа (с. 51), роман «Кадм и Гармония» назван трагедией, С. Г. Аксаков из Оренбургской губернии по воле автора переместился в Симбирскую, известное сочинение С. Мерсье «Картины Парижа» названо «Контрасты Парижа», спутаны многие даты и т. д., и т. п.
(обратно)20
Барсков. С. 5–6.
(обратно)21
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 12. С. 31–32.
(обратно)22
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 263.
(обратно)23
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 8, кн. 1. С. 279.
(обратно)24
Дмитриев И. И. Соч. Спб., 1893. Т. 2. С. 24.
(обратно)25
Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии. М., 1866. Ч. 1. С. 22.
(обратно)26
Аониды. 1796. Кн. 1. С. 218.
(обратно)27
Дмитриев. С. 25.
(обратно)28
В 1784 г. еще только родился второй из них — Александр, в будущем поклонник и верный друг Карамзина.
(обратно)29
Исследование общественной деятельности Н. И. Новикова, начатое Н. С. Тихонравовым, П. П. Пекарским, М. Н. Лонгиновым, Г. В. Вернадским и другими учеными во второй половине прошлого века, получило совершенно новые импульсы в работах Г. А. Гуковского и особенно Г. П. Макогоненко (см.: Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.; Л., 1951). Итоги работы исследователей были подведены П. Н. Берковым в статье «Насущные вопросы изучения общественной позиции Н. И. Новикова» (Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976. С. 5—15 (XVIII век; Сб. 11)).
(обратно)30
Ключевский В. О. Очерки и речи: 2-й сб. ст. М., 1913. С. 270.
(обратно)31
Барсков. С. 65.
(обратно)32
Там же.
(обратно)33
Один из сыновей Радищева позже вспоминал об отце: «Он был среднего роста и в молодости был очень хорош, имел прекрасные карие глаза, очень выразительные, был пристрастен к женскому полу».
(обратно)34
Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.; Л., 1959. С. 98.
(обратно)35
Барсков. С. 77.
(обратно)36
Я чувствую, что говорю против себя самой (фр.).
(обратно)37
Я упрекаю себя за то, что вы, который в такой мере заслуживаете иметь супругу и счастливо жить, пребываете в таком одиночестве (фр.).
(обратно)38
Барсков. С. 76–77.
(обратно)39
Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 211.
(обратно)40
Барсков. С. 81.
(обратно)41
Погодин М. Николай Михайлович Карамзин… М., 1866. Ч. 2. С. 30.
(обратно)42
Там же, С. 55.
(обратно)43
Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. Спб., 1913. С. 182.
(обратно)44
Ключевский В. О. Указ. соч. С. 273.
(обратно)45
На связь алхимии с утопическими учениями средневековья указывал Ф. Энгельс, писавший в полемике с Дюрингом, что «алхимия в свое время была необходима» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 277); современную научную оценку алхимии как культурного явления см.: Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.
(обратно)46
Спрятанные деньги вновь появятся с помощью ассигнаций (фр.).
(обратно)47
Гете И. Фауст / Пер. Б. Пастернака. М., 1960. С. 352.
(обратно)48
См.: Шторм Г. П. Новое о Пушкине и Карамзине // Изв. АН СССР, Сер. лит. и яз. 1970. Т. 19, вып. 2. С. 150.
(обратно)49
Погодин. Т. 1. С. 69.
(обратно)50
Письма к Дмитриеву. С. 49.
(обратно)51
Барсков. С. 1, 7.
(обратно)52
В. Г. Семенников предположил, что Радищев и Карамзин могли познакомиться у Кутузова в Москве, куда, по некоторым предположениям, Радищев приезжал, пытаясь найти издателей для «Путешествия из Петербурга в Москву». От этого заманчивого предположения следует отказаться: если попытка обратиться в этой связи к Н. И. Новикову и Н. С. Селивановскому действительно имела место, то она должна была состояться уже после отъезда Кутузова в Берлин, а Карамзина в путешествие. См.: Семенников В. П. Радищев: Очерки и исслед. М.; Пг., 1923. С. 450–452 (далее — Семенников).
(обратно)53
См.: Вольная русская печать в Российской Публичной библиотеке. Пг., 1920. С. VIII; Семенников. С. 213; Алексеев М. П. Из истории русских рукописных собраний // Неизданные письма иностранных писателей XVIII–XIX веков. Из ленингр. рукописных собраний. М.; Л., 1960. С. 38; Каталог писем и других материалов западноевропейских ученых и писателей XVI–XVIII вв. Из собрания П. П. Дубровского. Л., 1963. С. 11.
(обратно)54
Комаровский Е. Ф. Записки… Спб., 1914. С. 10.
(обратно)55
ЦГАДА. Госархив XVI, № 534 1а, л. 102.
(обратно)56
Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 163.
(обратно)57
Екатерина II, имп. Сочинения… на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина. Спб., 1907. Т. 12. С. 658.
(обратно)58
В списке, по которому трактат был опубликован Герценом, фамилия Зиновьевой дана без сокращения. См.: Щербатов M. M. О повреждении нравов в России, Лондон, 1858 (в конволют с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева). С. 82.
(обратно)59
Щербатов М. М. Соч. Спб., 1898. Т. 2. Стб. 229.
(обратно)60
Анекдоты жизни князя Григория Григорьевича Орлова // ЛОИИ АН, архив Воронцовых, ф. 36, оп. 1, ед. хр. 756/362, л. 30 об. — 31. Существует немецкое издание этой рукописи: Anekdoten zur Lebensgeschichte der Fursten Gregorius Gregoriewitsch Orlow. Frankfurt; Leipzig, 1791.
(обратно)61
Saint-Martin L.-Cl. Mon Portrait historique et philosophique / Ed. Juillard, publie par R. Amadou. Paris, 1961. P. 303. Об отношении Сен-Мартена к революции см.: Chagrin N. Le citoyen Louis-Claude de Saint-Martin, theosophe-revolutionnaire // Dix— huitieme siecle. 1975. N 6; Sekrecka M. Louis-Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, l'homme et l'oeuvre. Wroclaw, 1968; idem. La nouvelle vision de la Revolution dans l'oeuvre de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu // La litterature des Lumieres en France et en Pologne. Acta Universitatis Wratislaviensis, N 339. Warszawa; Wroclaw, 1975.
(обратно)62
Saint-Martin. Louis-Claude de. Mon Portrait historique et philosophique (1789–1803). Paris, 1961. P. 129.
(обратно)63
Об отношении Карамзина и Воронцовых см.: Лотман Ю. М. Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг.: К генезису ист. концепции Карамзина // Проблемы историзма в русской литературе, конец XVIII — начало XIX в. Л., 1981. С. 102–131 (XVIII век; Сб. 13).
(обратно)64
Нельзя не отметить, что способ мышления, построенный на «робинзонаде» и общий для большинства Просветителей XVIII века, заставляет здесь Зиновьева текстуально приблизиться к Радищеву: «Представим себе мысленно, мужей, пришедших в пустыню, для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую злаком землю» (Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1936. Т. I. С. 314).
(обратно)65
PO ИРЛИ АН СССР, архив «Русской старины», ф. 265, оп. 1, № 21, л. 108 об. — 110 об.
(обратно)66
Одержимых (фр.).
(обратно)67
Там же. Л. 114.
(обратно)68
Там же. Л. 110.
(обратно)69
См.: Государственный исторический архив ЭССР (далее — ЦГИА ЭССР). — Тарту, ф. 291, № 1322 («О полках, командированных в Лифляндию»). См. также: Дебюк Е. Ф. Крестьянское движение в Лифляндии во второй половине XVIII в. // Ист. зап. 1942. № 13. С. 175–206; Thransehe-Roseneck. Gutsherr und Bauer in XVII und XVIII. J. Strasburg, 1890. S. 189.
(обратно)70
Радищев А. Н. Полн. собр. соч: М.; Л., 1941. Т. 2. С. 203.
(обратно)71
Цит. по второму изданию «Московского журнала» и «Писем русского путешественника» (в первом издании того и другого было «понуждения»). Начиная с 1803 года Карамзин вообще снял слова «без принуждения» (397).
(обратно)72
Барсков. С. 86.
(обратно)73
Розанов M. Н. Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц, его жизнь и произведения: Критич. исслед. М., 1901. С. 486.
(обратно)74
Там же. С. 487.
(обратно)75
Косвенным свидетельством встречи Карамзина в Дерпте с Фридрихом-Давидом Ленцом являются весьма точные сведения, сообщаемые им об эстонском языке (см.: Письма. С. 614). Фридрих-Давид Ленц, который был первым лектором эстонского языка в университете и считался в свое время его знатоком, мог быть для Карамзина источником сведений в этом вопросе.
(обратно)76
Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. М., 1945. С. 391.
(обратно)77
Там же. С. 390.
(обратно)78
Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. Спб., 1862. Т. 1. С. 157.
(обратно)79
Барсков. С. 2.
(обратно)80
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 348.
(обратно)81
Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 171.
(обратно)82
Cимпатия — зд. мистическое влечение, таинственно связывающее членов одного ордена, «посвященных», взаимной связью.
(обратно)83
Виланд К. М. История абдеритов. М., 1978. С. 75–76.
(обратно)84
Карамзин Н. М. Соч. Спб., 1848. Т. 3. С. 246.
(обратно)85
Виланд К. M. Указ. соч. С. 76.
(обратно)86
Мизософ, противник наук, зд. Руссо (ср. «Нечто о науках, искусствах и просвещении»). Показательно, что здесь Карамзин, споря с Мизософом-Руссо, отсылает читателей к Виланду: «Я не знаю, кто более имеет причин любить и защищать свое отечество, сын Софронисков или какой-нибудь Абдерит» (Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 391).
(обратно)87
Благой Д. Д. Указ. соч. С. 392.
(обратно)88
Rothe Hans. N. M. Karamzins europaische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Philologische Untersuchung. Bad Homburg; Berlin; Zurich, 1968. S. 70.
(обратно)89
Фишер, Куно. Иммануил Кант и его учение // История новой философии. Спб., 1910. Т.4. С. 289.
(обратно)90
Утверждение Г. Роте, что Шварц читал лекции о Канте, основано на недоразумении, неточном чтении источника.
(обратно)91
Утренний свет. 1780. Июнь. С. 148.
(обратно)92
Барсков. С. 2.
(обратно)93
Dickenmann. Ein Brief Johann Turgenevs an Caspar Lavater. — Festschrift fur Dmytro Cyzevskyj. Zum 60 Geburtstag. Berlin, 1954. S. 100. Оригинал письма по-немецки.
(обратно)94
См.: Heier, Edmund. Das Lavaterbild im Russland des 18. Jahrhunderts // Kirche im Osten. Studien zur osteuropaischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde, Gottingen, 1977. Bd. 20; Strahlmann, Berend. Johann Caspar Lavater und die «Nordischen Herrschaften» // Oldenburger Jahrbuch. 1959. Bd. 58. Teil 1. Марии Федоровне Лафатер присылал целый трактат в письмах о состоянии души после смерти. См.: Johann Kaspar Lavater's Briefe an die Kaiserin Maria Feodorowna, Gemahlin Kaiser Pauls I von Russland, uber den Zustand der Seele nach dem Tode. St.-Ptb., 1858.
(обратно)95
В журнальной редакции Карамзин привел здесь немецкий текст: «Unser Ich siehet sich nur im Du» (415).
(обратно)96
Шекспир У. Троил и Крессида / Пер. Т. Гнедич // Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 5. С. 401.
(обратно)97
Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 515.
(обратно)98
Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 459.
(обратно)99
PO ИРЛИ АН СССР, Альбом Ланского, шифр 1880/XXV, О, с. 159.
(обратно)100
Кант И. Соч. Т. 6. С. 27.
(обратно)101
Т. е. «по совести», «искренне».
(обратно)102
Барсков. С. 108.
(обратно)103
Там же. С. 29.
(обратно)104
Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 285.
(обратно)105
Лабет — карточный проигрыш; «попасть в лабет» — «попасть в дураки».
(обратно)106
Барсков. С. 55.
(обратно)107
Там же. С. 30.
(обратно)108
Там же. С. 30, 55.
(обратно)109
Там же. С. 89.
(обратно)110
Там же. С. 110.
(обратно)111
Там же. С. 48.
(обратно)112
Там же. С. 58.
(обратно)113
Там же. С. 28.
(обратно)114
Там же. С. 58.
(обратно)115
Перцов В. Н. Немецкое масонство в XVIII в. // Масонство в его прошлом и настоящем / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. Спб., 1914. Т. 1. С. 104.
(обратно)116
Барсков. С. 37.
(обратно)117
Путь от Парижа до Кале дилижанс проделывал за двое с половиной суток (См.: Etat General des Postes de France… pour l'annee 1788. Paris. P. 124.). Поскольку Карамзин заночевал в Кале и Дувре, то в Лондон он, видимо, прибыл на пятые сутки.
(обратно)118
Карамзин Н. М. Т. 2. С. 438.
(обратно)119
«Жени» — в языке немецких предромантиков галлицизм, означающий гениальную личность, для которой нет законов, наделенную врожденным даром творчества, странным для мещан поведением, стоящую выше предрассудков и законов общества. Происходящее от латинского слова «гений» употреблялось чаще в другом значении — добрый дух, ангел, персонаж аллегорической живописи и эмблематики эпохи барокко, крылатая фигура.
(обратно)120
Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 516–517.
(обратно)121
Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 109–110.
(обратно)122
Олар А. Политическая история Французской революции: Происхождение и развитие демократии и республики, 1789–1804. 4-е изд. М., 1938. С. 69.
(обратно)123
Там же. С. 70.
(обратно)124
Aulard A. Les orateurs de la Revolution. L'assemblee constituante. Paris, 1905. P. 539.
(обратно)125
Strahlmann, Berend. Johann Caspar Lavater und die «Nordischen Herrschaften» // Oldenburger Jahrbuch. 1959. Bd. 58. Teil 1. S. 204–210. Автор благодарит С. Г. Барсукова за перевод этого отрывка.
(обратно)126
Segur, Pierre de. Le royaume de la rue Saint-Honore. Madame Geoffrin et sa fille. 3-е ed. Paris, 1897. P. 393–394.
(обратно)127
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 185–187.
(обратно)128
Доказательства в пользу этого предположения см.: Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 124–131.
(обратно)129
Многоточие объясняется следующим редакторским примечанием в начале статьи: «Публикуя в этом журнале обращенные ко мне письма, если они входят в начертанный мною план журнала, я сохраняю за собой право исключать то, что ему не соответствует, и, в особенности, похвалы в мой адрес. Сколь бы они мне ни льстили, мне представляется непристойным быть их издателем. Именно из этих последних соображений я позволил себе убрать первый абзац публикуемого ниже письма. Оно прислано нам некоей особой, которая живо разделяет проявленное Павлом I желание реабилитировать память своего несчастного отца».
(обратно)130
О, слепота человеческих мнений! (лат.).
(обратно)131
Замок, находящийся в устье Невы, напротив Кронштадта (примеч. издат.).
(обратно)132
Несколько измененные слова Жеронта из комедии Мольера «Проделки Скапена», который, в свою очередь, цитирует комедию Сирано де Бержерака «Притворный педант».
(обратно)133
Le Spectateur du Nord. 1797. № 2. P. 282–288.
(обратно)134
Карамзин H. M. Соч. Спб., 1848. T. 1. С. 451.
(обратно)135
Там же. С. 425.
(обратно)136
Карамзин H. M. Записка о древней и новой России. Спб., 1914. С. 42.
(обратно)137
Тиандер К. Датско-русские исследования. Спб., 1912. Вып. 1. С. 20.
(обратно)138
Там же. С. 48 и 65.
(обратно)139
Там же. С. 65–66.
(обратно)140
Николай Михайлович, вел. князь. Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817): Ист. исследование эпохи императора Александра I. Спб., 1903. Т. 1. С. 350 и 352.
(обратно)141
Journal General de France, 1789, № 20, du mardi, 28 juillet. P. 374.
(обратно)142
Galante-Garrone, Alessandro. Gilbert Romme. Storia di un rivoluzionnario. Ed. Einaudi, 1959, P. 214–215.
(обратно)143
См.: Meaudis, Ariane. Le Club helvetique de Paris (1790–1791) et la diffusion des idees revolutionnaires en Suisse. These presentee a la Faculte de lettres de l'Universite de Neuchatel pour obtenir la grade de docteur des lettres. Neuchatel, 1969; Fazy, Henri. Geneve de 1788 a 1792. Geneve, 1917.
(обратно)144
Шаркова И. С. Фонд Жильбера Ромма // Рукописные источники по истории Западной Европы в архиве Ленинградского отделения Института истории СССР. Л., 1982. С. 175.
(обратно)145
Архив ЛОИИ АН СССР, З.-Евр. секция, ф. Ромма Ж., ед. хр. 34/372, л. 1–1 об.
(обратно)146
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 139.
(обратно)147
См.: Morin J. Histoire de Lyon depuis la Revolution de 1789. Paris, 1845. T. 1. P. 147.
(обратно)148
Motleon, Aime Quillon de. Memoires pour servir a l'histoire de la ville de Lyon pendant la Revolution. Paris, 1824. T. 1. P. 51; Charlety, Sebastien. Histoire de Lyon depuis les origines jusqu'а nos jours. Lyon, 1903. P. 195–206; Steyert, Andre. Nouvelle Histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais — Forez — Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes. Epoque moderne. Lyon, 1899. T. 3. P. 432–472.
(обратно)149
Morin J. Op. cit. T. 1. P. 148–149.
(обратно)150
Комаровский E. Ф. Записки. С. 10.
(обратно)151
Видимо, с целью цензурной маскировки Б<обринский> назван здесь графом: этот титул он получил позже. Однако никакой другой расшифровки аббревиатуре Б, которая соответствовала бы данному контексту, привести нельзя. Речь явно идет об очень известном лице: путешественник узнает его, хотя французы не назвали фамилию, и называет ее сам.
(обратно)152
Bardoux A. La jeunesse de la Fayette, 1752–1792. Paris, 1892. P. 292–293.
(обратно)153
Rousselot J. La vie passionee de la Fayette. Paris, 1957. P. 202.
(обратно)154
См. об этом: Lifar S. Auguste Vestris, le dieu de la dance. Paris, 1950.
(обратно)155
Петров В. Л. Михаил Иванович Козловский. Л., 1976. С. 29.
(обратно)156
Барсков. С. 99.
(обратно)157
О Жильбере Ромме см.: Николай Михайлович, вел. князь. Указ. соч. Т. 2; Galante-Garrone, A. Op. cit.; Holbrook, William С. Tisso, premier historien des derniers Montagnard // Annales de la Revolution Francaise. Paris, 1937. T. 40. P. 448–459; Perroud, Gilbert Romme en 1790 et 1791 // La Revolution Francaise. Paris, 1910, T. 59. P. 522–530; Vissac, Marc de. Un Conventionnel du Puy de Dome, Romme, le Montagnard. Clermont-Ferrand, 1883; Gilbert Romme (1750–1795) et son temps // Actes du colloque tenu a Riom et Clermont les 10 et 11 juin, 1965. Presse Universitaire de France. (Paris) 1966.
(обратно)158
Galante-Garrone A. Gilbert Romme et les debuts de la Societe des «Amis de la loi» // Gilbert Romme et son temps. P. 95–96.
(обратно)159
Galante-Garrone A. Gilbert Romme. Storia di un rivoluzionario. P. 219.
(обратно)160
Место, с которого народные и общественные депутации подавали петиции в Национальную ассамблею.
(обратно)161
Николай Михайлович, вел. князь. Указ. соч. Т. 2. С. 301–302.
(обратно)162
Gilbert Romme et son temps. P. 199.
(обратно)163
См.: Oeuvres de Rabaut St.-Etienne. Paris, 1826. T. 2. P. 412–413.
(обратно)164
Aulard A. Op. cit. P. 432.
(обратно)165
Ibidem. P. 433.
(обратно)166
Николай Михайлович, вел. князь. Указ. соч. Т. 2. С. 360.
(обратно)167
Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 151.
(обратно)168
Там же.
(обратно)169
Там же. С. 347.
(обратно)170
См.: Марат Ж. П. Избр. произведения. М., 1956. Т. 2. С. 290; Chapuis L. О. Breguet pendant la Revolution, Neuchatel, 1953.
(обратно)171
Радищев A. H. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 387.
(обратно)172
Лит. наследство. 1937. T. 29/30. С. 389.
(обратно)173
Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau ou choix des plus eloquents discours de cet orateur celebre. Paris, 1822. T. 1. P. 369–370.
(обратно)174
Oeuvres de Camille Demoulins. Paris. 1890. T. 2. P. 91–92.
(обратно)175
Aulard A. Op. cit. T. 1. P. 98; Thiers M. A. Histoire de la Revolution Francaise. Paris, 1845. T. 1. P. 100.
(обратно)176
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 11. С. 167.
(обратно)177
Aulard A. Op. cit. T. 1. P. 95; Общий очерк личности Мирабо см.: Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой французской революции: Ж.-Ж. Руссо, О.-Г. Рикети де Мирабо, М. Робеспьер. М., 1978. С. 97—252.
(обратно)178
Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau… P. 372, 374.
(обратно)179
Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. Спб., 1862. Ч. 1. С. 194.
(обратно)180
Aulard A. Op. cit. P. 526.
(обратно)181
Ibidem. P. 528–529.
(обратно)182
Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 1915. Т. 1. С. 342.
(обратно)183
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 137.
(обратно)184
Моск. журн. 1791. Ч. 3. С. 211.
(обратно)185
Рус. архив. 1872. № 7/8. С. 1324–1325.
(обратно)186
Вестн. Европы, 1803, № 20. С. 319–320.
(обратно)187
L'Ami du Peuple. N CVI. Du mardi 18 mai 1790. P. 4.
(обратно)188
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 12. С. 34.
(обратно)189
О том, что Карамзин продолжал пристально следить за деятельностью Робеспьера и после того, как покинул Францию, и насколько осторожно надо подходить к его высказываниям относительно парижских событий, свидетельствует один эпизод. В 1794 году, в ч. 2 сборника «Мои безделки», Карамзин опубликовал стихотворение «Песнь божеству» с пометой: «Сочинена на тот случай, как безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: «Нет бога!»» Для любого читателя эти слова могли звучать как полемика с «безбожными» революционерами и выпад против революции как таковой. Однако при более близком знакомстве все оказывается сложнее: Карамзин имеет в виду выступление Дюмона против Робеспьера и нападки первого на идею культа Разума. Андрэ Дюмон, «бешеный», член Конвента и убежденный участник движения «дехристианизации», был заклятым врагом Робеспьера. В дальнейшем он сделался термидорианцем. Сменив знамена, он не сменил предмет ненависти. Неприятелем Робеспьера он был всегда (ср.: «Андрэ Дюмон считался эбертистом, но после Термидора он открыто перешел на сторону правых и сделал в их рядах карьеру». Manfred A. Z. Zum Meinungsstreit uber Robespierre (Манфред А. З. К борьбе мнений вокруг Робеспьера), — Maximilien Robespierre 1759–1794, Berlin, 1961, S. 529). Если к этому прибавить, что и «Песнь божеству», и опубликованная рядом «Молитва о дожде», обращенная к весьма сомнительному, с точки зрения православной ортодоксии, адресату («Мать любезная, Природа!»), вполне выдержаны в духе руссоистского деизма и тесно связаны с «Исповеданием веры Савойского викария», то картина получается достаточно выразительная. Таким образом, и в 1794 году, по крайней мере, некоторые стороны деятельности Робеспьера находили у Карамзина одобрение.
(обратно)190
Карамзин H. M. Избр. соч. M.; Л., 1964. T. 1. С. 798.
(обратно)191
Arago Fr. Biographie de Condorset // Memoires de l'Academie des Sciences. Paris. 1849. T. 20. P. LXXII.
(обратно)192
Aulard A. Les orateurs de la Revolution. La legislative et la convention. Paris, 1906. T. 1. P. 263.
(обратно)193
Если К* следует, как мы теперь можем полагать, расшифровывать как Кунклер, то перед нами — любопытный пример «шифровальной лаборатории» Карамзина: он действительно привез рекомендательное письмо из дома г-жи Кунклер, но адресовано оно было не прованскому дворянину, а якобинцу Жильберу Ромму.
(обратно)194
См.: Saint-Germain J. La vie quotidienne en France a la fin du Crand Siecle. D'apres les archives, en partie inedits du lieutenant general de police Marc-Rene Argenson. Paris, 1965, P. 69.
(обратно)195
См.: d'Haussonville, vicomte. Le Salon de Madame Necker d'apres de documents, tires des archives de Coppet. Paris, 1882; d'Haussonville, comte. Madame de Stael et M. Necker. D'apres leur correspondance inedite. Paris, 1925.
(обратно)196
Сталь Ж. де. Коринна, или Италия. М., 1969. С. 199.
(обратно)197
Шаркова И. С. Указ. соч. С. 159.
(обратно)198
См.: Guillois, Antoine. Le Salon de m-me Helvetius. Cabanis et les ideologues. Paris, 1894. P. 72.
(обратно)199
Segur P. de. Le royaume de la rue Saint-Honore. Paris, 1897; Glotz, Marguerite, Maire, Madeleine. Salon du XVIII-e Siecle. Paris. 1945.
(обратно)200
Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. M., 1961. T. 3. С. 483.
(обратно)201
См.: Жирмунский В. М., Сигал Н. А. У истоков европейского романтизма // Уолпол Гораций. Замок Отранто. Казот Жак. Влюбленный дьявол. Бекфорд Уильям. Ватек. Л., 1967. С. 249–284; Lettres de la marquise du Deffand a Horace Walpole. T. 1–2. Paris, 1864; Gross A. G. N. M. Karamzin, a Studi of his Literary Career (1783–1803). London; Amsterdam, 1971. P. 113.
(обратно)202
Об этом свидетельствует отрывок из «Писем», посвященный чуду св. Дионисия: «Католическия Легенды говорят, что он после казни стал на ноги, взял в руки отрубленную голову и шел с нею версты четыре. Одна Парижская Дама, рассуждая о сем чуде, сказала: cela n'est pas surprenant; il n'y a que le premier pas qui coute» («это не удивительно: стоит лишь сделать первый шаг»), «Одна парижская дама» — дю Дефан, именно этими словами она ответила кардиналу Полиньяку, произнесшему в салоне герцогини дю Мен патетическую речь о чуде св. Дионисия
(обратно)203
Bellissort, Andre. Le salon de M-me du Deffand // Les grand salons litteraires (XVII-e et XVIII siecle). Conference du musee Carnevalet (1927). Paris, 1928. P. 154.
(обратно)204
Цит по: Glotz M., Maire M. Op. cit. P. 57—588.
(обратно)205
Высказав свое холодное отношение к салонной культуре, как в тексте «Писем», так и в их автореферате, Карамзин, однако, воспроизводя свою беседу с Мармонтелем, привел его мнение о том, что «в доме Г-жи Неккер, Барона Ольбаха, шутили столь же остроумно, как и в доме Ниноны Ланкло».
(обратно)206
Выделив это слово курсивом, Карамзин хочет сказать, что отсутствие действия — одного из основных положений эстетики новой драмы — трагедия классицизма компенсирует разработанной традицией артистической декламации. Показательно, что во всех изданиях до 1814 года в этом месте значилось: вот действие! жесты!
(обратно)207
Державин К. Н. Театр французской революции, 1789–1799. Л.; М., 1937. С. 264.
(обратно)208
Комедия Лэйа «Друг законов» была поставлена на сцене «Театра нации» (так была переименована в 1789 году Французская комедия) 2 января 1793 года. Современники восприняли ее как памфлет на Марата и Робеспьера. По приказу Коммуны пьеса была снята, что вызвало протестующие демонстрации зрителей, столкновения в зале и перед театром. По требованию жирондистов в Конвенте пьеса была восстановлена и вновь снята самим театром после бурных сцен в зале.
(обратно)209
Там же. С. 117.
(обратно)210
Искусство красноречия (фр.).
(обратно)211
Плеханов Г. В. Об экономическом факторе // Лит. и искусство. 1930. № 3/4. С. 14.
(обратно)212
Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution. Geschrieben von Joachim-Heinrich Campe. Dritte verbesserte Auflage. Braunschweig, 1790. S. 307.
(обратно)213
Карамзин переводил название более точно: «Заключенные в монастырь жертвы». Мы пользуемся общепринятым переводом.
(обратно)214
Цит. по: Державин К. Н. Указ. соч. С. 141.
(обратно)215
Моск. журн. 1791. Ч. 5, кн. 3. С. 342.
(обратно)216
Там же. Ч. 2, кн. 1. С. 70.
(обратно)217
Державин К. Н. Указ. соч. С. 173.
(обратно)218
Цит. по: Олар А. Указ. соч. С. 282.
(обратно)219
Gerny, Vaclav. L'apotheose de Pierre le Grand etc. Trois ecrits historiques inconnus, presumes de M. V. Lomonosov, destines a Voltaire. Prague, 1964. P. 80.
(обратно)220
Моск. журн. 1791. Ч. 3, кн. 3. С. 331–332.
(обратно)221
И слово, и понятие были еще непривычны для русского читателя, и Карамзин вынужден был сделать примечание: «Ресторатёрами называются в Париже лучшие трактирщики, у которых можно обедать. Вам подадут роспись всем блюдам с обозначением их цены; выбрав, что угодно, обедаете на маленьком, особливом столике» (245).
(обратно)222
Комаровский Е. Ф. Указ. соч. С. 9—10.
(обратно)223
D'Almeras, Henri. La vie Parisienne sous la Revolution et le Directoire. Paris, 1909. P. 67.
(обратно)224
Кафе Корацца сделалось прибежищем монтаньяров и крайних демократов: Шабо, Лазовского, Варле, Колло д'Эрбуа — позже. Весной 1790 года оно еще было типично аристократическим, и Карамзин, и так уже назвавший два центра роялистов как места, которые он посещал, мог не умножать списка: поза подчеркнутой внепартийности требовала строгой пропорции, и автор «Писем» неизменно ее соблюдал, независимо от того, перечислял ли он ораторов, знакомых или кафе.
(обратно)225
Цитата из комедии Мариво «Игра любви и случая», где, в свою очередь, цитируется «Игрок» Реньяра.
(обратно)226
См.: Guillois, A. Op. cit. P. 76.
(обратно)227
Когда нет ничего и надежда потеряна, жизнь — позор, а смерть — долг (фр.); сегодня — я, завтра — ты (фр.).
(обратно)228
Как патриотический дар (фр.).
(обратно)229
В этом сочинении содержатся весьма разумные мысли. Например, среди прочих: «Мудрый отец должен оставить своим детям или состояние, или участок земли для возделывания».
(обратно)230
Неточная цитата из трагедии Вольтера «Меропа» (дейст. 2, явл. 7). Стихи эти многократно переводились в XVIII веке. В переводе А. В. Храповицкого они звучат так:
Всего лишенным быть, надежды не иметь — Поносна жизнь тогда и должно умереть!Цит. по <Дрё дю Радье>, Любовный лексикон <пер. А. В. Храповицкого>. Изд. 2-е. М., 1779. С. 69.
(обратно)231
Journal des Revolutions de l'Europe en 1789–1790. T. 8. A Neuwied sur le Rhin et a Strasbourg, 1790. P. 50–52.
В 1984 г. в «Литературной России» (6 июля. С. 24) появилась заметка А. Мосина, сообщавшая, что в университетской библиотеке Свердловска хранится конволют брошюр, газет и листовок, вышедших во Франции с июля по середину августа 1789 г. Книга принадлежала библиотеке Нижнетагильских заводов, основанной А. Н. Карамзиным, сыном писателя, т. е., возможно, попала туда из семьи Карамзиных. А. Мосин высказал предположение, что сборник составлен Карамзиным во время пребывания в Париже.
(обратно)232
Единственный король, о котором народ сохранил память (фр.).
(обратно)233
К. Н. Державин пишет: «Генрих IV появляется во многих пьесах неизменно в самом идеализированном облике короля-демократа, который борется со злом, причиняемым народу корыстолюбивыми и злыми министрами и высокомерными аристократами» (Державин К. Н. Указ. соч. С. 117).
(обратно)234
Цит. по: Олар А. Указ соч. С. 282.
(обратно)235
Литература по проблеме «Французская революция и масонство» огромна, однако весьма низкокачественна и в массе научной ценности не имеет. Критический анализ см.: Soboul, Albert. La franc-maconnerie et Revolution francaise // La Pensee, 1973. Aout, N 170. См. также специальный номер: Annales historiques de la Revolution francaise, 1969. N 3 (La franc-maconnerie et la Revolution francaise).
(обратно)236
Речь идет об убийстве католических священников 2 сентября 1792 г., за ним последовали стихийные самосуды, во время которых было перебито более полутора тысяч заключенных в тюрьмах «подозрительных». См.: Ревуненков В. Г. Парижские коммуны. 1792–1794. Л., 1976. С. 25–26.
(обратно)237
Souvenirs de la marquise De Crequy de 1710 a 1803. Paris, s. a. T. 4. P. 116–121.
(обратно)238
Лотман Ю. M. «Краткие наставления русским рыцарям» M. A. Дмитриева-Мамонова: Неизвест. памятник агит. публ. раннего декабризма // Вестн. Ленингр. ун-та. 1949. № 7. С. 138.
(обратно)239
Николай Михайлович, вел. князь. Указ. соч. Т. 1. С. 216.
(обратно)240
Perroud Cl. Gilbert Romme en 1790 et 1791 // La Revolution francaise, revue d'histoire moderne et contemporaine. T. 59. 1910, decembre. P. 525.
(обратно)241
Лит. наследство, 1937. T. 29/30. С. 440.
(обратно)242
Александр Машков, 1766 г. р., первый секретарь русской миссии в Париже, числился масоном в ложе «Объединенных искусств», «Объединенных друзей» и «Объединенной иностранной ложи». См.: Le Bihau, Alain. Franc-macons Parisiens, du Grand Orient de France (Fin du XVIIe Siecle). Paris, 1966. P. 344; Каталог писем и других материалов западноевропейских ученых и писателей XVI–XVIII вв. из собрания П. П. Дубровского / Под ред. акад. М. П. Алексеева. Л., 1963. С. 8–9.
(обратно)243
Опять хронологическая загадка! Карамзин три месяца не расставался с Вольцогеном. Но встретились они только в Париже. Следовательно, Карамзин был в Париже три месяца, по крайней мере. Между тем по тексту писем он прибыл в Париж 27 марта, а 4 июня уже писал Дмитриеву из Лондона (значит, выехал не позже конца 20-х чисел мая). В этот раз он был в Париже только два месяца. Отъезд из Женевы, как мы уже отмечали, реально произошел лишь в середине марта, поэтому прибыть в Париж ранее конца этого месяца Карамзин не мог. Следует предположить, что один месяц Карамзин «не расставался» с Вольцогеном в какой-то другой приезд. Вольцоген, будучи на дипломатической службе, находился в Париже с 1788 года.
(обратно)244
Literarisches Nachlas der Frau Caroline von Wolzogen. Zweiter Band. Leipzig, 1867. S. 423–424.
(обратно)245
Ibidem. S. 141.
(обратно)246
Ibidem. S. 187.
(обратно)247
Harder, Hans-Bernd. Schiller in Rusland: Materialien zu einer Wirkungsgeschichte 1789–1814. Bad Homburg; Berlin; Zurich, 1969.
(обратно)248
Моск. журн. 1792. Ч. 6, кн. 1. С. 72.
(обратно)249
Письма Карамзина к Дмитриеву. С. 14.
(обратно)250
Шторм Г. П. Указ. соч. С. 150. В определении хронологии Духова дня 1790 г. и пребывания Карамзина в Англии в комментарии к «Письмам русского путешественника» (Карамзин Н. М. Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 653 и 622) мной допущена ошибка, явившаяся результатом ошибочного прочтения источника.
(обратно)251
Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин. М., 1866. Ч. 1. С. 164.
(обратно)252
Комаровский Е. Ф. Указ. соч. С. 8.
(обратно)253
См.: Cross A. G. Whose Initials? Unidentified Persons in Karamsin's Letters from England. Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter, N 6. P. 27.
(обратно)254
См.: Cross A. G. Karamzin and England // The Slavonic and East European Review. December 1964. Vol. 43, N 100. P. 111–112. Арзуманова M. A. Перевод английской рецензии на «Письма русского путешественника» из бумаг А. С. Шишкова // Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л., 1969. С. 309–323 (XVIII век: Сб. 8); Быкова Т. А. Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе. — Там же. С. 324–342.
(обратно)255
Быкова Т. А. Указ. соч. С. 335.
(обратно)256
Бомарше П. Избр. произведения. М., 1954. С. 419–420.
(обратно)257
Арзуманова М. А. Указ. соч. С. 323.
(обратно)258
Комаровский Е. Ф. Указ. соч. С. 18.
(обратно)259
Индова Е. И. Крепостное хозяйство в начале XIX века. По материалам вотчинного архива Воронцовых. М., 1955. С. 28.
(обратно)260
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 12. С. 369.
(обратно)261
Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Спб., 1902. Т. 2. С. 5.
(обратно)262
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 778.
(обратно)263
Цит. по: Осмнадцатый век: Ист. сб. / Изд. П. Бартеневым. М., 1869. Т. 4. С. 217.
(обратно)264
Чернов С. Н. М. В. Ломоносов в одах 1762 г. // XVIII век; Сб. ст. и материалов. 1935. Т. 1. С. 166.
(обратно)265
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3, кн. 1. С. 262.
(обратно)266
Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. С. 111.
(обратно)267
Весь текст написан по-французски. Слова, которые в оригинале написаны по-русски, передаем курсивом.
(обратно)268
Архив князя Воронцова. М., 1876. Кн. 8. С. 3–6.
(обратно)269
Cross A. G. Jakov Smirnov: a Russian Priest of Many Parts // Oxford Slavonic Papers, New Series. 1975. Vol. 8. P. 37–52.
(обратно)270
См.: Cross A. G. Whose Initials?…
(обратно)271
Cross A. G. By the Banks of the Thames. Russian in Eighteenth Century Britain. Newtonville, Mass., 1980. См. по именному указателю.
(обратно)272
Комаровский E. Ф. Указ. соч. С. 20.
(обратно)273
Там же. С. 21; о Синявине см.: Cross. By the Banks… P. 164–165 (возможно написание Сенявин, которое и принял Кросс) и Архив Воронцова по росписи томов.
(обратно)274
Полагаю, что наивно заключать из этих слов, что анонимный автор действительно принадлежал к большому свету. Из людей «большого света» в Англии в то время находился В. П. Кочубей. Однако о его литературном творчестве мы ничего не знаем.
(обратно)275
Приятное и полезное препровождение времени. 1796. Ч. 11, № 60. С. 99.
(обратно)276
Рассуждение о мире и войне. Спб., 1803. Т. 1. С. 1–2; ср: Малиновский В. Ф. Избранные общественно-политические сочинения. М., 1958. С. 41. О связях идей Малиновского с просветительской концепцией вечного мира см.: Алексеев М. П. Пушкин: Сравнит. — ист. исслед. Л., 1984. С. 206–211; о воздействии идей Малиновского на Карамзина см.: Cross A. G. Whose Initials?… P. 31.
(обратно)277
Rousseau J. J. Oeuvres completes. Paris, 1824. T. 6. P. 449–450.
(обратно)278
Карамзин H. M. Соч. Спб., 1848. T. 3. С. 370.
(обратно)279
Там же. С. 371.
(обратно)280
Дмитриев И. И. Соч. Спб., 1893. Т. 2. С. 26.
(обратно)281
Цит. по: Погодин М. П. Указ. соч. Ч. 1. С. 168.
(обратно)282
См.: Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века: Яз. прогр. Карамзина и ее ист. корни. М., 1985. С. 46–48.
(обратно)283
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 11. С. 79.
(обратно)284
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 61–62 и 63. Стихотворение опубликовано было с пометой: «Сочинена в 1787 г.» (отрывок появился в «Детском чтении». 1789. Ч. 17). Однако есть все основания полагать, что текст дорабатывался в 1790–1791 гг. Полный текст опубликован в «Московском журнале» (1792. Ч. 7).
(обратно)285
См.: Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка… С. 3—70; Лотман Ю., Успенский Б. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Учен. зап. / Тарт. ун-т. 1975. Вып. 358. С. 168–322; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин H. M. Письма русского путешественника. С. 525–606.
(обратно)286
Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка… С. 46; Бицилли П. К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время // Годишник на Софийския университет. Ист. — филол. фак., 1936. Кн. 37, № 4.
(обратно)287
Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1954. Т. 3. С. 212–213.
(обратно)288
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 1. С. 237–238.
(обратно)289
Там же. Т. 6. С. 15.
(обратно)290
Там же. Т. 13. С. 365–366.
(обратно)291
Там же. Т. 8, кн. 1. С. 263.
(обратно)292
Цит. по: Новиков Н. И. Избр. соч. М.; Л., 1951. С. 606.
(обратно)293
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 170 и 391.
(обратно)294
В следующих изданиях, выходивших уже после смерти Екатерины, Карамзин изменил стих на: «Россия, торжествуй…», что также звучало очень смело.
(обратно)295
Погодин М. П. Указ. соч. Т. 1. С. 214.
(обратно)296
Архив кн. Воронцова. М., 1879. Т. 14. С. 507–508; ср. Архив кн. Воронцова. Т. 32. С. 273.
(обратно)297
Державин Г. Р. Соч. / С объясн., примеч. Я. Грота. Спб., 1880. Т. 8. С. 606–607.
(обратно)298
Пушкин А. С. Указ. соч. Справ. т. С. 58; Там же. Т. 11. С. 16.
(обратно)299
Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 68. Перевод Э. Л. Линецкой.
(обратно)300
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 178–181.
(обратно)301
Державин Г. Р. Указ. соч. Спб., 1866. Т. 3. С. 363.
(обратно)302
Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 589.
(обратно)303
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 24.
(обратно)304
Glotz Marguerite, Maire Madeleine. Salon du XVIIIe siecle. Paris, 1949. P. 36.
(обратно)305
Державин Г. Р. Указ. соч. Т. 3. С. 508.
(обратно)306
С любовью (ит.).
(обратно)307
Моск. журн. 1791. Ч. IV. № 11. С. 245. В дальнейшем ссылки на «Московский журнал» даются в тексте сокращенно (МЖ), с обозначением части (римскими цифрами), номера и страницы (арабскими).
(обратно)308
Позже Карамзин советует критику «быть не столько осторожным, сколько человеколюбивым. Для истинной пользы искусства артист может презирать некоторые личные неприятности, которые бывают для его следствием искреннего суждения и оскорбленного самолюбия людей: но точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры» (Вестник Европы. 1802, № 1. С. 2).
(обратно)309
Речь идет о подложном документе, который циркулировал в 1790 году в роялистских кругах как признание, сделанное Калиостро перед инквизиционным трибуналом в Риме.
(обратно)310
Авторство Карамзина установлено В. В. Виноградовым: «Неизвестное стихотворение H. M. Карамзина: Пробл. атрибуции аноним. текста и его истолкования // Учен. зап. / Сарат. ун-т, 1957. Т. 56, вып. филол. С. 19–35. Перепечатано: Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.
(обратно)311
Сопоставление с басней Лихтвера сделано В. В. Виноградовым. См. примеч. 2. Там же анализ стихотворения.
(обратно)312
Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. С. 109–110. Показательно, что позже Карамзин никогда не включал ни «Странных людей», ни «Поэзию» в свои собрания сочинений.
(обратно)313
«Мальчики в глазах» — рябит, зеленеет (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1881, 2-е изд. (фототипическое переиздание, М., 1979). Т. 2. С. 293.
(обратно)314
Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII-го века, 1780–1792 гг. Пг., 1915. С. 26.
(обратно)315
См.: Лотман Ю. М. «Сочувственник» А. Н. Радищева А. М. Кутузов и его письма к И. П. Тургеневу // Учен. зап. / Тарт. ун-т. 1963. Вып. 139. С. 293–294.
(обратно)316
Виноградов В. В. Указ. соч. С. 273, ср. с. 249–251. С этим мнением согласна Н. Д. Кочеткова. См. ее статью «Идейно-литературные позиции масонов 80—90-х годов XVIII в. и H. M. Карамзин» (Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.; Л., 1964. С. 189).
(обратно)317
См.: Cross A. G. N. M. Karamzin and Barthelemy's «Voyage du jeune Anacharsis» // The Modem Language Review. Vol. LXI, July 1966. N 3. P. 468.
(обратно)318
Цит. по: Вольней К. Ф. Руины или размышления о революциях империй. М., 1928. С. 57 и 61.
(обратно)319
Mercier. De J.-J. Rousseau, considere comme l'un des premiers auteurs de la revolution. Paris, 1791. P. 65.
(обратно)320
Ibid. P. 60–61.
(обратно)321
Ibid. P. 122.
(обратно)322
Шпандау — пригород Берлина, где находилась тюрьма для государственных преступников.
(обратно)323
Ibid. P. 188.
(обратно)324
См.: Штранге M. M. Русское общество и французская революция, 1789–1794 гг. М., 1956. С. 54–55. Летом 1792 г. московский генерал-губернатор А. А. Прозоровский писал, что в Москве «все, какие только во Франции печатаются книги, здесь скрытно купить можно» (Рус. старина. 1899. Т. 98. С. 164). Надо учитывать, что Прозоровский, из карьеристских соображений запугивая правительство, запугивал и сам себя. Все его сообщения страдают гиперболизмом в тех случаях, когда не являются прямой выдумкой. Однако какая-то доля истины в этих словах, безусловно, есть, судя по составу русских библиотек. См.: Штранге M. M. Указ. соч. С. 116–117.
(обратно)325
Радищев А. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 3. С. 30–31.
(обратно)326
Вольней К. Ф. Указ. соч. С. 39–40.
(обратно)327
Добролюбов Н. А. Русские классики: Избр. лит. — крит. ст. М., 1970. С. 223.
(обратно)328
О связи идеи бессмертия души у Радищева с теорией подвига см.: Лотман Ю. М. Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века. 1. Спор о бессмертии души и вопросы революционной тактики в творчестве Радищева // Учен. зап. / Тарт. ун-т. 1965. Вып. 167. С. 6—17.
(обратно)329
См.: Andrews R. Le neo-stoicisme et le legislateur montagnard. Consideration sur le suicide de Gilbert Romme // Gilbert Romme (1750–1795) et son temps. Actes du Colloque tenu a Riom et Clermont les 10 et 11 juin 1965. Presses Universitaires de France. (Paris), 1966; Dantry Jean. Reflexion sur les martyrs de Prairial. Sacrifice heroique et mentalite revolutionnaire. // Op. cit.
(обратно)330
Глинка С. H. Записки. Спб., 1895. С. 61–63.
(обратно)331
Оленина В. А. Письма П. И. Бартеневу // Летописи Гос. лит. музея. 1938. Кн. 3. Декабристы. С. 484.
(обратно)332
См.: Лотман Ю. М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века // Semiotyka: struktura tekstu. Studia poswiecone VII Miedzynarodowemu Kongresowi Slawistow, Warszawa 1973. Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdansk, PAN, 1973.
(обратно)333
См.: Виноградов В. В. Указ. соч. С. 246–323.
(обратно)334
Баельвиц, барон — воспитатель принцев Шварцбургских и заграничный знакомый Карамзина. О нем: Письма… С. 195.
(обратно)335
Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. С. 124–125.
(обратно)336
Там же. С. 242–243.
(обратно)337
Стихи представляют собой не лишенный иронии пересказ стихотворений Боброва:
Падут миры с осей великих, Шары с своих стряхнутся мест…(Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 82).
Об этих стихах Карамзин иронически писал в предисловии ко второй части «Аонид» (1797) — см.: Карамзин H. M. Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 88–89.
(обратно)338
Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. С. 245–246.
(обратно)339
Барсков Я. Л. Письма А. М. Кутузова // Рус. ист. журн. 1917. Кн. 1/2. С. 135.
(обратно)340
Барсков Я. Л. Переписка московских масонов… С. 100.
(обратно)341
Карамзин, видимо, ближайшим образом имел в виду слова Кутузова: «Желающие переделать француза в англичанина или россиянина в англичанина, немца или француза суть не что иное, как люди, бросающие в огонь хорошее целое платье и потом одевающиеся в шерсти, сшитые из лоскутков различного цвета» (Барсков Я. Л. Письма А. М. Кутузова. С. 132.).
Позже воззрения Карамзина отчасти сблизились с кутузовскими. Если в «Письмах» он писал: «Все народное (в МЖ — «национальное») ничто перед человеческим», то в «Записке о древней и новой России» (1811): «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр» (Н. М. Карамзин. Записка о древней и новой России. Спб., 1914, С. 28).
(обратно)342
В этом отношении связь языковой реформы Карамзина с деятельностью Тредиаковского, убедительно раскрытая Б. А. Успенским («Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века»), представляется глубоко закономерной.
(обратно)343
Не следует забывать, что стремление «перевести» достижения науки и культуры на общепонятный язык, пересказать их не только понятно, но и интересно, хорошим стилем, заинтересовать светских дам — все эти требования не имели в XVIII в. того смысла, который через сто лет стали вкладывать в понятие «салонность». На этих же принципах строилась «Энциклопедия» Дидро и Даламбера, популяризация Вольтером Ньютона, Фонтенелем — Коперника и т. д.
(обратно)344
Подробнее см.: Лотман Ю. М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII в. // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985. С. 222–230.
(обратно)345
Отметим попутно, что противопоставление путешествия в духе Стерна путешествиям по образцу Дюпати, введенное Т. Раболи, не кажется нам плодотворным. Статья Т. Раболи «Литература путешествий» (Русская проза. Л., 1926), в свое время сыгравшая, бесспорно, положительную роль, вместе с тем породила традицию рассмотрения «Писем русского путешественника» как беллетризованного путеводителя. С этих позиций многие авторы упрекали Карамзина за то, что он не уделил достаточного внимания событиям, которые они на его месте описали бы более подробно и красочно.
(обратно)346
Лабзина А. Е. Воспоминания, 1758–1828. Спб., 1914. С. 48 и 58.
(обратно)347
Ср., например, обращение А. Мюссе в «Исповеди сына века» к Гёте и Байрону: «Простите меня! Вы — полубоги, а я только страдающий ребенок».
(обратно)348
Автор дневника принадлежал к «европеизированному» кругу русского дворянства: он кузен кн. Гагарина, следовательно, в родстве с Куракиными, Паниными и др. Однако, видимо, беден — служит младшим офицером в захудалом Муромском полку. Это типичный «средний» человек.
(обратно)349
Типичный «карамзинизм». Слово это сделалось как бы паролем карамзинистов (ср. «Журнал для милых») и предметом насмешек над ними.
(обратно)350
Дорожные записки 1797 года // Щукинский сб. 1903. Вып. 2. С. 216, 224–226.
(обратно)351
Mercier. De J. J. Rousseau… P. 194.
(обратно)352
Виноградов В. В. Указ. соч. С. 296.
(обратно)353
Погодин М. П. Указ. соч. С. 191.
(обратно)354
Там же. С. 193.
(обратно)355
Там же. С. 200.
(обратно)356
Там же. С. 192.
(обратно)357
См.: Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 31.
(обратно)358
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 438.
(обратно)359
Там же. С. 438–439.
(обратно)360
Герцен А. И. Указ. соч. Т. 6. С. 11–12.
(обратно)361
Герцен ошибся: Карамзин написал эти слова в начале 1790 годов (точнее, осенью 1793). Но ошибка знаменательна: сам Герцен написал бы их в конце.
(обратно)362
Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. М., 1945. С. 388.
(обратно)363
Великие люди видят только общее (фр.).
(обратно)364
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. Спб., 1862. С. 202.
(обратно)365
Мы употребляем здесь общепринятую формулу, хотя в таком виде она явно неточна. Идея диктатуры обсуждалась в парижской публицистике с первых дней революции и никого не пугала, так как с ней связывали отработанное в римском праве понятие временной военной власти в кризисных условиях. Такое понятие диктатуры только усиливало римский гражданственный колорит («Hannibal ante portas!»), так импонировавший деятелям революции всех направлений и, безусловно, не чуждый Карамзину. «Испугали» Карамзина, «оттолкнули» Радищева — «большой террор», события 4–5 сентября 1793 г., движение санкюлотов и восстание, руководимое Парижской коммуной, испугавшие и якобинцев.
(обратно)366
Филалет — с греч. «любитель истины», Мелодор — «имеющий дар песен» — поэт. Таким образом, диалог идет между философской и поэтической сторонами личности человека.
(обратно)367
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 454.
(обратно)368
Шишков А. С. Двенадцать собственноручных писем… Спб., 1841. С. 16.
(обратно)369
Там же. С. 13 и 17.
(обратно)370
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 455.
(обратно)371
Герцен А. И. Указ. соч. Т. 6. С. 110–111.
(обратно)372
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 12. С. 329.
(обратно)373
Берштейн Е. В. К вопросу об общественно-политической позиции H. M. Карамзина в начале 1790-х годов (в печати).
(обратно)374
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 42 и 50.
(обратно)375
Карамзин имеет в виду «конституцию четвертого года республики» (1795) и роялистское восстание 13 вандемьера (5 октября) 1795 года. В связи с этими событиями Карамзин должен был впервые услышать имя Наполеона Бонапарта, который, командуя войсками Конвента, расстрелял картечью монархический мятеж и этим положил основание своей политической карьере. Письмо примечательно и как свидетельство неослабевающего внимания Карамзина к судьбам Французской революции, и прозорливостью его суждений: осенью 1795 года, когда эмигранты и шуаны почти открыто стали появляться на улицах и в салонах Парижа, а инициатива на фронтах начала переходить к коалиции, в контрреволюционном лагере ждали реставрации королевской власти с минуты на минуту.
(обратно)376
Карамзин H. M. Письма к брату Василию Михайловичу Карамзину. Отд. отт. из Приложения к протоколам Изв. ОРЯС, 1895. Т. 58. С. I–IV.
(обратно)377
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 48.
(обратно)378
Там же. С. 46.
(обратно)379
В разыскании приняли участие 3. Г. Минц и С. Г. Барсуков, которым автор выражает сердечную благодарность.
(обратно)380
Таково название нашей деревни (примеч. Карамзина).
(обратно)381
Мишель — это очень шаловливый мальчик, который провел с нами некоторое время (примеч. Карамзина).
(обратно)382
Les amusemens de Znamenskoe. Moscow, chez Rudiger et Claudius, 1794. P. 7–9.
(обратно)383
Соловьев H. В. История одной жизни. А. А. Воейкова — Светлана. Пг., 1915. С. 25–26.
(обратно)384
Шторм Г. П. Новое о Пушкине и Карамзине. С. 151. Подлинное дело хранится в ЦГАДА (Москва), XVI разряд Госархива, ед. хр. 534. ч. 1(2), л. 127–127 об.
(обратно)385
Карамзин H. M. Соч. Т. 3. С. 411.
(обратно)386
Там же. С. 434–435.
(обратно)387
Мотив дома, скрытого дремучим лесом, характерен для Знаменского цикла и представляет собой символическое прочтение реального пейзажа (ср.: «Дремучий лес»).
(обратно)388
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 137–138.
(обратно)389
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 52.
(обратно)390
Там же. С. 61.
(обратно)391
Восстание декабристов. Материалы. Л., 1925. Т. 8. Алфавит декабристов. С. 150.
(обратно)392
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 70.
(обратно)393
Карамзин H. M. Письма к брату… С. VI.
(обратно)394
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 71.
(обратно)395
См. об этом: Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983. С. 145.
(обратно)396
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 179.
(обратно)397
Цит. по: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863 гг.). Спб., 1892. С. 82.
(обратно)398
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 91.
(обратно)399
Там же. С. 93.
(обратно)400
Там же. С. 99.
(обратно)401
Там же. С. 93 и 98.
(обратно)402
Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Спб., 1862. Ч. 2. С. 199. Запись Карамзина — по-французски.
(обратно)403
Там же. С. 203.
(обратно)404
Пантеон иностранной словесности. М., 1798. Кн. 1. Т. 1. С. 48. В дальнейшем ссылки в тексте: «П, том, страница».
(обратно)405
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 239.
(обратно)406
Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // Учен. зап. / Тарт. ун-т. 1960. Вып. 93. С. 133.
(обратно)407
Карамзин Н.М. Письма к Дмитриеву. С.97.
(обратно)408
Там же. С. 99.
(обратно)409
Там же. С. 103–104.
(обратно)410
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 178.
(обратно)411
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 113.
(обратно)412
Чистая <благородная> любовь» (фр.).
(обратно)413
Когда это пишется, Настасья Ивановна уже около 15 лет замужем, нежно любит своего супруга (ср. ее пьесу: «Le retour desire») и имеет троих детей.
(обратно)414
Барсков Я. Л. Письма московских масонов… С. 148, 188 и 198–199.
(обратно)415
Полагаем, что здесь ошибка перлюстратора (письма дошли в копиях, изготовленных для почт-директора И. Б. Пестеля) и следует читать «на это».
(обратно)416
Дорогой мой друг! Приезжайте утешить меня в вашем отсутствии. Прощайте, друг мой. Ваш друг (фр.).
(обратно)417
Там же. С. 131.
(обратно)418
Мой дорогой друг! Я вас люблю, я вас очень, очень люблю. Я желаю поскорее вас увидеть. Я неизменно вам верна. Ваш верный друг Александра Плещеева-Кутузова (фр.).
(обратно)419
Там же. С. 6.
(обратно)420
Lathuillere Roger. La preciosite, etude historique et linguistique. Position du probleme. Geneve: Librairie Droz, 1966. T. 1. P. 652.
(обратно)421
Это было типично «дамское» сочинение: перевод книги французской писательницы Ла-Пренс-де-Бомон «Училище бедных, работников, слуг, ремесленников и всех нижнего класса людей» (М., 1808, ч. 1–2, в 1834 году в Петербурге вышло второе (!) издание). Жуковский в «Вестнике Европы» расхвалил эту книгу.
(обратно)422
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 97.
(обратно)423
Там же. С. 79–80.
(обратно)424
Там же. С. 82.
(обратно)425
Там же. С. 83.
(обратно)426
Там же. С. 117.
(обратно)427
Там же. С. 119.
(обратно)428
Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. Спб., 1847. Т. 2. С. 134.
(обратно)429
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 7. С. 145.
(обратно)430
В альбом П. А. Бартеневой Пушкин записал другой вариант этих строк:
Из наслаждений жизни Одной любви музыка уступает Но и любовь Гармония(Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 661).
(обратно)431
Там же. Т. 6. С. 75.
(обратно)432
Лабзина А. Е. Воспоминания. Спб., 1903. С. 77.
(обратно)433
Прекрасно, остроумно, возвышенно (фр.).
(обратно)434
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 84.
(обратно)435
Там же. С. 89.
(обратно)436
Там же.
(обратно)437
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 6. С. 63.
(обратно)438
Карамзин К. М. Письма к Дмитриеву. С. 109 и 113.
(обратно)439
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 12. С. 305–306.
(обратно)440
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 250.
(обратно)441
Т. е. поэт или историк, или философ.
(обратно)442
Д. И. Киселев, московский барин, живший открытым домом, «старый, добрый приятель» Карамзина (см.: Письма к Дмитриеву. С. 289). По утверждению M. H. Лонгинова, «в его доме много играли в карты».
(обратно)443
Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 335.
(обратно)444
Balaye Simone. Les carnets de voyage de Madame de Stael. Contribution a la genese de ses oeuvres. Ceneve, Droz, 1971. P. 292.
(обратно)445
Карамзин H. M. Полн. собр. стихотворений. С. 265–266.
(обратно)446
Карамзин H. M. Соч. Спб., 1848. T. 1. С. 297.
(обратно)447
Там же. С. 302–304.
(обратно)448
Карамзин H. M. Записка о древней и новой России. С. 42.
(обратно)449
Глинка С. Н. Указ. соч. С. 194 и 214.
(обратно)450
Вестн. Европы. 1802. № 1. С. 66–78.
(обратно)451
Там же. 1802. № 9. С. 66.
(обратно)452
Там же. 1803. № 17. С. 79. Такие высказывания следует помнить, когда, говоря о приверженности Карамзина идее абсолютной власти, сближают его с идеологами типа Жозефа де Местра или Шатобриана. Обоснования сильной власти имеют у Карамзина всегда чисто политический и прагматический характер и полностью лишены мистической или легитимистской окраски.
(обратно)453
Вестн. Европы. 1802. № 10. С. 178.
(обратно)454
Там же. № 9. С. 65.
(обратно)455
Там же. № 4. С. 82.
(обратно)456
Там же. 1803. № 18. См.: Карамзин К. М. Соч. Т. I. Спб., 1848. С. 418.
(обратно)457
Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. M., 1912. Т. 1. С. 235.
(обратно)458
Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957. С. 92.
(обратно)459
Атеней. 1858. Ч. 3. С. 255.
(обратно)460
Эпистолярная формула: «милостивый государь, вашего сиятельства…»
(обратно)461
Судьба все же потребовала этой жертвы — любимый сын Карамзина Андрей умер в эвакуации, видимо, от плеврита. Это был уже второй ребенок, которого Карамзины схоронили.
(обратно)462
Цит. по: Погодин М. П. Указ. соч. Т. 2. С. 99.
(обратно)463
Там же. С. 102.
(обратно)464
Полевой К. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого // Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 251.
(обратно)465
Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому, 1810–1826. (Из Остафьев. архива). Спб., 1897. С. 60, 68, 84.
(обратно)466
PO ИРЛИ AH СССР. Тургеневский архив. № 124, л. 272; № 382, л. 135.
(обратно)467
Карамзин Н. М. Письма к П. А. Вяземскому. С. 14; Письма к Дмитриеву. С. 278–279; Чтения в ОИИДР. 1880. 4. С. 12.
(обратно)468
Всем должно умереть (лат.).
(обратно)469
Сладостный мир души, вверившей себя установленному Провидением порядку (фр.).
(обратно)470
Т. е. не масон.
(обратно)471
Карамзин. Соч. Т. 3. С. 735–740.
(обратно)472
Шишков А. С. Двенадцать собственноручных писем… С. 13.
(обратно)473
Андрей Иванович Тургенев, блестяще одаренный поэт и критик, умер очень молодым, не успев реализовать своих гениальных способностей. См.: Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971; Фомин А. А. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров // Рус. библиофил. 1912. № 1; Лотман Ю. М. Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его роль в «Дружеском литературном обществе» // Лит. наследство, 1956 Т. 60, кн. 1. С. 323–338.
(обратно)474
Фомин А. А. Указ. соч. С. 27–28.
(обратно)475
Дмитриев И. И. Соч. Спб., 1893, Т. 2. С. 150–151.
(обратно)476
Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Спб., 1862. С. 160.
(обратно)477
Там же. С. 165.
(обратно)478
Там же. С. 180.
(обратно)479
Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву. М., 1868. С. 25–26.
(обратно)480
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 212.
(обратно)481
Там же.
(обратно)482
Текстами — зд.: священным Писанием.
(обратно)483
Там же. С. 218.
(обратно)484
Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. С. 3–4, 156, 167.
(обратно)485
Марин С. Н. Полн. собр. соч. М., 1948. С. 179 (Летописи Гос. лит. музея; Кн. 10).
(обратно)486
См.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. С. 733–734. Пушкин в Лицее познакомился с братом Марина и, вероятно, знал процитированные выше стихи (см.: Марин С. Н. Указ. соч. С. 490).
(обратно)487
Тургенев Н. И. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 203.
(обратно)488
Там же. С. 203–204.
(обратно)489
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 143.
(обратно)490
Там же. С. 148.
(обратно)491
Лит. наследство, 1954. Т. 59. С. 582.
(обратно)492
Там же. С. 586–598. Исписанные Н. Муравьевым тома «Истории государства Российского», по предположению H. M. Дружинина, должны, вместе с архивом младшего его брата А. М. Муравьева, находиться во Флоренции (Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX в.: Избр. труды. М., 1985. С. 79).
(обратно)493
Верещагина Е. И. Маргиналии и другие пометы декабриста H. M. Муравьева на «Письмах русского путешественника» в девятитомном издании «Сочинений…» Карамзина 1814 года // Из коллекции редких книг и рукописей научной библиотеки Московского университета. М., 1981. С. 57–58. Анализ помет см.: Эйдельман Н. Я. Последний летописец. С. 105–109. Попутно отметим одну, как кажется, неточность в интерпретации Н. Я. Эйдельмана. На с. 107 читаем: «Дальше — особенно острые строки. Карамзин: «Но читал ли маркиз историю Греции и Рима? Помнит ли цикуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства». Муравьев: «Вероятно, мораль скверная». Ответ не очень уверенный, потому что и сам декабрист не хочет вовлекать народ в российскую революцию; но он все же находит скверной мораль, которую настойчиво выводит отсюда Карамзин». Маргиналию Муравьева следует читать иначе и в более полном объеме: «Все c<ie> [спра<ведливо>] вероятно. Мораль скверная» (ломаные скобки — конъектуры, квадратные — зачеркнутое Н. Муравьевым). Т. е. мысль о неизбежности гибели даже добродетельных руководителей революции вероятна (сначала более безнадежно: «справедлива»), но она не должна быть основанием для «скверной морали», осуждающей революцию. Таким образом, помету Муравьева, как кажется, следует понимать так: справедливость мысли об обреченности тех, кто подготавливает революцию, не должна вынуждать их к бездействию.
(обратно)494
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 252.
(обратно)495
См.: Лотман Ю. М. Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819–1822) // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 50–61.
(обратно)496
Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 98–99.
(обратно)497
Принадлежность эпиграммы Пушкину вызывала сомнения. Анализ проблемы с выводом в пользу авторства Пушкина был сделан Б. В. Томашевским. См.: Томашевский Б. В. Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Пушкин: Исслед. и материалы. 1956. Т. 1. С. 208–215. См. также: Вацуро В. Э. Подвиг честного человека // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972. С. 59; Эйдельман Н. Я. Последний летописец. С. 111–112.
(обратно)498
Тургенев Н. И. Указ. соч. С. 252.
(обратно)499
Там же. С. 200.
(обратно)500
Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Указ. соч. С. 59.
(обратно)501
Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 111.
(обратно)502
Рылеев К. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 287.
(обратно)503
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 332.
(обратно)504
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 197.
(обратно)505
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 380–381.
(обратно)506
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 197.
(обратно)507
Один только раз, когда в предгрозовой обстановке 1811 года И. И. Дмитриев по секрету сообщил ему, что на него подан донос, обвиняющий в связях с французскими шпионами, он просил друга-министра сообщить императору, что удивлен «несправедливости московских донесений».
(обратно)508
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 248.
(обратно)509
Там же. С. 243.
(обратно)510
Там же. С. 248–249.
(обратно)511
Там же. С. 214–215.
(обратно)512
Там же. С. 336.
(обратно)513
Там же. С. 220.
(обратно)514
Там же. С. 265.
(обратно)515
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 170.
(обратно)516
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 398.
(обратно)517
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 166.
(обратно)518
Карамзин Н. М. Письма к Дмитриеву. С. 250–251.
(обратно)519
Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому. Спб., 1897. С. 173.
(обратно)520
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 206.
(обратно)521
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 315.
(обратно)522
Там же. С. 248.
(обратно)523
Карамзин H. M. Записка о древней и новой России. С. 49.
(обратно)524
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 9.
(обратно)525
Карамзин H. M. Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 169.
(обратно)526
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 163.
(обратно)527
Мы бы перевели: подчеркнуто, демонстративно. — Ю. Л.
(обратно)528
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 247.
(обратно)529
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. 1952. Т. VIII. С. 266–267.
(обратно)530
Вяземский П. Старая записная книжка. Л., 1929. С. 210.
(обратно)531
Карамзин перевел для «Московского журнала» отрывок из «Сентиментального путешествия»: «Пусть назовут меня Рыцарем печального образа, ищущим меланхолических приключений, однако ж — не знаю от чего — только в минуты горести бываю я более уверен в существовании души моей» (МЖ, II, 180).
(обратно)532
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 42.
(обратно)533
Нечто подобное (фр.).
(обратно)534
Карамзин H. M. Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 99.
(обратно)535
Булгаков М. А. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. М., 1973. С. 444.
(обратно)536
Yo no debo sentir ni siento las que aquel buen nombre me ha dicho (Miquel de Cervantes, Secunda parte del ingenioso cabaliero don Quijote de la Mancha, Madrid 1967. P. 206).
(обратно)537
Сервантес М. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 2. С. 267.
(обратно)538
Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому. С. 173.
(обратно)539
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3, кн. 1. С. 420.
(обратно)540
Карамзин H. M. Неизданные сочинения и переписка. С. 11.
(обратно)541
Карамзин H. M. Письма к Дмитриеву. С. 107.
(обратно)542
Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому. Спб., 1897. С. 173.
(обратно)543
Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 421–422. Цитируем в переводе М. И. Гиллельсона. Ср. также: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». С. 143–146.
(обратно)544
Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 140.
(обратно)545
Там же. С. 158.
(обратно)546
Григорьев А. Литературная критика. М., 1967. С. 158.
(обратно)547
Маяковский В. В. Указ. соч. Т. 6. С. 227.
(обратно)548
Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». Творческие рукописи // Лит. наследство. 1965. Т. 77. С. 342.
(обратно)549
См.: Зорин А. Новые аспекты старых проблем // Вопр. лит. 1985. № 7. С. 217.
(обратно)550
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 8, кн. 1. С. 85.
(обратно)551
«Моя исповедь» Огарева / Статья и публ. М. В. Нечкиной // Лит. наследство. 1953. Кн. 1. С. 691–692.
(обратно)552
Пастернак Б. Л. Избранное. В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 343.
(обратно)553
Чаадаев П. Я. Соч. и письма. М., 1913. Т. 1. С. 216.
(обратно)

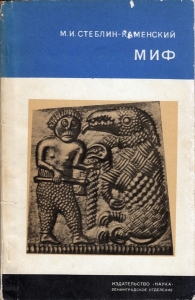
Комментарии к книге «Сотворение Карамзина», Юрий Михайлович Лотман
Всего 0 комментариев