Герои русской драмы вынуждены жить по иным законам, чем классические законы истории. Им, как правило, чужд деспотизм времени, от которого страдают герои трагедий Шекспира или Расина, — они рождаются и умирают как заложники деспотизма пространства, или, иными словами, «магии места»[1], в то время как надежда на исторический прогресс ничтожно мала, а самостоятельные — героические — действия людей невозможны, бесполезны или пагубны. Мир русской драмы (а также русской эпики и во многом лирики — но не романа) лишен исторического, динамически-созидательного начала: в его основе лежит природный принцип прозябания.
Согласно классическому определению П. Чаадаева, «мы растем, но не мужаем»[2]. Герои русской драмы, почти как в античной трагедии, сталкиваются не с борьбой интересов или с противной волей антагонистов, а с могущественным «у нас так принято», «у нас так не принято», «у нас все это знают», «у нас никто так не делает». И чем ближе такой герой не к интеллектуальной элите, а к национально характерному простонародью, тем дальше он от законов истории и тем созвучнее законам природы, перед непреодолимой мощью которой, как и перед мощью слепой исторической судьбы (но не исторического деяния), он вынужден отступить. Об истории говорят, о ней помнят, но помнят, как о баснословном предании, едва ли не мифе, в котором все само собою разумеется: Литва она Литва и есть; все знают, что она с неба упала[3]. Не потому ли в поэтике русской драмы, русской эпопеи (Лев Толстой) или значительного русского романа с элементами трагедии (Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский) так отчетливо проступают мифопоэтические черты?



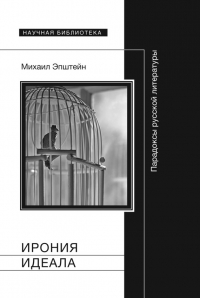
Комментарии к книге «Заметки о мифопоэтике "Грозы"», Василий Георгиевич Щукин
Всего 0 комментариев