Образ античности в западноевропейской культуре XX в
Более двух столетий отделяет нас от 60-х годов XVIII в., когда впервые Винкельман попыталcя резюмировать суть эллинской культуры известной формулой о "благородной простоте и спокойном величии", прослеживая эстетическое качество вплоть до мелочей античного быта, а "образ мыслей всего древнегреческого народа в целом" не усомнились охарактеризовать как "величавый". Сегодня никто не повторит за ним этих слов. Его представление об античной классике кажется нам наивным, и оно в самом деле наивно. Однако оно обладает одним неотъемлемым преимуществом: это действительно представление, цельное, последовательное и логичное, а не амальгама исключающих друг друга фрагментарных представлений, которая не раз будет возникать у более поздних, более осведомленных и куда менее наивных интерпретаторов античности. Оно "идеально" потому, что оно "идейно". Это идеал не в стертом, безответственно-эмоциональном, сентиментальном словоупотреблении, но в исходном строгом и весомом смысле. За ним стоит не настроение и не любование, но вера — присущая Просвещению вера в возможность культуры, которая была бы до конца согласна с природой, и природы, которая была бы до конца согласна с разумом. Гёте сравнил Винкельмана с Колумбом, и Винкельман действительно "открыл" идеальный образ античности для целой эпохи. Веймарский классицизм Гёте, Шиллера и Фосса, немецкий классический идеализм Шеллинга и Гегеля идет от исходной идеи Винкельмана. Эллинская культура вновь и вновь уподобляется природе, более того, отождествляется с природой. Гомер для Гёте есть "сама природа". Шиллер обращается к Вольфу и его приверженцам: истории литературы и истории философии. Ее тема — специфическое, неповторимое состояние литературного слова в греческих философских текстах доаристотелевской поры. Преобразование обиходного бытового слова в компонент заново и впервые становящейся терминологической системы — процесс сложный и во многом парадоксальный: на своем пути к статусу философского термина слово неминуемо должно было пройти через зону повышенной метафорической активизации. Напряженная фонико-семантическая игра, нередко выявляющая скрытые ходы мысли, но неизбежно утрачиваемая в переводах и пересказах, рассматривается преимущественно на примерах из философской прозы Платона. К этой проблематике близка статья Т. А. Миллер "Об изучении художественной формы платоновских диалогов", рассматривающая тот радикальный сдвиг в понимании соотношения между Платоном-мыслителем и Платоном-художником, который характерен для науки XX в. Критический анализ предложенных специалистами концепций, обзор достигнутых результатов подводит к размышлению о характере ближайших нерешенных проблем, к которым автор и стремится привлечь внимание. Статья М. Л. Гаспарова "Сюжетосложение греческой трагедии" — опыт постановки в непривычно обобщенном плане вопроса о закономерностях этого центрального жанра древнегреческой поэзии. Систематическому обзору на основе четко сформулированных критериев подвергнута сюжетная структура всех 33 сохранившихся трагедий. Принципиальная установка исследователя — стремление идти не столько от позднейших литературоведческих и теоретико-эстетических категорий, сколько от тех рабочих понятий, набором которых пользовался еще Аристотель ("патос" вместе с "антипатосом", "меха-нема" и т. п.). И этот труд завершается программой научной работы на будущее, характеристикой ближайшей открывающейся перспективы. Наконец, статья М. И. Борецкого "Художественный мир басен Федра, Бабрия и Авиана" посвящена формально-структурным компонентам изображения мира у баснописцев поздней античности. (…обходимы; мы изменяемся, они пребывают".) Они представляются непреложными, как смена дня и ночи, чуждыми сфере человеческого выбора, риска и борьбы. Такой видела эллинскую классику целая эпоха. Мы можем условно датировать начало этой эпохи 1764 или 1766 годом (выход соответственно "Истории искусства древности" Винкельмана и "Лаокоона" Лессинга), а конец — 1831 или 1832 годом (смерть Гегеля и смерть Гёте). Интерпретация античности была тогда поставлена в неповторимые условия, определявшиеся, кроме всего прочего, соотношением сил между научной фактографией и философско-эстетическим обобщением. Успехи конкретных научных дисциплин были сравнительно скромными, между тем как способность немецкого бюргера и европейского буржуа жить большими жизнестроительными идеями покуда оставалась высокой.
Но положение скоро изменилось. Фактов становилось все больше, идей — не всегда. Философский декаданс, пришедший на смену классическому идеализму, выявил резко диссонирующие, но и связанные какой-то тайной связью противоположные крайности: на одном полюсе — постылая "трезвость" позитивизма и вульгарного материализма, на другом полюсе — "хмель" иррационализма. Традиционное отношение к античности как к идеалу отнюдь не исчезает по истечении первой трети XIX в. Характернейший представитель позитивистского эклектизма, пришедшийся по душе всеевропейской образованной публике и оказавший воздействие, совершенно непропорциональное его значению как мыслителя, — Эрнест Ренан в риторических периодах "молился" Афине Палладе, как вечной законодательнице Красоты и Разума: "Мир спасется, лишь возвратившись к тебе, отринув свои связи с варварством". У Анатоля Франса перепевы подобных мотивов можно встретить еще в "Восстании ангелов" (1914), да и позднее. Определенная эмоциональная реакция на памятники классической древности остается для западноевропейского носителя старой культуры почти автоматической. "Афины? Я был там, — резюмирует Томас Манн свои дорожные впечатления в 1925 г. — … И все-таки это неописуемо, сколь сопри-родными, сколь духовно-элегантными, сколь юношески-европейскими предстают перед нами эти божественные останки после форм культуры с берегов Нила.
Отбросьте, рвите Гомеров венок и считайте отцов совершенной, Вечной поэмы его. Матерь одна у нее: Ясно и четко на ней родные черты отразились — Вечной природы черты в их неизменной красе. Но о какой природе идет речь? Существует природа, которая всего лишь "действительная природа"; Шиллер требует "с величайшей тщательностью отличать от нее субъект паивной поэзии — истинную природу". Действительная природа случайна, истинная — необходима; первая может быть низкой, вторая — нет. Иначе говоря, истинная природа — это природа как идеал и идеал как природа. У Гомера, как утверждает Шиллер, "все идеально при самой чувственной правде". Греческая культура как инобытие природы и есть, по Гегелю, "действительная наличность (Dasein) классического идеала". Она классична, то есть нормальна, как природа, и нормативна, как идеал. Ее классичность настолько самоочевидна, что просто не о чем говорить, и настолько необъяснима, что оказывается таинственным подарком. "Что касается исторического осуществления классического идеала, едва ли есть надобность отмечать, что искать мы ее должны у греков. Классическая красота во всем бесконечном объеме содержания, материала и формы была подарком, доставшимся греческому народу" 10. Этот образ античности как "природы" и как "идеала" имеет одно свойство, которое приписывалось тогда и природе, и идеалу: свойство "вечности". Человек скитается по сомнительным, двусмысленным, беспокойным тропам истории, но у него есть дом, который не перестает где-то дожидаться его, как блудного сына: несомненная, данная раз и навсегда, тихая красота природы, красота идеала, красота античности. Во всем этом Шиллер призывает любить "бытие по своему собственному закону, внутреннюю необходимость, вечное единство с самим собой". Эллинское наследие поднято над историей и не может быть ею оспорено:. .Высей Линда, их блаженных сеней Не зальет времен водоворот. . Образы античности, как образы природы, являют для той эпохи контраст "суете" истории. "Мы свободны, они не- будто свобода — устаревший хлам. Поверьте мае, свобода, вопреки всей болтовне лжефилософов и всем прихотям истории духа, всегда будет тем, чем она была две тысячи лет с линшим тому назад, — светом и душой Европы" 18. Перед лицом серьезной исторической ситуации писатель увереннее, чем ему было свойственно, говорит об "общечеловеческом" характере эллинского идеала свободы, — но тут же спешит связать его исключительно с Европой. Он заверяет, что эллинский идеал свободы всегда будет "светом и душой Европы"; но Европа — это только Европа, только географическое понятие, только часть вместо целого. В одной статье 1936 г. Томас Манн противопоставляет два способа понимать античное наследие; один представлен классическими именами Винкельмана, Вильгельма фон Гумбольта, Шиллера, Гёте и Гегеля, второй — более поздними именами Якоба Бурхардта и Ницше. "Для первых эллин-ство — закон и норма, нечто вневременнбе, вечное; для вторых — исторический феномен, нечто преходящее" 19. Тоскуя по временам Гёте, но оставаясь человеком своего времени, Томас Манн чувствует себя вынужденным стать на сторону вторых, которые "видят исторически реальнее, острее, интенсивнее и — мрачнее" 20. Запомним это слово — "мрачнее"; оно говорит о многом. Между веймарской классикой и ее поздним наследником встали поколения бюргерской интеллигенции, сблизившие понятия "реальное" и "мрачное". Истина должна быть невеселой; в этом "научные" Бюхнер, Мо-лешотт и Штраус до странности едины с "ненаучными" Шопенгауэром, Ницше и Эдуардом фон Гартманом. Эпоха, породившая натурализм в художественном творчестве, не могла быть иной. Как замечает один персонаж Томаса Манна, "в натуралистической точке зрения на истину. . пошлость странным образом сочетается с меланхолией;. . такое сочетание является символом эпохи, XIX столетия, склонного к пошлой мрачности" 21. Конечно, речь здесь идет исключительно о середине и конце XIX столетия, никак не о его начале. В остальном же характеристика эпиграмматически остра и, конечно, эпиграмматически односторонна; но свою сторону дела она схватывает точно. Школу натуралистических "отрезвлений" и шопенгауэровско-ницшевских "экстазов" Томас Манн куда как хорошо знал по собственному опыту. всю школьную чувствительность; это не пустяки — бросить с Холма взгляд вниз и вдаль, на Саламин, на Священную Дорогу. В конце концов, здесь начинались мы все, здесь воистину героическая земля нашей молодости. Мы отделялись от душного Востока, дух наш стал светел и весел, родился образ человека, который часто поникал и неизменно снова выходил к солнцу. Там, где я стоял, чувствуешь, что лишь тот воистину сын Европы, кто способен в лучшие свои часы возвращаться сердцем к Элладе, Там страстно желаешь, чтобы персы, в каком бы обличив они ни возвращались, снова и снова терпели поражение"16. Не без легкого налета иронии суммирует Манн общие места неоклассического энтузиазма. Нас не удивит у этого гётеанца, будущего автора "Лотты в Веймаре", оглядка на слова Гёте из "Ифигении в Тавриде": "искать сердцем Элладу". Но сходство дает живее ощутить различие. Для Винкельмана, Лессинга, Гёте и Шиллера Эллада есть тайна человечества, выражение общечеловеческой "природы" и общечеловеческой "сущности", пришедшей к самой себе. Для поколения Томаса Манна само собой разумеется, что Эллада — в лучшем случае тайна "Европы" (или "Запада" — des Abendlandes) и выражение западноевропейской "сущности". То, что было "детством человечества", стало молодостью Европы — примечательной, но маленькой части света 17, о "закате" которой поколение Манна услышало от Шпенглера. Универсализм сменен локальностью. В отличие от многих современников (например, от Готфрида Бенна), Манн связывает понятие "Европы" не с расовыми, а с мировоззренческими категориями; его "Европа" — это традиция либерального гуманизма, взирающего на демократические Афины как на свою прародину. Свободная Эллада, которая стоит против "душного" Востока, против деспотизма персидской державы — символ этот мог на время вернуть себе почти плакатную актуальность. Манн, пожелавший в 1925 г. поражения всяческим "персам", через шестнадцать лет увидел "персов" в солдатах третьего рейха. Выступая по английскому радио в мае 1941 г. и упоминая, между прочим, сопротивление греков немецкой оккупации, он обращается к немцам: "Нравится ли вам роль, к которой принуждает вас игра истории, — сейчас, когда общечеловеческий символ Фермопил повторяется на том же самом месте? Это снова греки — а кто же вы? Ваши властители уговорили вас, ства, они вовсе не пребывали в неведении относительно унижения рабов, илотов, даже метэков, которым окупалось достоинство полноправного гражданина; нельзя сказать даже, что они закрывали глаза перед неприятными фактами. Просто последние принадлежали для них не к сфере "истинного", а к сфере "действительного". Их мировоззрением такая установка вполне оправдывается. Куда менее почтенно, если Анатоль Франс в 1914 г. уверяет, будто "такова была вера всего мира в латинское правосудие, что раб, изнывавший под непосильным бременем, взывал к Цезарю, будь то в ущельях Фессалии или на лесистых берегах Рейна" 22. Здесь мы имеем дело не с идеалом, а всего лишь с идеализацией, для которой мировоззрение знаменитого скептика не дает решительно никаких серьезных основании. Ибо научность, выпестованная XIX в. и унаследованная XX в., не знает никакой "истины", кроме "действительности". То, что противоречит фактам, есть для научного рационализма просто ложь, хотя бы, как в данном случае, высказанная по всем правилам риторики. Во времена Винкельмапа и Гёте археология была еще и младенческом состоянии. Достигнув зрелости, эта научная дисциплина смогла взять на себя неимоверную задачу реконструкции античного быта, античных будней. Но дело не только в новых знаниях; изменилась сама установка перед лицом древности. Для современника бытописательских ("физиологических", как говорили тогда) литературных жанров XIX в. низкая обыденщина былых времен сама по себе интересна — тем более, что еще романтизм открыл обаяние экзотики, прелесть "местного колорита". И вот Флобер в одну из самых мечтательных своих минут фантазирует: ". .я был лодочником на Ниле, сводником в Риме во время пунических войн, затем греческим ритором в Субурре, где меня заел! клопы" 23. Прежде ностальгия по классической древности навевала, разумеется, и с такие образы! Но императивом эстетического познания, как и научного познания все решительнее становится неприкрашенный образ мира. Образ античности тоже должен стать неприкрашенным. "Ах, как бы я хотел быть ученым! Какую прекраснук книгу написал бы я, озаглавив ее "Об истолковании античного мира"! — восклицает тот же Флобер. — Ибо уверен, что следую традиции, дополняя ее пониманием Эрозия восходящего к Винкельману представления о классической античной красоте как "идеале" и "природе" из десятилетия в десятилетие совершалась под действием' двух сил, составляющих друг другу гротескный контраст, но и способных вступать в сложное взаимодействие. Одна из них — накопление научных фактов, дифференциация научных методов, развитие специализации, стремление охватить всю действительность, какой бы "грубой", "скучной" или "прозаичной" она ни была, рост требований к исследовательской объективности, перевес индукции над дедукцией и анализа над синтезом, наконец, воздействие естественно-научных представлений о бытии, неизбежно усилившееся во времена Дарвина и Геккеля. Вторая — тяготение философского иррационализма и эстетического декаданса к темным, доклассическим "безднам" архаики, предпочтение хтонической "ночи" олимпийскому "дню", тенденциозная перестановка акцентов с аполлоновской упорядоченности на тайны дионисийского неистовства (Ницше) или на "материнскую" мистику могильной земли и рождающего лона (линия Бахофена). Классический идеал оказался между Сциллой и Харибдой: с одной стороны ему угрожал рационализм, с другой — неоромантизм. Начнем с первой угрозы. Говоря о пей, необходимо выделить и обособить несколько пунктов. Прежде всего — отношение к факту. XIX век вложил в самое слово "факт" небывалую эмфатичность: как говорится, "нет бога, кроме факта". Любой наблюденный и доказанный факт просто в силу своей фактичности занимает законное место в ряду всех других фактов. Он может быть более или менее интересным, более или менее показательным, более или менее значительным, но в принципе он имеет всю полноту прав факта. Это "демократическое" равноправие фактов между собой, необходимо предполагаемое духом науки, несовместимо с тем "аристократическим", иерархическим принципом отбора фактов, без которого нельзя ни построить, ни сохранить никакого идеального канона. Вспомним, как Шиллер требует отличать "истинную" природу от "действительной" природы. Совершенно так же, следуя той же логике, Винкельман и мыслители веймарской эпохи отличали "истинную" античную классику от эмпирии исторических фактов. Когда, например, они восхваляли древнегреческую цивилизацию как торжество человеческого достоин- Жили во дворцах? Ведь даже в сказочной Атлантиде В ту ночь, когда ее поглотили волны, Утопающие господа призывали своих рабов. Юный Александр завоевал Индию. Совсем один? Цезарь победил галлов. Не имел ли он при себе хотя бы повара?. . Однако еще Ницше в свое время очень энергично настаивал на рабовладельческом характере античной цивилизации с целью, совершенно противоположной: назло либералам, филантропам и гуманистам связать культуру и рабство, обусловить культуру рабством. Его наследник Готфрид Бенн писал в 1934 г., в пору наибольшей близости к гитлеровской идеологии: "Античное общество покоилось на костях рабов, оно крушило эти кости — а наверху расцветал город. Наверху квадриги белых коней, и соразмерные тела с именами полубогов: победа, и мощь, и власть, и звук имени великого моря — а внизу не умолкал металлический лязг: цепи. Рабы — это были потомки первоначального населения, или военнопленные, или похищенные и проданные — они жили в стойлах, в невыносимой тесноте, многие в оковах. Никто не думал о них, Платон и Аристотель усматривали в них низшие существа, голый факт. Интенсивный импорт из Азии, по последним числам каждого месяца происходила распродажа, тела выставлялись для обозрения. Цена колебалась от двух до десяти мин — на наши деньги примерно от ста до шестисот марок. Дешевле всего были рабы для мельницы и рабы для рудников. Отец Демосфена держал оружейную фабрику, обслуживаемую рабами, из расчета закупок по вышеназванным ценам она давала двадцать три процента прибыли, а принадлежащая ему же мебельная фабрика — тридцать процентов. В Афинах отношение численности граждан к численности рабов было один к четырем — сто тысяч эллинов на четыреста тысяч рабов. В Коринфе было четыреста шестьдесят тысяч рабов, на Эгине — четыреста семьдесят тысяч. Им запрещено было отпускать волосы, у них не было имен, их можно было дарить, закладывать, продавать, наказывать палками, плетьми, розгами, дыбой, колодками, клей- мением". Но, повторяю, поэтам древности незнаком пресловутый благородный жанр, для них не существует ничего такого, о чем нельзя сказать. У Аристофана на сцене отправляют естественные потребности. В софокловском "Аяксе" кровь зарезанных животных струится у ног плачущего Аякса". Все это заострено возможно более, во-первых, из потребности в правде, но, во-вторых, из отмеченной выше убежденности в том, что правда обязана быть мрачной. "Пусть во всем будет капля горечи, пусть во время наших триумфов раздается шиканье и самый энтузиазм будет проникнут отчаянием", — как сказано несколькими строками выше. Такое восприятие априорно требует снижающей детали. У античной цивилизации был, так сказать, подземный ярус, скрытый от глаз, — реальность рабства. С середины прошлого века исследователи классической древности все пристальнее присматриваются к этому феномену, да и за пределами науки интерес к нему все больше. Важно понять одно: идеологические основания такого интереса могут быть самыми разными, подчас диаметрально противоположными. Скажем, "История рабства в античном мире" А. Валлона (1849) — порождение либерально-филантропической волны. Не требует особых объяснений то, что в XX в., во времена невиданного выхода масс к исторической активности, писатели и мыслители, сочувствующие этому пробуждению, особенно остро воспринимают молчаливое присутствие человека массы, "расплачивающегося за побитую посуду", в истории былых времен; достаточно вспомнить брехтовское стихотворение "Вопросы читающего рабочего". Кто воздвиг семивратные Фивы? В книгах названы имена повелителей. Разве повелители обтесывали камни и сдвигали скалы? А многократно разрушенный Вавилон? Кто отстраивал его каждый раз вновь? В каких лачугах Жили строители солнечной Лимы? Куда Ушли каменщики в тот вечер, Когда они закончили кладку Китайской стены? Великий Рим украшен множеством триумфальных арок. Кто воздвиг их? Над кем Торжествовали цезари? Все ли жители прославленной Византии Ma Этом Примере отлично видно, как в пространство позднебуржуазного сознания сходятся крайности позитивизма и антипозйтивизма, сциентизма и антысцйентизма. Воспитанное XIX веком преклонение перед фактом использовано, чтобы доконать старомодную аксиологическую иерархию, на которой держалось множество мешавших традиций — от реликтов христианской морали до просветите льско-гегелевского царства Разума, высоко вознесшего "истину" над "действительностью". Рабство берется для начала как факт, в меру своей фактичности имеющий онтологический приоритет перед этическими обличениями, и лишь затем этому факту сообщается такое качество иррациональной, фасцинирующей многозначительности, которое менее всего прилично именно факту. "Действительность" должна отменить "истину", чтобы затем утратить свое свойство действительности, преобразуясь в миф. Еще Ницше, первейш;;:г мистагог иррационализма н отрицатель "научности" i Заратустра больше не ученый. ."), весьма активно (и весьма тенденциозно) прибегал к помощи плодов эий "научности" ради собственных целей; такая тактика особенно характерна для среднего периода творчества Ницше, но этим временем отнюдь не ограничивается. Андрей Белый, любивший Ницше и хорошо его понимавший, писал о нем: "Сам он неоднократно принимаете < возражать Дарвину и тем не менее пользуется Дарвин п но пользуется как случайно подобранной на пути хворостиной, чтобы нанести удар подвернувшемуся под ноги схоластику; нанести удар, отшвырнуть, обтерев при этом руки. "Обидная ясность", — морщится Ницше, упоминая о Джоне Стюарте Милле. В глубине души не мог ги питать он подобных же чувств и к Дарвину. Но и обиднь ли ясностями дерется он в пылу боя. Все для него, где i лшо, — средство, чтобы сбить с ног" 28. Оставим на сове ти Андрея Белого упоминание "схоластика" как главного оппонента Ницше; в целом характеристика довольно верпа. — Ницше отработал двойной, двухступенчатый и по су [своей двусмысленный прием, когда "факту", "критике", научности" и прочим "обидным ясностям" на секунду пр оставляются безудержные, неслыханные права, чтобы…;и выполнили черновую работу по сокрушению традиционной ценностной системы, а в следующую секунду лих отбираются не только эти Этот отрывок производит странное впечатление. Йа-рочитая конкретность и вызывающая прозаичность статистических данных и справок о рыночных ценах может, пожалуй, на мгновение напомнить того же Брехта — скажем, его неоконченный роман "Дела господина Юлия Цезаря"; в чисто внешних моментах сказывается, как сигнатура поколения, общая школа экспрессионистского эпатажа, пройденная обоими писателями в начале их путей. Но легко усмотреть, что подспудная тенденция Бенна совсем, совсем иная. Предметы, о которых говорится в процитированном отрывке, по видимости прозаичны, но менее всего прозаичен тон — а тон, как говорится, делает музыку. Намеренно сухие и резкие слова внутренне трансформированы взвинченной, приподнятой, патетической интонацией; как было принято выражаться в кругу эпигонов Ницше, интонация эта "дифирамбична". Так называемая "снижающая" деталь идет в дело отнюдь не для снижения самой реальности рабства, но, напротив, для ее возвеличения. Гипнотизирующий ритм жестко связывает в одно целое "будничный" словесный ряд ("интенсивный импорт", "из расчета закупок по вышеназванным ценам", "двадцать три процента прибыли", "отношение численности граждан к численности рабов") и "высокий" словесный ряд, выстроенный по критериям эстетизма ("квадриги белых коней и соразмерные тела с именами полубогов", "победа, и мощь, и власть, и звук имени великого моря"). Бесчеловечная брутальность оказывается лишь коррелятом бесчеловечной красивости, ее другим лицом. И Брехт, и Бенн — люди своего времени, и то, что они живо ощущали связь между апофеозом человека в явлении античной культуры и уничижением человека в явлении античного рабства, само по себе было знамением времени. В предыдущем столетии немногие могли сказать так просто, как сказал Энгельс в 1876 г.: ". . без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки" 27. Но для Брехта из этого следует, что античная культура, отнюдь не будучи попросту отвергаемой, решительно ставится под вопрос, становится проблемой и объектом критики. Вывод Бенна прямо противоположен — это несостоятельность какого бы то ни было морального суда не только над античной культурой, но именно над античным рабством. Суду чинится отвод. мир остался? Может быть, ьпдимый? Но нет! Вместе с истинным миром мы отменили видимый!" 32" Это хороший эпиграф к последующей истории нигилизма. Уж если "научность", то мы слышим: "Интеллектуализм — это холодный взгляд на землю, которую слишком долго рассматривали с душевной теплотой, с идиллиями и наив-ничаньем — и безрезультатно. Интеллектуализм — это воинственный натиск на распадающуюся человеческую субстанцию, ее дренаж и охрана от мародеров"33. Если в программе, напротив, "преодоление" научности, то мы слышим от этого же самого автора речи о "церебрализации" как тупиковом пути. "Наша кроль вопит о небесах и земле, а не о клеточках и червячках. Душа, расправь крылья; да, душа! душа! Мы волим грозу. Мы волим хмель. Нам нужны Дионис и Итака!" 34 Зтот боевой клич студента " Лутца из драматической сцепки "Итака" (1914) предварен ритуальным избиением профессора Альбрехта, являю-щего собой чучело интеллектуализма. Нетрудно убедиться, что "воинственный натиск" поразительно легко меняет на-правление на противоположно о. Эта игра характерна для метаморфоз нигилизма в первой половине XX в.; но она вовсе не прекратилась и в паше время. Умонастроение "новых левых" совершило совсем недавно все тот же давно отработанный путь: от "Нового Просвещения" социоло-гизирующей франкфуртской школы, от абсолютизированного критицизма "негативной диалектики" Теодора Адорио36 — через "великий Отказ" Герберта Маркузе — к апологии экстаза, к практическому иррационализму группового "хэппенинга" (скажем, в Сорбонне 1968 г.) и к прочим вещам, уж подавно не имеющих ничего общего с рационализмом, до "психоделической революции" включительно зв. Адорно, как бедшшу профессору Альбрехту, пришлось перед смертью стать жертвой мерзкого "дио-нисического" поругания. Еще один пример: модный теолог "новых левых" гарвардская профессор Гарвей Кокс, не позволяющий себе ни на год "отстать от времени", — не очень хороший мыслитель, по отличный барометр. Еще в 1965 г. он был трезв и рациопалистичен, речь шла о секуляризации, урбанизации, социальном и техническом активизме, неумолимой критике, сокрушающей иллюзии, и о прочих атрибутах "совершеннолетия человечества" 37. Четырех лет было достаточно, чтобы колесо повернулось, и Кокс стал "дионисичен": программой дня оказался шу- _ o" o-o новейшие, но и прежние права, включая право на существование. Вся история психоанализа как мировоззренческого явления была бы немыслима без этой техники обращения "рационализма" против "рацио". Изгоняя старинные привычки к пиетету, нагнетая интеллектуально-этический пафос разоблачительства, развенчивая религию, миф, поэзию, старую мораль, вообще культуру как целое, нарушая все табу подряд, Фрейд расчищал дорогу неогностическому мифотворчеству своего ученика и оппонента Карла Густава Юнга; но и сам он в конце жизни пришел к такому пониманию "Эроса" и "Танатоса", которое ничего общего не имеет с позитивизмом, хотя без позитивизма не могло бы родиться 29. Вообще подобная парадигма имеет универсальный характер для путей западной мысли в первой половине XX в. Готфрид Бенн знал, чтб говорил как раз в середине века, в 1950 г., по случаю 50-летия со дня смерти Ницше: "В сущности, всё, что мое поколение обсуждало и выясняло для себя в спорах и в борьбе с самим собой, всё", что оно, если угодно, перестрадало, если угодно, распространило и разбавило водичкой, — всё это уже было высказано у Ницше, ис-(черпано им, получило окончательную формулировку" 8°.,! Он сам может служить наглядным пособием. В его пате-! тических фразах об античном рабстве важнее всего не то,] что они были порождены весьма одиозной политической! позицией (которую поэт вскоре покинул), и не то, что сами по себе они являют собой, так сказать, распространяющую "глоссу" к нескольким словам Ницше 31. Важнее всего и не то, что фразы эти стоят в широком контексте известного совета Ницше — оправдывать всё сущее как "эстетический феномен". На первом месте должен быть назван иной, еще более широкий контекст, — вот этот взаимопереход безудержного интеллектуализма и безудержного антиинтеллектуализма, предначертанный Ницше в качестве единого пути к великому опустошению. В ницшевской "Гибели божков" (1889) есть коротенькая интермедия "Как "истинный мир" под конец стал басней". В ней рисуется, как научный рассудок покончил с "истинным миром" духовных сущностей, предметом пла-тоновско-христианского умозрения, противостоявшим "видимому миру". Это "петуший крик позитивизма", разгоняющий привидения. Казалось бы, права факта торжествуют. "От истинного мира мы отделались; какой же мир остался? Может быть, пдимый? Но нет! Вместе с истинным миром мы отменили видимый1" 33.. Это хороший эпиграф к последующей истории нигилизма. Уж если "научность", то мы с.;ишим: "Интеллектуализм — это холодный взгляд на землю, которую слишком долго рассматривали с душевной теплотой, с идиллиями и наив-ничаньем — o и безрезультатно. Интеллектуализм — это воинственный натиск на распадающуюся человеческую субстанцию, ее дренаж и охрана от мародеров"83. Если в программе, напротив, "преодоление" научности, то мы слышим от этого же самого ав >ра речи о "церебрализации" как тупиковом пути. "Наша кровь вопит о небесах и земле, а не о клеточках и червячких. Душа, расправь крылья; да, душа! душа! Мы водим грезу. Мы водим хмель. Нам нужны Дионис и Итака!" 34 Этот боевой клич студента Лутца из драматической сценой "Итака" (1914) предварен ритуальным избиением профессора Альбрехта, являю-щего собой чучело интеллектуализма. Нетрудно убедиться, что "воинственный натиск" поразительно легко меняет на-правление на противоположное. Эта игра характерна для метаморфоз нигилизма в первой половине XX в.; но она вовсе не прекратилась и в наше время. Умонастроение "новых левых" совершило совсем недавно все тот же давно отработанный путь: от "Нового Просвещения" социоло-гизирующей франкфуртской школы, от абсолютизированного критицизма "негативной диалектики" Теодора Адорно35 — через "великий Отказ" Герберта Маркузе — к апологии экстаза, к практическому иррационализму группового "хэппенинга" (скажем, в Сорбонне 1968 г.) и к прочим вещам, уж подавно не имеющих ничего общего с рационализмом, до "психоделической революции" включительно зв. Адорно, как бедному профессору Альбрехту, пришлось перед смертью сткть жертвой мерзкого "дио-нисического" поругания. Ешр один пример: модный теолог "новых левых" гарвардский профессор Гарвей Кокс, не позволяющий себе ни на год "отстать от времени", — не очень хороший мыслитель, по отличный барометр. Еще в 1965 г. он был трезв и рацт-t яалистичен, речь шла о секуляризации, урбанизации, социальном и техническом активизме, неумолимой критике, сокрушающей иллюзии, и о прочих атрибутах "совершеннолетия человечества" 37. Четырех лет было достаточно, чтобы колесо повернулось, и Кокс стал "дионисичен": программой дня оказался". - новейшие, но и прежние права, включая право па существование. Вся история психоанализа как мировоззренческого явления была бы немыслима без этой техники обращения "рационализма" против "рацио". Изгоняя старинные привычки к пиетету, нагнетая интеллектуально-этический пафос разоблачительства, развенчивая религию, миф, поэзию, старую мораль, вообще культуру как целое, нарушая все табу подряд, Фрейд расчищал дорогу неогностическому мифотворчеству своего ученика и оппонента Карла Густава Юнга; но и сам он в конце жизни пришел к. такому пониманию "Эроса" и "Танатоса", которое ничего общего не имеет с позитивизмом, хотя без позитивизма не могло бы родиться 2 в. Вообще подобная парадигма имеет универсальный характер для путей западной мысли в первой половине XX в. Готфрид Бенн знал, чтб говорил как раз в середине века, в 1950 г., по случаю 50-летия со дня смерти Ницше: "В сущности, всё, что мое поколение обсуждало и выясняло для себя в спорах и в борьбе с самим собой, всё, что оно, если угодно, перестрадало, если угодно, распространило и разбавило водичкой, — всё это уже было высказано у Ницше, ис-, черпано им, получило окончательную формулировку" З0.,! Он сам может служить наглядным пособием. В его патетических фразах об античном рабстве важнее всего не то, что они были порождены весьма одиозной политической позицией (которую поэт вскоре покинул), и не то, что сами по себе они являют собой, так сказать, распространяющую "глоссу" к нескольким словам Ницше 81. Важнее всего и не то, что фразы эти стоят в широком контексте известного совета Ницше — оправдывать всё сущее как "эстетический феномен". На первом месте должен быть назван иной, еще более широкий контекст, — вот этот взаимопереход безудержного интеллектуализма и безудержного антиинтеллектуализма, предначертанный Ницше в качестве единого пути к великому опустошению. В ницшевской "Гибели божков" (1889) есть коротенькая интермедия "Как "истинный мир" под конец стал басней". В ней рисуется, как научный рассудок покончил с "истинным миром" духовных сущностей, предметом пла-тоновско-христианского умозрения, противостоявшим "видимому миру". Это "петуший крик позитивизма", разгоняющий привидения. Казалось бы, права факта торжествуют. "От истинного мира мы отделались; какой же По прошел совсем не такой большой срок, и канадец Маршалл Макдюэн, идеолог "неоархаизма" 41 и влиятельнейший вдохновитель "контркультуры", возвещает не что иное, как близкую реализацию этой самой утопии — конец "Гуттенберговской галактики", победу звучащего слова над печатным, полное преодоление культа книги, возврат живого мифа, расцвет первозданной языческой чувственности и древнего самозабвения в единстве с коллективной душой. Что же принесет все эти дары, желанные неоромантическому сознанию? По старомодным понятиям, ответ скандален, ибо он гласит:. .телевидение н ирочие средства массовой коммуникации! 42. В наше время, утверждает единомышленник Маклюэна, мифы облекаются в плоть и кровь "самыми. . легковесными и презираемыми средствами" 43. Возможно, Кереньи пережил нечто вроде шока, дожив до такой метаморфозы любезных ему мечтаний. Это нисколько не итменяет того объективного факта, что предложенная им интерпретация античности лежит на линии культурологической мысли, ведущей прямо к Маклюэну. От идеализируемой Эллады оказалось рукой подать до предмете, отнюдь не идеальных, но чрезвычайно актуальных, даже сенсационных. Например, до теории телевидения. Таков, стало быть, большой кинтекст, в котором следует рассматривать тот штурм идеала классики, что был предпринят не с позитивистской, а с романтической и неоромантической стороны, не БО имя факта, а во имя мифа, не с позиций действительности, а с позиций "глубинной" истины, — памятуя, согласно сказанному выше: — что объективная логика историко-культурного процесса, не зависящая ни от чьих намерений, позаботилась о том, чтобы хорошо скоординировать действия обеих упомянутых сторон, соединяя ити действия в единой работе по демонтированию идеала; — что феномен немецкой романтики, явившийся исходным пунктом очень долговечной мировоззренческой традиции, с самого начала был глубоко противоречивым и потенциально полагал внутри обя свою собственную ПОЗИТИВИСТСКУЮ ПРОТИВОПОЛОЖНО07Ь; — что миф абсолютно право-^рно должен отразиться в зеркале трезвой науки как ф^.;т мифа 45, между тем как факт, пройдя через позитив, ейскую абсолютизацию, в итоге может обернуться миф… факта 4в, от чего не товской праздник, карнавал, экстаз. Еще раз: "яail нужны Дионис и Итака!" Двойной, но в существе единый акт того, что на языке Сартра откровенно именуется "не-аитизацией" — изничтожение ценностей во имя абсолютной критики, затем уничтожение критики во имя экстатического начала, — проигрывается вновь и вновь. О его структуре нужно хорошо помнить, рассматривая соотношение позитивистских и неоромантических течений западной мысли. Читателя может немало озадачить, что мы ставим истолкование античности в такую перспективу и упоминаем в связи с ним о вещах столь актуальных. Чтобы объясниться, позволим себе небольшое отступление. У профессионала классической филологии Карла Кереньи (1897–1971), известного ученого венгерского происхождения, с 1943 г. жившего в Швейцарии, есть статья "Папирусы и сущность александрийской культуры"39. Это серьезная академическая работа (более академическая, чем многие другие статьи того же автора), несколько эскизно, но все же достаточно аргументирование обрисовывающая специфически "изустный" характер классической греческой культуры в противоположность восточному культу книги, оживающему на египетской почве в эллинистической Александрии. Речь идет о совершенно реальной культурологической проблеме, на которую наталкивались и будут наталкиваться исследователи самого различного склада 40. Мы имеем дело, несомненно, с истолкованием античности, притом таким, которое в целом не покидает пределов науки. Но вот статья подходит к концу, и по видимости внеоценочные констатации внезапно сменяются оценками. Оказывается, что культура эллинского типа лучше, нежели культура, покоящаяся на пиетете перед книгой, будь то, скажем, иудео-христиаиская или ново-европейско-гуманистическая традиция. История в глазах Кереньи — нечто вроде басни с моралью, и мораль гласит, что мы, люди XX века, должны, вспомнив увещания Гельдерлина и Ницше, сбросить тиранию книги, чтобы самим стать эллинами. В 40-50-е годы европейский философствующий филолог еще волен был понимать подобные призывы весьма отвлеченно и респектабельно, не ставя их в компрометирующую связь с реалиями технического столетия. Эллины, Гельдерлии — разве все это не противоположно постылому американизму? но также и вперед: например, выдвинутое им различение двух типов мифологического символа — o "мистического" типа и "пластического" типа 50 — может рассматриваться как источник дихотомии "символического" и "классического" искусства у Гегеля, но также как предвосхищение антитезы "дионисийского" и "аполлоновского" начал у Ницше б1; а последняя, как известно, остается для определенной сферы западного сознания актуальной по сие время ба. Здесь не место подробнее останавливаться на романтическом мифологизпровании; напомним только, что при всем контрасте между ранним и поздним Шеллингом острый интерес к реконструкции мифа остается константой для его мышления от "Системы трансцендентального идеализма" (1800) и особенно иенских лекций по философии искусства (1802–1803) до берлинского курса по философии мифологии (1841–1842). Когда традиция немецкой романтики, пройдя в своей "гейдель-бергской" стадии через более тесное соприкосновение со сферой конкретных научных исследований (в области психологии, фольклористики, истории права и т. п.), оказалась в самой Германии вытеснена иными умонастроениями, для нее оставалось еще место в специфическом духовном климате Швейцарии. Именно там она принесла свой поздний плод — творчество базельского историка права, мифа и культа Иоганна Якоба Бахофена (1815–1887): в 1859 г. появился "Опыт о погребальной символике древних"53, в 1861 г. — знаменитое "Мате- Бахофен — необычная фигура. Он обладал широким знанием античных текстов и так называемых древностей, но шел он, бесспорно, не от интеллектуального, научного интереса, но от глубочайшего душевного волнения, которое побуждало его самозабвенно входить в забытый мир хтонических мифов и обрядов, мир земли и ночи, колыбели и могилы, сыновнего благоговения перед традицией как повелительным голосом матери, мир "женский" в противоположность "мужескому" миру. Волнение это порой обостряло его проницательность, порой делало его фантастом. Сравнительно с ним даже Крейцер может показаться рассудочным и суховатым. Его интонации старомодны даже для его времени и все же поразительно близко подходят к тону, ставшему возможным лишь в XX в. Приведем несколько строк бахофеновской апо- застрахован самый непреложный и самый прозаичный факт (как мы это уже видели на примере обращения с фактом рабства у Готфрида Бенна). Эпоха Винкельмана, Гёте и Шиллера видела в мире античного воображения один олимпийский свет, ясный и немерцающий. Наука установила, что исторической действительности греческого мифа и греческого культа подобные представления отнюдь не отвечают. Хтониче-ская тьма первична по отношению к олимпийскому свету. Как отмечает блестящий отечественный исследователь античной культуры, "из-под тонкого, блистательного покрова олимпийской религии шевелился хаос неоформленных древних религиозных воззрений, и мрамор статуй богов не мог прикрыть матери сырой земли" 47. Это объективная констатация объективного факта, не зависящего ни от чьих симпатий и антипатий. Но еще до того, как он по-настоящему стал предметом науки, в духовной атмосфере романтики разлилась симпатия к хтонической тьме и к хаосу "неоформленных древних религиозных воззрений". Смутные глубины архаического мифа полюбили, еще не увидев, а только почуяв. Еще накануне рождения романтизма увлечение "Оссианом" (1760-е годы) выявило тягу к варварской, неклассической мифологии; за отсутствием аутентичных памятников таковой Европа зачитывалась стилизациями Джеймса Макферсона. Мифологическую архаику искали в прошлом, потому что мечтали возродить ее в настоящем. Это не было аналитическим познанием — это было утопией. Для атмосферы немецкой романтики характерен призыв молодого Фридриха Шлегеля "вернуть поэзию к ее истокам, заново реставрировать мифологию"48. Первостепенным событием оказался в 1810–1812 гг. выход четырехтомной "Символики и мифологии древних народов, в особенности греков" Фридриха Крейцера 49; этот труд, сочетавший фантастичность в решении ряда филологических вопросов с незаурядной проницательностью в подходе к эстетической проблематике символа, вызвал живой отклик, сопоставимый с откликом на инициативу Винкельмана, но также резкие возражения (прежде всего в "Антисимволике" Иоганна Генриха Фосса, затем в знаменитом "Аглаофаме" Кристиана Августа Лобекка). Исторические нити от Крейцера идут, конечно, назад, в эпоху масонской символической мании, раженшо как единый мнр (желающий может вспомнит настенные композиции на исторические темы Вильгельм Каульбаха, который еще был жив в 1872 г.); специалист] и даже "образованная публика" были, конечно, осведоь лены о конфликтах внутри этого мира, но единство пане рамы, почтенной во всем своем объеме, этим не наругш лось. Говорить в саркастических, уничижительных тона дозволялось разве что о презираемой поздней античностх об упадке, пришедшем после классики. Даже Ницк в известной мере примыкает к этому обыкновению, стремяс связать Сократа с эллинистической, "александрийское эпохой, изобличить в нем скрытого "александрийца Однако решающий шаг сделан: выставлен постула согласно которому не после классики, но во времена кла сических Афин произошло некое грехопадение, так 41 возвращаться надо, собственно, не к классике, а к а хаике. Всей силой своей тенденциозной пристрастное' Ницше принимает сторону "трагической мудрости" дион сийского мифа против аттического интеллектуализм Сократовский момент всемирной истории надо треп рать — мы вновь и вновь встречаем у поздних наследи ков Ницше аналогичные мечтания. Адриан Леверкю композитор из романа Т. Манна "Доктор Фаустус" (194^ имеющий, как известно, портретные черты Ницше, перемещенный в XX в., выражает намерение "взять наза Девятую симфонию Бетховена; его угроза новоевропе ской классике — отблеск угрозы Ницше, обращенн к античной классике, угрозы "взять назад" Сокрап Во-вторых, старомодная тихая важность Шеллиш Крейцера, Бахофена сменена гораздо более нервн установкой, заключающей в себе внутреннюю необз димость доходить завтра до больших крайностей, ч сегодня, ничто не находить достаточно "безумным", i прерывно повышать ставки. Как говорится в одном самых искренних стихотворений Ницше, "тот, кто i терял, что теряешь ты, не успокоится уже ни на ч" ("Wer das verier, was du verlierst, macht nirgends halt Остановиться невозможно; умонастроение, ориентиру щееся на пример Ницше, обречено существовать не ина как в форме гиперболы себя самого, и реализует се лишь в акте непрерывной эскалации. В качестве колоритного примера такой эскалаг можно привести один забытый, но в свое время нашум логии мыфоиоэтического мышления. "Слишком беден язык, чтобы облечь в слово чаяния, вызываемые сменой жизни и смерти. . Символ пробуждает чаяние, язык может всего лишь разъяснять его. Символ затрагивает одновременно все струны человеческого духа, язык принужден сосредоточиться на одной мысли. Вплоть до потаеннейших глубин души простирает символ свои корни, язык затрагивает легчайшим дуновением поверхность сознания. Первый направлен вовнутрь, второй вовне" 55. Присущее Бахофену исконно романтическое сочетание довольно дерзновенного эротизма с мечтательным глубокомыслием, предвосхищающее психоанализбв, ставит его построения в один историко-культурный ряд с таким шедевром современной им позднеромантической музыки Рихарда Вагнера, как "Тристан и Изольда" (1857–1859), где в центре стоят те же мотивы изначального верховенства женщины, первенства ночи перед днем, тождества любви и смерти. Официальная наука полностью игнорировала базельского мифолога, не удостоив его идеи сколько-нибудь широкого обсуждения. Оп остался незамеченным 57. Одним из немногих современников, принявших к сведению гипотезы Бахофена, был Энгельс, его идейный антипод; его сочувствие вызвала смелость, с которой Бахофен постулировал домоногамные, допатриархальные формы семьи 58. Не Бахофену суждено было стать основоположником и рационалистической интерпретации античности во все-европейском, даже всемирном масштабе; эта роль была резервирована для другого базельского профессора классической филологии. Книга Фридриха Ницше "Рождение трагедии из духа музыки" вышла в 1872 г., через одиннадцать лет после "Материнского права". Книга эта достаточно известна, и здесь не место говорить о ней. Отметим лишь два момента, столь же характерных для положения вещей после Ницше, сколь чуждых временам до Ницше. Во-первых, автор "Рождения трагедии" едва ли не впервые решается с порога отвергнуть какой-то важный, даже центральный компонент самой греческой классики, широким жестом отсечь его от классики как целого, осудить как явление "неистинно" эллинское и "неистинно" классическое: так Ницше поступает с Сократом. До спх пор папорама аттической классики предносилась вооб- щей растворения личности в безличном: "Следуя современному субъективизму, Ницше говорит о греке как о индивиде. <. .> Грек — никогда не "индивид"; это член полиса, член религиозной общности" 6б. Ситуация полна бессознательного юмора истории: Боймлер переадресовывает самому Ницше упреки, которые Ницше адресовал Сократу. Для предфашистского сознания Боймлера даже в мысли Ницше, апеллировавшего к ночному богу Дл;;шсу, все еще чересчур много света: "Все — передни;! план, все отчетливо, все ясно (!)", — морщится он, аттестуя эту ясность "плоской" 6 в. Кроме всего прочего, перед нами акт неблагодарности, ибо без Ницше-Бои'м.'г9р8Г~никогда не было бы: позволительно сказать, что у Ницше он выучился всему, даже тому, как ругать Ницше. Но поношение "отцов" за половинчатость и непоследовательность требуется логикой всякого умственного экстремизмав7. Еще раз: ставки приходиться ежесекундно повышать. Наследники Ницше едины том, что историю нужно переиграть, "взять назад", — но с какого именно момента все идет не так? Все более радикальные решения отодвигают этот момент дальше и дальше в глубины истории. Недавно умерший глава немецкого экзистенциализма Мартин Хайдеггер (1889-197) — характерный тому пример. Своего врага он усматрк ал в "метафизике", обозначая этим словом интеллекту;..1истический и антропоцент-ристский подход к бытию, обреченный, по его мнению, вечно подменять бытие "суш/и:;."68. В своей ранней большой работе "Бытие и время — Хайдеггер еще связывал поворот к этой "метафизике" о философской инициативой Декарта на пороге Нового времени, противопоставляя метафизическому грехопадению благой пример греческой классики (Аристотеля) 69. Проходит два десятилетия, и к 1947 г. грехопадением оказывается творчество Платона 70. Остается надеяться, что хотя бы досократики (вслед за Ницше оцениваемые Хайдеггером чрезвычайно высоко) еще "невинны", еще но тронуты порчей. Увы, это не так: вина перекладывается па Парменида, затем на еще более архаических мыслителей, и дело кончается тем, что миг падения философии попросту совпадает с мигом ее рождения. "История бытия, — резюмирует Хайдеггер, — начинается с забвения бытия" 71 (надо иметь в виду, что на языке Хайдсггсра "историей бытия" должна пазы- ший случай, когда ее жертвой оказался сам же Ницше, порицаемый в качестве скрытого гуманиста, рационалиста, единомышленника Сократа и т. п. Случилось это в 1926 г.; нападающей стороной был Альфред Боймлер (род. в 1887 г.), довольно влиятельный представитель "философии жизни". Позднее Боймлер оказался в рядах активных интеллектуальных апологетов гитлеровского режима, причем не на мгновение, как Бенн или Хайдег-гер, а на все нацистское двенадцатилетие; в 1933–1945 гг. он преподавал в Берлинском университете политическую педагогику. Т. Манн, отмечавший способности Бойм-лера б9, говорил о нем как о "предмете содрогания" для себя 60. В 20-е годы он выступал преимущественно как историк немецкой философии; в этом своем качестве он написал необычно пространное — почти на три сотни страниц — введение к подборке избранных текстов Ба-хофена, озаглавленное "Бахофен как мифолог романтики" 61. Заметим, что само это издание родилось в специфической атмосфере бахофеновского культа, инспирировавшегося в 1910-1920-е годы "эзотерическими" кружками немецких интеллектуалов вокруг поэта Стефана Георге, археолога Альфреда Шулера и в особенности философа Людвига Клагеса, крайнего иррационалиста. Излагая историю подходов к проблеме древнего мифа от Винкельмана до конца XIX в., Боймлер чинит суровый суд над немецкой романтикой: оказывается, что Крейцер, братья Шлегели, даже Новалис — это лишь "так называемые" романтики, романтики в кавычках, погрязшие в индивидуализме, не порвавшие контактов с веймарской классикой и не проникшиеся безличным пафосом почвы и связующего предания. "Истинными" романтиками признаны разве что Карл фон Савиньи, учивший о праве как таинственном выражении "духа народа", и "человек судьбы" Карл Отфрид Мюллер. Разумеется, сам Бахофен — истинный из истинных. Напротив, Ницше, "измеренному бахофеновской мерой"62, достается суровый выговор. "В ницшевском понятии жизни отсутствует глубина, сообщающая жизни серьезность смерти (!)" 63. "Ницше недоставало символического взгляда. Неимоверной реальности греческого культа он не увидел ни в малейшей мере" в4. Не без основания подмечая модернизаторство Ницше, Боймлер подчиняет эту констатацию тоталитаристской тенденции, требую- ной совместно с Максом Хоркхеймером в 40-е годы, о обнаруживает ненавистный синдром буржуазного р< ционализма. . в гомеровском Одиссее, на самом порот античности 76. Порча всего состава культуры, совпада] тая для Ницше с выступлением Сократа, через семьдеся лет посЛе Ницше относится к временам, предшествующи самому рождению этой культуры, — к эпохе становленп патриархата. Классика скомпрометирована как объект "буржуа: ного" пиетета, "академического", "культур-филисте] ского" — словцо Ницше! — культа. Она чересчур раци< налистична, чересчур моралистична и гуманистична, ч ресчур благопристойна и размеренна. Иначе говор; она виновата уж тем, что она — классика. Ей дост; ются подчас довольно забавные укоризны, что она "HI подлинна", что уже с нее пошла "христианская фальс] фикация" могучей внеморальности "подлинного" мифа 7 Когда Энгельс в 1884 г. призывал увидеть сквозь дре: него грека — "дикаря", "ирокеза" 78, это было для XIX менее всего тривиальным. Но XX век приносит с собс утрированную психологическую установку, побуждат щую сразу проскакивать к этому "дикарю" сквозь эллш и мимо него, не перечувствовав его эллинства, не переж! в нем ничего, кроме "ирокеза". Здесь надо различать ра ные вещи. Само по себе открытие автономной эстетич ской ценности примитива, будь то негритянская культов; маска или эгейский идол, — это обогащение нашей во приимчивости, культурное завоевание, которое бесполез] оспаривать. Однако нельзя отрицать и другого: адепт п слепицшевского нигилизма, льнущий к безднам архаик поближе к ритуалам кровавой жертвы и оргиастическо срамодейства, медлящий в мире смутных, нечленора дельных, безличных праформ, надеясь экстатически о рести опыт живого мифа, — явление гротескное и глубо] двусмысленное. Кроме всего прочего, это явление бе надежной тщеты, ибо искомые "изначальность" и "по линность" упрямо не даются в руки. Современный api иавт может возбудить себя до эйфорической иллюзи описанной в одном из самых сильных и страшных стих творений Готфрида Бенна, когда мерещится, будто чудш и полубоги древнего мифа явились во плоти и прибл зились вплотную, оставляя лишь место, где упасть колени — ваться история философской онтологии). Советская исследовательница так описывает этот результат: "Начало метафизики восходит у Хайдеггера в конце концов к началу западноевропейской философии, так что даже в глубокой древности Хайдеггер больше не находит "изначальной связи мышления с бытием". Вся до сих пор существовавшая философия была метафизической — таков окончательный вывод Хайдеггера. Если еще в 30-х годах он в поисках неметафизического отношения к миру обращался к древним, преимущественно к досократикам, то логика его собственной концепции привела его к тому, что "бытия еще никто не мыслил" 72. Современное нигилистическое сознание, убегая от себя к эллинской классике, затем еще дальше — к эллинской архаике, вновь и вновь видит, словно в страшном сне, само себя. Круг замыкается. Описанный Т. Манном черт Адриана Леверкюна знал, что делал, когда соблазнял своего пациента: "Мы предлагаем большее, мы предлагаем как раз истинное и неподдельное — это тебе, милый мой, уже не классика, это архаика, самодревнейшее, давно изъятое из обихода" 73. Напряженное устремление к архаике, неспособное удовлетвориться никакой фактически данной в истории мерой архаичности, заметно у мыслителей самого различного типа и толка. Вот Фрейд, выводя известное из неизвестного, объясняет наличного человека, как его знает история и современность, из бытия совершенно неведомого и произвольно угадываемого человека "пра-орды" ("Urhorde") 7*; легко усмотреть, что доисторическому дается странный онтологический примат, оно сознательно или бессознательно мыслится субстанциальное истории, реальнее ее, плотнее, гуще; история же, напротив, предстает вечно подозреваемой и разоблачаемой мнимостью, игрой в переодевание 7б. Характерно, однако, что наследникам Фрейда этого мало: неофрейдисты вроде Эриха Фромма и прошедшие через фрейдизм культур-антропо-логи вроде Бронислава Малиновского еще при жизни учителя критиковали учителя за то, что тот остановился на недостаточно архаичной архаике, на патриархальном конфликте отца и сыновей, а не устремился в более глубокие недра доисторического. Или Теодор Адорно — казалось бы, философский и политический антипод Хайдеггера; но в своей "Диалектике просвещения", написан- надежда уйти от истории, от памяти Европы; короче, страсти, вызываемые иррационалистической интерпретацией Эллады, в конце концов уводят от Эллады к более экзотическим берегам. Это тема стихотворения Бенна "Орфические клетки": сначала в нем поминается "дельфийская песнь о шествии атлетов" (с намеком на блаженную смерть Клеобиса и Битона), но затем посвященному указан путь "к иным сосцам, к иным морям", местом "орфического" жертвенного экстаза должен стать — Занзибар м. Еще одно стихотворение того же поэта начинается словами: Топочущий танец Того — Африка в мозгу Напрашивается вопрос: может ли дать что-нибудь сознанию, взыскующему колоритного архаического варварства, эллинская классика? Оказывается, может. Эллинская классика может переживаться как пограничная область, как водораздел "нашего" и "иного", "истории" и "мифа", культуры и первобытности, как предел, на котором и архаика, и цивилизация оттеняют друг друга и через это обретают такую остроту, как нигде. Вспомним мысль М. М. Бахтина: "Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность" 8 в. По этой логике первобытность можно живее всего восчувствовать в составе античной культуры как раз потому, что античная культура — конец первобытности. Вот Эрнст Юнгер (иод. в 1895 г.), небезызвестный философствующий литератор-ницшеанец, в 50-е годы нашего века перечитывает Геродота. "Мы называем Геродота "отцом истории". И в самом деле, он предлагает необычное чтение: сквозь его тексты идешь, как сквозь ландшафт, освещенный светом утренней зари. До него было нечто иное, была ночь мифа. Эта ночь не была мраком. Она была скорее сновидением, она знала иной способ сопрягать людей и события, нежели тот, которым владеет историческое сознание с его пробужденной силой. Отсюда утренняя заря в труде Геродота. Он стоит на гребне горного хребта, разделяющего день и ночь; не просто два времени, но два качества времени, два качества света. mil Schlangenhaar die Lende an Zweig und Thyrsenstab. . - что спящий Улисс нашел-таки во сне свою утраченную родину 79. Но потом наступает отрезвление, и любитель архаики обращается к самому себе словами того же Бенна: Ждешь ли, что выйдут снова Боги, славу явив? Ты обесславил слово, Ты обескровил миф — Мудрый Мойр не пытает, Одно осталось, одно: Пусть молча земля впитает Жертвенное вино 80. Для "полых людей", о которых говорит известная поэма Томаса Элиота 81, все пусто; но едва ли не в наибольшей степени опустошен и исчерпан за тысячелетия именно классический, эллино-италийский, "средиземноморский" мир (еще одно ницшевское словечко!). Что нам Тирренское взморье, Что нам долины олив, — Средиземноморье, Исчерпанный мотив. Влага из горла кратера Вылита навсегда, Пусты под небом Гомера Белые города 8а. Кровная заинтересованность в античной классике, которая жила все века европейской культуры, угрожает отмереть почти безболезненно. В самом деле, если новейший вкус даже в эллинстве ищет варварства, даже в греке — дикаря, то не проще ли искать дикаря в дикаре? Стоит послушать, с каким благоговением психоаналитик Карл Густав Юнг отзывается о мощи шаманских верований североамериканских индейцев, живущих в интуитивном единении с ритмом космоса 83. Здесь, по краш мере, все хранит тождество себе, миф — это миф', и культ — это культ, ни на что еще не легла тень цивилизующего переосмысления, сдвигания смыслов. Здесь манит у Юцгера, несмотря на его сомнительную красивость, хочется признать удачным — и по смыслу своему выходящим за пределы ментальности самого автора. Но совсем другой вопрос — что, собственно, можно сказать о классике, оставаясь в этих пределах? II для Юнгера классика интересна лишь постольку, поскольку она оттеняет контрастом архаику (и одновременно, разумеется, служит окном, через которое можно заглянуть в архаику). Все перевернулось: когда-то нужнс было бороться за осознание автономной ценности архаики в которой видели только ступень к классике, — теперь под угрозой автономная ценность самой классики. Та* что и цитата из Юнгера вписывается в общую картин) поворота иррационалистической ("орфической") мыслв от Эллады к более экзотическим образам, к "иным сосцам" как сказано у Бенна. Так поступает с античной классикой "культур-кри тическое" сознание, и притом в самых различных, подча< взаимно антагонистических вариантах — от Хайдеггера Бенна и Юнгера до Адорно, Хоркхеймера и "новых левых" О другой стороне позднебуржуазной умственной пано рамы, т. е. о сциентистской и технократической аполо гетике цивилизации, едва ли стоит говорить: что ей ан тичность, что ей Гекуба? Даже Герберт Уэллс погрепж в свое время высокомерным приговором греко-римско! культуре, которая-де по причине узости географическоп кругозора и скудости технической базы обречена был на стагнацию 90. В качестве более нового примера можн назвать Лесли Уайта, для которого античность — не заметный, бедный содержанием момент, безнадежно за терянный между агротехнической революцией и промыт ленной революцией, двумя подлинными переворотам; в жизни человечества 91. И уже вполне понятно, что дл Уильяма Ростоу, как это и предполагается самим назва нием его работы, Эллада и Рим стоят в монотонном ряд "традиционных обществ" м. Книги Уайта и Ростоу уж были предметом обсуждения со стороны советской ис следовательницы 93; нас они могут интересовать лиш как своеобразный предел обесценения античной классика Специальные историко-филологические работы, пс священные античным текстам, остаются, как уже говор! лось, за пределами этой статьп. Но когда речь иде р совокупном действии разнородных причин, оспаривав: Чуть позднее, уже у Фукидида, краски зари блекнут. На людей и вещи падает теперь белый свет исторического знания, исторической науки" 87. Отвлечемся на мгновение от идеологического контекста, в который попадают эти рассуждения у такого пессимистического "критика культуры", как Эрнст Юнгер 88. Сама по себе возросшая чувствительность ко всему "пограничному", неравному себе, внутренне противоречивому и потому подвижному в облике эллинской классики есть знамение времени, необходимое требование современности. Нет ни малейшей нужды разделять ницшеанскую и нигилистическую философию Юнгера, чтобы увидеть греческую классику (прежде всего, конечно, раннюю классику) "на гребне горного хребта, разделяющего. . два качества времени", — или, если прибегнуть к менее эффектной метафоре и заодно сослаться на блестящую отечественную истолковательницу античности, "на стыке двух крупнейших исторических эпох" 89, тысячелетий варварства и тысячелетий цивилизации. Ощутить положение греческой классики "на стыке", "на гребне", па двускатном хребте времен — значит, ощутить ое историчность, хрупкость, неповторимость. С точки зрения шиллеровской эпохи, различавшей "истину" и "действительность", классика жила во времени и умерла во времени лишь на уровне "действительности", между тем как на уровне "истины", на уровне сущности она изъята из времени (ср. цитату из "Богов Греции", приведенную выше). Но теперь обусловленность временем, в чисто эмпирической плоскости и прежде более или менее отчетливо улавливаемая всеми разумными интерпретаторами, прослеживается в иной плоскости, вплоть до самой сердцевины сущности, и прослеживается не только умом, но и воображением, сама становясь предметом эстетического переживания, и это ново. Она уже не только "отрезвляет", она способна опьянять, как всякий может увидеть на примере Томаса Манна и других либерально-гуманистических реставраторов идеала классики. Но и вообще для современного восприятия классика — не вневременное, длящееся сияние остановленного полдня, но исторический момент, обладающий всей мгновенной определенностью и характерностью времени суток, которое ни за что не спутаешь ни с каким другим. Из-за всего этого метафорическое описание Геродот акций на значащее слс о. Поиски наиболее "сохраняв щего" интеллектуально! ракурса для каждого объект; подступы к "дегуманиз;,ии" гуманитарии не раз заста: ляют вспомнить мрачи з двустишие Владислава Ходасевича: Счастлив, кто падает вниз головой: Мир перед ним. хоть на миг, да иной. Конечно, пути науш как таковой оправданы собстве] ной внутренней необходимостью: перебор и реализащ открывающихся рабочих возможностей — процесс, к торого не остановить, да и останавливать не нужн Наука может многое, но одного не может — переш к повторению пройденного. Но тема этой статьи, как ун было сказано, не наука "как таковая", а веяния вокрз науки, вовсе не так уж однозначно связанные с те! что творится в пауке, но в каждый реальный момент ел; жащие проводником воздействий "профанов" на нау* и науки на "профанов". Не отвечая за эту двусмысленную сферу, наука не вольна попросту дезавуировать е и притом не только в силу практической неосуществим сти подобного акта, но и по соображениям, так сказать не совсем чистой совести; веяния эпохи можно отлучи' от "абсолютной" науки, от Науки с большой буквы, i наука в своем эмпирическом явлении, т. е. реальна умственная деятельность реальных ученых, людей] плоти и крови, куда как для этих веяний проницаем "На всякого мудреца довольно простоты". Но когда ъ. говорим о массовой психологической ситуации перед л цом классики, полезно вспомнить резкие и горькие ело: отечественного историка культуры А. В. Михайлов размышлявшего об импликациях культурологической те рии, которая "создается в тени самой передовой и авангардистской машины будущего" 98. "За текстом как механизмом и механизмом как текст* стоит переворот внутри самого сознания людей. <. Это — непосредственность, которая возвращается к себе Но на уровне реальном и без всяких образов — это эс^ тическая всеядность. Для современной культуры, какой она хочет се видеть, — все искусство. <. .> Нет конца тому, что ее искусство. Искусство — все, о чем можно издать художественный альбом. Можно издать альбом с картина] щих и размывающих традиционный образ античной классики, не обойтись без упоминания — хотя бы в самой общей форме — фактора внутренних трансформаций науки. Фактор этот объективный, внеидеологический, хотя он может, конечно, эксплуатироваться на потребу ходячих умонастроений. В наше время новые, неиспользованные и потому заманчивые возможности анализа связаны с исследованиями на уровне "макроструктур" и "микроструктур". Для гуманитарных дисциплин это означает: на одном полюсе — разработка и приложение "глобальных" схем, на другом полюсе — выделение простейших, минимальных единиц реализуемого значения. Пожалуй, ни то ни другое не успело еще как следует стать действительностью в практике самой классической филологии, но уже присутствует па ее границах, меняя ее самосознание и, так сказать, самочувствие, перестраивая ее состав. В силу первой тенденции каждый факт античной культуры подлежит извлечению из контекста античной культуры, внутри которого он пользовался привилегией индивидуальной "неповторимости" и конкретной самотождественности, и включению в иные ряды по принципу "типологической" сопоставимости со "стадиально" однородными явлениями любой иной цивилизации Земли. Сами термины, означавшие явления локальные и единичные, систематически подвергаются в практике современной гуманитарии универсализирующему переосмыслению, превращаясь в родовые имена для целых классов явлений 94. В силу второй тенденции прежние единицы текста, или композиции, или сюжета, еще соотносимые с целостностью простейшего образа, перестают восприниматься как неделимые атомы и разнимаются на дальнейшие составляющие. Характерно, например, что если традиционная наука брала за единицу сю-жетосложения сам "простой" сюжет или, в крайнем случае, мотив 95, то В. Я. Пропп делит мотив сказки на "элементы" 96, а Клод Леви-Стросс дробит сюжет мифа на "мифемы" 97. Сюда же относятся все способы рассмотрения литературного текста "под микроскопом", с такой близкой дистанции, с которой ни один читатель, оставаясь читателем (хотя бы ученым читателем), не может его рассматривать, все приемы "замедленного чтения", замедляемого настолько, что оно перестает быть чтением, выбывая из плоскости "естественных" человеческих ре- Рембрандта, а можно с самолетами, но можно пойти в лес и наломать сучьев и издать альбом их фотографий. Здесь совершенно нет места национальному. И есть место только-национальному — как фирменному блюду национального ресторана. Здесь нет места для индивидуального, но все сделанное только-индивидуально, как резко отделенное и отличное от всего иного. В пустоте этого абстрактного пространства вещи могут безмерно раздуваться или безмерно сморщиваться, тут есть место беспричинному реву и бессмысленному молчанию, колоссальности монументальных безделушек и изяществу миниатюрных руин. Рама заменяет произведение искусства, но именно поэтому в раму можно вставить все что угодно. Но может быть и знак рамы: набор букв может указывать на наличие слова, а наличие слова — на наличие смысла. Скрипка и скрипач — знак музыкального сочинения, появление на сцене и уход со сцены — знак начала и конца. В этих условиях можно любить музыку XVI в. и не понимать современной. Но можно любить только "современных" художников. Можно любить музыку рококо и <(…)> исполнять ее в сопровождении ударных инструментов из джаз-банда. Но делать это можно без всяких внутренних усилий, которые привели бы человека на критическую грань самоосмысления. Искания стали "поиском" (не случайное слово языка техники), и выбор — не в существенном времени истории, но в безразличном пространстве культурной отвлеченности" 10°. Безразличное пространство культурной отвлеченности" — не химера, а реальная угроза нашего века, несколько сродни экологическому кризису. В пространстве этом невозможно внутреннее отношение к идеалу античной классики. Мы пытались рассмотреть механизм совокупного действия тех сил, которые работали и работают на разрушение той позиции перед лицом античности, стоя на которой только и позволительно называть классику "классикой". Наряду с этим история XX века являет немало попыток наполнить классический идеал новой жизнью, заново осмыслить и обосновать его, дать ему место в рамках новой системы. Но попытки эти — уже тема для другой работы.

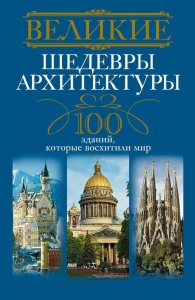

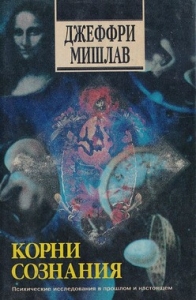

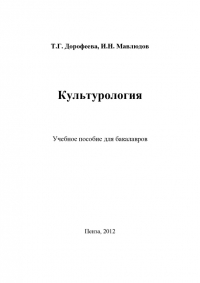

Комментарии к книге «Образ античности в западноевропейской культуре XX вь», Сергей Сергеевич Аверинцев
Всего 0 комментариев