Василий ШУЛЬГИН 1921 год
От публикатора:
На протяжении всей своей жизни Василий Витальевич Шульгин (1878-1976) писательство совмещал с политической, партийной деятельностью и остался в русской культуре прежде всего политиком.
Зигзаги его партийной карьеры достаточно круты — и совпадают с вехами в истории страны.
Лидер фракции русских националистов в Государственной Думе (с 1907), он расколол фракцию и ушел в Прогрессивный блок вместе с видным кадетом П.Н. Милюковым (1916). Принимал отречение Николая II (1917), уступил эсеру А.Ф. Керенскому пост во Временном правительстве. Был одним из организаторов Добровольческой Армии (1918), эмигрировал, ездил в СССР (1925-1926), как оказалось, под надзором ГПУ. Арестованный в 1944 г. в Югославии, с 1947-го по 1956-й был заключенным Владимирской тюрьмы, а в 1961 г. — гостем XXII съезда КПСС… Многие их этих “этапов” и “зигзагов” Шульгин описал в своих книгах: “1920”, “Годы”, “Дни”, “Три столицы”…
Цикл очерков “1921 год”, никогда ранее в России не публиковавшийся (он печатался в эмигрантской “Русской газете” с декабря 1923 по май 1924), также связан с определенной вехой и в жизни Шульгина, и в истории России — России Зарубежной, т.е. эмигрантской.
…Вместе с 120 тысячами человек, остатками Русской Армии П.Н. Врангеля, Шульгин эвакуировался из Крыма в Константинополь в ноябре 1920 г. 24 декабря он выехал на п-ов Галлиполи, где был размещен 1-й Армейский корпус ген. А.П. Кутепова, и вернулся в Константинополь в начале 1921 г. С этого и начинаются его очерки, заканчивающиеся июнем того же года. Все это время Шульгин готовился к участию в вооруженном десанте в Советскую Россию.
Врангелевские круги интересовало положение на Юге России, где в связи с Кронштадтским восстанием также могли начаться волнения. Был у Шульгина и личный интерес: его волновала судьба среднего сына, оставшегося на родине. Однако в сентябре !921 года в Севастополе, Одессе и Киеве побывал не Шульгин, а журналист Вл. Лазаревский, описавший свою поездку в очерках “На том берегу”. Вот эти-то очерки, вместе с очерками самого В.В. Шульгина: “На Босфоре”, “Inter partes” (о неудаче его высадки на берег) и частью очерков некоей М.Д. (вероятно, М.Д. Седельниковой) “По Черному морю” — и должны были составить книгу “1921 год”. Шульгин писал о готовящемся издании: “1921 год” есть попытка записать кусочки жизни на “обоих берегах”. А эта цель могла быть достигнута, в данном случае, только совместными усилиями” (ГАРФ. Ф. 5974. Оп. 3. Ед.хр. 9. Л.1).
И хотя опубликована была, под названием “1921 год”, только часть книги Шульгина “На Босфоре” (она и печатается ниже), внимательный читатель увидит в тексте и указания на подготовку к поездке и ее, так сказать, “идейно-художественное” обоснование. Очерки кончаются описанием Черного моря, по которому через несколько месяцев отправится белый десант… Кроме того, на всем их протяжении обсуждаются с разных сторон, с разными доказательствами (в том числе и от противного) идеи активной антибольшевистской борьбы и поддержки ген П.Н. Врангеля. “Из дневника моей соседки” в рукописи называлась “Галлиполийцы и пероты” (от Pera, главной улицы Константинополя). Шульгин прославлял офицеров, оставшихся в армии, его называли даже “монархистом-бонапартистом”. Он считал П.Н. Врангеля последним законным правителем России и вел кампанию в его поддержку на страницах многих изданий: константинопольских “Зарниц”, софийской “Руси”, парижской “Русской газеты” (хотя здесь его позиция несколько расходилась с мнением редакции). Сам он прямо писал о публицистичности своих очерков: “Сначала там идет больше, так сказать, легкого чтения, а потом немножко тяжеловесной артиллерии (переписка друзей). Эти вещи усвояются совместно” (ГАРФ. Ф. 5974. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л.1). Одним словом, Шульгин выступал в амплуа страстного пропагандиста, практически партийного публициста; профессионального журналиста, через художественные образы проводящего свою политическую линию.
Ведя явную проврангелевскую агитацию, Шульгин в своих очерках касался всех событий 1921 г., так или иначе связанных с судьбой Русской Армии и уже упоминавшегося Кронштадтского мятежа (март 1921), который эсеры, возглавляемые в эмиграции А.Ф. Керенским, считали своим достижением. И политики былых “союзников” по Первой мировой войне, войска которых оккупировали Константинополь после поражения Османской империи. Французское правительство, первоначально оказывавшие материальную поддержку Врангелевской армии (за что, впрочем, реквизировало все корабли и имущество, вывезенное из России), с весны 1921 г. всячески стремилось расформировать армию. Европа всерьез боялась того, что врангелевцы, соединившись с турецкой армией Кемаля Ататюрка, захватят Константинополь.
Описывает Шульгин и положение дел в самой русской эмиграции. П.Н.Милюков в докладе “Что делать после Крымской катастрофы” (дек. 1920 г.) выдвинул так называемую “новую тактику”: левые кадеты отказывались поддерживать правительство П.Н. Врангеля и провозгласили курс на сближение с правыми эсерами. Январское “Совещание” 1921 г. организационно оформило это сближение, а милюковская газета “Последние новости” (1920-1940) всячески проводило идеи “новой тактики” в жизнь… П.Н. Врангель же выдвинул идею своего правительства, организовав так называемый “Русский Совет” (апр. 1921), в который вошли и военные и штатские лица (в том числе и Шульгин)…
То есть “1921 год”, как и предыдущие произведения Шульгина, — летопись важнейших политических событий, которым писатель был свидетель. Но не только политических. Все происходящие события (за исключением открытия “Русского Совета”) описываются опосредованно, через восприятие рядовых беженцев, их разговоры, настроения, размышления. Беженская жизнь русского Константинополя — основной предмет изображения Шульгина. И — не побоимся этого слова — действительно блестящего изображения.
Центральная улица европейской части города, легендарная Пера, заканчивающаяся Галатой, его торговой частью… Непрерывный поток автомобилей, яркие витрины магазинов, толпы народа… Турки, греки, французы — и среди них русские беженцы, которых, как утверждает Шульгин, можно узнать сразу… Они обивают пороги посольства, выпускают газеты, работают в кафе, ресторанах и барах, служат шоферами, чистильщиками сапог, продают книги и открытки… Все это точно, подробно, с драгоценными деталями описывает Шульгин. И рестораны, и мансарды, и двор посольства, и съемные квартиры, и лестницы…
За инициалами, краткими именами скрываются реальные люди, описываются реальные судьбы. Так, Н. Н. Ч. — публицист Н.Н. Чебышев, издававший проврангелевскую “Великую Россию” в Севастополе, глава “Бюро русской печати” и соиздатель еженедельника “Зарницы” в Константинополе. “Моя соседка” — очевидно, Мария Дмитриевна Седельникова, дочь генерала и будущая жена Шульгина. Многолетним парижским адресатом Шульгина был бывший русский посол В.А. Маклаков, с 1917 г. живущий во Франции. Не эта ли переписка послужила основой для главы “Из переписки друзей”? “1921 год” — настоящее свидетельство современника, исторический документ, “мемуар”, по словам самого Шульгина. Вроде воспоминаний и рассказов о русском Константинополе, оставленных А.Т. Аверченко, И.Д. Сургучевым, А.Н. Вертинским, Дон-Аминадо, Н.Н. Чебышевым, П.Д. Долгоруковым, Н.В. Савичем…
Но Шульгин выходит за рамки мемуаров. И город, и люди под его пером — оживают. Замученные, растерянные, опустошенные войной беженцы, страшные бедствия, выпавшие на их долю… Их отчаяние, готовность покориться — и, напротив, мужество, чувство товарищества, умение противостоять истории. Истории вообще. Судьбе вообще. Это книга о человеке в истории, смятом историей и противостоящем истории. Это книга о страдании — вообще.
…Да, русские люди, на константинопольской мансарде, в начале 1921 года… Без отечества, без денег, без сил… Пьют, поют, плачут, надеются… Но почему так знакомы их интонации, почему так понятны их чувства, так отчетливо слышны голоса…
Шульгин был и политиком, и мемуаристом, и писателем. Но не пора ли переставить определения? Писателем он был прежде всего. И прекрасным писателем. “1921 год”, ныне возвращающийся к отечественному читателю, — еще одно тому подтверждение.
Е. А. Осьминина
Глава первая.“Что делать?”
Вступление
Это было “между Европой и Азией”, это было почти в Евразии, проще сказать, — это было на Босфоре…
Всю эту ночь, т.е. ночь на 1 января 1921 года, сирены в сплошном тумане ревели славу “русскому” Новому Году. Теперь туман смылся, взошло солнце, и было очень красиво. Кто видел Константинополь — тот это знает…
* * *
Вчера мы пришли из Галлиполи. Пассажиров всех национальностей сейчас же спустили на берег. Русских нет, ибо для русских — особый закон… Что же, это естественно. Ведь мы, — действительно особый народ: без отечества, без подданства, без власти, — которая могла бы за нас отвечать или за нас заступиться. Собственно говоря, мы — “вне закона”.
* * *
Кроме — законов природы. Закон же природы таков, что это великолепное зрелище — между Европой и Азией — действует на нас, русских, ничуть не меньше, чем на французов и англичан, которые присвоили себе этот пролив… А может быть, и больше…
“Проливы”…
“Как много в этом слове для сердца русского слилось”.
* * *
Как, в сущности, это все мало продумано! На что нам эти проливы? Что бы мы с ними делали? И как бы мы их “удержали”?
Пришлось бы занять Константинополь, то есть навязать себе вражду со всем мусульманским миром. К чему? В России двадцать миллионов мусульман, мы с ними очень хорошо уживались… Так нужно поссориться?
Надо идти назад. “Турция для турок” — вот заповедь для будущей русской политики.
* * *
“Крест на Ай-Софию!..”
Вот она, Ай-София… красивая пирамидообразная громада, — тяжелая среди ажурного стремления минаретов…
На ней нет креста…
Но ведь крест нельзя водружать мечом. Христианство не ислам.
* * *
Не будучи философом, философствуешь, когда “мысль парит” над этим городом. Вспоминается: “по делам их узнаете их”…
* * *
Вот — “дела”.
Когда сто тысяч русских упало на Константинополь… жалкие, голодные, больные, с бледными женщинами и умирающими детьми…
Кто оказался больше христианами по отношению к ним? Христианская ли Пера и Галата, одуревшая от фокстрота, или этот исламийский Стамбул, сгрудившийся около древней Ай-Софии?
* * *
“По делам их узнаете их”… Увенчанный полумесяцем Стамбул на заре XX столетия, может быть, ближе к Христу, чем оскверняющая крест Пера и Галата…
* * *
Эти бессвязные мысли бежали. На азиатском берегу, высоко на горе, было очень большое здание — желтое, но казавшееся красным от солнца. Я насчитал несколько сотен окон, у меня зарябило в глазах и стало тошнить…
Это от голода. Мы не ели уже двое суток. И совершенно неизвестно, сколько еще времени французы будут заставлять нас любоваться красотами Constant… натощак…
Что делать?
* * *
Что делать?.. Этот вопрос висит над этим необъятным городом. Что делать с ним, с Константинополем?..
О Константинополе, впрочем, можно было бы и не думать: пока он вне нашей компетенции.
Но я знаю, что об этом все же думают некоторые русские и довольно оригинально: они мечтают, чтобы его “взял” Врангель и “отдал” Кемалю.
* * *
Но не в этом дело. Не нам заниматься теперь такими вопросами.
Что делать нам самим, русским, этой мятущейся стихии, словно снегом запорошившей берега Босфора. Этот вопрос висит над каждым из нас и над всеми вместе.
Тревогой и страданием вычерчены эти слова там, на голубом небе:
— Что делать?
* * *
Те, что там, в Галлиполи, или на Лемносе, или в Четалджи, — словом, “в армии” — те знают.
Они лишили себя свободы и тем освободились… Освободились от забот.
У них один долг и одна обязанность — повиноваться…
Они избрали благой путь: они веруют.
Они верят, что единая воля и единый разум лучше выберут путь, чем беспорядочные усилия разрозненной массы… Они верят, что этот путь, намеченный их Главнокомандующим, они, армия, проложат своим тяжелым весом, потому что все вместе — они сила, они — масса, они — глыба…
Им трудно, но им беззаботно. Все заботы о будущем переложены на маленькую яхту, которая приютилась вот там, где-то за поворотом Босфора.
Выдержит ли “Лукулл” этот груз?..
* * *
Но остальные?.. Не галлиполийцы, не лемносцы, не армия — словом, все те, кто не захотели или не могут быть в рядах.
Над ними неотступным вопросом висит “что делать?” Над каждой русской снежинкой, мятущейся по Константинополю, вьется неотступным москитом этот жалящий вопрос…
* * *
Я знаю, что делать! По крайней мере, что делать — мне, в данную минуту!
Кругом парохода снуют “кордаши”, босфорские лодочники. Один болтает у трапа. Надо воспользоваться этим… Довольно в самом деле, “попили французы нашей кровушки”… Сбегу на берег!
* * *
Сбежал… на сегодня вопрос, что делать, разрешен: надо найти себе ночлег и приют в этой огромной абракадабре, которая называется Константинополем, другими словами, надо прибиться к какому-нибудь из друзей…
Уходящие
“Я живу в посольстве”. Это пишется гордо, но выговаривается несколько иначе. Точнее — я живу у бывшего члена Государственной Думы Н. И. Антонова, который в свою очередь живет у генерала Мельгунова, а генерал Мельгунов живет у генерала Половцова, а генерал Половцов, собственно говоря, живет в посольстве, получив разрешение от посла А. А. Нератова… Но теперь это так принято — “дедка за репку, бабка за дедку”…
Итак, послы и посольства существуют… нет только державы, от которой они посольствуют…
* * *
Спал я очень хорошо. Без простыни и подушки, но теперь это тоже в высшей степени принято.
У меня, слава Богу, никаких вещей нет. И это тоже “очень прилично”… Неприлично иметь что-нибудь.
* * *
Утром я был еще в постели. Генерал Мельгунов уже встал и брился, а Николай Иванович одевался, когда пришел А. С.
Он уселся на диване, в пальто, держа тросточку в руках, и завязался один из тех разговоров, которые сейчас ведутся.
Он: Я глубоко уважаю барона Врангеля! Но послушай! Его антураж! Это что-то невозможное! Эти люди! Я не знаю! Может быть, я ничего не понимаю… Но это они погубили, они! Когда вы делали “правыми руками левую политику”…
Я: Отчего ты говоришь “вы”, а не “мы”?
Он: Потому что я в этом никакого участия не принимал! Извини, пожалуйста!..
Я: Но ведь и я тоже. И все-таки я думаю, что надо говорить “мы”.
Он: Это почему?
Я: Потому что все качества, которые были причиной… они наши общие… И если бы ты и я принимали участие… то, может быть, было бы только хуже.
Он: Ты так думаешь?
Я: Я так думаю… И очень давно так думаю… Потому что… Потому что все мы очень хорошие люди, очень милые, очень деликатные, очень воспитанные, но властвовать мы не можем… Старый режим пал не почему иному, как потому, что мы уже не могли быть властителями! Конечно! Разве ты не замечал, разве ты не видел?.. Вот, например, в прошлый раз, когда мы собрались как-то… ну, комитет какой-то…
Он: Неудачно! Это верно! Это не то!.. да, ты прав! Это не то!
Я: Это не то, потому что мы не те… Не те, что надо…
Он: Ну, допустим! Допустим, ты прав! Какая же причина?
Я: Причина простая: греческое слово “abulia”… Это значит — отсутствие воли… атрофировалась воля. Что такое знаменитая русская застенчивость? Это и есть отсутствие воли… Волевой человек не может быть застенчивым. Волевой человек постоянно принимает решения… Постоянно… В каждую данную минуту… сказать слово… вмешаться… потребовать… настоять на своем… А застенчивый — жмется под стенку…
Он: Что же мы, трусы, по-твоему?
Я: Ничего подобного! Наоборот! Застенчивость очень легко совмещается с героизмом. Я много видел таких, которые были удивительны под пулеметами и крайне робкими в обращении с людьми… Много таких русских, которые герои в смертном бою, а в обыкновенной жизни — подстеночники…
Николай Иванович: Это верно. Это правильное наблюдение. По-видимому, надо признать, что ежедневное, ежеминутное напряжение воли — это нечто иное, чем вспышки, порыв. Порыв — это даже отрицание воли. Порыв нужен тому, у кого нет воли…
Я: Государь наш был болен тем же. Он умер героически.
Он: Несомненно! Еще бы!
Я: Он был непреклонен в основном, там, где требовался героизм. В Его решении не покориться немцам. И это Он запечатлел героической смертью. Но в обыденной жизни… Разве все не знают, что Он никогда никому не сказал неприятности в глаза… Он был застенчив. Он не мог раскричаться, рассердиться, заставить дрожать перед собой. Он был застенчив на троне. Это его и погубило. А с ним и нас… И мы такие же, как наш Государь. Умирать? Сколько угодно! Но без всякой церемонии убрать от государственного дела такого-то, не обращая внимания на то, что он “наш милейший и симпатичнейший”, — на это мы не способны. Властители — иные. Они ступают по людям… Они побеждают. А мы? Мы умираем…
* * *
А. С. задумался на минутку. Потом:
— Ты знаешь, бедный Николай Николаевич…
— Что?
— Застрелился…
— Как? Отчего?
— Перспектива нищеты… ничего в виду… он уже давно был в меланхолии. Не выдержал бедняга…
* * *
Не выдержал бедный Николай Николаевич…
Ах, ведь он был символом…
Обломок прошлого… безусловно, порядочный человек — традиционно порядочный, “от старого” порядочный… Не способный к измене ни в каком виде… Добрый, страшно добрый… Человек, абсолютно лишенный честолюбия, тщеславия. Всегда готовый броситься на помощь ближнему или общему делу… Живо чувствовавший свою связь с государством, Россией, и какой-то свой долг перед нею… К тому же человек самобичующийся, вечно твердивший “я дрянь, я дрянь — ну, конечно!”… Это все потому, что какой-то остаток жизнерадостности иногда пробивался в нем…
Но никчемный был человек, дорогой Николай Николаевич, и путаник… Виртуозный путаник… При это он обладал “охотой к перемене мест”.
Он вечно носился. Во время Великой войны он был уполномоченным Красного Креста. И вот он бешено вечно мчался по фронту, и ему, очевидно, казалось, что он делает дело… Не успев куда-нибудь приехать, он уже спешил в другое место… При этом даже то время, которое можно было урвать у него, проходило во всяких “переулочных” разговорах, а на главную улицу, на проспект, никак его нельзя было вывести…
За пять минут до отъезда начинались решаться дела, за которыми он собственно приехал. Разумеется, в диком сумбуре… Тут же писались какие-то документы, принималась отчетность, давались деньги… Последние самые важные указания давались уже сидя в автомобиле. Вдруг вспоминалось главное… Тут же на коленях раскрывались чемоданы, доставались печати, бланки…
Все это было если не хорошо, то, во всяком случае, кое-как шло, пока было свое состояние и свои автомобили… Недочеты покрывались из своего кармана, а за забытым делом мчалось вторично, за двести-триста верст, по бешеным дорогам, благо своя машина.
Но когда все это кончилось, революция поставила вопрос “сурово”, — не выдержал Николай Николаевич… Он мог только метаться во все стороны, этим метаньем и хлопотаньем обманывая себя, что он делает дело. Но делать настоящего дела он не мог…
И вот кончил…
Он был символом этих милых, идеальных людей, выросших на старой хорошей еще тургеневской закваске, которые живо чувствовали свой какой-то долг перед Россией, но ничем не могли ей помочь, ибо были великими… “путаниками”…
Мир вам, милые “путаники”…
Вечная память…
Вечная, вечная память, ибо из вашей среды, из вашей глины, вылепились Пушкины, Тургеневы и Толстые, которые не умирают, ибо создали “жизнь бесконечную”.
* * *
Во всяком случае, Николай Николаевич ответил на вопрос “что делать”… Он ушел.
Но мы, остающиеся, какой ответ дадим мы?..
Grand’rue de pera
На вопрос “что делать” очень хорошо отвечает Grand’rue de Рera…
Если пройтись по этой улице, можно приблизительно узнать, что уже делают некоторые русские в Константинополе.
Первое и, кажется, главное занятие — это ходить по улицам. Ведь русские вечно чего-нибудь или кого-нибудь ищут… Ищут пропавших жен и мужей, исчезнувших детей, сгинувших родных; ищут друзей или однополчан; ищут приятелей, которые могли бы занять денег; ищут занятий или должности; ищут, где можно подешевле или бесплатно пообедать; ищут пристанища, квартиры; ищут завести знакомства; ищут, где выдают пособия, костюм или вообще что-нибудь выдают; ищут, где “загнать” это что-нибудь выданное; ищут что-нибудь “вообще”, сами не зная чего, — счастливого случая; ищут, чем бы обмануть голод, и, наконец, бесконечно ищут страну, которая согласилась бы дать “визу”…
Русских так много, что иногда кажется, что их больше всех… Конечно, это обман — просто они очень заметны… Конечно, их выделяет прежде всего внешность: несчастная военная форма, говорящая без слов о симфонии походов, или же “штатский” костюм, поющий “песнь торжествующей эвакуации”… Но и те, кому удалось раздобыться чем-нибудь более приличным, сохраняют свой особый отпечаток, по которому вы сразу узнаете русских.
Здесь в моде среди русских какое-то очень легкое пальто зеленого цвета, такое легкое, что его с первого взгляда можно принять за шелк, но со второго определяется, что на шелк совсем не похоже… Эти пальто с поясами одинаково носят мужчины и дамы, причем у молоденьких женщин это выходит довольно “тонно”… К этому обязательно должен быть шарф, обязательно полосатый, обязательно синий с белым или черный с белым… Шарф “изящно” обкручивается вокруг шеи, причем один конец запускается за пояс, спереди, а другой забрасывается “грациозно-уверенным” жестом за спину. На голове (“головке”) какая-нибудь маленькая шапочка, чаще вязаный шелковый колпачок, именуемый здесь “чулком”, иногда повязка из платочка… Зеленое пальто, полосатый шарф и “чулочек” — эта форма, которую создали себе русские беженки и которая избавляет их от многих затруднений: сразу видно — русская, для которой, значит, законы не писаны… В таком виде они беспрестанно мелькают среди толкотни на Пера, а эта улица своей стремительной гущей порой доходит до интенсивности скетин-ринга на Марсовом Поле в Петербурге в воскресный день… И их почти так же легко узнать среди всей остальной толпы, как бродящих гаремными стайками женственных турчанок. Турчанки являют непривычному глазу диковинную смесь монашествующего шелка с ажурными чулочками… Эти последние весьма определенно кокетничают из-под модных коротких юбок. Это, пожалуй, естественно, раз лиц им не позволяют открывать…
Я, впрочем, не позволил бы себе коснуться этого предмета, если бы это не играло такой роли в Константинополе в 1921 году, — я хочу сказать не о чулках, а о ногах…
Бог его знает — по какой причине, но некоторые национальности на Балканах (не турчанки) не могут похвастать красивыми ногами, очень они уже серьезной комплекции, точно “ножки рояля”… Существует даже ученая теория, что это… “наследие веков”; да, последствие тяжелого физического труда — ношения тяжестей. Может быть… факт тот, что русских узнают сразу, если не по лицу, то по ногам… И Бог мой, как они этим гордятся!.. Так гордятся, что даже это стыдно. Ибо следовало бы помнить, что, кроме Балкан, существуют и другие страны. И что великой нации надо равняться по внутренним апартаментам цивилизованного мира.
* * *
По существу же, когда русские беженки толкаются по улицам Константинополя — это зрелище довольно жуткое…
Прежде всего, вы чувствуете, что они, русские, какой-то другой породы, чем все остальные. Сами про себя они думают, что они более “утонченны”, но еще правильнее было бы сказать, что более изнеженны… У них тонкие, слабые кости и безмускульное тело… “Культурная жизнь”, т.е. отсутствие физической работы, наследственно ослабило их костяк (это и есть “утонченность”), но спорт, могучий помощник действительно цивилизованного человека, не дал им “благоприобретенных” мускулов. Цивилизация их коснулась только одним крылом. Они научились играть на роялях, знают языки, как ни одна нация в мире, читала каждая русская столько, сколько не прочли все константинопольские дамы вместе взятые. Все они курят, иные много пьют, некоторые кокаинизируются, другие занимаются флиртом, и в таких видах и формах, какие не снились старым культурным расам, флирт изобретшим… словом, в некоторых отношениях они, пожалуй, опередили все нации на, так сказать, “эстетно-любовном” поприще… Но ведь все это одно крыло культуры… Крыло, между прочим, разрушающее физическое здоровье, крыло, изнеживающее и атрофирующее наше тело, разбивающее нервную систему. Другое же крыло цивилизации, ее сторона целительная, оздоровливающая — спорт с его лучистой любовницей-природой, умеренный, правильный образ жизни, гигиена физическая и моральная — русской жизни почти не коснулось. Русские женщины этой стороны культуры не знали… Вот почему-то и жутко, когда они ходят тут по улицам, где их толкают, (а ведь они привыкли, что им уступают дорогу), жутко, потому что они не понимают этой толпы, а толпа — их… Они идут, хрупкие, слабые, неумелые, но презирают в душе эту толпу, презирают, потому что чувствуют у себя за плечами крылья… Они презирают этих тератеристых людей, для которых мало доступны “любовь, и песни, и цветы”… И не замечают, что толпа этих земных людей смеется над ними, ибо прекрасно видит, что у “русских чаек” только одно крыло за спиной, а вместо другого крыла смешной маленький зародыш… Смеется, ибо прекрасно знает своим “мещанским” чутьем, что для того, чтобы лететь, нужно два крыла, и что пока этого второго крыла у русских не выросло, должны они вариться в “евразийской” каше полувосточного варварства… И нечего так важничать, что они знают Бетховена и читали Ницше. Этого недостаточно, чтобы владеть “проливами”. Для этого надо иметь, кроме всего прочего, сильное здоровое тело и крепкие нервы… И нечего так гордится маленькими ножками, а надо больше стыдиться своих сутуловатых от слабости спин, безмускульных икр, бессильных рук и, прежде всего, стыдиться своих отцов и дедов, которые были вечно заняты “оздоровлением всего мира”, а собственного здоровья и здоровья своего знакомства уберечь не смогли… А затем и больше всего надо стыдиться своих детей, если они физически так слабы, что древние римляне сбросили бы их с Тарпейской скалы. Ибо наступили суровые времена, более суровые, чем времена “борьбы патрициев с плебеями”…
Вот что говорит тератеристая толпа Перы, если расшифровать ее “перистый” язык…
* * *
Впрочем, я вовсе не это хотел сказать. Трагедия для меня — мужские русские лица.
Мужские русские лица, на мой взгляд, отличались от мужских лиц больших наций Европы своим, как это сказать, расхлябанным выражением… Это “несобранные” лица. Мускулы лица у нас всегда как-то распущены, в то время как в истинно европейских лицах мускулы подтянуты. Это выражение происходит от постоянного напряжения воли. Человек, постоянно делающий волевые усилия, постоянно “собирает” свое лицо — так, как под мундштуком “собирается” лошадь… Маска “собранного лица” — признак долговременных усилий воли.
И вот я вглядываюсь в русские лица, силясь понять, что с ними сделали бедствия гражданской войны. Есть ли теперь на них, столько перенесших, “печать воли”?
Увы…
Горько мне это сказать. Печать я вижу… Но только…
Как это сказать? Чтобы это было не так жестоко…
На многих лицах видна “печать страдания”… Но насчет “воли” — увы…
Правда, есть лица, которые “собрались”… Но “как” собрались?
Жутко собрались… Не так, как собирается цивилизованная лошадь под мундштуком — орудием культуры… А так, как тот степной конь, той страшной ночью, когда перевалил дикий горный хребет человек “Страшной мести”…
Вы помните Гоголя?
Вдруг “собрался” конь… повернул голову к всаднику… посмотрел ему в глаза… и засмеялся…
Вот этой оскаленной дико-конской улыбкой смеются теперь некоторые русские…
О, у этих лица — “собранные”!..
* * *
И только иногда в глаза бросится благородное лицо, на котором мучения походов и эвакуаций провели не борозды отталкивающей злобы, а выгравировали красивый рисунок воли…
Это лица истинных патрициев… И хотя бы они были сейчас последними, они будут первыми…
* * *
Бросим эти высокие и тяжелые материи… Пойдем по Grand’rue de Рera и будем читать вывески… Нет, не пугайтесь: только русские…
Начнем от “Тоннеля”… Тоннель — это Альфа… Сюда окончательно офокстротившаяся Галата (она там внизу) ежеминутно при помощи подъемного трамвая выбрасывает сотни людей, спешащих в Пера… Прежде чем идти дальше, купите газету у этих молоденьких женщин — это русские… Какую газету? Она сама вам даст…
— Вам “Общее Дело”?..
— Да… но как вы знаете?..
— О, это видно!.. По лицу!..
Ну, вот видите… Она прекрасно знает, что мы читаем только Бурцева, а милюковские “Последние Новости” в руки не берем, что, между прочим, напрасно, ибо надо знать, какую очередную гадость про Врангеля и Армию он написал.
Так и есть! Ну, ладно — сочтемся когда-нибудь…. Вы любопытствуете, какие вообще русские газеты существуют… Вы будете наказаны, потому что я сейчас заставлю вас прочесть одну справку, которую прислал мне один писатель, известный писатель, который был, ну, я не знаю чем, ну, словом, — “социалистом”, а теперь стал монархистом и… Впрочем, вы сами увидите — читайте…
“Вот что и кем издается теперь в важнейших центрах Европы, представляя замученную, окровавленную Россию.
В Праге “Воля России” — Минор и Ко.
В Праге “Правда” — Гиклстон и Ко.
В Берлине “Голос России” — Шклявер.
В Берлине “Время” — Брейтман.
В Берлине “Руль” — Гессен и Ко.
В Берлине “Известия” — Конн.
В Берлине “Родина” — Бухгейм.
В Берлине “Отклики” — Звездич (еврей).
В Риме “Трудовая Россия” — Штейбер.
В Париже “Последние Новости” — Гольдштейн.
В Париже “Свободные Мысли” — Василевский (еврей).
В Париже “Еврейская Трибуна”.
Вот представители русской национальной идеи заграницей: Шклявер, Брейтман, Гольдштейн, Бухгейм, ни одного чисто русского имени. А если оно кое-где в составе редакции и встречается, как, например, в “Руле”, то кадет П. И. Новгородцев стыдливо прячется где-то, а у руля русского корабля садится все-таки еврей — Гессен. Томящаяся вдали от Родины русская эмиграция — это по преимуществу национальная и государственная часть русского культурного общества, а обслуживают ее преимущественно евреи и социалисты. Евреи и социалисты имеют преимущественное право быть представителями погубленной интернационалом России…
Неужели же это недостаточно красноречиво, русские люди?”
Вы хотите знать, что я об этом думаю… Вот что… Всему “приходит час определенный”… Мне кажется, он, этот прозревший писатель, опаздывает на много лет. В 1905 году все политическое еврейство было едино в своей ненависти к исторической России. Тогда мы с ним боролись безраздельно, огульно, ибо они сомкнули свой фронт. Но уже во время мировой войны положение изменилось, и надо было себе сказать: “есть еврей и еврей”… Теперь же, когда большевики выучили многих, надо в особенности остерегаться обобщений… Иная слава Троцкому, иная слава Винаверу, иная слава Пасманнику… Да… Я куплю вам “на последнюю пятерку” первые фиалки у этой хорошенькой девочки… Она — русская, т.е. я хотел сказать… она русская еврейка… Чего она здесь? Вы думаете, она любит большевиков? Она ненавидит их больше, чем мы с вами, потому что она страстнее вас по природе своей… Но все равно… пойдем дальше…
Хотите русскую прессу? Ну, вот вам…
Видите — шикарная витрина, где портрет генерала Врангеля и великолепная карта (по старо-осважной привычке)… Раньше на этих картах отмечали фронт. Теперь отмечать нечего. Впрочем, вы можете изучать современную карту Европы, все новые государства, образовавшиеся на развалинах Австрии и России… Тише. Я скажу стихотворение в прозе…
“Вы жертвою пали в борьбе роковой… Двуглавые Орлы!.. наследие Византии! Вы разорвали друг друга в клочья, а мы… мы перышки орлиных крыльев, занесенные бурей… Мы окровавленный пух… Мы — последний привет городу Праматери. А ты, наследие Рима! Одноглавый Орел! Ты еще держишься, еще жив, но тебе обрезали крылья… А над миром властвует конкубинат Льва и Женщины… Льва и женщины, укрытых полосатым покрывалом… Полосатым покрывалом с Тридцатью Девятью Звездами… И это так, и это не иначе. Но никто не знает, что скажет великое, всесильное, торжествующее “Завтра”…”
Словом, мы стоим перед витриной Bureau de la Presse Russe. Во главе бюро стоит Н. Н. Чебышев — memento “Великая Россия” в Севастополе… Вы можете прочесть “бюллетень”, а кроме того, сообщается вам, что будут скоро издаваться “Зарницы”, еженедельник…
“Не бойся ночи. Огни, мелькающие с неба, то здесь, то там, — отражения отлетевшей от земли ничем неистребимой духовной мощи, зовущей тебя в темноте, к далеким, великим целям… Это зарницы… Это может быть заря”…
Это из первой статьи первого номера… Читайте нас, пожалуйста, не браните очень, потому что… Потому что, видите ли, раньше мы звенели миру “под лиру”, а теперь будем бренчать “за лиру”, а это разница… Я хочу сказать, что гонорары “Зарниц” пока единственный источник существования, который намечается… Если хотите почистить обувь, то вот чистильщик…
— Combien?
— Пять пиастров будет стоить…
— Вы русский?
— А как же… тут на этом углу все чистильщики — русские.
— Как же вам приходится?
— Да тут вроде, как не поймешь… всего бывает… А скоро в Рассею?
Ну вот, теперь вы знаете, о чем думают русские чистильщики сапог. Если вы хотите знать, что русские читают, кроме газет, то вот русская библиотека. Там вам скажут, что Андреева и Горького не читают, а вообще больше всего читают классиков, а из классиков больше всего Достоевского. Если же вы хотите есть, то вот направо русский ресторан “Яр”… Видите, плакат: “Уютно. Весело. Зал отапливается. Обед из двух блюд — 60 пиастров”… Нет, знаете, мы лучше когда-нибудь придем сюда вечером: здесь цыгане — Суворина, Нюра Масальская…
— Как, вы любите цыган?
— Господи, ведь нет ничего более русского, чем цыгане… Вы знаете, что такое “евразийство”?.. Евразийство — это помесь Европы и Азии — это мы… Европа создала шантан, Азия создала — гарем, а мы создали — цыган… И если вы не знаете, какая разница между цыганкой и шансонеткой, то вы никогда не поймете Достоевского… А я вам говорю, что если я когда-нибудь прийду в отчаяние и захочу плакать по России великим плачем, неутешным, неутолимым и последним, то не надо мне ни Бородина, ни Корсакова, ни даже Глинки и Даргомыжского, а вот — цыганок…
“Спойте мне, спойте песню родимую…
Песню последнюю, песню любимую…”
С ней и уйду…
* * *
Осторожнее. Здесь могут раздавить — слишком узко. Напротив Русское консульство. Если мы зайдем туда — все равно не выйдем. У вас и у меня будет столько знакомых, что нет спасения. И все будут спрашивать одно и то же: скоро падут большевики? Тоже не имеет смысла сниматься у этих уличных фотографов. Мы ведь пока не хлопочем виз…
Вы хотите купить эту гигантскую открытку. На что вам какая-то ангорская кошка? Только русские могут покупать такие вещи!.. У нее печальные глаза? А, Господи… Мало вам еще печальных глаз…
Опять же в эту уличку налево заходить не надо: бар на баре — ну, словом, — это для американских матросов…
Давайте лучше — взгляд направо: улица вниз, очень крутая и узкая, — от стены к стене переброшен плакат: “Русская Морская Аптека” и “Русский Кооператив”. Кооператив, действительно, здесь (это улица Кумбараджи), а Морская Аптека… Морская Аптека составляет часть поликлиники, которая не здесь, которая приютилась в самом котле Галаты, где среди совершенно одуревших от фокс-тротта кабаков вы найдете Андреевское Подворье… Там и поликлиника. Там много русских врачей, и хороших врачей. Здесь — ценят наших врачей…
Тут на углу Кумбараджи и Пера неизменно стоят два русских офицера — один постарше (наверное полковник) кричит:
— Presse du Soir!.. Сегодня фельетон Аверченко!
А другой, помоложе, наверное поручик, продает цветы…
* * *
Ну, — дальше по Пера… Направо еще русская библиотека и еще ресторан “Медведь”, ничем не напоминающий своего петербургского тезку. Против “Медведя” еще ресторан — “Кремль”. У “Кремля”, на тротуаре, продают русские книжки — всякие, поддержанные, — все, что хотите, и масса новых изданий старых авторов. Подождите, я вот только куплю вот эту маленькую книжку и прочту вам несколько строчек:
“Ах ты, гой еси, Киев, родимый наш град,
Что лежишь на пути ко Царь-Граду.
Зачинали мы песню на старый лад,
Так уж кончим по старому ладу…
Ах ты, гой еси, Киев, родимый наш град,
Во тебе ли Поток пробудится не раз,
Али почвы уже новые ради
Пробудиться ему во Царь-Граде?”…
Конечно, во Царь-Граде!.. И именно теперь… Кто знает, может быть, он уже и проснулся и ходит вместе с нами… Вот насмотрится…
* * *
Пойдем дальше…
Это вход в Русское посольство. Поэтому здесь протолпиться нельзя. Гуща из входящих и выходящих и мешающих выходить заполнила тротуар. Полиция делает попытки:
— Passez, messieurs!.. Circulez, messieurs!.[1]
Но русские — всегда русские. Им и здесь непременно надо устроиться так, чтобы мешать уличному движению. Впрочем, что сейчас с нас требовать…
Войдем…
Человеческая гуща. Каша, в которой преобладает грязно-рыже-зеленый цвет русского англохаки… Солнце светит и греет сегодня. Слава Богу. Этой иззябшей и полуголодной толпе нужно тепло.
Кого тут только нет, в этом дворе!.. Осколки Петрограда, Москвы, Киева, Одессы, Ростова, Екатеринодара и Севастополя…
Здесь клуб на свежем воздухе… Здесь можно встретить кого надо… И все те же лица, которые давно уже мелькают на экране русской жизни…
Все те же… Combinaisons, permutations, arrangements…[2] Все те же, что еще с незапамятных времен так или иначе крутили русскую политическую алгебру. Вокруг них толпа более или менее политически “безымянная”. Но сколько дорогих “имен” для каждого в действительности. Как много и как мало… Скольких нет…
Посольский двор силится сохранить свои традиции элегантности… Но новая жизнь, стиль — rеfugies russes[3] или “мир голодных буржуев” — ломает старые рамки. И какой-нибудь из истинных представителей старо-дипломатического сословия, моноклизированный и гантированный в стиле “Georges”, мог бы с известным правом прокартавить:
— Послушайте… не делайте, enfin, как это сказать? “дом Отца моего домом торговли”!..
Торговля идет во всю… Можно сказать, что от четырех сословий российской Империи, соответствовавших четырем кастам древнего востока, осталось одно: торговое. Торгуют здесь все и всем. И даже чаю можно выпить… Самовары стоят по обе стороны ворот, как львы сторожевые. Самовары, в Ambassde de Russie! O, mon Боже!..
* * *
Дальше…
Дальше еще русский ресторан… “Золотой Петушок”, “Гнездо Перелетных Птиц”, “Большой Московский Кружок”, “Русский Уголок”, “Киевский Кружок” и еще там — всякое… Весело от русских вывесок! А вот на этом доме, ночью, на стене, бывают световые эффекты в русском вкусе.
“Водочный завод бывшего поставщика Высочайшего Двора Петра Смирнова с сыновьями”. Требуйте везде столовое вино № 2 и Смирновку № 40…” И т.д.
И требуют… Пьют водку в Константинополе жестоко…
“Родное нам вино
Петра Смирнова…
Когда ты пьешь его,
Захочешь снова…
Всегда свободно и легко
Я водку пью, а не Клико…”
Это переделка французского солдатского вальса (un petit verre de Clicot[4] ), я вспоминаю эту тошнительность, когда русские “тоску по водке” почти отождествляют с “тоской по России”…
* * *
Осторожно. Здесь так называемый — “сумасшедший угол”… Тут если вас не разъедет автомобиль, не раздавит трамвай, то просто затолкают… На самом углу цветочный магазин… Нет, он не русский… Но какая прелесть…
Пустяки, что нет ни пиастра в кармане… Разве нужно непременно взять в руки эти цветы? Да и если бы и были деньги, ну, сколько бы я их взял?.. Ну, в крайности, букет, который сейчас бы и отдал кому-нибудь… А все эти неистовства красок, форм и аромата ведь не возьмешь же себе в квартиру. Да и нужно ли это? Только голова бы болела. Вся эта красота и так — моя. Никто не может отнять у меня права всякий раз, когда я захочу, прийти сюда — “столбить” около этой витрины… И тогда они — мои… Мои в тысячу раз больше, чем той добродетельной бездарности или шикарной кокотки, к которой их понесут. Разве они могут их понять?..
Как глупы завистники! Как они не понимают, что через зеркальные витрины можно пользоваться предметами роскоши, “назначенными для богатых”, гораздо более, чем пользуются ими сами богатые… Все зависит от “силы ощущения”… Я иду по Пера и чувствую: все, что здесь доступно оку — цветы, картины, драгоценности, — мое… Я ими “любуюсь!” Но что же больше можно делать со всеми этими objets d’art?[5] А ведь “произведения искусства” и составляют сущность современной “роскоши”…
Ах, те, кто не жил в Совдепии, этого не поймут… Они не поймут, какое лишение, какая грусть, какая тоска, когда исчезает эта “уличная роскошь”. Когда умирают эти сверкающие витрины, сквозь которые “песнь торжествующей красоты” звучала ежедневно всем и каждому — до последнего бедняка. Только, когда их нет, начинаешь понимать, что их отняли, не только у тех, чью собственность они по закону составляли, а их отняли у всех — у каждого прохожего, что ими любовался.
Работайте же “делатели красоты”, работайте, чтобы она была, — красота, чтобы она не исчезала… Заливайте витрины этого и всех городов мира “роскошью”, чтобы мы, бедняки, могли жить среди нее. А кому она пойдет — “в квартиры” — это не важно… Если находятся самоотверженные люди, которые расходуются на то, чем мы любуемся даром, — это их дело — смешняков… Скажем им спасибо — они платят за нас!
* * *
Пойдем дальше… За “сумасшедшим углом” русский продает акварели… Как много оказалось среди русских хорошо рисующих… Но почти все с выкрутасами — “ищут новых путей”… Здесь им пришлось подсократиться… Рисуй, чтобы было понятно, — во-первых, а кроме того “попикантнее”. Напротив русская барышня продает какая-то диковинные брошки, ручная работа шелком, иногда просто художественная… Рядом, разложивши книги на подоконниках, — офицер торгует русско-эмигрантской литературой. Дальше шикарный русский ресторан “Паризиана”. Здесь любят бывать иностранцы. Здесь… впрочем, помолчим… Напротив — наискосок, еще русский ресторан, “Америка”. И еще один русский рест…
— Нет, довольно, — я не могу больше! Я хочу есть, наконец!
— Но это — дорогой…
— Все равно! Надо же в самом деле все узнать!.. Вот Поток-Богатырь — он, наверное бы, знал…
— Ну, была не была, — зайдем!
* * *
Маленькие столики… белоснежные скатерти… цветы. Хорошенькие барышни с белыми повязками. В черных шелковых платьях. Красиво, “тонно”, дисциплинированно…
Да, барышня очень мила и входит в наше положение… Она деликатно предлагает нам то, что мы можем выдержать. Цены убивающие…
Вам нравится? Да, иностранцам тоже… Вы говорите: приятно, что так прилично. Да… да… Я скажу только один секрет… Если иностранцы начинают меньше посещать ресторан, кое-кому из этих барышень отказывают от службы. Да. Да… Конечно, самые хорошенькие русские женщины — в ресторанах. И самые здоровые… слабые — умерли…
Ну, вот — ваше здоровье! Смотрите в окошко. Видите там, на этой стороне, оригинальная фигура. Женщина средних лет в тяжелой обуви с палкой, а на груди вывеска. Да, — объявление… Эта дама — ходячая контора по найму квартир. Это на ней и написано. Если вам нужно квартиру, она сейчас же вас сведет… И берет 30 пиастров “за указание” и 10%, “если наймете…” Эта дама — русская… Это княгиня N. Ее муж — князь N, генерал русской службы… ничего — она бодра… и даже весела… твердый характер…
Вы спрашиваете, не подает ли нам какая-нибудь графиня X? Может быть, но вряд ли… Русские аристократки редко бывают “хорошенькими”. Изящными, утонченными, distinguйs[6] сколько угодно — но “хорошенькими” — увы! Это, между прочим, одна из причин, почему погибла Россия… Не смейтесь — в понятие “хорошенькости” входит здоровье и свежесть. Если этого нет, болен и дух. Так и случилось. Больная, а потому “не хорошенькая” русская аристократия была слишком слаба, чтобы удержать власть. Вот посмотрите — на этой стене картина Маковского. Там изображены русские красавицы XVI или XVII века… И до сих пор, когда мы говорим о “русском типе”, мы представляем себе вот этих чудо-здоровых девушек. Кто они по социальному своему положению?.. Это аристократия — это “боярышни”… Их отцы и братья, которые, как и они, — “кровь с молоком”, сколотили Царскую Россию… Их сыновья и внуки сколотили Императорскую. А затем произошел крах… О, задолго до революции, не только второй, но и первой!.. Революции были следствием этого краха… Революции произошли оттого, что “чудо-здоровых” боярышень Маковского не стало… Их заменили чахлые, выродившиеся женщины, в которых не осталось и тени Маковского… Вы говорите, что так и должно было быть: это следствие цивилизации! Нет, так не должно быть. Здоровая цивилизация не разрушает сделанного прежними веками. Она совершенствует… Арабская лошадь была прекрасна. Но англичане, окультурив ее на европейский лад, сделали из нее скакуна — превзошедшего властителя Сахары. Если бы боярышень Маковского утончить и “онервозить”, но сохранить им здоровыми сердце, легкие, желудок и зубы, то получился бы новый тип — но тип красоты, а не вырождения… Если хотите, такой тип даже есть. Вот на другой стене вы увидите “жеманности Соломко”, которые и представляют собою “опариженную” Московщину… Вы можете находить “конфетным” этот тип, но скажите, видели ли вы когда-нибудь “красавец” в Москве или Петрограде? Я что-то не замечал… Их скорее можно встретить в мещанских предместьях провинциальных городов. В столицах же вы увидите только больных, угасающих… Но если красота переселилась в мещанство, как вы хотите, чтобы не было социальной перестановки?.. Во главе наций должны стоять лучшие..Больные не могут быть лучшими.. . Если класс властителей заболевает, то… vae victis!..[7]
— Значит, революция была неизбежна?
— Ее можно было бы избежать, если бы правящий класс смог усилить свои ряды… То есть путем эволюции. Это не удалось. Очень нужно подумать: отчего не удалось? Если не удалось, несмотря на то, что обновляющие элементы были в стране, то воскрешение вопрос времени… Новые здоровые роды, перемешавшись со старыми, образуют известный melange, который даст новую аристократию. Если же не удалось потому, что “обновляющие элементы” были еще менее стойки, чем старые, еще скорее разрушались под дыханием цивилизации, то дело хуже. Это будет обозначать, что русская раса не выдерживает прикосновения культуры, не ею созданной…
— Как же быть?..
— Если это так, то произойдет, вероятно, сильное нагнетание в русскую расу западной крови, более стойкой к цивилизации… Вероятно, немцы…
— Боже мой, какие страшные вещи вы говорите!..
— Очень… А не страшно разве, когда цивилизация так действует на людей, что внушает им одно желание уничтожить эту цивилизацию?! Сто лет русский культурный класс боролся за то, чтобы уничтожить культуру…
— Как?! Он боролся, наоборот, за то, чтобы скорее пришла эта западная культура.
— На словах! Западничество, в том числе и социализм, было только выражением “ненависти русских к своей власти”, к той власти, которая единственно насаждала в России культуру. Бороться с этой властью — это значило “работать на дикость”. Но если “культурные” русские так ненавидели свою просвещенную власть, значит, им было плохо оттого, что их из дикарей сделали полу-европейцами… И это правда, что им было плохо. Доказательство налицо. Крайнее вырожденчество русской интеллигенции… А если это так, то значит надо как-то усилить нервную силу русских , чтобы цивилизация не сжигала их, как сожгла дикарей Северной Америки…
— Как же это сделать?
— Если не примесью иных кровей, более иммунизированных к болезням цивилизации, то другими мерами… Я думаю, что Россию могло бы спасти стремление женщины к красоте…
— ?!
— Да, если бы только они поняли, в чем красота… Если бы они эллинизировались…
— То есть…
— Красота с эллинской точки зрения — есть высшее достижение здоровья. Эта красота давалась настойчивым трудом поколений для Олимпийских игр… Много поколений, состязавшихся на физическое совершенство, дали совершенную красоту. Мало того, они дали радостную душу, любившую мир и людей, светлое миросозерцание, подготовившее к истинному христианству… Истинное христианство после долгих извращений должно восторжествовать… Истинное христианство — в стремлении к совершенству. “Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен есть”. Человек, который создан из тела и духа, не может быть совершенен, надругавшись над своим телом… Через совершенство тела приходит совершенство души. Передовые нации это поняли… Впрочем, довольно об этом…
Может быть, вообще довольно — здесь?.. Пойдем дальше!..
* * *
Вот rue de Brousse. Здесь русская портниха — очень дорогая — такая дорогая, что русским нельзя шить, лучший хирург в Константинополе проф. Алексинский и Русский Маяк.
О, Русский Маяк — это нечто!.. Маяк что-то вроде клуба… Там четыре залы — буфет, концертная зала, гостиная, где валяются в креслах, библиотека… Все это делается на американские деньги с легкой “прожидью”, как говорят наши “искатели масонов”. Эти же последние утверждают, что Маяк — масонское учреждение… Это не мешает этому учреждению приглашать в качестве постоянного лектора моего друга Валерия, который на масона что-то не похож… Надо ли прибавлять, что в Константинополе (да и в одном ли только Константинополе) все ныне ищут масонов… Впрочем, появилась теория о том, что существуют “правые масоны”… Правые масоны находятся в контакте с иезуитами… Иезуиты, действительно, кое-что делают для русских и “совращают”… Пока совратили только князя Волконского, да ведь у них это в роду… Но вообще тяготение к мистике у русского беженства такое, что его можно сравнить только с тяготением к Петру Смирнову…
Тут, кстати, благо он рядом на Кулу-Глу, учреждение другого рода… “Русский Лицей”. Во главе стоит Н.В. Стороженко, быв. директор знаменитой Киевской Александровской Императорской гимназии…
Сколько в 1917 году это слово “Императорская” вызывало бурь!.. Мальчики не сдавали это слово… И не сдали и не сдадут… И некоторые из них доживут… Пусть тогда вспомнят тех своих товарищей, кто… не дожил…
* * *
Секиз Агач. Здесь единственная мечеть на Пера… А там, за ней, в уличке русская почта… Впрочем, больше похоже на толкучку… Тут от русских не пройти, не проехать… Цвет? Грязно-хаки… Стиль? Телеграмма: “six joux baisent glos chat” — прочтите по-русски…
Дальше по левой стороне знаменитый “Pele-Mele”. О нем нечего распространяться. Достаточно прочесть афишу.
“Pele-Mele” — театр-ресторан. IV цикл. Беспрерывное веселье. Новая программа. Все оригинально. Кабаре неожиданностей. Уголок Востока. Бар Америкэн. Исключительный успех “Три аршина морали” (цензурованная нагота) Юрий Морфесси. Цыганские и русские песни — Анна Степовая. Песенки мистера Алли: Юлия Герман. Итальянский ансамбль и т.д. Два оркестра. Конферансье мистер Алли. Съезд к 5 часам вечера. Оркестр Жана Гулеско. Цены умеренные. Вход бесплатный”.
* * *
Ну, довольно, вот мы дошли до конца. Это — Омега. Вот площадь Taxim, где митинг автомобилей. Немало здесь служит русских офицеров шоферами… А вот там на пригорке, на площади, это тоже русское нечто.. Так себе — кафе… для шоферов больше… Но держит его бывший русский губернатор…
* * *
Итак, мы прошли эту большую артерию Константинополя, эту знаменитую Пера, хребтом лежащую между пьяно-фокстротной Галатой и Тихим Стамбулом. Пера, где сосредоточивается европейская культура в Константинополе… Мы старались рассмотреть, какой налет образовали здесь русские снежинки…
Увы… Мы видели, конечно, и газету, и книгу, и школы, и искусство, и тяжелый труд всякого рода…
Но главное острое впечатление: русские в Константинополе оказались главным образом “кабаретных дел мастера”.
Вспоминается, как Пуришкевич когда-то сказал о румынах: “это не нация — а профессия”…
Как бы о нас не сказали того же…
“Пели-Мели, Пели-Мели, Пели-Мели — без конца…
Из-за массы ресторанов не видать “ее” лица…”
Лица русской эмиграции… Ах, не будем строги! — хлеб наш насущный даждь нам днесь…
Что говорят звезды . . .
В начале 1921 года немецкий генерал Гофман тоже отвечал на вопрос “что делать” и приблизительно так:
— Надо составить коалицию из всех держав, выставить полторамиллионную армию и раздавить большевиков.
* * *
“Чем ночь темней — тем звезды ярче”….
Я давно переселился из Посольства. Я живу в комнате, откуда виден Босфор. По вечерам над ним зажигаются звезды…
Чтобы не попасть в болото, я иногда читаю книгу звезд… Ибо звезды имеют одно несравнимое преимущество, которое однажды отметил П. А. Столыпин: это звезды, а не болотные огни…
* * *
Я читаю в книге звезд следующее:
Есть люди удивительно честные и порядочные… в личных отношениях. Аккуратные, пунктуально добросовестные, безусловно презирающие мошенников всех национальностей. Нетрудно узнать этих людей, этот народ: это — немцы.
Есть страна удивительно… “неразборчивая в средствах”. Однажды ее повелитель назвал подписанный им договор “клочком бумаги”. Его генералы и дипломаты, безупречно порядочные, как люди, совершали невозможные дела в качестве патриотов. Чудовищные обманы, неслыханные жестокости, тайные убийства были их средствами…
— “Украина”! Никакой Украины нет и никогда не было… Украину создал я!!!
Так вдруг объяснил изумленному миру… генерал Гофман.
Изобрести страну! Целый народ! Однако весь мир поверил этому чудовищному обману. Меж тем генерал Гофман, пустивший эту гигантскую ложь, наверное, честнейший человек и офицер.
“Русский народ” убивает Верховного Главнокомандующего генерала Духонина. Вспышка народного гнева? Ничего подобного… “Русский народ”, убивший Духонина, оказывается переодетым немецким офицером…
“Большевики”. “Коммунисты”… Какой вздор! Есть только наши агенты — провокаторы и шпионы…Это мошенники, которых бы следовало перевешать!!!
Так говоряттеперь… немецкие генералы и дипломаты…
Но именно при помощи таких “мошенников” действовали эти лично безупречные люди. Нет таких поступков, которые бы они не совершали “ради Родины”.
И вот тут-то я и хотел бы поставить свой первый “звездный” вопрос.
Правильно ли это? И не произошло ли это мировое несчастье, от которого неизвестно кто пострадал больше — победители или побежденные, именно потому, что в международных вопросах забыты основные принципы морали.
Этот вопрос хотя и “звездный”, но мне кажется практический…
Что собственно надо сделать, чтобы мир мог спокойно существовать? Надо найти выход для Германии. Такой выход, при котором ей не было бы надобности изобретать всякие вельзевуловского типа махинации.
Но для того, чтобы найти такой выход, надо, чтобы Германии, как таковой, можно было верить. Верить настолько же, насколько можно верить отдельному немцу в его частных делах.
Разве мы знали в свое время о хитроумных изобретениях Гофмана и Людендорфа? Ничего не знали. А ведь они готовились на наше горе.
Разве кто-нибудь может поручиться, что и теперь, в то время, как Гофман и Людендорф проповедуют Белый Поход на восток, какие-нибудь немецкие генералы не готовят Красное Нашествие на запад?
Этоотсутствие доверия к Германии есть страшная мировая беда .
* * *
Есть Нечто, что выше Германии, что выше России, что выше родины…
И это Нечто?..
Это Нечто самая простая вещь — честность…
Пока Германия не даст достаточных доказательств, что подписанный ею договор — не “клочок бумаги”, до тех пор мира не будет в Европе.
До тех пор Франция будет насиловать Германию, а Германия одна могла бы раздавить боа-констриктора, пущенного ею в Кремль.
Но, чтобы раздавить большевистского гада, надо, прежде всего, чтобы Германия сама перестала быть… змеей…
* * *
Впрочем, это — мое мнение, которое я изложил в “Зарницах”… Оно весьма мало сходится с мнением некоторых моих соотечественников.
Удивительно, как в самое короткое время “союзники” сумели восстановить против себя русских.
Нас действительно очень много оскорбляют. Нехорошо только, что свои личные “беженские обиды” мы переносим в вопросы большой политики. Ведь Столыпин предупреждал нас, что нельзя идти за болотными огоньками, а нужно идти по звездам…
Ближе к земле
Он сидел у меня и писал… Я уже не жил в посольстве. Я жил у своего друга и бывшего секретаря, Б. В. Д., который в свою очередь жил у своих друзей и т.д.
Квартира эта была “роскошная”. Какая-то француженка, уезжая, сдала ее русской семье Т-аль. Русские “сдавали комнаты”… Кому? Кто мог платить сто лир за комнату? Все это были красивые женщины всех национальностей. Служившие в разных “театрах”. Самые удобные квартиранты. Они приходят очень поздно и встают поздно, и было их не слышно. Но иногда они проскальзывали через столовую, выставочно-красивые…
— Bonjour, messieurs… dames…
Приличный, степенный поклон…
Я в таких случаях думал о том, как трагично-глупо поступает человечество: самые красивые экземпляры животных отбираются “на племя”, т.е. для продолжения рода, а самые красивые экземпляры людей идут “на убой”, то есть отдаются на “немедленное съедение” в кафе-шантанах… Ленин — несчастный “меньшевик”… Если уже насиловать человеческую волю, то до конца… надо бы делать вот как. Декрет: “ни одна красивая женщина не может поступить в кабак, не давши государству ребенка от государством указанного отца”. Дала ребенка — продавайся кому хочешь… Сделал дело — гуляй смело. Но сколько женщин, родив ребенка, не пошли бы уже в кабак? Большевики, в сущности, “жалкие соглашатели”… Я реформировал бы мир куда рациональнее…
В этой квартире, где было тихо, как в монастыре, было хорошо работать. Я начал писать…
* * *
И в один прекрасный день он ворвался ко мне… в “роскошь”…
Боже мой — это был, конечно, он!.. Но в каком виде.
Лицо такое “налившееся”, что серо-голубые глаза казались совсем маленькими… К тому же они бегали во все стороны, точно у затравленного зверя. Вид шинели устрашал, обувь — нечто неопределимое, голова — точно в перьях, брит — в прошлом веке… Потискав меня в объятьях, он стал говорить, говорить бесконечно… И все тыкал куда-то пальцем, кого-то обвиняя… Все большей частью ругал какого-то “коменданта”… Эта ругань прерывалась взрывами радости, что он меня нашел, и огорчения, что жена осталась в Крыму, и расспросами о матери…
Я видел, что ему надо делать… Ему прежде всего надо было подлечиться, успокоиться… Когда через две недели он пришел в себя, он написал письмо матери…
* * *
Начало письма пропускаю…
“…Померили температуру — 40,9… Тут я помню не все вполне ясно, так как сознание временами покидало меня. Сначала распространился слух, что Перекоп прорван, затем на другой день, что положение восстановлено. Наконец, уже приказ генерала Врангеля об эвакуации…
Сколько дней, точно не помню, кажется два, шла лихорадочная погрузка. Из моей комнаты в квартире К., я видел только последнюю ночь огромное зарево: то горели разграбленные и загоревшиеся склады Американцев. Тишина в моей комнате была особенно жуткая. Наконец, пришли и за мной: меня погрузили.
Довели и положили на палубу; это был интендантский корабль, трюмы были забыты консервами, а каюты были только для команды. Я сквозь сон помню, что мы еще куда-то шли, где-то грузились. Наконец, отплыли… Я лежал на палубе. Был изрядный мороз. Очевидно, у меня кризис (воспаление легких) совершился за это время, потому что я все стал ясно сознавать на другой день посреди Черного моря. Жара не было, но — страшная слабость. Останавливались, подходили корабли и брали у нас консервы. Я хоть и сильно беспокоился за жену и ребенка, но все же думал, что они сели на другой корабль. Погода была великолепная, море — как зеркало.
На третий день, рано утром, мы подошли к Босфору… Возле нас засуетились французские контрольные катера и, совершив формальности, мы прошли красавец Босфор, мимо Золотого Рога и маяка на башне Леандра и стали в бухте Меда, наш корабль одним из последних. Тут начинаются мои злоключения…
Я сидел около месяца с небольшим на корабле. По ночам — страшный холод, на железной палубе, иногда дождь, сменяемый морозом. Днем тоже дрожишь. Но можно хоть найти где-нибудь более теплое место, а ночью спать хочется. Ночь — это прямой кошмар… Под самый конец, когда трюмы освободились, там можно было спать; там была вопиющая грязь, но немного теплей. Голодать не приходилось, потому что консервов было сколько угодно, но недоставало хлеба, а иногда воды, и эти консервы стали скоро ненавистными.
Ездили какие-то типы из В. З. С.[8] и производили перепись. Я еще некоторое время надеялся найти жену, но постепенно эта надежда угасла. Дни тянулись мучительно однообразно. Приходили постоянно моторные лодки, отыскивали разных лиц, мы узнавали новости, все безотрадного характера. Сидеть на этой проклятой палубе то под дождем, то на морозе, это хуже всякой тюрьмы, начинается особого рода мания: мания о крыше. Хоть где угодно, лишь бы не под открытым небом. Все мечтали, как о рае, о возможности попасть в Галлиполи. На земле все же лучше спать, чем на железной палубе, под свирепым ветром, все же на земле не так дует, как посреди моря. На земле можно, хоть руками, вырыть себе какую-нибудь нору. Чтобы понять эти мечты, нужно просидеть месяц на железной палубе под норд-остом. Тюрьма представляется счастьем, так как все же есть там крыша, и ветер не пронизывает до костей. Когда я еще теперь вспоминаю эту палубу, мне становится холодно.
А дни все шли за днями, уходили пароходы один за другим, а мы все стояли и стояли… Должен добавить, что публика на корабле была весьма неприятная. Хамство, воровство, начиная шинелями и кончая столовыми ложками, грубость к женщинам, женщины с маленькими детьми на палубе, а знаменитая караульная команда, не караулившая, а кравшая консервы! — Командир корабля был хороший офицер-лейтенант М. Были там два бронедивизиона… Хотя я поручик инженерных войск, но они держались враждебно… Были отдельно следующие между нами несколько кавалеристов, с которыми я совершал дальнейшие скитания. В один прекрасный день явился к нам французский офицер с солдатом и стал забирать консервы для передачи другим кораблям. Так как я был единственным человеком, владевшим французским языком, то пришлось быть переводчиком. Нужно отдать справедливость этому французу, он был со мною очень любезен, возил с собою на берег, где я мог съесть человеческий обед, а не консервы. Это, скажу прямо-таки, белая ворона среди французов, которые вообще были с нами грубы… Пришлось объездить с этим французом много русских кораблей. Но скоро забрали весь груз. Французы перестали приезжать. Стало еще скучнее…
Мое здоровье стало еще хуже, стали пухнуть ноги. Это, как выяснилось потом, началось воспаление почек. Наконец, пришел катер и забрал всех “строевых”, значит и меня (я не думал тогда, что скоро стану инвалидом).
Поехали на один корабль, но почему-то поздно ночью, там ночевали в трюме. На другую ночь поехали на “Саратов”. Здесь я встретил капитана О. нашей роты и подпоручика З. и поручика Т. моего выпуска училища. Тут кормили довольно порядочно, спать было не так плохо, но я совсем распух, еле мог ходить. Просил врача меня отправить в госпиталь. Не могут.
У меня было с собой еще немного денег и я решил бежать на берег. С подпоручиком З. на турецкой лодке, заплатав 3 лиры, мы бежали на берег. Тут я думал найти шт.-кап. Ч. нашей роты, адрес которого знал подпор. З. Искали, искали, не нашли. Но нашли одного простого русского человека, уже двадцать лет живущего в Турции и устроившего меня ночевать в баню. Это покажется странно, но в это время бани были гостиницами для русских, так как русские не имели права схода на берег, в гостиницах требовали паспорта, а в банях — нет. Там я пробыл три дня. Платил по лире в день…
Я все больше опухал, я уже не мог пройти больше, чем несколько шагов, чтобы не отдыхать. Подпоручик З. по моей просьбе отправил срочную телеграмму тебе с просьбой выслать денег.
Обеспокоенный состоянием своего здоровья, я позвал греческого врача, который определили у меня нефрит и прописал пить только одно молоко. Но запас денег быстро таял. Я решил сократить расходы за ночевку и перешел с подпор. З. в “Пантелеймоновское подворье”. Мы взобрались на второй этаж и нашли пустую кровать в коридоре и улеглись. Меня предупредили лежавшие в коридоре, что на ночь комендант здания всех выгоняет. Я спросил, кто комендант. Мне сказали, что чиновник. “А, шпак, — пусть попробует”, — говорю. К вечеру комендант попробовал. Я ему заявил, что я болен, никуда, кроме госпиталя, не уйду. Добавляю, что утром с великим трудом ездил в Русский Госпиталь Св. Николая в Харбио, где врач, осмотрев меня, нашел острый нефрит, но старший врач не принял меня, так как, по его словам, у него уже в три раза выше комплекта, а потому он советовал мне идти во французский госпиталь, но сил у меня не хватило добраться туда. Поэтому я решил оставаться на кровати. Молоко принесла мне жена этого русского, который меня устроил в баню. Он же мне дал свои галоши, так как мои ноги так распухли, что не могли влезть в огромные английские ботинки.
Комендант ушел, потом опять пришел увещевать, но тщетно. “Я принужден обратиться к иностранной полиции”, — сказал он и ушел. Через некоторое время, действительно, пришел с целой толпой французских полицейских, англичан, итальянцев, а с ними неизменные дети природы — улыбающиеся чернокожие. Но тут его постигло жестокое посрамление. Я объяснил французскому жандармскому офицеру, что я больной русский офицер и что я бы очень хотел попасть в госпиталь, но комендант, вместо того, чтобы отправить меня в госпиталь, ночью выгоняет на улицу. Француз возмутился: “Конечно, вы правы. Это его обязанность, как он смел вас выгонять. Передайте этому каналье, что если он когда-нибудь еще раз придет к нам, чтобы мы кого-нибудь выгоняли, то мы его упрячем… под арест”. И ушли…
Комендант повесил нос. Я торжествовал и спал на завоеванной постели.
На другой день комендант опять ко мне. Я ему: “Дурак, как с офицером разговариваешь? Руку под козырек, — морду тебе набью, каналье”… и взялся рукой за бутылку от молока, чтобы из последних сил набить мерзавца… Он удрал…
Тогда он увидел, что дело плохо, и через полчаса приходил ко мне сначала какой-то турок, живший внизу, посмотрел меня и говорит: “Неврит”. Затем пришел доктор Кофели из Андреевского подворья, осмотрел меня и попросил перейти к нему в подворье, соседний дом, пока за мной приедет дежурный французский санитарный автомобиль. Скоро прибыл автомобиль, и меня повезли в госпиталь. Ехали бесконечно: автомобиль часто портился. Приехали. Тут нас ожидал сюрприз — так называемый душ. Несколько капель из трубки холодной, холодной воды, нос не помоешь в такой воде. От одного такого душа заболеть можно. Тут мне пришлось вступить в резкое пререкание с французским санитаром за грубое обращение. Что за возмутительная манера говорить всем “ты” и толкаться. Я по-французски распек солдата, заявив, что я буду на него писать рапорт за грубость с офицером иностранной армии. Подействовало сразу, стал вежлив и все время при обращении “monsieur le lieutenant” и “vous”, а не “tu”.
После душа нас положили спать в длиннейшем коридоре на тюфяки с соломой. Холод адский, из дверей дуло, из окон тоже, со стен капало. Только на другой день, после полдня нас осмотрел врач, и я попал в залу “А” (палату). Тут было тепло, хорошие кровати. А главное — покой, мне больше ничего не надо было. Я почувствовал, точно я попал в рай…
Поправлялся я медленно. Врач француз, узнав мои злоключения, сколько я лежал на корабле, с воспалением легких, сказал: “Нужно быть русским, чтобы все это вынести”…
Когда я стал поправляться, меня стал беспокоить вопрос, что я буду делать. Сколько я ни писал, ни слуха, ни духа… Деньги мои мне приходилось тратить на подкармливание, так как французы кормили очень скудно, а для выздоравливающего особенно. Я спешил скорее выписаться, чтобы, пока есть деньги на дорогу, уехать в Сербию. По правилу, из французского госпиталя в Мальто-пе отправляли в русский пункт для выздоравливающих, находящийся возле французской морской базы. Там было, по рассказам, полно насекомых, и царил тиф. Я решил бежать.
Когда французский часовой отвернулся за будку, я перелез через низкое место в стене и скрылся в ближайший овраг вместе с моим компаньоном, пор. Р. Мы остановились первые два дня в гостинице и платили по 50 пиастров за кровать. Я пытался устроиться в общежитие в Бьюк-Дере, но после напрасных хождений пришлось отказаться от этой мысли. Мы, я и пор. Р., наняли за 3 лиры в месяц комнату в Касим-Паше, изрядной дыре. Комната эти помещалась над парикмахерской, и в нее подымались на приставной лестнице. Парикмахер, уходя на ночь, давал нам ключи до утра, мы оставались одни. Спали на полу, в этом чердаке было небольшое окно. Было тепло, потому что у парикмахера целый день горела мангалка, на которой он любезно разогревал нам чай.
Парикмахер сразу возымел к нам доверие, и мы пользовались его услугами. Мы начали искать службы. Напрасно — все занято. Деньги таяли. Пробовали, по совету нашего знакомого русского, торговать колбасой, но это оказалось весьма убыточным: приходилось в видах экономии огромные концы, верст по 10, ходить пешком, аппетит у выздоравливающего колоссальный, а колбаса так соблазнительно пахнет, нет сил удержаться от искушения, и как начнешь, так больше съешь, чем наторгуешь. Деньги стали приходить к концу, а все же требовалось 10 пиастров в день на квартиру и на самую голодную еду 25 пиастров, итого 35 пиастров. В это время третий, присоединившийся к нам, хорунжий, нашел бесплатный обед, вернее, милые люди, повар и кухарка, давали нам остатки того, что не было подано на стол в одном детском приюте. Давали много. Полведра борща, много мяса, хлеба, мы наедались, как удавы, и забирали остатки: в свою посуду, про запас, с собой и уходили. Добрые люди — прямо, это были мои спасители. Но задолго перед нахождением этого сокровища, когда мои деньги окончательно иссякли, я продал свое обручальное кольцо. Дали 5 лир.
Теперь бесплатный обед давал нам передышку. Через несколько дней я должен был получить мой паспорт, и мы решили, так как выяснилось, что никаких виз русским не дают, отправиться пешком в Болгарию — в Варну, где у Р. был знакомый русский помещик. Там думали переждать и, получивши известие из Сербии, двинуться в Сербию. Все, конечно, по способу пешего хождения, — контрабандой. Но утро вечера мудреней… В один прекрасный день я встречаю подпоручика нашей роты А., и он мне говорит: “А вы разве не читали в “Presse du Soir”, что разыскивают вас”. Я пошел с ним в редакцию и, получив номер, нашел дядю.
Дядя меня устроил в общежитие в Терапии, я получил от тебя деньги и полоса моих мытарств окончилась… Теперь я знаю, что делать!!.”
* * *
Мы возвращались (это было 9-го января 1921 года [9] ) в трамвае с могилы покойного В. А. Он похоронен на греческом кладбище: на могиле — простой деревянный крест с надписью: “Василий Александрович Степанов”. Сверху написано: “Ныне отпущаеши, Владыко, раба твоего с миром”…
Так как меня еще не “отпустили”, то приходится излагать проекты… в трамвае… Может быть, потому, что многими проектами я делился с ним… с В. А.
Вот проект: — он у меня записан в “тетрадке”. Кстати, это еще один ответ на вопрос: “Что делать?”…
Издревле были народы без территории. Таков был всегда гонимый еврейский народ, за грехи рассеянный Богом по всем странам мира. Теперь мы поменялись с евреями ролями. Мы — как евреи, т.е. скитаемся по всем Европам и Америкам, а евреи — в Московском Кремле… Правда, православие при этом несколько в загоне, но зато “самодержавие” в полном расцвете… Что же касается русской народности, то она раздвоилась…
Русских во всех “заграницах” имеется два миллиона. Это — целый народ.
Слабые стороны этой народности: это — народ сравнительно немногочисленный. Кроме того, он имеет, хотя и в притушенном виде (до лучших времен), все исконно русские капризы. Захочу — полюблю, захочу — разлюблю…
Сильные стороны этой национальности: процент безграмотных очень низкий, ибо бежали из Совдепии если не всегда культурные, то в подавляющем случае — грамотные. Словом, это все-таки сливки русского народа в смысле интеллигентности.
Отчего не может быть народ без территории, но с правительством? Скажут, это беспримерно.
Во-первых, это не верно. Когда Алларих или Атилла двигался со своей ордой на Европу, какая у него была территория? Ведь потому это и называлось “великим переселением”, что народы бросили свою территорию. Но тем не менее правительство они имели, и даже очень серьезное.
Но если этот пример не нравится, то можно обойтись и без примеров. Почему непременно нужны примеры? Вот Ленин ни к чему не примеривался, и ему удалось сколотить Великую Бессмыслицу только потому, что вследствие воспаления мозговых оболочек или по другой причине, он этого захотел так, как “десять тысяч теософов” и “сорок тысяч братьев” хотеть не могут.
Имейте веру в горчичное зерно — и гора сдвинется с места по слову вашему…
Здесь же даже этого не требуется. Тут совершенно достаточно, если Магомет пойдет к горе.
Необходимо для этого вот что. Во-первых, для этого русского народа, живущего за границей, — для краткости назовем его “эксфенестрированным русским народом” (известно, чтобы все поняли, надо употребить всем понятное слово) для этого русского народа № 2 (для обидчивых — № 1) — надо признать “необходимой и достаточной”… четыреххвостку.
Какой может быть “избирательный ценз” у беженцев? Имущественный? Так ведь все одинаково нищи. Образовательный? По счастью, за ничтожным исключением, все достаточно образованны. Остается выбросить женщин? Но это было бы глупо: они умнее нас.
Следовательно — четыреххвостка. При ее помощи выбрать во всех странах почетных людей, которые образуют почтенное собрание.
Название? Нельзя же называть их Государственной Думой. Но, может, называть их Русской Думой, Русским Советом, русским Сеймом, Русским Кругом, Русской Радой. Следует только избегать названия “Русское Вече”, ибо… Винавер не согласится…
Что должно сделать это учреждение? Вещь совершенно непозволительную. Оно должно повергнуть к стопам Лиги Наций проект об учреждении “народа без территории, но с правительством”, и требовать немедленного проведения этого проекта в жизнь во осуществление “прав малых народностей”.
Какое имеет право Лига Наций отказаться от рассмотрения этого вопроса? Неужели “самоопределение народностей” стало пустым звуком? Разве не доказала “наука”, что ни кровные, ни языковые, ни территориальные, ни религиозные признаки не исчерпывают существа понятия наций? Только личное ощущение человека, выразившееся в его заявлении, определяет принадлежность индивидуума к тому или другому народу…
Да. До сих пор существовал просто русский народ. На наших глазах из него выделились, с одной стороны, “украинцы”, а с другой — “красные” русские. Каким же образом можно помешать выделению из массы прежнего русского народа “трехцветных” русских? Les russe tricolors?
Это звучит даже совсем импозантно.
С одной стороны — Les Russe des Soviets, и с другой — Les Russe Tricolors.
Трехцветная Россия, правда, не имеет территории. Зато она имеет армию и даже флот. Кроме того, она имеет превосходный литературный язык и несомненную культуру.
Правда, она не имеет денег, но этого вопроса вообще не следовало бы касаться. Нельзя же говорить о веревке в доме повешенного. Как-нибудь обойдемся.
Если бы Лига Наций вняла голосу “самоопределившегося” и притом “малого”, а значит имеющего все “права” на великое внимание народа, то немедленно было бы создано правительство, которому юридически должны были быть подчинены все русские, выселившиеся из Совдепии, — хотя бы в наказание, так сказать: не бегайте, мол, подлые буржуи, из социалистического рая!
Для всех держав было бы гораздо удобнее. Что это, в самом деле, за какие-то “безотечественные” люди. Ни паспорта, ни подданства. Старой России нет, Советской не признают, в подданные других держав их не принимают: кто же они, наконец, такие? Масса неудобств.
А тут очень просто.
— Какой страны вы подданный?
— России…
— Какой России? Красной?
— Нет, трехцветной…
— Russie tricolore? Parfait… votre passeport?
— Voici…
— Tres bien… Passez, monsieur…
Все довольны. Державы довольны, мы довольны. У нас есть подданство, у нас есть консул, у нас есть даже флаг и печать. Ну, а если есть печать, то чего же больше желать. Мы будем “граждане”, хоть и маленькой державы, но все же не какие-то “подчеловеки”, хуже, чем парии, потому что парии — существует все-таки на твердом основании закона. А мы — подданные его величества Недоразумения.
Но этого мало, что все довольны. Есть кое-что и поважнее.
Допустим, что при помощи этого самого Национального Комитета или Русской Думы мы добываем себе человека, который некоторое время мудро, счастливо и благоденственно правит со министрами своим двухмиллионным народом.
Какое впечатление это будет производить “там”?.. в юдаизированном Кремле?
Пока там будут сидеть крепко Ленин и Троцкий, или кто-нибудь из сородичей их, кроме некоторой раздражительности, благоденственное житье русского народа № 2 других последствий вызывать не будет. Но если дело пойдет к развалу? А ведь это когда-нибудь неизбежно.
На кого прежде всего обратятся взгляды вырвавшейся от большевиков и не знающей, что с собой делать, России?
Ведь сказано — над малым поставил я его, и благо было. Поставлю его же над великим, и будет благо.
Человек, который управился с двухмиллионным народом, рассеянным по всем краям и странам земли, управится и с двухсотмиллионным, собранным вкупе.
И будут призваны варяги. Только не из Фиордов, а, допустим, из Парижа. И не шведы, а русские.
Ведь издали мы будем представляться более правильно, чем сами себя мы оцениваем. Ведь потому-то и были призваны варяги, что они были “подальше”, Издали виднее…
И для республиканцев и для монархистов все это одинаково соблазнительно.
Республиканцы призовут правителя “триколорной” России — в качестве президента. Монархисты-бонапартисты в качестве Наполеона.
А монархисты-легитимисты? Здесь и для них нет волчьей ямы. Ибо: 1) если эмигрантская русская стихия действительно монархична, 2) если среди старой династии не угас царственный дух и найдется не только “Великий Князь”, но и “Великий русский”, то в правители триколорной России будет избран кто-нибудь из лиц… “Императорской фамилии”…
И тогда посмотрим…
Глава вторая. Мансарда
«Die schone Tage fon T-hal»[10] быстро кончились. Мне пришлось уйти с той «роскошной» и гостеприимной квартиры.
И перемена была резкая, словно жизнь задалась целью, чтобы я изучил теорию контрастов.
У меня не было денег. Но, кроме того, были и другие причины, почему мне надо было именно там поселиться…
* * *
Если, пройдя Русское посольство (от Таксима к Тунеллю), взять влево, то это будет узенькая, ноголомная улица, которая круто спускается вниз. Это — улица Кумбараджи. Ее знают все русские, потому что с нее другой вход в посольство и именно тот вход, от которого все зависит, ибо здесь расположены все нужные для беженца учреждения. Эта улица особенно живописна, когда по ней подымается стадо баранов, грязно-белой движущейся гущей заполняющих ее от стенки до стенки. Впрочем, и ослы кричат здесь часто. Их грустный крик напоминает рожок автомобиля, которому «разбили сердце»… Но характернее всего для улицы Кумбараджи — это толпа русского беженства, вливающаяся и выливающаяся через открытые ворота посольства. Эта толпа здесь какая-то особенно несчастная, оборванная, грязная и бесприютная… Впрочем, во дворе, под стеночкой стоит стол…Там мрачный полковник и молоденькая женщина дают стакан чаю за пять пиастров с хлебом, а за десять — и «пончик»…
За этими воротами посольства — узкие, кривые, крутые переулки… Дома до самого неба, а ширина улицы равна длине двух ослов, ставших поперек… Здесь бегают, кажется, одни только кошки… Да вот мы, несчастные обитатели, бродим по апельсинным и лимонным коркам…
Это улица без названия, почему мы ее назвали улицей «Кошка-Дерэ», что, если не очень красиво, то по крайности звучит «локально»…
Дом, каких много в Константинополе. Вход темный и грязный… Но это пустяки… Опасность для жизни начинается на лестнице. Почти темно. Лестница — винтовая. Но вы чувствуете, что она деревянная до самого четвертого этажа… Еще бы не чувствовать… Она так скрипит и трясется, как будто бы вы последний человек, который решился по ней пройти. Инстинктивно вы ищете перил… Да, вот они… но… Лучше их не трогать… Лучше к стенке. Но нельзя сказать, чтобы удобно было и «по стенке»… Она так неистово кружится… Это, кажется, площадка?.. Да… Как, однако, — узко, и перила… чуть выше колен!.. Гм… Ну — дальше!.. Что за скрип, о Господи!.. Неужели она думает развалиться?.. Почему именно подо мной?.. Кажется, не хватает ступеньки?.. Ничего — прошли… первый, второй, третий… Господи, как трясется!.. Да, но это пустяки… сейчас конец… Вот!.. Светлеет… Это через стеклышко на крыше. Вот четвертый этап… Вот наша квартира. Спасены!
Эта квартира устроена, как всегда в Константинополе: прежде всего нечто вроде общей передней, в которую выходят… раз, две, три, четыре, пять — шесть дверей… Словно сцена для пьесы с переодеваниями… Грязь?.. Русско-восточная…
Здесь, кроме хозяйки, все — русские…
* * *
Конец февраля.
Утро… Холодно… Холодно, потому что всю ночь окно открыто. А окно открыто потому, что в этой крохотной мансарде нас четверо…
Они спят… Спит Вовка — на одной постели со мной… Гм… эта постель… Впрочем, лучше не углубляться… Кто это валяется на полу под шинелью? Ах, это Петр Михайлыч… А там?.. На каком-то сооружении, неподдающемся квалификации?.. Это Женька — брат Вовки… Он лежит, согнувшись вопросительным знаком, ибо вытянуть ноги не позволяет плита. Ну, конечно, — плита… Это же кухонька — эта комната. Почему же не лечь поперек? Поперек нельзя — узко… А топится плита, по крайней мере? Нет — никогда.
Но отчего такая грязь и гадость? Праздный вопрос! Видимо, так нужно… Меня раздражают эти иллюстрации, висящие против постели на непередаваемой стене. Изображена Триумфальная Арка в Париже… шествие победивших войск… Триумф, радость, блеск, цветы…
Впрочем, они ведь победили. А мы «изменили»… Значит, так нужно…
* * *
За лежащим Максимычем — дырка в стенке… Впрочем, это не дырка, а дверь без дверцы, заставленная шкафом. Там продолжение нашей колонии. «За шкафом» тоже все спят и долго будут спать. До часу дня… И когда проснутся, то спросят: «Что за шум в соседней комнате»?.. На что им ответят: «Это нашему бедному дяде Васе стукнуло сорок три года»… На что оттуда засмеются и снова скажут: «В огороде — бузина… а за шкафом — дядя»…
Это можно было поставить эпиграфом к нашей жизни.. Вот нелепая!..
* * *
Легкий стук в дверь… Я знаю, что ей нужно… Это хозяйка. Ей нужно воды… Дело в том, что для всей квартиры есть только один кран, и этот кран расположен у меня, около плиты…
Это естественно.
— Pardon, madеmoiselle… Je suis au lit…
— Ne vous derangеz pas, monsieur…[11]
Она осторожно пробирается между Максимычем и Женькой… Они спят… Туалет у нее соответственный… Не определишь, какой она национальности… По-видимому, она думает, что мы думаем, что она француженка… Но мы думаем, что она испанская еврейка…
Сколько ей лет… Молоденькая — не старше 25… Что она делает?..
Да вот… Это, пожалуй, интересно…Вот она встала, пока все русские спят, и в соответственном туалете будет возиться «по хозяйству»… Натаскает воды тяжелыми банками от консервов, протискивая их между Сциллой и Харибдой, т.е. между храпящими Женькой и Михайлычем, — туда, в общую переднюю, в большой бак… Затем будет чистить и главным образом мыть, мыть полы, т.е. бороться по мере сил с ужасающей стихией, именуемой грязью… Так она будет возиться целое утро, нечесаная, немытая, с голыми ногами, распатлав свои матово-черные крепированные волосы… Порой она будет выскакивать на лестницу и кричать вниз на каком-то собачьем языке, переругиваясь с другими женщинами в других этажах.
Но к часу дня будет резкая перемена декорации… И тогда на скрипучую лестницу выйдет существо в мехах, в шляпе, gantеe [12], и не без косметики…
— Et bien, je sors, messieurs, dames…[13]
Она пойдет в Union Francaise, где пообедает за сорок пиастров (обед из «пяти блюд») с полубутылкой вина. Затем…
Затем она пойдет на Grand’rue de Pera…
К ночи она будет возвращаться по могильно-черной лестнице, которая будет скрипеть вдвойне, ибо на этот раз она угрожает двум жизням…
В сущности она — n’аprofondissons pas…[14] Но она никогда не пьяна, она аккуратно встает рано, она усердно делает свой mеnage [15] и моет полы, пока русские спят, поет что-то непонятно металлическим голосом про amour и поплакивает над письмами, которые ей пишет изредка «mon fiancе»[16] , который женился… И главное, она совершенно не «зачепает» всех этих поручиков, молодых капитанов и полковников, которые у нее живут… Она знает, что у них денег нет, et alors pourquoi? A quoi bon?[17]. Проституция par amour ей не нужна… Она не развратна…
* * *
Быть может, поэтому «они» победили, а «мы» изменили… Вот они спят кругом, все русские, и не спит лишь в этой константинопольской мансарде — французско-испанско-иудейская demoiselle, которая работает, и «русский писатель» (еcrivain russe, как был ей рекомендован),
— «Лежать хочу, чтоб мыслить и страдать»… который «мыслит» лежа…
О чем же он «мыслит» и по какому случаю «страдает»?..
Тему для того и другого найти не трудно…
* * *
Я страдаю от следующей мысли: во всех этих спящих полковниках, капитанах, поручиках — плюс русские дамы и барышни и плюс «еcrivain russe»[18] — вместе взятых, не найдется за весь день столько добродетели (entendons nausее[19] — мещанской добродетели, из которой складывается la vie quotidienne[20] ), сколько сидит в этой «перистой» demoiselle… по утрам…
Конечно, в сущности, меня окружают героические натуры… И это вовсе не в ироническом смысле…
Во-первых, все они — эти русские, стеснившиеся в этой мансарде, — это люди, до конца исполнившие свой долг… Больше, чем долг.
Говорят, что в секретном договоре России с союзниками была оговорка: в случае революции Россия слагает с себя обязательства продолжать войну…
Такой оговорки, кажется, не было, но, во всяком случае, эти люди не сложили с себя «обязательства»… Они продолжали борьбу с Германией за общее дело, несмотря на то, что их собственная страна погибала. На этом пути их ждали испытания и страдания, которых нельзя пересказать. И все же они боролись до самой последней минуты, пока была хоть тень надежды. Поэтому это люди — высшей марки, отбор благородного упрямства. Это люди своего слова.
Но это — «вообще». А в частности?..
В частности — вот «Женька», который сделал бесчисленное число походов и еле-еле ушел из рук Буденного, ушел последним из последнего боя, — спит, скорчившись, у печки… Вот «Вовка», его брат, кроме всего прочего только что сделавший крайне рискованную экспедицию в Совдепию «за други своя», чудом спасся из рук чрезвычайки… И опять поедет… Спит беспробудно… Михайлыч, нищий, как турецкий святой, валяется на полу, потеряв все на свете, кроме веры в Бога и в Россию… Спит comme un bien heurеux.[21]
В соседней комнате «за шкафом» целый ассортимент… на полу «галлиполийский» полковник, приехавший на несколько дней подлить бодрости в «слюнявый» Константинополь, — перенес все, что можно перенести… рядом с ним — поручик «Коля», бедный мальчик, с обрубком ноги, перенесший больше, чем можно было перенести (ходил в атаку на костылях — не говоря о всем прочем)… и еще стремится еще что-то сделать… Вот юнкер — Volodе, мальчик 17 лет, уже четыре года воюет по «гражданским фронтам» — непрерывно… На диване — полковник, честно трудившийся при старом режиме, выброшенный из дела революцией, но твердо идущий стезею долга несмотря на то, что вся семья «там», в тяжелой, непрерывной опасности… На кровати, под пологом, две дамы… Одна — молоденькая женщина, муж которой в смертельной опасности работает и сейчас в потусторонней России… Да и сама она… «Расскажите, как вы голову разбили?»… «Очень просто. Везла конспиративное письмо в Москву. Большевики выбросили на ходу из вагона. Я немножко сумасшедшая и до сих пор. Но письмо доставила. Мало, что было!» Другая?.. Сделала Корниловский поход, пулеметчица, разведчица… Три тифа, воспаление легких… два плеврита… Молоденькая девушка… Спят обе… Эти будут спать дольше всех… До часу дня…
А остальные?.. Остальные будут вставать постепенно…
«Женька» будет варить чай, если есть чай и если раздобудется «примус». «Вовка» пойдет куда-нибудь пройтись… «по конспирации»… Или же будет помогать мне по «секретариату»… Михаил Ильич пойдет мистически танцевать. Это объяснится позже. Полковники «за шкафом», поручики, юнкера — ничего не будут делать… Будут ждать, пока проснутся дамы. За исключением одного, который сделает все хозяйство: помоет чашки, зажжет примус, даже вымоет пол… Затем проснутся дамы… На некоторое время попросят «очистить помещение»… А то и так: «прошу нечаянно не оборачиваться»… Затем пойдет обедать, кто может… Кто не может — не пойдет… Затем вернутся. Незаметно набежит вечер, тогда разведут спирт водой «в глубокомысленной пропорции», откупорят сардинки, пригласят из-за шкафа дядю Васю «со адъютантом», вытащат мандолину и гитару и будут петь и петь до самого утра…
«Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной…»
И всякое другое, такое же красивое и трогательное…
А потом будут спать… Спать без конца… И все они — герои, и все они теперь — бездельники, постепенно за годы войны, борьбы и походов привыкшие к жизни, распущенной и беспорядочной…
Теперь все живут так… И первый из них «аз»… И я веду эту жизнь, беспутную и нелепую…
«В огороде бузина, а за шкафом дядя».
— Что за шум в соседней комнате?
— Это нашему бедному дяде Васе стукнуло сорок три года…
Да, сорок три… Vingt cinq ans bien sonnеs…[22]
Лежу и думаю: а ведь в этой испано-еврейско-французской гитане «по утрам», несомненно, больше добродетели, той добродетели, которая строит буржуазные миры, чем во всей спящей, героической (несомненно героической — без иронии) русской колонии, которая приютилась под ее крышей…
* * *
Но это — рассуждения под злую руку… Это с одной стороны… А с другой стороны, ну что им делать?.. Зачем им вставать рано?..
Работать?
Как трудно найти эту работу!.. И потом, если найти, это значит у кого-то отбить. Поэтому, если умудряются как-то жить «так», то так и надо… К тому же, они все полубольные, едва выкарабкавшиеся из смертельных ран и болезней и с неизлечимыми ранами в сердце… Каждый носит в себе тяжкое страдание, каждый втихомолку оплакивает дорогие могилы…
Все эти люди —несчастные, заживо-ободранные кошки, и недаром эта улица называется «Кошка-Дере»… Дерут кошки по сердцу…
Конечно, хорошо бы, если бы пили меньше… Пусть лучше спят…
«Молю Тебя, пред сном грядущим, Боже Дай людям мир… Благослови Младенца сон и нищенское ложе И слезы чистые любви… Прости греху… На жгучее страданье Успокоительно дохни, И все Твои печальные созданья Хоть сновиденьем обмани»… (Романс Чайковского)Звуки Чайковского «беззвучно несутся» от моей подушки (бесстыдно грязной), над спящими людьми мансарды. Мне что-то не спится… Но вставать не хочется…
Лежать хочу, «чтоб мыслить и страдать»…
* * *
Да и вообще я сегодня не буду вставать!..
И это вот по какому расчету…
У нас на всех четырех, лежащих в этой комнате, нет больше ни пиастра… И нет никаких надежд… То есть в порядке «рациональном»… В порядке «иррациональном» я непоколебимо убежден, что помощь придет… не дадут же умереть с голоду на этом чердаке… Если мы кому-нибудь нужны — не дадут… А если не нужны, тоже не дадут: похороны дороже. Но нужно «переждать» некоторое время… Переждать, лежа, — меньше расход сил. А расходовать все же придется, потому что масса людей, ну, масса не масса, а человек десять в день, придет по различным делам…
Как они не боятся подыматься по этой лестнице!..
* * *
И я не встаю… К чему? Но остальные поднялись… Женька, правда, не «варит», потому что нечего варить… Но он что-то соображает — должно быть, где «раздобыться»… Зато Михайлыч ушел — наверное, мистически танцевать… Встал и Вовка и полощется у крана, благо вода пошла, что не всегда бывает… Сквозь раскрытое окно видна стена, а над ней сад, а за садом — красивые контуры Русского посольства… Там идет какое-то ученье в саду…
— Смирно!.. Равняйся!.. Ряды вздвой!.. Стройся!.. На пле-чо!!.. К ноге!.. На караул!.. К ноге!.. Вольно!..
Иногда слышно что-то вроде:
— Прекратить разговорчики на левом фланге…
Это они каждый день проделывают… Это юнкера — конвой генерала Врангеля… Единственные, кому оставили оружие… Славные мальчики. Тянутся, стараются. Держат марку.
— Смирно! Равнение направо! Господа офицеры!
— Вовка, что это такое?
— Генерал Врангель подходит…
— А…
Стало тихо, потом явственный высокий изысканный голос здоровается с юнкерами.
И ответ: скандированный, дружный…
* * *
Ну, ладно: много нас лежит так «мансардных человеков», голодных и бездельных, по всем чердакам Перы, Галаты и Стамбула, всего Константинополя… Но пока есть этот четкий, высокий изысканный голос, центрирующий вокруг себя волю, напряжение, мы — «потенциальная энергия», притаившаяся, выжидающая…
«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»…
Это не «оправдание лежни»… Но это подтверждение «Евразийства»…
Кто знает нас такими, какими нас сделала история, — не лучше ли для России эти пассивные, «полувосточные» элементы, легко кристаллизирующиеся, центрирующиеся вокруг вождя для единого совокупного действия, чем бестолково-активные «гражданского типа» квазизападники. От Гостомысла до наших дней устраивали они у нас беспорядок, партийную грызню и оппозицию всякому разумному делу. Недаром старая власть называла их «беспокойными людьми». Теперь эти «беспокойные» пакостят по всем Европам генерала Врангеля и ищут новых «центров»…
Ищите, слепорожденные…
У нас, мансардников, психология простая и несложная, укладывается в три заповеди. Заповеди грубоватые, но выразительные:
I.—В отношении политическом:
«Прекратить разговорчики на левом фланге».
II.—В смысле жизненных удобств и тому подобного:
«Лопай, что дают»…
III.—В смысле напряжения энергии, активности, исполнения своего долга:
«Як треба — то треба»…
* * *
Мысли русского беженца, даже когда он «еcrivain», не отличаются последовательностью. Это видно из предыдущего. Но иначе и не может быть. Идеология только нащупывается…
Легко ли, в самом деле…
Перед революцией было у нас такое положение. Мы стояли на перекрестке, на котором лежал «бел-горюч камень», а на том камне написано:
«Вправо поедешь, коня загубишь; влево — сам голову сложишь»…
Мы не пошли ни вправо, ни влево, ни за власть, ни за революцию, а пошли посередине… по компасу. И, конечно, очутились без дороги совсем… Пробиваемся сквозь целину дикой и страшной страны…
Знаем общее направление… Знаем, что спасемся там, куда указывает компас вековой мудрости… Но как справиться со всеми этими препятствиями, что вырастают на нашем пути?.. Обойти горы, переплыть реки, прорубиться сквозь чащи?..
Трудно… Часто блудим… Но идем…
Идем все вместе… Это самое главное…
В единении — сила… В единении и молчании… Когда болтают — не слышно слов команды. И в окно доносится:
— «Прекратить разговорчики на левом фланге»…
* * *
Около одиннадцати часов начинается «совдеп» около моей постели.
Основной лейтмотив совдепа — Кронштадтское восстание…
Да, в Кронштадте восстали матросы.
Правда, у них дурацкие лозунги, вся та же эсеровская чепуха… Но это не важно… Мы ведь отлично понимаем, что эсеры ни к чему не способны, и что, если восстание не блеф, то его ведет наш брат, добрый контрреволюционер-монархист, т.е. ведут те, кто несли на своих плечах борьбу с большевиками на всех фронтах… Глупые лозунги испарятся сами собой, лишь бы сбить большевиков, крепкую банду, правящую не лозунгами, а железом… Поэтому все русские душой с кронштадтцами, несмотря на ту чепуху, которую они болтают, несмотря на то, что Керенский почему-то считает это своим делом и, как говорят, принимает поздравления.
Но теперь понятна тактика Милюкова, ополчившегося против нас всех: против армии, против генерала Врангеля, — и упавшего в объятия Керенского.
Очевидно, он знал о готовящемся и поставил карту на Кронштадт.
Ах, как бы ни ошибся Иван Николаевич… что-то уж больно кричат о Кронштадте газеты известного направления. Так оглушительно кричат, как обыкновенно кричали, когда дело слабо…
Впрочем, посмотрим…
* * *
Возвращается Женька с триумфом… Он был где-то, у американцев, где ему дали мешок какао. Вот, значит, первая победа. Она пополняется Вовкой, который раздобывает у соседей примус… Но достигает апогея, когда Михайлыч приносит пол-лиры, на которые можно купить хлеба и сахара… Теперь мы можем покормить еще и Ерша. Он, обойдя всю Перу, не нашел человека, который бы понял то, что мы сразу определили безошибочно по его лицу, т.е. что он давно уже ел…
Под веселый шум примуса Ерш философствует насчет Кронштадта. Он ужасно «rigolo»…[23] что не мешает ему быть совершенно разочарованным в эмиграции. Он много говорит с веселым смехом о глупости и подлости человеческой, и это перепутывается с примусом до такой степени, что уже становится неразличимым… И не разберешь, примус ли весело хохочет над окончательными, бездонными приговорами, или это смеется молодость Ерша над старостью его воззрений…
Двери распахиваются, и входит Валерий…
— Его Высокопревосходительство — господин поручик… лежит?.. по примеру прежних лет?.. А может быть, с голоду?.. Ваша милость? Так вы не гордитесь… Пол-лиры можете получить…
— Спасибо, Валерий… Получил уже… Слышите — примус!..
— А сие преступное скопище?..
— Они тоже будут пить и есть…
— Значит, все по закону… Что вы изволите высказать во внимание к «кронштадтскому действу?..»
— То, что «выборгский паша», очевидно, знал про Кронштадтскую авантюру… Поэтому поспешил облаять на весь свет Врангеля, чтоб выслужиться перед эсерами… но ведь вы знаете, что Милюков из тех противоестественных крыс, которые губят корабль не тогда, когда они с него сбегают, а, наоборот, своим присутствием… Поэтому надо думать, что Врангель будет жить… а Кронштадт лопнет… как Выборг…
— Ну, а если не лопнет?.. Мы как? Должны помогать?
— Помогать должны во всяком случае… Лозунги восстания дурацкие, но разве это важно… Если мы были заодно с поляками, с Махно и Петлюрой, то почему не идти с матросами?.. Тем более, что наша помощь может быть только с юга… Но разве нам позволят помочь?.. У нас ни денег, ни оружия… Вместо того, чтобы сохранить единственную армию, способную драться с большевиками, «буржуазная Европа» добивает ее…
— Вы изволите сердиться, ваше превосходительство?..
— Да как же не сердиться? Скажите, пожалуйста: Европа не может, «ей слишком дорого» кормить армию Врангеля!.. Это — Европа, которая наложила колоссальную контрибуцию, которую она получила только благодаря России… Ибо, если бы Россия, ценою восьми миллионов русских, не вывела из строя четыре миллиона немцев и австрийцев, то Германия не была бы разбита…
— Это откуда счет, ваше превосходительство — господин поручик?
— Это счет верный… Это подсчет по нашим и немецким данным, сделанный нашим штабом в конце 1916 года. И потому мы не просим, а мы требуем…
— На «точном основании закона»…
— На точном основании справедливости… Вот мое мнение… Германия войной разорила много стран, но Россию более всех. Во всяком случае, убытки, которые взыскивают с Германии, надо делить между пострадавшими…
— Чтобы, значит, было честно… Но ведь Европа говорит — что «мы изменили»…
— Изменили? Кто изменил? Мы? Вздор!.. Мы, все те, кто собрались вокруг Алексеева, Деникина, мы не изменяли… Ложь!.. Мы не только не изменяли, мы продолжали ужасную борьбу — один против ста!.. Немецкие агенты, Ленин и Троцкий, бросили против нас всех тех, что побежали с фронта!.. Так скажите им, Валерий, что мы боролись с этой новой немецкой армией, — армией, составленной из русских!.. Боролись бесконечно, да!.. И вот, наконец, все те, кто уцелели, — собрались вокруг Врангеля… И эти боролись еще шесть месяцев!.. И теперь мы требуем, а не просим…
— Что же именно, ваша милость?..
— А вот что. Счет простой… Вы говорите — часть русских изменила… Ладно, сколько вы хотите снять за их измену?
— Не знаю, ваше превосходительство… Ей-Богу, это — не я, это — они, те, которые… ну словом, — Европа!
— Сколько бы ни снимали за «их измену», наш счет будет достаточно велик. И когда я буду писать передовую статью, Валерий, «когда-то» я напишу так: «От имени не изменивших и не изменявших… от имени старой России, которая погибла жертвой своей верности… от имени миллионов русских, павших в Великой войне… от имени бесчисленных их вдов и сирот… от имени легионов инвалидов… и наконец, от имени старой русской армии, преемниками и наследниками которой мы состоим, мы требуем своей доли священного вознаграждения, купленного реками крови»… Да, на эту, на свою долю, если вообще кто-нибудь имеет право!.. И вот из этих денег надо содержать армию генерала Врангеля…
— Это, значит, выходит «за счет русского короля»… ваше превосходительство?
— Да… Над этим можно смеяться, и смеются… Но «rirа bien qui rira le dernier»[24] . Если Германия, опершись на Россию, начнет вторую мировую войну, тогда только поймут, какую ошибку сделали, пренебрегая и оскорбляя тех, кого на Босфоре, здесь, должны были встретить салютом из всех пушек… как людей… до конца исполнивших свой долг.
Женька, остановив примус, вырастает между ними:
— Вы ожидали, пока Европа выплатит нам соответственное число миллиардов, разрешите предложить вам чашечку какао, пожертвованного русскому народу… Америкой.
— Правильно!.. Вот это истинные международные отношения… Ратифицирую! — сказал Валерий.
* * *
Стук в дверь…
— А, Николай Николаевич…
Н. Н. входит, прихрамывая.
— В. В. — в постели?! Ну и лестница!.. Как вы сюда забрались?.. Здравствуйте, здравствуйте, господа!.. У вас целое общество?..
Вырастает хранящая традиции гостеприимства фигура Женьки…
— Разрешите вам предложить чашку какао?
Женька делает les honneurs de la maison,[25] как будто ничего не изменилось под луной. Сколько бы ни пришло народу, он, не моргнув глазом, будет с совершенно непринужденным видом:
— «Разрешите предложить?»
Я знаю, что это кончится тем, что они напоят всех моих гостей, но сами останутся голодными. Но иначе ведь нельзя «с точки зрения гвардейской артиллерии». Впрочем, какао есть, но нет сахару и хлеба… поэтому я тихонько дергаю В. М.
— Валерий, «по приему прежних лет»…
Он понимает сразу.
— Очень хорошо… Все по закону!..
Лира беззвучно переходит ко мне, затем в руки Женьки, который вновь возжигает примус, и под его гипнотизирующий шум совдеп продолжается.
— В. В., я только что из Парижа. Вы знаете, В. В.! Низость человеческая не имеет границ!.. Дело, которое мы делали три года… все эти усилия… и страшные жертвы… все это хотят свести на нет! Превратить в ничто… Понимаете: Керенский принимает поздравления!.. «Они» спасли Россию! Примазались к этому восстанию… воображают себя победителями… А армию… ту армию, которая истекла кровью в этой борьбе… поливают грязью!.. Пакостят, клевещут, лгут!.. Хотят вырвать у нее этот жалкий паек, который дают ей французы!.. Чтобы с голоду умерли те… кто три года боролся… кто нес невыразимое страдание… за эту свободу для русского народа… того русского народа, о ком эти… ничего не делавшие… смеют говорить!.. Кричат об этом Кронштадте… Поверили!.. и на все сделанное… наплевали! — на кровь… на жертвы… на слезы… на все плюнули в лицо!.. Какая низость, В. В.!
Нет человека, более привязанного к армии и больнее чувствующего несправедливость к ней, чем Н.Н. Его невозможно успокоить в его волнении… Он кричит своим нервным голосом, изысканным и резким, и глаза горят, в запавших орбитах, как бывает у тяжело больных и фанатиков.
* * *
Стук в дверь.
— Те же, и Николай Николаевич Второй, — возвещает Валерий.
Н. Н. Ч. входит. Приветствия…
— В. В. Можно ли так? Это же опасность для жизни, ваша лестница!.. Вы погубите всю редакцию «Великой России»… и «Зарниц»… Кстати, я отложил вашу статью… Это все совершенно правильно, что вы говорите, что «три жида» не управляют миром, как думают правые, но что, если союзники будут себя вести так, как они себя ведут, то придется выдумать этих «трех жидов» для управления вселенной, но ведь это — как раз те темы, которых нельзя касаться: ни евреев, ни союзников! Нас и так еле не закрыли… Ведь вы знаете, какая «свобода печати» царит на Ближнем Востоке под просвещенным управлением «великих демократий Запада»… Прихлопнут, можно сказать, как муху… вы бы что-нибудь лучше о Милюкове написали…
— Хорошо, я напишу… «Открытое письмо»…
— Ну вот, прекрасно…
Вырастает сакраментальная фигура Женьки:
— Разрешите предложить вам?..
— Нет, нет — ни в коем случае… наоборот, я думаю, что нам надо…
— «Очистить помещение»? правильно! — сказал Валерий. — Преступное скопище, — выходите! Вы бы, ваше превосходительство, —господин поручик, встали бы все-таки… Чтобы честно было, согласно закону…
Они ушли…
«Великая Россия» in corpore ушла по скрипучей лестнице — я продолжал валяться…
«Пока не требует поэта»…
* * *
Господи, неужели все было даром?..
Я загубил двоих, Н. Н. — троих сыновей…
И все мы так… и валяемся по чердакам с окровавленным сердцем…
Ужели все было даром, и Россию так не вырвать у Смерти?..
* * *
Ведь мы знали. Мы потому и боролись, что знали… Мы знали: Ее ведут на заклание… На заклание ужасному Богу, который страшней Молоха…
Мы знали, что он убьет ее, потому что Социализм не может не убить, — ибо он — Смерть. Красная Смерть XX века, ужасная психическая болезнь, мировое поветрие, посланное, должно быть, за грехи наши…
Мы знали, что он задушит Ее… Задушит голодом. Мы спешили на помощь, мы рвались в эту Москву, мы устлали путь своими телами, ибо знали, что время не ждет, что двенадцать часов бьет…
Мы не смогли… Ах, мы были слишком грешны, должно быть, чтобы выполнить слишком святую задачу…
* * *
Или, быть может, те люди, которых мы хотели спасти, они — слишком грешны.
«Не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай дома искреннего твоего, ни осла его, ни раба его, ни скота его, ни всего елико суть ближнего твоего»…
Тех, кто помнил десятую заповедь, тех мировое поветрие, тех — Смерть, тех — Социализм, — не мог коснуться…
Красная Смерть хватает только тех, кто пожелал «всего елико суть ближнего твоего»…
* * *
Так было…
Когда мы, белые, хотели вырвать их из когтей смерти, невидимые Ангелы преградили нам дорогу:
— Не прикасайтесь… Да сбудется на них реченое от Господа… «Вкусивый от древа познания Добра и Зла, смертью умрет!»…
Они вкусили от Древа познания Добра и Зла… Отринув Божий Заповеди, они сами определили, что есть Добро и Зло… Они отвергли Законы Божеские… и установили свои — скотоложные законы… законы, рожденные в хлеву, где дикие вепри совокупились с блеющими баранами… где дьявол торжествующий оплодотворил нечистых коз… где Ленин, кровавый бык, порвал Милостью Божьею осененные виссон и порфиру… Он стал им Аспидом, всемогущим… творцом видимого и невидимого… Он начертал им новые законы Добра и Зла… И они согласились… покорились… поклонились.
Почему?
Потому что в скотских душах их не привилась грозная и непревзойдимая заповедь Божия…
— Не пожелай ничего, елико суть ближнего твоего.
Они «пожелали»… И смертью умрут…
Они покорились диким вепрям, выхрюкавшим им «равенство», — антидекретное и богоборное…
И смертью умрут…
И мы бессильны вымолить у Бога им прощение… ибо сами слишком грешны, и не доходит молитва наша…
* * *
Россия отдана гневу Бога, испепелена будет, как Содом и Гоморра, ибо не нашел Господь двух праведников… не нашел их среди тех, оставшихся в ужасе, не нашел и среди нас, переведенных через Черное море и ввергнутых в Неведомое…
Но послужит ли этот страшный пример — другим?.. Всем народам Запада, столпившимся на берегах Босфора?..
Спешите, франко-американо-германо-бритты!.. Спешите, созидатели мира!.. Спешите, смерть около вас!
Вот она пишет над Россией, над необъятной Россией, буквами, чей рост превосходит пространство ваших стран, пишет потоками крови, грязи и слез, на которые не хватило бы вод Волги, Днепра и Енисея, пишет страшные слова, беспощадные слова, самые грозные от сотворения мира:
— Мене, такел, фарес… Народы, чтите десятую заповедь Божию… Мене, такел, фарес!..
* * *
Стук в дверь.
— Вовка, ради Бога, узнай, кто это?
Там, оказывается, сошлось несколько…
Один генерал, один поручик, который требует «полной конспирации», и один просто поручик и два полковника, один «спешно на минутку», другой надолго — но, так сказать, — свой…
Вовка распорядился так: генерала попросил на крышу…
— Но ведь там, наверное, развешано сушиться белье нашей гитаны?!.
— Развешано, но… это ничего… зато я сказал, что вы сейчас встанете, что вы немножко были больны… А пока примите полковника, «спешно, на минутку», а потом одевайтесь, а пока будете одеваться, — примите «конспиративного поручика», а того поручика и своего полковника я пока займу чем-нибудь…
* * *
«Полковник на минутку» привез письма из Галлиполи и, кроме всяких приветов, журнал: «Развей горе в Голом Поле»… Он издается в единственном экземпляре, потому что все рисунки от руки, но мне сделали второй, во внимание к тому, что я им дал статью тогда, когда был у них, статью «Белые Мысли»… Право, это трогательно… В книжке написаны всякие хорошие слова…
— Вы нас нашли, В. В. Вы первый к нам приехали в лагерь…
В этом никакой моей заслуги… Я искал сына… Расспрашиваю… Полковник рассказывает.
Положительно, мне нравится настроение галлиполийцев. У них твердо. И, видимо, растет фигура Кутепова. Когда я был — ругались. Сейчас нет… Строг до невозможности, но дело делает…
— Вы бы не узнали… Подтянул нас… до неузнаваемости!.. Но главное, что приятно… Чувствуется, что мы вновь армия… Вот — чувствуется!.. И французы чувствуют… Чернокожие — «сережки»?.. Мы с ними в дружбе… Но какие же это войска… Кормят? Плохо, конечно, но живем… Знаете, у нас настроение куда лучше, чем здесь у вас в Константинополе… Здесь все ноют больше… У нас — ничего… Вот с одеждой неважно… Но мы стараемся. И вообще стараемся… Учимся… Церковь строим… Поем… играем… живем. Мы, знаете, одна семья… И потом, мы верим Главкому… Мы спокойны… Он как-нибудь выкрутится…
— А как насчет «Бразилии»?
— А вот я вам расскажу… Явились французы и стали предлагать: «Армии, мол, уже нет; генерал Врангель уже не командующий, хотите ехать — кто хочет в Совдепию, а кто хочет в Бразилию». Но знаете, что из этого вышло? Наши пошушукались, пошушукались по палаткам и вдруг по всему лагерю кричат «ура». Французы спрашивают: «Это что? Согласились? Пришли к решению?», а мы уже знаем, в чем дело, — отвечаем: «Да, они пришли к решению…» Французы: «Куда же, в Совдепию, в Бразилию?»… Мы: «Нет, ни в Совдепию, ни в Бразилию….» Французы: «Как? Отчего же они кричат «ура»?»… Мы: «Они кричат «ура» генералу Врангелю»… И тут знаете, как нарочно, по всему лагерю — бурей кричат!.. Французы: «Что же это значит?» Мы: «Это значит, что у армии не может быть другого решения, как приказ ее главнокомандующего. Это они хотят вам деликатным образом напомнить…»
* * *
Пока я одевался, конспиративный поручик шептал мне что-то о «масонах»…
Это болезнь века…
Собственно есть две болезни века: первая — писать мемуары, ей я подвержен; вторая — «мистическая конспирация»… Я стараюсь не быть demande и быть на высоте и в этом отношении, но мне никогда, к сожалению, не удалось поймать хоть кончик хвоста масона. Чуть ли не все поголовно убеждены, что масоны всесильны и управляют вселенной. Принято выражение — «три жида управляют миром». Мне их называли. Один — покойник Якоб Шиф, американский миллиардер, другой — секретарь Вильсона, президента С. А. Штатов, а третий не помню кто, но не Троцкий. Но как они управляют, через кого, —не рассказали… Вообще «подробностями» мало интересуются… Убеждены вообще, что это так, что масоны существуют, что они грозная сила, что их надо разоблачать (это те, кто посмелее) или обреченно покоряться. Это слабые… Мало есть людей, которые этому не подвержены…
Странно, что людям не приходят в голову самые простые аналогии…
Тиф, холера, чума существуют? Существуют. Что это, масонские изделия? Нет — это эпидемии… Люди гибнут от них? Гибнут. Заражаются и гибнут… Почему же не может существовать эпидемия психическая? Массовые психические болезни, выраженные в обостренной повышенности некоторых «социальных чувств» (зависть, ненависть к более состоятельным ближним, озлобление против государственной или общественной власти), поражают людей так же, как тиф, холера и чума. Только они гораздо опаснее, хотя и носят названия недостаточно определенные: «социализм», «революционные настроения», «анархизм» и т.п. Заболевшие такой болезнью люди, в свою очередь, заражают других, и этим путем целые народы заражаются и гибнут. Причем тут масоны?
Чувства и бациллы по существу не представляют никакого различия.
Есть микроорганизмы благодетельные и есть убивающие бациллы. Точно так же есть чувства благие и есть мысли смертельные… Про первых говорят, что они об Бога, про вторых, что они внушены Диаволом…
Но причем же тут масоны? Разрушительные силы и чувства точно так же, как разрушительные бациллы, имеют сами в себе страшную силу распространения или заразительности. Они не нуждаются ни в каких тайных руководителях и организациях…
Зачем какие-то масоны, если «заболевший социализмом» идет на митинг и совершенно явно и открыто бросает в толпу семена ненависти и злобы… Разве русская революция сделана тайной силой? Она сделана совершенно открытым путем, лозунгом: «Иди грабить». Люди поддались на этот соблазн, заболели «болезнью грабежа», называемой нынче социализмом, как заболевали уже сотни раз в течение тысячелетней истории человечества. Только «болезнь грабежа» называлась раньше иначе, не социализмом. Но и заболевания тифом, холерой и чумой, которые были всегда, тоже иначе раньше назывались…
Так было и будет… Всегда были болезни и всегда будут. И всегда будут с ними бороться и всегда будут, в конце концов, излечиваться. Европейские народы долго болели чумой, но сейчас ею болеют только дикари…
То же будет и с социализмом…
Есть и сейчас, конечно, натуры, иммунентные к социализму, которые не заболевают… Это — мы. Наша обязанность — лечить заболевших, а если это не в наших силах — выжидать окончания эпидемии. Так мы и делаем. Проборовшись три года, мы больше не можем и вот залегли здесь, на чердаках Константинополя…
Ожидаем окончания эпидемии. Ожидаем, пока вымрет все, чему назначено умереть. Но причем тут масоны?
Я не говорю, что их нет. Может быть, они есть…
Наклонность к каким-нибудь тайным махинациям может существовать, как существует жар во время тифа. Но причина болезни не жар, а тифозный червячок…
Так и «масоны» — не причина революции, а явление, их сопровождающее…
* * *
В Константинополе дома, хотя они такие же с виду, как и всюду в Европе, но, кроме удивительных лестниц, имеют еще, как дань Востоку, площадки на крышах… Здесь я нашел своего генерала. Опершись о перила, он любовался Царьградом, стоя между двумя рубашками гитаны… В просвете ее панталон красовались очертания Русского посольства, вызывавшие воспоминания о петроградском ренессансе…
— Ваше превосходительство, простите ради Бога…
— Бросьте… Я уезжаю… Зашел к вам проститься… Жена приказала вам кланяться… Еду искать счастья по свету…
Завязывается разговор, как бывает при прощальных визитах. Ветер сильно колышет белые юбки… Между их трепетаньем далеко видно огромный город. Но эти гридеперлевые чулки слетят… Разговор продолжается…
На одной из бесчисленных крыш я вижу вдруг две фигуры, которые смутно угадываю… Они, вероятно, тоже силятся меня рассмотреть…
Ах, я знаю, кто это… Это «монархисты»…
Несколько дней тому назад по соседству пытались объединиться… предлагали мне стать во главе. Я согласился, предупредив, что ничего не выйдет. Я ведь прекрасно знаю, что некоторые не могут мне забыть, что ездил в Псков. А я не могу им простить, что они попрятались во все дыры, когда все рушилось, а теперь могут упрекать меня за то, что я осмелился поехать к Царю и принять неизбежный акт отречения со всем уважением к Венценосцу, вместо того, чтобы вместе с ними забиться под диваны Таврического или иных дворцов и оттуда смотреть, как Чхеидзе и Нахамкес будут «читать мораль» последнему русскому Государю… И благодаря этому долго еще даже те, кто могли бы понять друг друга, вот будут так, как сейчас: на одной высоте, но на разных крышах…
— Какой же ваш прогноз? — спрашивает генерал.
— Половина русского населения вымрет, а остальная восстановит все… «с гаком»…
— Когда же это будет?..
— Существенное улучшение начнется с 1929 года, — ответил я не задумываясь…
— Как? Восемь лет?
— Это будет начало — мы увидим, как стрелка повернется вверх… Расцвета мы не увидим… Расцвет через пятьдесят лет…
— О Боже мой!… Прощайте… Я ухожу… Это же ужас!..
Он ушел… Чулки гитаны сдуло… Зачем я каркаю, как старый ворон на этой крыше?!.
И вспомнилось мне, как один батюшка, нарисовав потрясающими словами муки грешников в аду, заметил, что вся церковь пала на колени и плачет. И стало ему вдруг жалко своих бедных Грицков и Оксан… Осенил он их крестом и сказал:
— От цо, братие… Не журится… Бог добрый, там, на Неби… Може це все ще и брехня?..
Просветлело… Солнце горит закатом… Бог добрый, там, на небе… О, пусть вместо неизбежного ужаса это было бы… «брехней»…
* * *
«Просто поручик» просто не ел уже два дня… И удивительное дело. Казалось бы, уже сами «на грани»… Нет, поискали, пошарили кругом — наскребли пол-лиры…
Как он обрадовался… Даже панталоны гитаны смеялись, колотясь под ветром…
* * *
Когда я вернулся в свою мансарду, из соседней комнаты спросили:
— Что за шум в соседней комнате?
На что я ответил:
— Мне стукнуло триста лет и три года…
Засмеялись….
— В огороде — бузина… а за шкафом?
— «Крук»!..
— Это что значит?
— Это значит — ворон…
Но другой голос прибавил:
— Идите лучше к нам, дядя Вася…
* * *
Там уже были все. Полковники, капитаны, поручики, галлиполийцы и не галлиполийцы, таинственные конспираторы и просто наивные беженцы, молодые rigolo — пессимисты и старые мрачные оптимисты — как они все вмещались в этой комнатушке!
Зина в стотысячный раз раскладывала пасьянс, причем никто не знал, о чем она, собственно, думает, хотя и можно было предполагать, о чем…
П. Т. разбавлял спирт водой… Женька откупоривал сардинки, Mardi (женщина, которая была вторником: см. «человек, который был четвергом») возилась с примусом, который не горел, почему она заводила стакатто смеха спускающимися зубчиками по всей хроматической гамме сверху вниз… Мандолина неуверенно старалась выявить «куявяк», а гитара аккомпанировала ей брехливо, но с апломбом…
Вечерний сеанс начался…
Пели, пили, декламировали, рассказывали, спорили, опять пили и опять пели…
Старшее поколение все заводило какие-нибудь ископаемые «Не искушай», «Ночи безумные», «Очи черные»… Младшие стремились к Вертинскому…
* * *
«В бедный маленький город,
Где вы жили ребенком»…
Или:
«Я помню эту ночь… Вы плакали, малютка»…
* * *
И здесь плакали — «под гитару»… Украдкой, конечно, чтобы никто не видел…
Ведь «попугай Флобер» твердит свое:
Jamais, jamais, jamais,[26]
«В бокал вина скатился вдруг алмаз »…
Jamais, jamais, jamais…
Ах, знаем — все знаем!.. «Давным, давным давно» — все знаем:
Jamais, jamais, jamais…
«И плачем по-французски »…
* * *
По-французски, и по-английски, и по-немецки, и по-польски, и по-сербски, и по-бразильски, и на всех языках…
* * *
— Ну, Mardi, довольно… не надо…
— Ах, нет, нет… Спойте еще… спойте… про «вранжелистов»…
— Ну, ладно… Только это торжественно… Господа офицеры!.. На молитву… Шапки долой!..
* * *
Хор. (На мотив «Вечер был, сверкали звезды».)
«Бог и в поле пташку кормит,
И поит росой цветок,
Бесприютных «вранжелистов»
Также не оставит Бог…»
* * *
— На-кройсь!!!
— Так…
— Ну, зачем же вы…
— Эх, стоит плакать?!
* * *
— Довольно, господа…
— Господа!.. Четыре часа!
— Прощайте… До свидания… До свидания!..
— Тише, господа… И так уже все жильцы бранятся во всех этажах…
— И как это только гитана терпит!..
— Не сломайте только лестницы…
— Боже… как она трещит!..
* * *
Мансардный день окончен. Занавес падает…
Глава третья. Из дневника моей соседки
«Мальчуги»
Я просто одурела от радости, хватала их за головы, целовала, хохотала… Тогда Вольде говорил преувеличенным басом:
— Ну, перестань же, перестань!.. Не срамись, пожалуйста!..
А Люська, старший, «хихикал», т.е. как-то особенно смеялся — нежно и тихонько…
* * *
Они мне свалились, как снег на голову… Внезапно.
Кто-то постучал в дверь, я открыла и увидела их — двух братьев, о которых я ничего не знала и боялась надеяться, что они живы… Олега-Люську и Вольде…
* * *
После затихнувшей бури восторга, они рассказали о своих мытарствах — отступление от Перекопа, эвакуации… Оба чудом вышли, чудом попали на пароход… чуть ли не на последний… До сего времени — в Галлиполи… Получили отпуск и приехали повидаться…
— Значит, вы знали, где я? Читали мое объявление в газете?
— Как же… читали…
— Отчего же сразу не приехали?
Они переглянулись.
— Чудачка, — сказал Вольде. — Как это мы могли приехать без отпуска?
— Какого отпуска? Разве эти формальности соблюдаются у вас?
Они еще раз переглянулись и расхохотались.
— Ну, вот… А ты думаешь, у нас там табор цыганский, что ли?.. У нас, брат ты мой, — строго… Дисциплина!..
— Ну, расскажите же скорее, как у вас там… Здесь, в Константинополе, про Галлиполи такие слухи ходят, что волоса дыбом подымаются… Голод… болезни… все разбегаются… Правда ли это?
— Возмутительные разговорчики…, — пробасил Вольде. — Тыл несчастный!
Олег, тот ничего даже не сказал, презрительно скривился.
— Ну, расскажите же…
— Как это рассказать?! Право, уж и не знаю…
— Ну, как! Да вот — во-первых: отдают честь? Носят погоны?
Они в ответ начали хохотать… И так заразительно, неподдельно-весело, что невольно и я присоединилась к ним… Давно уж не слыхала такого смеха… Здесь все больше ноют или истерически подвывают…
— «Малахиты»!.. «тыловые мародеры»!.. за нашими спинами прячутся и скулят… «Довольно нашей кровушки»… Да ты посмотри… как мы одеты? Что мы — оборваны? Звезды у нас на шапках? Или ваши «штрютские панамы»?..
Действительно… Надо только на них посмотреть, чтобы хоть отчасти понять… Какие-то светленькие гимнастерки, чистенькие, глаженые… Пуговицы аккуратно пришиты… У Вольде погон с «вольноопределяющимся шнурком», у Люськи — у того сохранился серебряный «старорежимный» погон корнета… Пояса кожаные. Совсем приличные брюки — тоже сапоги…
— Ну, а как живете?.. Насчет «вообще»?
— Весьма и весьма… Приезжай — увидишь… Не так, как здесь… Отнюдь!.. У нас, «выражаясь», — кусочек России… Наш кусок!.. Наша речь, ну, там — обычаи… «наша власть»… Поняла?
— Ну, власть!?
— Вообрази… Разве это не власть? Всеобщее уважение!.. И турки, и греки, и «сережки»…
— Что за «сережки»…
— «Сережки» — черномазые… сенегальцы… Ну, что — «сережки»! «Хранцюзы» с нами считаются… И очень даже!.. Вот грозятся насчет пайка… а не отымут… А почему? Потому что «чувствуют»… сообразила?
— А Кутепов — какой? Хороший?
— Кутепов — это Кутепов… Вот!.. он грозно сжал свой кулак и потряс перед носом… Он такой… Но, «извиняйте пожалуйста», он не самодур… справедливый… «На коротком поводу»… нас… понимаешь? То-то и оно… Иначе нельзя… Вот «губа» у нас… Ваши «паникеры» раскудахтались: «губа, губа»… У страха глаза велики… А вот я, к примеру, ни разу еще не нюхал губы… Так-то, брат ты мой!..
— Ну, а насчет быта…
— Пристала с бытом!.. Какой тебе «быт»? Я тебе не писатель… в «Осваге» [27] не служил… Быт? Ну что там? Ну, учение военное и вообще… школы там разные… всякие курсы языков… автомобильные курсы… газеты… «устная газета» — слышала?? То-то же… И театры есть… хоры-то какие… Расчувствуешься!.. И церкви… Как-то живем…
— А личная жизнь?
— Опять ученые слова!.. Ну, вот тебе — личная: флирт?.. Вовсю!.. Свадеб масса… Вот И. женился… Ты его, кажется, знаешь?
— Ну, дорогие мои,— только вы подождите жениться!
— Мы? А зачем нам?.. Мы дачу себе строим…
— Что?..
— Да… это тебе не фунт изюму… понимаешь — готово почти… Помещение — вот как эта комната… Стенки каменные, крыша железная… Окно… Обстановку соорудили… Приезжай — будешь жить… как «помещица», так сказать…
— Это называется «домовладелица»…
— Все равно!.. Где нам!.. Мы не гордые… слов ученых не изучали… Вот дом строим — с автомобилями возимся… Машину на «ять» изучили…
— А кормят как?
— Кормят? Гм… Хлеба маловато… Ерунда!.. Как-то живы… Есть такое… ты знаешь, конечно… в Евангелии… «Не единым хлебом»… Вот и мы так… Понятно?
— Ну, еще рассказывайте!..
— Ну что еще… купаемся… рубашки себе моем… О России думаем… когда в нее вернемся… Это у нас вообще… все думают… От рядового до генерала… потому и крепко друг за дружку держимся… Чтоб скопом нагрянуть… Оно и понятно…
* * *
Им дали чаю с булочками, за которые они принялись с увлечением… Бедные «мальчуги» — давно таких булочек в глаза не видали…
А после чая с прибавившейся энергией они рассказывают, перебивая друг друга…
— Вообрази!.. Идут наши юнкера… «шаг печатают»…. Ась-Два!.. Ась-Два! На посту — «сережка»… наши на него наступают… Он с винтовкой — наши безоружные… Делают «зверские лица»… печатают… безмолвно… «Сережка» не выдерживает… Бросает винтовку и ка-ак побежит! Наши орут вдогонку: «Сережка!.. Не бойся»!.. Он останавливается, скалит зубы: «Харош, рус, харош»!… И все довольны…
Господи! Какие они бодрые, веселые, эти два мальчика, ничего в своей жизни не видевшие, кроме походов, боев и лишений!.. Откуда у них это здоровье — физическое и духовное?! Вот сидят себе на диване, болтают всякий вздор, хохочут — будто ничего не было… То есть не было того, что почти всех нас сломило и пригнуло к земле…
Но, Боже мой! Что я вижу?! У Олега на руках…
— Люська! Что это значит? Маникюр?
Он «скромно» опускает глаза на ногти…
— Да… кажется, удается… Это ты знаешь… для бодрости… Надо следить за собой… чтобы не опуститься…
— Позвольте? А что ты, собственно, делаешь?! …Ваши занятия?
— Да, вот… Мы в Авто-роте… Собственно, мы — шоферы… Везем провизию из города в лагерь… больных…
— Отчего же… Как при этом можно делать маникюр?
— Отчего же? Можно!.. Что мы — шоферы?.. Мы офицеры! Ну, роем себе землянки… варим обед… жжем уголь… приходится!.. ничего не поделаешь!.. Но ни в землекопов, ни в кухарей, ни в угольщиков мы не обращаемся… Не хотим!.. вот тебе и весь сказ… «Наше знамя высоко!»… Потому и не пачкаемся. «Белые» не могут сделаться «грязными»… Кто это сказал? Понятно?..
Полковник
Сегодня на Пера я встретила полковника П… Высокий, плечистый, румяный, в своей длинной артиллерийской шинели — он выделялся в серой, мизерной толпе…
— Здравствуйте! Какими судьбами?
Он подошел ко мне… звякнули шпоры… Я увидела чем-то озабоченное, недовольное лицо.
— Да вот… Попал в ваш Константинополь… Толчея какая!..
— Не нравится?
— Сумасшедший дом!.. Тяжело — с непривычки… Совсем отвык от города… В России не видел почти городов… на фронте все…. А этот еще какой-то особенно противный… Кабак!..
— А зачем же вы приехали?.. Развлечься?
— Бог с вами!.. Какое тут развлечение!.. Головная боль второй день… От орудий такого не сделается… Я по делу… Визу получил в Сербию — к отцу….
— Это большая редкость… Поздравляю!.. Повезло вам… Рады?
Особенной радости на его лице не было видно…
— Да, да — рад… Давно не видел старика… но ехать колеблюсь…
— Почему?
— Да вот… Слышали? Тут говорят — французы объявили, что прекращают паек… Будут расформировывать армию… Кто в Совдепию, кто в Бразилию…
— Что ж, — вздохнула я… — Что ж нам делать? Ничем мы помешать этому не можем… Слава Богу, что у вас виза в Сербию… к отцу поедете…
— Извините, пожалуйста! — вскипел он. — Если это правда — то не к отцу я поеду, — а туда, к себе — в Галлиполи!.. Мой долг быть там!.. При своей части… А там — посмотрим!..
— Ну, чего там смотреть?! Захотят, так и расформируют…
— Это мы посмотрим!.. Посмотрим!.. Во всяком случае, я буду на своем месте… со всеми… Если вышлют в Совдепию — тоже поеду… Но мы посмотрим, как это они сделают!..
Он страшно разволновался… На нас стали обращать внимание прохожие. Он с ненавистью взглянул на двух проходивших французских офицеров…
—У… «союзнички»!.. Подождите, — бормотал сквозь зубы, — сочтемся… но… простите Мария Дмитриевна… Я спешу… Побегу знать… В посольство — что ли… Всего хорошего!..
Его голова долго возвышалась над густым слоем «перинского» многолюдья… И затылок его был озабоченно упорный…
Коля
Почему-то сегодня все куда-то разбрелись. Н. пошла к знакомым, Т. П. — на заседание, остальные куда — неизвестно, но, словом, я осталась одна с Колей… Мы сидели у круглого стола, я — на стуле, он в уголке на диване, тихонько наигрывая что-то на мандолине…
Было тихо и уютно… Мягкий свет из-под серо-зеленого абажура скрадывал беспорядок и неуютность нашей комнаты — примус мирно шипел, нагревая чайник, а за стеной тикали часы… Я раскладывала пасьянс и думала упорно все о том же, о чем каждый из нас, наверное, думает, когда имеет возможность покойно посидеть на месте… И так углубилась в свои размышления, что не слышала Колиного окрика…
— Да. Мария Дмитриевна!!. — загремело под самым ухом…
— Что? Чего так кричите?
— Да как же не кричать? Вы не слышите… Я позвал вас раз, позвал другой… вы все упорно смотрите на эту шестерку пик и не отвечаете…Что значит шестерка пик?
— Шестерка пик? Дальняя дорога… очень далекая… Вроде как бы в Россию…
— А!… И вы об этом думаете?!
— Кто же об этом не думает?
Он презрительно дернул головой.
— Вы думаете, все так уж и стремятся в Россию?
— Стремятся не стремятся — но думают о России все…
— Это разница… Думают, конечно, все… А поехать туда? Не каждый… во всяком случае, не все хотят…
— А вы, Коля, хотите разве?
— Я?.. Ах!..
У него стало радостно-детское лицо…
— Я — только и мечтаю…
— Господи! Бог с вами! Зачем? Разве можно! Вы — корниловец, первопоходник, потерявший ногу в походе, — поедете к большевикам? Опомнитесь!..
Он откинулся на спинку дивана и, держа мандолину в руках, — задумался. Потом улыбнулся…
— Ах, Мария Дмитриевна… как бы вам это сказать?.. Чтобы вы поняли… Ну, все равно — расскажу!..
— Вот видите — я — корниловец-инвалид — собственно, не человек, а полчеловека… ибо у меня полтуловища нет — раз нет ноги!.. Но вот эта оставшаяся половинка меня не может, не хочет жить так… как все живут… прозябать… «ждать у моря погоды»…. Я не могу!.. Я не знаю, почему это так, а не иначе…
Я был в Корниловском походе и во всех остальных… всегда на фронте… потому что не мог сидеть дома, в тылу, сложа руки… Никто ведь меня не гнал!.. Когда лишился ноги, кажется, мог бы оставить армию?.. А вот… не мог… До последнего боя…
А теперь? Борьба кончилась… Мы — в отпуску… В Галлиполи… на отдыхе… Все мы имеем право отдохнуть, конечно, после трехлетней войны…
Но… помилуйте!.. не могу!.. тянет! Тянет опять схватиться, сцепиться с ними!.. красными… не пройдет к ним ненависть… Никогда!.. Не так — так иначе… Не винтовкой, пулеметом — шпионажем… разведкой… Не могу! Не могу сидеть сложа руки, пока они там!.. командуют в России!.. Мне труднее будет отдыхать, чем рыскать на одной ноге по Совдепии
* * *
Он замолчал и стал тихо перебирать струны мандолины… Смотрел куда-то — напротив себя, — но не в стенку, а куда-то мимо стены… И бесхитростные голубые глаза, детские и простые, — приняли какое-то странное выражение…
— Ах, Мария Дмитриевна! — внезапно сказал он. — Если бы вы знали, как я люблю армию!.. Армию, ее заветы, уклад, быт… Я не знал никогда — что мне ближе и дороже: семья моя родная — мать и сестры — или армия?! …Я говорю серьезно!.. Не думайте, что это я так — пыль в глаза вам пускаю… «с тем, чтобы для вас», как говорят в Одессе…
Он приготовился обидеться заранее и заглядывал в лицо, ища в нем недоверчивого выражения…
— Что вы, Коля… оставьте!..
Он продолжал.
— Да, вы это сами должны понимать… вы тоже «военная»… понимаете, — когда я пошел, я же мальчиком был… гимназистом. И пороховой дым для меня — как для вас ваши любимые духи… как они — «Chippre» называются?… Что ли?
Вот этот пороховой шипр насквозь мою душу продушил… С тех пор у меня ничего, кроме армии, не было… Ни жизни своей, личной, ни дома, ни привязанности… Мой полк, Корниловский, — мой дом… товарищи — семья и привязанности… И я жил все эти годы своей полковой семьей…
Вот, говорят в Галлиполи тяжело… Оттуда бегут… Там плохо кормят… Но поверьте, если бы меня поселили бы здесь, в Константинополе, кормили бы даже каждый день вкусным обедом, — все-таки через неделю я бы убежал… туда… в тот галлипольский лагерь… где, говорят, плохо кормят и все плохо… Им плохо — а мне хорошо!.. И мне уже скучно и противно здесь, в вашем Константинополе… Стремлюсь уже обратно…
* * *
Он тихонько стал наигрывать какую-то военную песенку… Потом задумался…
— Вот… — тихо сказал он — …эта песенка. Сколько с ней связано. Сколько под ее звуки дорогих картин выплывает… оттуда… из нашего славного прошлого…
А ведь оно славное, Мария Дмитриевна! Правда же? Ну ладно, нас победили, нас загнали на этот полуостров, и французы, издеваясь, швыряют нам милостыню — паек!! Они думают нас унизить? Нас?.. Господи! Что может унизить тех, кто все потерял!.. Ладно!.. пусть унижают!..
Но нашего прошлого — никто не унизит! Наших знамен — никто ничем не может запачкать!.. Кто может бросить в нас, корниловцев, камнем или грязью? Кто, знающий нашу историю? Мы стали на защиту нашей родной земли… Мы бросили призыв всей России… Мы — первые!.. Корниловцы!..
Мы отчаянно боролись три года. Наши лучшие перебиты… Мы — горсточка, боролись против всей одуревшей русской громады… Конечно, они своей численностью победили… Но они вытеснили нас из России, а не задавили. Все-таки мы не смирились!.. Все-таки мы им не подчинились!.. Мы — ушли…
Нет! У нас нет ни родины, ни семьи — ничего… Но нашего славного прошлого, нашей незапачканной чести — никому не взять от нас!.. Ведь правда же?
И замолчал…
— Ну, Коля, — пока что давайте пить чай… Слышите, кипит вода…
Жорж
Ему двадцать два года… но на вид ему можно дать тридцать и даже сорок… Лицо? Какое бывает у них… после эвакуации…
Говорит он быстро, быстро, бесцветно, как-то беззвучно, причем когда-то выразительное лицо принимает все одно и то же выражение усталости, скорби и недоумения…
И печально смотрят потухшие глаза…
* * *
Он приходит по вечерам, неизвестно откуда и неизвестно куда пойдет…
— Вы откуда?
— С Перской…
— А от нас куда?
— На Перскую…
Так называют они Перу — убежище и приют таких, как он, Жорж, бездомных и голодных…
* * *
Когда-то он был ловким, хорошеньким мальчиком, которому так шла малиновая бескозырка Елизаветградского училища… Его в корпусе все знали…
—А, Жорж?! Будущая звезда кинематографа? Как же, знаем!..
Может быть, от этого все и пошло.
* * *
Мальчик робкий, балованный, он был выброшен в жерло жизни… Выброшен резко, без перехода, — из маминой комнатки в отряд для усмирения кого-то или чей-то охраны…
Странно, почему в это время среди офицерства была так в моде «театральность». Каждый мнил себя артистом или критиком искусства, во всяком случае, так или иначе причастным к сцене… Конферансье были страшно в моде…
Жорж сразу попал в среду, где его робкие мечты о театральной арене осмелели и стали преображаться в реальное.
В перерывах между схватками, усмирениями, восстаниями он где-то выступал на подмостках, играл в одном из бесчисленных театрах-кабаре — снимался с Верочкой Холодной, участвуя в фильме… Незаметно, а может быть и намеренно, усвоил тон первого любовника, конферансье, смешав с жаргоном и манерами кавалериста «славной южной школы»… Он научился нюхать кокаин, подрисовывать брови, подтушевывать глаза и румянить губы… И при этом носил «тонные» галифе и савельевские «малиновые» шпоры, всем своим обликом представляя характернейший до каррикатуры тип офицера добровольческих войн… Карикатурного, жалко-смешного, как песня Вертинского, преложенная на солдатский лад…
«Ва-аши па-альцы пахнут ладаном
И в ресницах спит печаль…
Жамаис, Жамаис… пташечка,
Соловеюшка жалобно поет»…
* * *
В России еще было можно как-то смешать и совместить конферансье с офицером. Но здесь, за границей, —нельзя. Все настоящие офицеры собрались на полуострове Галлиполи… А артисты, «спекулянты» и т.п. — покинули их среду, ибо им нечего было там делать, ибо их там ничего не держало…
И он ушел… Он ведь был кусочек офицера и кусочек артиста кабаре…
* * *
В Константинополе ему пришлось туго… На своем любимом поприще подвизаться не удалось. Чересчур много было их, таких как он, горе-артистов, самоучек, — «самоопределивших» свои таланты… И поиграв где-то недели две, он ушел… Ему отказали под предлогом отсутствия костюма…
Он пошел на Перу…
* * *
Он пробовал заняться спекуляцией…
Я его как-то встретила с большим пакетом под мышкой… Лицо было деловито-озабоченно… Он спешил…
— Жорж, куда?
Он остановился и узнал.
— А вот… дела… Не знаете ли кого-нибудь, кто мог бы купить лигнин?
— Лигнин? Что вы!.. А вы знаете-то сами, что такое лигнин?
— А как же…
Он развернул пакет. Это был действительно лигнин…
— Вот продаю… Купил по случаю партию лигнина… говорили, за бесценок… А оказалось, что и в магазинах столько же стоит… теперь уж не знаю, как быть… лишь бы продать… Вы бы не взяли на себя? Насчет процентов за проданное…
— Оставьте, пожалуйста… Я здесь никого не знаю… А на какие деньги купили?
Он замигал глазами…
— Вот… папины золотые часы продал… Ужасно жалко… Но что же делать? Ничего не могу… Вот обещали взять… тут одно кабарэ открывается… песенки инсценировать… Но костюма штатского нет… просто беда…
— Да вы бы, Жорж, службу поискали… Вы же французский язык знаете…
— Нет… нет!.. — он даже заволновался. — Как же? Я же рожден артистом… Я не хочу служить. Мне бы костюм — меня всюду возьмут… Я же с Верочкой Холодной… Вот тут снимки будут… Я бы мог… мне предлагали… Но вот костюм!.. А служить? Забыть свое призвание? Никогда!..
— Вы, наверное, голодаете?..
— Ничего!.. Не всегда так будет… Вот скоро в Россию вернемся… Или, может быть, в Марсель уеду…
— Почему же в Марсель?
— А так… слышал, что в Марсель приглашают киноартистов… Вот и я поеду…
* * *
Время шло… Он все мечтал о сцене, и лицо его худело, а под глазами ложилась тушь —не от Дорэновского карандаша, а от руки голода… и нужды. Но он по-прежнему надеялся попасть в кинотеатр и не пытался даже искать себе что-нибудь прочное, перебиваясь случайными заработками или продажей последних вещей…
* * *
Он приходил ко мне «на минутку»… Иногда просиживал часы… И от его шинели, старой, истасканной Елизаветградской длиннополой шинели, пахло сыростью Перы и закоулков Галаты…
Он произносит монологи… Говорит сам, ибо нет возможности в его речь вставить хоть одно слово… Да и не нужно! Ему надо высказаться, излить свои горести и, излившись, уйти куда-то в туман и слякоть…
* * *
Он жил прошлым. По-видимому, все настоящее казалось ему диким, гадким сном, кошмаром после хорошей понюшки кокаина… Он не останавливал своего внимания на нем — он только горестно недоумевал, не желая ни вдуматься, ни сосредоточиваться на своем бедственном положении, ни искать выхода из него…
Он жил все там — то в «гетмановском» Киеве, то в веселой Одессе, то в яркой, суетливой, больной Ялте… В своих мечтах он по-прежнему ходил элегантно одетым, душился Origan Coty, проводил дни в обществе артистов, а ночи — в кабарэ…
И казалось ему, что это заграничное существование — случайность, недоразумение, что опять скоро он попадет домой, и все будет на своих местах… Обед, к которому он вернется (ведь он уехал из Киева, когда был накрыт стол к обеду!)… И так же радостно встретит его мамочка, и Верочка, и даже Маска — его любимая собачка — будет лаять и ласкаться о ногу… И тогда он закажет себе костюм, визитку… сделает великолепные ботинки… и пойдет в «Гротеск», где также будет плясать Юлинька Бекеффи с золотым обручком на ножке… И тогда все будет в порядке!..
* * *
— Где вы живете, Жорж? Расскажите…
— Я?.. — он поднял брови, и на лбу образовались четыре глубоких морщинки… — Разве я вам еще не говорил?..
— Нет… Вы все о Ялте и о Верочке…
— Ах да… Верочка!.. несравненная… Вы знаете, что это за человек! Какое сердце!… Вы знаете — она…
— Нет!… Теперь расскажите о себе… пожалуйста!..
* * *
— Мы живем втроем… Коля, Петр Николаевич и я…
— Кто такие Коля и Петр Николаевич?
— Вы не знаете? Ах да!.. я же не рассказывал!.. Ну!.. это одни люди… Они меня встретили на Пере… Я так изголодался и ослабел, что чуть не падал… Они пригласили меня с собой в ресторан… А потом я у них поселился… Коля? Он замечательный!.. Художник… Но какой! Мы, например, заходим в турецкий ресторан… Коля берет лист бумаги и рисует портрет хозяина… турка… Показывает… Так вообразите!.. Хозяин берет портрет и не требует платы… Вот, собственно, с этого мы и живем…
— Где?
— В Стамбуле… У нас комната… Ужасная!.. Потолок такой низкий, что у меня на волосах всегда мел… задеваю головой… Темная… В стене какая-то дырка… холодно до ужаса… И страшные деньги платим… сорок лир.
— Почему так дорого?.. За эти деньги можно найти приличную…
— Нельзя!.. Нас нигде не берут… Наши хозяева еле терпят…
— Что такое? Отчего?
— Как вам сказать… Мы — ничего… Но вот Коля… Он кокаинист… А когда нанюхается, буянит. Мы уж отбираем… Коля бьет, кричит… все швыряет… тихий ужас!..
Он печально посмотрел куда-то в бок… И сказал…
— Как ужасно жить!.. Боже мой… Боже мой!..
* * *
— Ну а вы… вы — что?
— Я? Я тоже работаю… Коля рисует миниатюры… на слоновой кости… эмалью… Вот хотите посмотреть… При мне есть…
Он вынул из-за пазухи конвертик, развернул папиросную бумагу и подал мне… Это была художественная миниатюра в художественной рамке, изображавшая мальчика в костюме XVIII столетия. Кружево его воротника было сделано изумительно.
— Да ваш Коля настоящий художник!
Жорж просиял.
— Это что — пустяки… А вот он нарисовал миниатюру султана — вот это бы вы посмотрели. Сто лир получил!..
— Неужели? А эта за сколько пойдет?
— Эта? Лир за тридцать… Вот у меня, кстати, расписка… «Две миниатюры — 70 лир»… Это на прошлой неделе я продал… в ювелирный магазин…
— Вы заведуете продажей?
— Да, это моя служба… Я продаю готовые миниатюры… покупаю слоновую кость и краски… если бы вы знали!… Как я навострился… Хоть сейчас открывай ювелирный и антикварный магазин…
И засмеялся… И его лицо стало каким-то старчески-сморщенным, как печеное яблоко…
* * *
Однажды он пришел ко мне сияющий.
— Ах… я пришел рассказать…
Сел на диван, как всегда, не раздеваясь, и начал, по обыкновению, скороговоркой, из середины…
— Теперь, если вы в 2 часа зайдете в кафе «Токатли»… знаете, лучшее кафе на Пера… вы всегда можете увидеть меня…Я там пью «свой утренний кофе»…
И засмеялся от удовольствия… Потом вынул демонстративно из кармана коробочку папирос и закурил…
— Жорж… Что это? «Regie Ottomane…» Откуда у вас?
Он опять рассмеялся.
— Подождите, я вам расскажу по порядку…
* * *
Он долго рассказывал… сбивчиво… перескакивая с одного на другое… Но все-таки я поняла, что ему каким-то образом удалось познакомиться с турком, который занимал какую-то должность «при дворе»… Они стали «кордашами»… Постоянно видятся, разговаривают… встречаются в Токатлиане… пьют кофе… турок, конечно, платит… Но это можно… Они ведь «кордаши»… Он же и снабжает папиросами… Обещает помочь Жоржу… Жорж боится брать денег — что, если «ловушка»? А вот пить кофе — можно… и папиросы брать…
* * *
—Ах, вы знаете, в чем наша беседа состоит? За чашкой кофе?… «Харош урус, харош»!.. А я отвечаю: «Харош турок, харош кардаш…»
И смеется…
* * *
Потом он исчез куда-то, надолго. Месяца два его не было — я чуть совсем о нем не забыла. И вдруг появился…
У него было какое-то новое лицо. Волосы на голове сбриты.
— Где вы пропали? И почему бритый?
Он сел, не дожидаясь приглашения, на диван.
— Простите… я не могу долго стоять… Недавно из больницы…
— Какой больницы? Вы были больны?
Он улыбнулся.
— Да… Угадайте, в какой…
— Для сумасшедших?.. — хотела пошутить я…
— Совершенно правильно, — ответил Жорж.
* * *
— Понимаете, вскоре после того, как я у вас был в последний раз, — я попал в историю… ну, одним словом, пришлось драться на дуэли… из-за женщины.
— Ах, Боже мой!
— Не ахайте… — он грустно улыбнулся… — Я только вступился за честь женщины, мне совершенно чужой… Я люблю Верочку и только ее одну… А это совсем другое…
Но «дуэль не состоялась»… Мой противник упал передо мной на колени, «просил пощады»… Я не стрелял… Но на меня это так подействовало, что я стал плакать, потом смеяться, потом опять плакать, потом не помню — что… Очнулся в больнице… Сбрили волосы и на «черепок» капала водичка… Понимаете?
Это, конечно, не только от дуэли… Дуэль — повод… Я так измотался в последнее время, что сделалась нервная горячка… Febris… как это!… как это!.. по-латыни!.. Вот мне сказали… а я не помню!..
* * *
— Ну, хорошо… А куда вы выписались из больницы? Где вы живете?
— Все там же… у Коли и Петра Николаевича. Только не в Стамбуле, а в Ortakcy, знаете?.. На Босфоре…
— Ну и как?
— Да плохо… Коля совсем закокаинился… Сладу с ним нет… Не сегодня-завтра придется уйти… Но теперь ничего… лето…
* * *
— Слушайте, Жорж… Нельзя же так… Пора придумать себе что-нибудь… Уж полгода, как вы заграницей. Надо найти заработок. Попытайтесь хотя бы!.. Вот у вас был турок… Вы просили у него помощи, чтобы службу помог найти?..
* * *
— Нет, не просил… А зачем? —удивился он. Ведь теперь уже недолго ждать… скоро в Россию… Как-нибудь перебьюсь… Я главное — я уже вам говорил… я— артист… Тело и душа принадлежат сцене… Не хочу и не умею служить… Не знаю, как это надо…
* * *
— А что бы вы сказали насчет Галлиполи?
Он с тоской посмотрел на ручку кресла. Такие благоразумные разговоры не нравились и утомляли его… Он ничего не хочет думать, устраивать… Пусть будет, как будет… Он устал…
Он хочет, чтобы я его слушала, его бесконечные рассказы о Верочке, о Киеве, о «Гротеске»… Он не хочет жить настоящей, противной жизнью, не хочет над ней ломать голову…
— Галлиполи? Я уже вам говорил, что я не поеду туда…
— Почему? Там вы будете сыты, одеты, среди своих…
Он смотрел на меня с укоризной.
— Сколько раз я вам говорил, что я —артист. Я не в лагерь хочу — а на сцену… И буду ждать…
— Но вы ждете сложа руки… Не вскочит же вам ваша сцена сама собой? Ее надо добиться… работать… Или, если не можете работать, то хоть устройте сносно вашу жизнь… довольно голодать… к чему терпеть лишние унижения…
Он что-то рассматривал на ручке дивана… потом поднял голову и весело, как ни в чем не бывало:
— А знаете, лучше я вам расскажу один случай из Ялтинской эпопеи!… Я жил тогда с Верочкой на даче…
* * *
Бедный Жорж!..
«Не для житейского волненья
Не для корысти, не для битв…!»
Глава четвертая. Stop!
Молчание…
Ко мне пришел мой друг — Михайлыч.
— Боже мой, как вы стали похожи на факира!..
Он зарос густой черной бородой, глаза горят на очень худом лице… Туалет соответственный…
— Вы, наверное, ничего не едите?
—Почти что…
—Это плохо…
— Ничуть… никогда так себя не чувствовал… И не пью…
— Это хорошо… Но что с вами приключилось? Вы не стали ли йогом, случайно?..
— Еще нет, к сожалению…
— Но на пути к тому?..
— Может быть… во всяком случае, я хотел бы, чтобы вы познакомились кое с чем…
Положительно, в нем была какая-то таинственная перемена… И вдруг…
Вдруг он стал делать какие-то странные телодвижения… Он водил одной рукой по темени, а другой по груди… На лице его было сильное напряжение…
— Михайлыч, что с вами?
— Это очень трудно — попробуйте…
— Зачем?
— Ну, попробуйте…
Я попробовал
— Действительно трудно… Так же трудно, как писать на столе букву «Д» правой рукой, а под столом водить по полу круги левой ногой….
— Вот именно… Вы угадали…
— То есть?
— То есть это того же типа упражнение, а вот другое…
Он стал приседать, одновременно проделывая что-то руками и головой…
— Михайлыч, ради Бога!..
— Да, это очень трудно… доходит до одиннадцати…
— Чего одиннадцати?
— Одиннадцати телодвижений одновременно, причем каждое противоречит непременно всем остальным…
— Как эта система называется?..
— «Гармоническое развитие человека»…
— Как же «гармоническое», когда «все противоречит»?..
— В гармоническом человеке все качества должны быть одинаково развиты… В современном человеке слабее всего развита воля… Большинство наших движений, в том числе гимнастика и танцы, — автоматичны… Противоречивые движения требуют большого напряжения воли… Это одно из упражнений для развития воли… Воля больше всего нужна нам, русским… русские — безвольны…
— Это правда… за исключением большевиков…
— Чтобы с ними бороться, надо волю… И поэтому я хотел бы…
— Чтобы я приседал и водил по темени?..
— Не ставьте вопрос так… Приходите и посмотрите…
— Куда?
— К нам… я вас проведу…
* * *
Зала…
В том конце несколько фигур раскачиваются в такт, напевая музыкальную фразу… Фраза не то что печальная… Она странная и немного жуткая… Какая-то обреченная…
В этом конце…
Михайлыч подводит нас к какому-то человеку. Это их «учитель». Он сидит в плетеном диване…
Зайдите в шикарный табачный магазин, где-нибудь в Киеве или в Одессе… так сидят красивые караимы средних лет… Они подадут вам великолепную сигару рукой, усыпанной бриллиантами… Лица у них чуть бронзовые, «черная шкурка, усы, как у турка», но глаза!.. Глаза горят гораздо ярче, чем диаманты на их перстнях.
Такой человек сидел на плетеном диване… Но он не был ни евреем, ни караимом, он был еще какой-то расы… быть может, индус, скорее, грек… Впрочем, одет, как обыкновенно, по-европейски. Но без изящества…
Во всяком случае, я сразу почувствовал, что передо мной сильный человек… В восточном вкусе, но сильный…
Михалыч подвел меня, как подводят новообращенного к идолу… Меня это рассердило, внутренне… Человек с горящими глазами, по-видимому, собрался поздороваться со мной, не вставая… Но, вероятно, почувствовал, что это невежливо, привстал, протянул руку и пригласил нас сесть…
Мы сели. Тогда я увидел, что мы не одни — гости… было еще несколько лиц… Один знакомый генерал, один известный статистик и еще кто-то… Все русские… Кроме того, «за роялем» я увидел знакомое лицо… Мы встречались когда-то в Петрограде…
— Михалыч, сколько «ему» лет?..
— Неизвестно… На вид 35, но говорят, что он гораздо старше…
— Может быть — двести?.. А какой он национальности?
— Тоже неизвестно… Он говорит на всех языках…
— И по-русски?
— И по-русски…
— А кто же учится, кроме русских?..
— Да почти никого… все русские…
— Странно… Это что же — бесплатно?
— Нет, совсем нет…
— Как же русские умудряются?
— А вот в этом-то и загадка… отдают последние гроши… Но простите — я должен…
Раздались звуки рояля… Это была та же мелодия, которую те напевали. Не то, что печальная… но какая-то обреченная…
Странные это были упражнения… Они нарастали в каком-то определенном направлении… Сначала оно только угадывалось… Где я это уже видел? И вдруг вспомнил. Я вспомнил тогда, когда мысль, ведущая их, достигла выпуклости… когда на лицах показалось сильное психическое напряжение… когда в глазах, упрямо направленных куда-то вверх и вперед, стал проблескивать экстаз мучительности… когда странно прямые руки, как бы пораженные разобщенностью, искали и не могли найти друг друга… когда все тело и в особенности искривленные головы стали музыкально-мучительно дергаться в «одиннадцати противоречивых» движениях…
Тогда я вспомнил: если бы нестеровские святые, застывшие на стенах киевского Владимирского Собора, задвигались, то вот это было бы вот так… Это тело, освобожденное от законов тела…
* * *
Вам понравилось?..
— Мне понравилось, Михайлыч… но знаете, что?..
— Что?
Мне трудно было найти мою мысль.
— За этим…. экстазным мучительством… за этим освобождением тела от законов тела… словом, за этой «танцующей нестеровщиной»… За этим или — Бог…
— Или Диавол… Да, это так…
* * *
После упражнений мы перешли в другую комнату — маленькую… началась «словесность»…
«Учитель» уселся на кушетке… Гости против него на стульях… Ученики — вокруг, на полу — по-восточному… Применительно к картинам Поленова….
Учитель переложил одну ногу через валик кушетки… Около этой ноги расположился целый выводок молодых женщин… Не все они были красивы, но это были русские женщины — значит интеллигентные, некоторые утонченные…
Он заговорил по-русски… С сильным восточным акцентом, почему я его мысленно обозвал «Халды-Балды»…
— Ну, с чего мы начнем?.. Кто что хочет?..
Молчание…
— Никто ничего не хочет!.. Все знаете?..
Молчание…
— Мне все равно… С какого конца, все равно… Знание — одно… что хотите, то и спрашивайте… ну!..
Молчание… Гости, очевидно, не представляли себе возможным спрашивать о чем-нибудь этого восточного господина с болтающейся ногой, а ученики, наверное, стеснялись гостей… но, наконец, это становилось глупым… против меня горела ничем не прикрытая электрическая лампочка, которая меня нестерпимо мучила… Это чревато было сильной мигренью…
Я вспомнил рассуждение Михалыча о недостаточности воли и сказал:
— Вот, что меня интересует… Почему это так? Вот мы, русские, перенесли столько, сколько, кажется, может выдержать человек… Перенесли и выдержали… И вот это большое, огромное несчастье мы способны переносить… не способны переносить пустяков… И из-за пустяков часто несносна наша жизнь… Вот пример. Я, как и другие, перенес всякое — очень тяжелое… И ничего… А вот этой электрической лампочки, которая режет мне глаза, я не могу вынести…
Я надеялся, что Халды-Балды первым делом прикажет закрыть лампочку, а потом начнет объяснять. Но этого не произошло…
* * *
Зато он стал говорить:
— Очень хороший вопрос… Да, это так… Это потому происходит, что большое горе само по себе утешение имеет… рядом с горем стоит тебе утешение… тебе больно, но ты знаешь, что это горе, большое горе и сам себя лечишь… Сам себя жалеешь… Чтобы большое горе, испытания, лишения перенесть — не надо воли… Сама природа за тебя работает…Тут тебе — яд, тут тебе — лекарство… А когда тебя лампочка мучает — нет тебе от природы утешения… И мучает — не можешь перенести… Не умеешь… Сам ничего перенести не умеешь… над собой власти не имеешь…
— Теперь уж он будет говорить — слушайте! — прошептал Михайлыч.
Я слушал… Это длилось долго… Часто повторялось одно и то же. Вот вкратце:
— Вот я скажу… Вот лошадь, извозчик, ездок… И это все — человек… Один человек — только лошадь… Он бежит… А куда? Он не знает… куда его извозчик гонит… А кто извозчик? Извозчик — это его страсти, желания… Он бежит, куда его страсти гонят… Другой человек — он уже извозчик. Он уже сам — вместо страстей… Он уже лошадь гонит… Куда? Куда ездок скажет… А кто ездок? Ездок — разум… Чужой разум… Извозчику все равно — куда ехать… куда скажут… А третий человек — сам ездок… он сам разум — он сам знает, для чего живет… Такой человек, он приказывает извозчику — значит, такому человеку, который уже освободился от страстей, но который может ехать, но не знает куда ехать… зачем ехать… А этот человек приказывает лошади — значит, такому человеку, которого страсть гонит… Такой человек, он без страстей, он управляет таким человеком, что со страстями, — на одну сторону надавит, он в эту сторону бежит… На другую, он в другую бежит… А как стать ездоком?.. Трудно… Сразу нельзя… Постепенно… Для этого и есть наука… Волю надо развить… Как развить волю?.. Самому трудно… Вот для этого надо поступить в науку… Надо свою волю отдать в науку… Вот это и мы делаем… Для воли тоже гимнастика… Что же я скажу, то и делают… Но трудно… Если хочешь научиться, надо мне верить… Вот, например, она…
Он большим пальцем, не глядя на нее, указал блондинку, сидевшую ближе других у его ног…
— Вот, например, она… Тут на столике что — чай? Чай!.. Я ей скажу: кофе! Будет думать — кофе!..
В этом роде продолжалось часа два. Лампочка совсем меня заела, «Халды-Балды» был мне не по душе — я чувствовал, не знаю почему, острое по отношению к нему сопротивление. Меж тем то, что он говорил, ведь было почти правда. Конечно, волю нужно упражнять. Конечно, и Христос учил своих учеников прежде всего овладеть собой…
Власть над собой — это власть над людьми… Но для чего эта власть? Чтобы измываться над ними, как Ленин? Это власть Диавола, власть зла… Чтобы облегчить их скорби? — это власть Святых и Добрых…
Не чувствую здесь Доброты… не чувствую здесь Благости…
— Вот, например, — «она»…
Сколько презрения… Нога болтается… И потом… почему он не закрыл лампочки!.. Ведь мигрень-то у меня жестокая…
Добрый прежде всего это сделал бы, а потом рассуждал…
* * *
Оба они — петроградцы… Придымленные, изысканные, слабые. В тонах fleure fanеe…[28]. Оба они уже несколько лет следуют за этим человеком… Я сказал им:
— Я пришел бранить вашего «учителя»… говорю честно… если не хотите — запретите…
Она сказала:
— Браните…
Я начал так:
— Объясните мне, Бога ради, каким образом вы, утонченные русские женщины, можете каждый день, т.е. в тысячный раз, слушать то, что я слышал вчера… и что не более, как самая обыкновенная банальность, преподносимая под экзотическим соусом… и даже вовсе не это, я хотел сказать… Я хочу спросить, как вы, рафинированная петроградка, можете выносить эту «халды-балдскую» фигуру с киевских контрактов?… И не только выносить этого восточного человека (чэм, дюша мой, торгуешь — кишмишь? Маслом розовым?) — а связывать судьбу с ним?.. Объясните мне, неужели не шокирует вас эта его нога через кушетку, или «вот, например, она», ну словом, — это все, чем он угостил нас вчера?.. Неужели вот именно такой он, ваш «учитель»?!..
Она улыбнулась.
— Я еще вчера сказала мужу, какое он на вас произведет впечатление… Вчера он был… Словом, может быть, я это чувствую даже сильнее, чем вы… Но я вот что вам скажу: если бы он 10 минут поговорил с вами так, как он умеет, с вами бы было то же, что со всеми нами…
— Зачем же он не говорил «так»?
— То есть, вы думаете, в нем один человек? В нем десять человек, если не больше… И такой есть, как он вчера был… Это он нарочно… Может быть, для того, чтобы оттолкнуть от себя… Может, вы ему почему-нибудь не подходите… Может быть, он хочет испытать… Он только тех приближает, кто настолько хочет знать, что их ничего оттолкнуть не может…
— Что знать?
— Все… Он все знает… Вот муж болен… Я совершенно спокойна: он его вылечит… И вообще нет ничего, нет области, которую бы он не знал… Но главное, он знает, как надо жить, для чего надо жить…
— Для чего же?
— Жить надо, чтобы совершенствоваться… Он знает, как это делается, — как совершенствоваться, «техники совершенствования», постепенные ступени лестницы, то есть то, чего никто не знает…
— Лестница Иакова?..
— То есть?
— То есть лестницы на небо — к Богу, или в преисподню — к Диаволу? И очень просто… разве «техника большевиков», ведя массы на верную гибель, держать их в повиновении — несовершенна? Или разве Диавол, подучивая Еву съесть яблоко Добра и Зла, не говорил ей: «Вкуси и будешь, как Бог»… «Совершенная» сталь одинаково служит и для скальпеля и для ножа убийцы. Все зависит от того, для чего совершенствуется человек. Куда он вас ведет?..
Она подумала и сказала:
— Я познакомилась с ним, когда мне было очень тяжело… Мужа взяли на фронт… Это, конечно, еще ничего не говорит… Нужно знать отношения… Для меня это был такой ужас, которому нет равного… И вот я его встретила… Он меня успокоил, он дал мне силы перенести это. Дал сил дождаться, пока муж вернется… И с тех пор… вот мы следуем за ним… И если бы пришлось уйти, жизнь потеряла бы цену… Жить, как все? Боже мой, это такая скука и пустота, после жизни с ним, под его руководством, когда вы знаете, что рука человека, который вовсе уже и не человек, ведет вас к какой-то высшей цели…
* * *
— Слышали?
— Слышал, Михайлыч…
— Дело не так просто…
— Дело не просто… И вы уже совершенно увязли?
— Как так?
— Ну, словом, вы еще можете выбиться из-под чар этого человека или вы будете следовать за ним навсегда?
— Еще могу…
— Так выбивайтесь…
—Почему?
— Так… Не чувствую Бога… Но что он заставляет вас пока делать?.. Для развития воли?..
— Пока очень немного… Он запретил мне курить и пить… Потом назначил мне одиннадцатый пост…
— И вы выдержали?
— Выдерживаю…
— Сколько уже дней?
— Сегодня конец…
— И ничего?
— Как видите…
— То-то вы стали на факира похожим… Впрочем, для русского беженства назначить пост — это разумно… Вы хотели?..
— Предложить вам пойти со мной в cafй…
— Вы будете «разговляться»?
— Да… а кроме того, я хотел бы вас познакомить с одним человеком…
* * *
Мы познакомились… Это было в одной маленькой «немецкой» кофейне, в которой висел очень большой орел-чучело. Про эту кофейню рассказывали массу легенд. Что хозяин ее бывший строитель Багдадской дороги, что здесь центр — не то немецкой, не то всех стран мира — разведки… Факт тот, что кофе здесь было вкусное. За двадцать пиастров человек мог насытиться…
Мой новый знакомый был человек обреченно-усталый…
— Только что из Японии, — сказал Михайлыч…
— Что вы там делали?..
— Изучал там кое-что…
— Особые религиозные танцы, — сказал Михайлыч.
— Танцы? И долго?
— Да… три года…
— Три года? Командировка? Какое-нибудь научное общество?
— Его «он» послал, — сказал Михайлыч…
— Он? И средства дал?
Обреченно-усталый в первый раз усмехнулся.
— Средства? Никаких… Просто сказал «поезжай и приезжай, когда выучишь»…
— И вы сделали?
— И я сделал…
— Что же вас заставляет слушаться?
Обреченно-усталый повел плечами.
— А что же «так» жить? Слаб человек… Палка нужна… Хозяина нужно. Найдешь хозяина — слушайся… Без хозяина — плохо… Так — хоть и тяжело, чертовски тяжело… а все же знаешь, что ведут тебя куда-то… А так… без пути… Зачем?
Он обратился к Михайлычу и заговорил другим тоном.
— Какую он еще мне теперь пакость придумает? Воображаю… Я его систему, знаете, как называю, — «зонтичной»…
— Почему?
— А вот представьте, что вам зонтик в пищевод вставили… Неприятно? Правда? Но вы думаете — ничего, потерпим… выймет когда-нибудь… Как, раз!.. Он не выймет — а он вдруг вам раскроет зонтик… Да… у вас в пищеводе… Такая система!!.. Все труднее… Конец? Конца никогда не будет…
Он махнул рукой… обреченно-усталой…
* * *
На этот раз это было в театре…
На сцене были все тамошние и еще много других… И Михайлыч…
В просторных костюмах, белых, мягких, широких… Различаются только шелковыми поясами разных цветов…
В оркестре те странные мелодии… И еще другие — странней…
Их ведет определенная, прекрасно себя сознавшая, мысль…
Начинается с движений почти молитвенных и почти европейских, т.е. координированных, естественных… Только тоненькая жила чего-то странного, противоречивого, змеится в некоторой необычности поз и жестов… Но, может быть, эта необычность — это просто ориентальность? Дыхание Востока, который должен же чем-нибудь отличаться от Запада… Может быть, поэтому то молодой человек, который объясняет публике (по-французски) перед каждым номером, что будет, заговорил о религиозных танцах Востока…
Кстати, хотя он говорит по-французски, а публика в театре всякая, но там, на сцене, почти сплошь русские. Отчего это, собственно?
* * *
С каждым номером делается все выпуклее… Восточность или «противоестественность», если это одно и то же, вкрапливается все сильнее… Примесь мучительства яснее… Они там, на сцене, стали дергаться!… Пробивается изуверство… От неба их все больше тянет к земле… Нет больше молитвенных движений… Вместо этого что-то странное, полуживотное… Однако!.. Вот это — это уже просто гадко!.. Они стали на четвереньки и мучительно трясут головами… дергаются носом вниз… точно одержимые звери…
Но, как бы почувствовав, что это un peru trop fort,[29] — пока невидимая рука, ведущая их, подымает человеческое стадо и снова заволакивает их в срединных, невыясненных, «евразийских» тонах…
* * *
В антракте пришел Михайлыч…
— Ну, что?
— Красиво? Интересно… необычно… полно ярко-мрачных настроений Востока… удивительная дисциплина…
— Вы говорите, точно рецензент…
— А вы хотите по существу?
— Да, да, именно по существу…
—По существу я вам вот что скажу: здесь запахло кровью и серой…
* * *
С крови началась вторая часть… «Танцы дервишей»… в самых разнообразных видах…
Все более или менее представляют себе, как танцуют дервиши… Они доводят себя до исступления целым ассортиментом противоестественных движений. Танец дервишей — это средство прийти в экстаз…
Прийти в такое состояние, когда тело не чувствует законов тела… Для чего? Вот именно: для чего? Известно, что кульминационный пункт дервишей, когда они режут себя и других ножами… кромсают человеческие тела, но «освобожденные от законов тела» — эти тела не чувствуют, не слышат…
И потому явственно запахло кровью, когда танцы дервишей появились на сцене… не было, правда, ножей. И потому не было самой крови. Но аромат ее был…
* * *
Чтобы дать «передышку», было упражнение «Stop»… но была ли это передышка или только ступень?
Они танцевали какой-то очень сложный танец, причем каждый и каждая — свое отдельное… И, конечно, — противоестественное… Какие-то одиннадцать, а может быть, сто одиннадцать «противоречивых» движений разом… Руководимые чьей-то волей, они всецело были погружены в исполнение этой дьявольски трудной, противной всем законам естества, и гордыней ума, отрицающего природу, начертанной программы… Лица у них были напряженные до страдания… Всякая мысль обо всем на свете исчезла, лишь бы не сбиться! Лишь бы выполнить волю, диктующую, повелевающую, ведущую…
И вдруг резкое, как удар бича, сверкнувшее откуда-то, должно быть, из-за кулис, ослепляющее, как молния, — слово:
— Stop!!!
Его не видно было, но, конечно, это был он — «учитель»… невидимый, но зримый…
Что произошло?
Со всеми вместе и с каждым порознь произошел «столбняк»… Каждый и каждая остановились в той позе, в какой их застало… Все — в разных, потому что каждый танцевал свое… Но все — в противоестественных, потому что ведь это было сто одиннадцать «противоречивых» движений… А все вместе они были — одна застывшая корча… Или, вернее, столько разных корчь, сколько их было, несчастных русских, на сцене…
Они остановились, неподвижные, как камень. Но через секунду один стал падать… За ним другой, третий…
Это упали те, которых неумолимое «Stop» застало в положении, невозможном по законам физического равновесия… Непобежденная природа вставала, роняя человеческие тела…
И они падали…
И это падение окаменевших тел, которые и упав, на земле, сохраняли положение застывшей корчи, было жутко в наступившей абсолютной тишине…
Остальные стояли гримассированной, выкривленной во всех невозможностях бронзой…
И из-за кулис холодом пекла веяла власть… Странная власть «учителя»… Власть диктующая, повелевающая, ведущая…
Куда?
* * *
Спросите Ленина!
Разве он не такой же?!
Разве, прогнав нас через одурь крови, он не заставил нас, русских, танцевать страшный танец социализма, весь сотканный из корчей, неестественности и противоречий, весь начертанный гордыней человеческого ума, отрицающего законы природы, высокомерием Диавола, предвечно на Бога, эти законы природы установившего, восстающего…
И кто знает, измучивши русское тело «сто одиннадцатью противоречиями», т. е. невозможными, противными естеству человека, социалистическими выдумками; приковав русскую душу и разум к исполнению этой бесовской пляски «дервишей чрева»; до конца поработив волю людей в этом шабаше лживого равенства и истинной лжи — вдруг, внезапно, наскучив кровью и кривлями своих «учеников», не крикнет ли он ограбленной России:
— Stop!!!
* * *
И остановятся, и будут бедные рабы «столбить» застывшей в пытках бронзой, пока «некто в декретном» не крикнет им:
— Allez!!!
Кто это крикнул? Ленин? Нет, это тот человек за кулисами… И застывшие ожили и вновь заплясали свой темный танец, который ведет их…
Куда?
* * *
Это разъяснилось в последнем акте, т.е. в последнем номере, который назывался:
«Поклонение Дьяволу»…
Диавол сидел посредине…
А они, по очереди, по одному, подходили, приплясывая, — ему поклоняться…
И было это страшно…
Потому что пляски их были слишком ясны… Каждый из них изображал какую-нибудь страшную нервную болезнь… Это все были «одержимые»… Их корчило, их сводило на все лады… В этих судорогах «подносило» их к Диаволу… И тогда они «поклонялись»… И были их «поклоны» похожи на укус собаки… Точно хотела укусить, но не смогла, лязгнула зубами, хватив воздух, и отбежала, посрамленная, на место…
* * *
— Ну, что?
— «Пахнет серой над лугами», Михайлыч…
— Да… я с вами согласен…
— Может быть, вы над этим подумаете?
— Над чем?
— Над тем, чтобы прекратить ваше поклонение Дьяволу…
— Может быть, подумаю…
— В таком случае… До свидания…
* * *
Говоря серьезно, я не думаю, что «Институт гармонического развития человека» был затеей сатанистов… Мне кажется, что «учитель» просто сильный волевой человек, который к тому же знает многое… Он этим пользуется и собрал около себя кружек «бесхозяйственных» людей, людей «без догмата», ищущих руководителя. Что они оказались почти сплошь русским, это тоже понятно. Русские вообще безвольны и всегда ощущали потребность «то перед тем, то пред этим валяться на брюхе», а теперь в особенности, когда прежние догматы и прежние хозяева ушли… Если эти люди нашли в Институте «отраду и покой» — то и слава Богу…
Но если «слава Богу», то зачем эта Люциферова кухня? Зачем звать образ Вельзевула, если не служить ему по существу? Для чего эти корчи и судороги, кровавый аромат с поклонением дьяволу в апофеозе?..
Ведь сказано: «И не введи нас во искушение»…
Русские знают по собственному опыту теперь, что такое «играть с огнем»… Играли, играли с революцией и доигрались… Сто лет проповедовали «свободу, равенство и братство», и не заметили, кто носит этот плакат по миру на высоких шестах, высотою с Эйфелеву башню. А если бы обратили внимание, то увидели бы, что под плакатом ходит Некто в черно-красном и что у него — хвост и козлиные копыта. И что этими своими копытами ходит он по гуще — месиву, которое месиво — из грязи, крови и золота… Кто соблазнится, кто побежит за плакатом по месиву, тот в этой гуще из грязи, крови и золота увязнет… Вот Россия увязла…
Так и с «Институтом гармонического развития человека»… Если это гармония, то есть — сила, здоровье, то не нужно корчей, судорог и одержимых страшными болезнями; если это путь к Свету, то есть к Богу, то не нужно одаривать сатану…
Сатана и так близко… Ибо сказано: «…но избави нас от Лукавого».
* * *
По странному совпадению именно в этот время — то есть в марте 1821 года — Ленин крикнул «Stop!» своим рабам: это выразилось в декретировании «новой экономической политики».
Три года их, русских рабов, учили танцевать танец социализма, противный существу человека. В страшных судорогах, словно одержимые ужасными болезнями, они три года плясали смертельный танец «религии чрева»… И вот «учителю» надоело… Пресытился ли он кровью чрезвычаек, или же стонами умирающих с голода, или не выдержал неумолимого взгляда Белой Мысли, — неизвестно: «Сердце Ленина в руце диавольской»… Верно то, что он крикнул «Stop!», выговаривая эти слова, как — «Нэп»!!!
И все остановилось… Рабы перестали танцевать танец социализма… Послушные, они застыли так, как их застал грозный окрик… Но некоторые, не выдержав положения, противного законам равновесия, падают…. Тела их, падая, звучат глухо… Другие стоят выкривленной бронзой…
Ждут: когда же повелитель прикажет потанцевать танец смерти… ждут нового декрета об «углублении революции»… Ждут нового взмаха хлыста:
— Allez!..
* * *
О, род людской!..
Из переписки
Получил ваше письмо. Ужасно рад, что вы меня вспомнили. Но не рад вашему настроению. Оно явно пессимистическое, утомленное.
Я не испытываю этого ощущения, вероятно, потому, что тяжелые личные утраты выращивают на мне какую-то буйволиную шкуру, сквозь которую не могут пробиться самые отчаянные, на первый взгляд, переживания.
Вы можете это считать своего рода истерией, но все же я должен сказать, что никогда не был так убежден, что Россия займет подобающее Ей место, — как сейчас. Это ощущение происходит от всех тех впечатлений, которые я впитал в себя в течение минувшего года. Общий итог этих впечатлений: убеждение в необычайной живучести русского тела, убеждение в том, что процесс жестокого прессования, которому подвергнуты русские и Белой, и Красной России, — даст в итоге фалангу людей, необычайно закаленных, т.е. именно то, чего нам недоставало. Ибо я убежден, что причина всех несчастий была изнеженность руководящего класса, неспособного «вести», то есть нести на себе, бремя власти.
Этот процесс, повторяю, идет в обеих половинках России — как Белой, ныне эмигрантской, так и Красной, оставшейся на родине. Разумеется, в настоящую эпоху эти две половинки весьма противоположны по своей идеологии. Но в значительной мере эта противоположность только кажущаяся. А кроме того, ничего нет на свете более непринципиального, чем принципы. Все эти взгляды и рассуждения могут легко измениться, но характеры останутся, и это самое важное. Словом, для меня настоящая эпоха есть не более как та суровая школа, которую необходимо было пройти нашей совершенно обабившейся (да простят мне это слово поклонницы вашего таланта) интеллигенции.
Разумеется, я понимаю, что на все это вы весьма кисло улыбнетесь и ответите мне хохлацкой поговоркой «пока солнце взойдет, роса очи выест». И тем не менее, это так.
Значит ли это, что я предложил бы абсолютно бесстрастное выжидание событий? Нет…
Мое мнение сводится к следующему.
Есть в настоящее время два русских народа. Один — здесь, по заграницам: этого народа два миллиона. Другой — это русские, оставшиеся в России.
Если предположить, что вы правы, что какая бы то ни была интервенция не состоится, то что следует нам, людям, в настоящее время принадлежащим к заграничному двухмиллионному народу, — что следует нам делать?
Тут может быть два случая. Допустим, вещь совершенно недопустимая, что мы никогда уже больше не вернемся в пределы России. И в этом случае нам совершенно необходимо держаться друг друга как можно тесней, для того чтобы не перестать быть русскими.
Что значит держаться друг друга? Это значит иметь такой центр, к которому мы, русские, находящиеся во всех странах, тяготели и которому повиновались. Пока такой центр имеется в лице Главнокомандующего, т.е. генерала Врангеля, и, я думаю, было бы величайшей ошибкой валить этого бога…
Во всяком случае, я считаю твердо установленным, что всякие «учредительные собрания» парижского типа уже похоронили друг друга. Откровенно вам скажу, что двухмиллионный эмигрантский русский народ все эти затеи в грош не ставит.
Итак, даже если мы здесь застряли навек, то все же нам нужно организоваться, хотя бы по примеру евреев, рассеянных по всем странам земли.
Однако эта наша заграничная организация, если она только будет создана действительно, как настоящая руководящая сила, будет именно тем, что может потребовать от нас Красная Россия в ту минуту, когда она побелеет.
Что могут просить у нас? Ведь ясно, что захотят «призвать варягов» в ту минуту, как убедятся, что красный или розовый порядок невыносим. Но для того, чтобы призвать варягов, нужно, чтобы они были. Варягами же будут те, кто сумеет в ближайшее время стать во главе двухмиллионного русского заграничного народа. И так «стать», чтобы ему повиновались, кто за совесть, кто и за страх. Словом, нам нужно наше эмигрантское правительство, признаваемое всеми державами, и в особенности Лигой Наций, которая, надо думать, крайне обрадуется этому делу, за неимением другого. Словом, предлагаю вашему просвещенному уму подумать над проектом персонально-национальной автономии. Заимствую эту идею у «моих друзей» иудейского вероисповедания, так как сама жизнь принуждает нас испытать их судьбу. Симпатичнейший Винавер, кажется, он меня особенно жалует за мою статью «Пытка страхом», которую он, впрочем, вряд ли читал, может в этом отношении дать вам очень полезные фактические указания.
Каким другим способом мы могли бы выработать тех «варягов», которых у нас могут потребовать? Ведь, в конце концов, России нужны будут люди, способные ею управлять. Каким процессом выявить этих людей, как не на опыте самоуправления Белой Россией, очутившейся за границей? Если и этот процесс не даст этих людей, то значит, их нет вообще в природе, т.е., вернее, среди нас. Тогда мы успокоимся и поставим точку.
Разумеется, дело может произойти и иначе. Варягов призовут из своей собственной среды по испытанному рецепту бонапартизма. Весьма возможно, что это именно так будет. В этом случае, разумеется, Белая Россия потянется на родину, ибо не приемлющих Бонапарта окажется немного. Но и в этом случае, чтобы пройти, если не в варяги, то в «подваряжки», все же надо этих последних в своей среде отыскать. А каким иным путем это можно сделать, если не в процессе политической работы над изгнанным за грехи двухмиллионным русским народом?
Я был бы очень рад убедиться, что в Советской России действительно существуют в наличности те, которых Вы называете словом «они». «Они», думающие о будущем России, «они», хотя служащие большевикам, но имеющие свой определенный план и знающие, куда они идут. К сожалению, я убежден, что «их» нет. Процесс идет, и процесс грандиозный. Большевики воображают, что они насаждают социализм в России, а вместо этого выковывают будущую страшную, крепкую, сильно спрессованную и национально, до шовинизма, настроенную Россию. «Так тяжкий млат» и так далее… Но делается это стихийно, по каким-то неведомым никому законам, а вовсе не по воле мистических «их», которых нет.
Впрочем, насколько это зависит от меня, я буду «их» искать. Если найду, немедленно вам отпишу. Смотрите, отпишите мне также. Только не по почте, ибо письма читают все, кому не лень.
Резюмирую мой план.
1) Держаться Врангеля «до судорог».
2) ………………..
P. S. Обстоятельства с виду переменились, когда я подписываю это письмо, но, по существу, все то же. Не знаю, чем кончится это восстание, на которое, по-видимому, рассчитывает дуумвират Керенский-Милюков. Убежден в одном, что эсеры совершают самый наглый плагиат, ибо восстание идет отчасти стихийно, а частью под лозунгом «большевики против коммунистов». Эта формация мне хорошо знакома. Я наблюдал ее еще год тому назад в кавалерийской дивизии некоего Котовского, к которому попал в плен почти весь отряд полковника Стесселя. Эта публика произвела на меня впечатление той гущи, из которой со временем образуется воскресший «Союз русского народа». Во всяком случае, если в России будет период анархии, восстаний, мятежей всякого рода, нечто, что сохранит дисциплину, будет иметь все шансы, чтобы выплыть в этой каше. Здесь, около Константинополя, мы имеем ядро (галлиполийский лагерь), которое в этом смысле сейчас очень подтянуто: настроение его превосходно. Посещение Главнокомандующим лагеря было сплошной овацией. Не верьте всему тому, что говорят о «лагерных ужасах». Всё — сплошная ложь. Я был там лично и имею постоянную связь. Эта армия не только не кончена, а находится в расцвете своей боевой способности. Чтобы не было недоразумений, имейте в виду, что я говорю сейчас о 22 тысячах, находящихся в Галлиполи. Остальные лагери, где находятся казаки, легче разложить и поссорить с ген. Врангелем. Друзья Керенского и Милюкова стараются об этом изо всех сил, за что когда-нибудь, в особенности вашего друга Павла Николаевича, «проклянет всякий сущий в Ней язык».
Во всяком случае, я Милюкову никогда не прощу этого второго Выборгского воззвания. Разрушать из-за каких-то идиотских (ну, скажем, не идиотских, но, во всяком случае, проблематических) соображений реально существующую русскую силу и уже созданную организацию — это значит еще раз проделать трагический фарс под заглавием «что имеем, не храним — потерявши плачем». Между тем мы здесь думаем, что последняя добивающая политика французов (предъявлено категорическое требование ехать или в Бразилию или в Совдепию, и с 1 апреля прекращается паек) — это дело наших же русских в Париже.
Вы знаете, что я не легко монтируюсь. Но я в бешенстве. В таком же бешенстве, в каком я был, когда я видел бессмысленное разрушение «невознаградимых ценностей», о которых говорил Милюков. Скажите же ему, этому странному человеку, такому умному и такому в самых важных вопросах неразумному, что он именно и разрушает «невознаградимую ценность» — несколько десятков тысяч людей, покоряющихся одной воле. И притом воле весьма и весьма приемлемой и стоящей головой выше всякой керенщины. И ради чего это? Ради эсерских банд, подпольной шпаны, которая никогда не избавится от своего первородного греха и не способна править в положении легальной власти. Они ничего не дадут и даже в том случае, если победят большевиков, — кроме жесточайшей кровавой анархии, которую все равно придется прекращать белым. Я допускаю, что между Красной и Белой Россией будет какой-то промежуточный период кровавого месива. Но пусть с ним возятся все эти савинковы, балаховичи, военноначальники из бомбистов и наемных убийц. Но зачем понадобилось Павлу Николаевичу петушком бежать за Александром Федоровичем, не возьму в толк? Я так живо вспоминаю июнь 1918 года, когда он приехал в Киев и говорил мне, что мы накануне «второго Седана» и что «Германия поставит Францию на колени».
Напрасно я умолял его не губить свою политическую репутацию и творил заклинания при помощи телеграммы, которую, помните, передавал по радио через Москву. Но милюковское упрямство победило несомненный ум этого человека. Он пошел разговаривать с Эйхгорном… «Докончить ли старую песню?.. Звучит так печально она…»
И опять будет то же самое. А все потому, что он не понимает лучшей из французских поговорок:
— Fais ce que dois, advienne que pourra…[30]
Я расчувствовался, значит, пора кончать. Напишите мне.
(Подпись)
Константинополь 22/9 марта 1921 г.
Париж, 5 апреля 1921 г.
Спасибо за письмо. И пишите еще, и я буду писать, чтобы не вовсе перестать понимать друг друга: а кроме того, может быть, в этих писаниях кое-что покажется полезным друг для друга. Пока я могу констатировать одно: мы думаем в совершенно разных плоскостях. И это может быть понятно; мы в эти годы варились в разных котлах, и у нас не только разные выводы. Но и разные исходные точки. Вы жили в России; даже когда стали эмигрантом, продолжаете жить в русской атмосфере, не эмигрантской; я эти три года живу исключительно с иностранцами и эмигрантами. И любопытен результат этой разницы; я интересуюсь почти исключительно тем, что делается в России; на эмиграцию вовсе не надеюсь и даже мало ею интересуюсь. А вы думаете специально об эмиграции, о двух миллионах зарубежной России, которая что-то сделает в будущем и должна что-то делать в настоящем. Каждый надеется на тех, кого не знает. Для меня неясно, что происходит в России, которой я интересуюсь. Сведения, которые оттуда приходят, противоречивы; они сходятся в одном: на «нас» в России, т.е. на буржуазию и интеллигентов, рассчитывать не приходится, мы там или деморализованы, или развратились, или погибли, мы ничего не сделаем. Если кто-либо может там что-то сделать, то это «низы». Вы тоже рассчитываете на стихийные процессы. Да, конечно, они будут и не могут не быть. Я на них тоже рассчитываю. И это меня не радует. Если Россия будет спасена стихийным процессом, это будет ужасно; стихийный процесс поведет нас не торной дорогой и приведет к плачевным результатам. Во-первых, он будет страшно медленным; большевики погибнут, но погибнут последними; раньше их погибнут остатки нас и все то, что было интеллигентного и инициативного в массе. А во-вторых, в известной стадии этого стихийного процесса в России появится вмешательство иностранцев, специфических иностранцев, обнаружится новое отношение иностранных государств к России. Вы и сейчас негодуете на них, и во многом это негодование я и понимаю, и разделяю; часто я чувствую его полнее, чем вы. Но это негодование сейчас вызвано тем, что иностранцы нам недостаточно помогают или помогают не так, как хотелось бы; но в известной стадии разложения России появятся иностранные акулы, которые поймут, что из России можно кое-что вытянуть, что это можно вытягивать не навсегда, а на продолжительное время и что на это стоит рискнуть; начало такого отношения уже замечается в Англии в вопросе о торговых сношениях и концессиях. Нам говорят, что это только новая политика борьбы с большевизмом; что, когда начнут торговать, завяжутся те постоянные отношения Европы с Россией, при которых большевизм, особенно в теперешних формах, не сможет существовать; иногда объясняют, что это просто внутренняя политика, что английскому правительству необходимо показать рабочей партии, что из торговли с Россией ничего не выйдет, покуда он находится под большевистским гнетом. Обе эти причины все-таки политика, хотя и ошибочная; но я боюсь того времени, которое, может быть, уже началось, когда это будет определяться вовсе не политическими, а гораздо более простыми соображениями… «Мы не сторож над братом нашим», какое нам дело до того, что происходит в России, на ее счет можно поживиться и нужно это делать как можно скорее; а если кто-либо будет иметь цинизм так открыто заявить и поступить, то за ним последуют и другие по правилу: «не я, так другой», и тогда в России появятся иностранцы как хищники и эксплуататоры. И как только они появятся и наберут от большевиков всяких концессий, то иностранные государства будут уже заинтересованы в том, чтобы сохранить то правительство, которое роздало эти концессии. И подобно тому, как сейчас одним из препятствий к признанию большевиков является их нежелание платить русские долги, так и тогда во всех попытках заменить большевистские государства будут ставить предварительным условием признание всех выданных им концессий. Конечно, это будет не всегда, а может быть, и ненадолго; но это все же грозит периодом, когда в России не будет большевизма в настоящем смысле этого слова, когда будут уважать собственность, будут торговать, будут все благополучия буржуазного строя, но будет все-таки нечто вроде dette Ottomane, режима капитуляции и других прелестей этого сорта.
Я боюсь этого периода больше всего потому, что он представляется наиболее правдоподобным. Мы все жили в ожидании чуда. Нам мерещился какой-то Минин, который в известный момент соберет за собою русских людей и пойдет выгонять «воров» и иностранцев. Чудом была бы и победа Колчака, и победа Деникина, и победа Врангеля; чудом было бы избавление России кровью и доблестью Добровольческой Армии, чудом была бы победа Кронштадта, когда бы из какого-то центра разлился бы вдруг революционный процесс, который смел и сбросил власть большевиков. Все это чудеса; но чудес не бывает, потому что всякое чудо делается верой, а веры больше нет.
А если не будет чудес, то процесс пойдет иначе. Большевики увидят, что идти прежней дорогой невозможно, что надо идти на уступки и, конечно, по линии наименьшего сопротивления. Этой линией наименьшего сопротивления, при этом той, которая больше всего обещает выгод, является вмешательство иностранцев. Каменев сказал правильно: «русские капиталисты сейчас же будут добиваться власти; иностранные капиталисты безопаснее, они будут добиваться только дивиденда: и потому, прежде всего, пригласим иностранных капиталистов». Конечно, в тот день, когда это будет сделано, большевики, у которых сохранится фанатизм и вера, будут видеть, что гибнет коммунизм в России, пропадают последние шансы на вынесение коммунизма в Европу; они будут кричать, бунтовать и саботировать. Их устранят.
Словом, вы меня понимаете. Все дороги ведут в Рим, и мы выйдем туда, куда хотели прийти. Этот период засилья иностранцев, может быть, будет даже гораздо короче, чем с первого взгляда кажется. Может быть, именно в борьбе с этими иностранцами создается тот национальный шовинизм, о котором вы пишете. Все это так, но дело в том, что при таком процессе не будет перелома; большевизм в целом не будет держать ответа перед Россией. В сущности, большевики и не будут низвержены; они останутся хозяевами в России; будет преемственность между Россией большевистской и Россией будущего, как была преемственность между революцией и Бонапартом. Не будет морального удовлетворения, что предатели получат возмездие от России. Они поедят друг друга сами, и сам большевизм исцелит большевизм. С точки зрения моральной потребности человека окажется большой недочет.
Но теперь я хочу сказать вам несколько слов по поводу ваших надежд. Вы еще недавно попали в положение эмигранта, сохранившего связь с остатками России, где дышат еще русским воздухом; в постскриптуме вашего письма вы приходите в бешенство при мысли, что эту ценность разбивают, что ее больше не будет. Прибавляю от себя, что тогда и вы и все остальные очутитесь в том положении эмигрантов, в котором я живу вот уже четвертый год. Не касаясь сейчас вопроса, как это вышло и что из этого следует, я только подчеркиваю, что вы настоящей эмиграции пока не видели; этим я объясняю те надежды, которые вы на нее возлагаете.
У вас в этом отношении поэтическая, но не реальная мысль. Вы хотели бы, чтобы вся русская эмиграция за кого-то держалась, дала иностранцам и Лиге Наций образчик того, как живут за границей русские люди, и вы (о судьба!) ищете вдохновляющего примера в еврействе, раскиданном по всей земле и сохранившем и связь, и организацию, и некоторую мощь. Все это очень красиво и, может быть, соблазнительно. Но это все-таки поэтическая вольность. Я не знаю, таково ли было еврейство в первое время после разрушения Иерусалима, когда оно очутилось в положении нас, людей, оторванных от родины, потерявших связь с ней, живущих в чужой стране; проявило ли оно и тогда организацию, солидарность и влияние на ход всемирной жизни, которые вы ему приписываете теперь. Об евреях того времени мы слыхали, что они плакали на реках Вавилонских. Это могут делать и русские люди. Но у нас не сохранилось преданий, как евреи жили первое время, и могут ли они служить нам примером.
Главное наше отличие от современного еврейства то, что мы вовсе не сознали, что потеряли родину, и что нужно прочно устроиться за границей, не потеряв своего русского облика. Евреи так и поставили свою задачу: устроиться на чужбине, в чужих странах, но сохранить себя как евреев, как людей одной страны, одного прошлого. Ту же задачу решают наши духоборы в Канаде, остатки некрасовцев в Турции и т.д. Но наша эмиграция с этим не мирится и не скоро помирится. И она права. Вся наша эмиграция еще имеет родину и уверена, что скоро в нее вернется. Она не отчаивается, что при некоторых условиях более или менее скоро, но туда вернется. Отличительная черта эмиграции, тех, кто бежал из России — одни вольно, другие невольно, — заключается в том, что они предпочитают переждать это смутное время в условиях спокойного и, во всяком случае, безопасного существования и намерены вернуться в Россию тогда, когда там все уладится. Мы с необыкновенной легкостью говорим, что задача сбросить большевиков лежит на тех, кто там остался. Мы знаем, что там остались не только рабочие и крестьяне или солдаты, но и наши единомышленники, люди одного с нами класса, буржуи и интеллигенты; и мы осуждаем их за то, что они мало и плохо борются. Мы предоставляем им бороться в условиях голодного существования, под риском ежеминутного расстрела, и сочли себя правыми, что мы оттуда убежали. Ведь это бегство началось, как вы знаете, гораздо раньше, до большевиков, когда в России жить было можно.
В ту жизнь попали не только те безответственные статисты, которые могут нам говорить: «что вы с нами сделали», но и те, которые в той или иной мере сознательно поддерживали нас своей деятельностью, — журналисты, промышленники, ученые — все эти люди и составляют то — что мы называем эмиграцией. Два миллиона людей, которые составились из таких элементов, и есть та эмигрантская Россия, на которую возлагают не только обязательства (вы хорошо делаете, что не возлагаете, — они все равно не исполнят) — но на которую, во всяком случае, возлагают какие-то надежды. Я эту Россию наблюдаю четвертый год, и с меня этого достаточно. Я уже предъявляю к ней одно требование: чтобы она не мешала русскому делу за границей, ибо именно эта эмиграция в ее целом повинна в том, что сейчас происходит. Я говорю об эмиграции в ее совокупности, а не о положении, которое заняли отдельные лица. В этой эмиграции, конечно, есть и исключения трогательные: я знаю людей, которые ни на что не претендуют, несмотря на громкие титулы и счастливое прошлое, которые поступают то в чернорабочие, то в прислуги, то на самые скромные должности, ничего не просят, ни на что не жалуются… Эти люди, когда их видят и наблюдают иностранцы, мирят их с Россией; они внушают и уважение к ним и доверие к нам. Они в большинстве случаев хорошо поняли свои прежние ошибки и свои прежние вины. Но их, во-первых, немного, а во-вторых, по природе своей они не бросаются в глаза, не шумят, не привлекают к себе внимания; а потому впечатление, которое они производят, ограничивается очень небольшим кругом лиц. Не они кажутся типичными для России, а кто знает, может быть, и действительно, не они типичны.
Гораздо более заметными, а может быть, типичными, являются другие. Сюда относятся и те, которые приехали сюда с деньгами, часто с большими деньгами, или настряпали деньги здесь, продавая иностранцам находящиеся у них в России имущества; эти богатые люди своего богатства не скрывают и не стыдятся. Они по-прежнему швыряют деньгами у всех на виду, демонстративно; и если иногда и платят дорого за билеты благотворительных спектаклей в пользу русских, то являются на эти вечера в таком ореоле богатства и роскоши, что от этой благотворительности просто тошнит. Конечно, этих людей всюду принимают, за ними ухаживают, но за спиной все про них же злословят и возмущаются их отсутствием такта. Другая категория — бедные люди. Это те, которые сохранили убеждение, что кто-то должен о них заботиться и их содержать; они требуют деньги то у французского правительства за то, что остались верны Антанте, то, и уже более настойчиво, от «русского государства». Когда их не удовлетворяют или удовлетворяют не полностью — они возмущаются, ругаются, обвиняют всех в казнокрадстве и т.д.
Еще гораздо больше случаев, когда эти просители просто лгут и занимаются мелким мошенничеством, столь типичным около благотворительных учреждений, комитетов, выпрашиванием денег на какой-либо билет до города, где они будто получили место, на уплату за квартиру и т.д. и т.д. Это — категория людей, которые думают только о себе, как прожить. Но не много лучше с теми, которые думают не о себе, а об общем деле, о России. Здесь обычная картина эмигрантских настроений. Каждый хочет делать все сам и от себя лично; вы помните свою статью «Пусти, — я сам». Желая делать «все сама», наша эмиграция ужасно боится, чтобы что-либо не сделали другие, вместо нее. О внутренних несогласиях она немедленно трубит вслух и торжествует победу, если успела кого-нибудь подорвать в глазах иностранцев. Это психология общая; и что бы ни говорили люди, что хотят единства, согласия, общего фронта, под этой терминологией скрывается, в сущности, только желание быть во главе этого фронта и выстроить всех за собой. Если бы дело шло о чисто идейных несогласиях, это было бы терпимо: но мотив этой деятельности гораздо более личный, конечно, не в смысле корысти. Все как будто боятся остаться в стороне, боятся, что что-то делается без них. Это опасение — быть устраненным от русского дела, остаться за дверью — достигает каких-то болезненных размеров.
Вот и судите сами, можно ли, не теряя чувства реальности, думать, что эту эмигрантскую массу вы какими-то путями приведете к одному знаменателю, заставите ее за кого-то держаться, как вы предполагаете. Конечно, если бы Врангель мог оказаться для них полезным, может быть, в мере этой пользы они бы за него держались; да и то держались бы, поскольку это им нужно, не отказывая себе в удовольствии его критиковать. Тогда, когда Врангель защищал Перекоп и когда от его успеха зависела физическая безопасность всего Крыма, в Крыму его признали… Если бы у Врангеля были в руках источники средств, которые бы шли всей эмиграции, то она, получая эти деньги и ворча, но его все-таки признавала. Но когда нет ни того, ни другого, к каким «человеческим» чувствам делаете вы призыв, чтобы они за него продолжали держаться? Что бывшие его соратники по оружию, для которых он единственный и естественный ходатай, за него держаться, это я хорошо понимаю, да, наконец, это происходит в той среде, которую не могу назвать эмигрантской, так она недавно вышла из России. Она не типична. Но как только вы отойдете от этих центров и пойдете дальше, то Врангеля могут признать вождем только из желания насолить другим; они могут признавать его только против кого-либо, как можно «любить» против кого-нибудь. Вот почему я не только не думаю, чтобы можно было спастись на вашем совете «держитесь за Врангеля», но не думаю и того, чтобы после его падения, если оно совершится, его можно было чем-либо и кем-либо заменить. Я считаю, что эмиграция сделает максимум того, что она может сделать, если она здесь за границей не будет вредить России, не будет приводить иностранцев в отчаяние и разочарование; если она просто сумела бы с достоинством жить, никому не надоедая, ни на что не претендуя. Губит ее основное желание играть за границей политическую роль; а в вашем совете это желание содержится полностью. Вы этим двум миллионам людей приписываете политическое значение. А я в это не верю. Врангель был силен, когда он был в России. Поскольку еще можно было рассчитывать, что он и за границей останется во главе войск, которые можно куда-либо бросить, он продолжает быть силой. Когда же он перестанет быть во главе такой силы и превратиться в эмигранта, и он должен отказаться от претензий на политическую роль.
Если бы русская эмиграция не смогла бы никогда вернуться в Россию, то через несколько поколений из нее, может быть, выработалась бы сплоченная сила; да и это едва ли; одни бы погибли, а другие бы приспособились к условиям заграничной жизни. Но чтобы в настоящее переходное время можно было что-либо основать на эмиграции, я считаю глубоко ошибочным. Поэтому, в отличие от вас, мой интерес совсем не в ней, а к тем людям, которые что-то делают в самой России. Я уже вам говорил, что относительно них у меня нет оптимизма, т.е. оптимизма в том, что это быстро кончится, и оптимизма в смысле торжества исторической справедливости. Там восторжествует подлость . Впрочем, в этом тоже есть и некоторая справедливость, ибо это, в сущности, значит, что мы получим по заслугам за нашу претенциозность, легкомыслие и политическую бездарность. Но эмиграция — эмиграция, живущая мечтами, что другие должны о ней заботиться, что она имеет какие-то права на эту заботу, эта эмиграция в моральном и в политическом смысле стоит на ложной дороге: не ей спасти Россию, и не ей управлять ею.
Я вам говорил, что я не верю в возможность эмиграции играть политическую роль в России; это я повторяю. Но иметь влияние заграницей, на заграничную политику, она могла. Эта возможность требовала только двух условий — ясности и единодушия . Надо бы помнить, что жизнь России от нас не зависит, что она пойдет по-своему и глупо мечтать управлять ею из-за границы. Здесь же надо было поддерживать одно: отрицательное отношение к большевизму; а для этого тоже только одно: поддерживать веру в нас нашей политической сплоченностью. Вот вся политическая программа эмиграции. И ясно, пока были антибольшевистские центры, действующие, имеющие то, чего мы не имеем, власть и территорию , все должно было сосредоточиваться около них или около тех, кого они бы признали. Они были хозяева положения. Но когда они это положение потеряли, надо было выстроить новый фронт, принимая в учет всё. Мы же — одни стали кричать: долой Врангеля. А другие: vive quand meme Врангель. Мы теперь ищем виноватых в этой сваре: бесполезное занятие. Просто мы остались тем, чем мы были, т.е. людьми, которые ссорятся. Ибо кто-то за них думает и действует. Все это я говорю, чтобы показать, что, как ни обидно то, что делают иностранцы, в этом приходится больше винить нас самих, а не их. При ином нашем поведении было бы иное к ним отношение. И я не сомневаюсь, что в тот день, когда опять появится просвет, надежда на то, что Россия выплывает, со стороны иностранцев мы опять увидим такую искреннюю готовность идти к нам на помощь, при которой то желание им отомстить, которое скапливается в наших душах, может оказаться беспредметным. Я говорю, конечно, об иностранцах-друзьях, на которых мы сейчас негодуем, а не врагах, которые хотят на наш счет поживиться.
Ну, довольно, и так я вам написал больше, чем собирался, буду ждать вашего ответа.
«Лукулл»
Я уже знал эту хорошенькую яхту: однажды мне случилось сделать на ней переход в шторм. Она держалась бодро. Но назначение ее при постройке, насколько я знаю, был именно Босфор: здесь она должна была служить для поездок нашего посла. И Судьба устроила так, что умереть суденышко пришло, так сказать, на родину. Именно на Босфоре оно выполнило свою последнюю и историческую миссию.
Впрочем, — стоя на якоре…
* * *
Генерал Врангель вызвал меня на «Лукулл» по одному делу… Дело было связано с Кронштадтским восстанием. «Кронштадтское восстание», как известно, смутило не один «горячий ум». Так вот и я тоже немножко тронулся…
В газетах были напечатаны рассказы «очевидцев» о том, что, как отзвук Кронштадта, «весь юг в огне восстаний». В частности, «лицо только что бежавшее в Константинополь из Одессы» утверждало: что в последней большевики свергнуты. Их заменил, будто бы, какой-то кишмиш из «властей» — так сказать, варьете из украинцев, ропитовцев (рабочие Русского Общества Пароходства и Торговли), немцев-колонистов и Городской Думы. Под влиянием этих сообщений у меня «созрел» план, в котором, как стало видно потом (все сообщения оказались махровыми утками), не было ничего зрелого. Поэтому об этом не стоит распространяться, скажу только, что меня магнитом тянуло в то время к этим опасным берегам. Впрочем, это объяснялось очень просто: помимо всего прочего, у меня в Крыму и в Одессе были тогда близкие люди, жизни которых угрожало два врага — один страшнее другого: голод, который неизбежно должен был надвинуться, и террор, который уже свирепствовал. По позднейшим данным, данным самих большевиков, от голода погибло в Крыму 100 000 человек. Что же касается убитых в Крыму чрезвычайкой, то число их определялось от 50 000 до 100 000.
Естественно, что при таких условиях:
«Невольно к этим грустным берегам
Влекла меня неведомая сила».
* * *
Генерал Врангель почти безвыездно жил на «Лукулле». Об этом просили его «власти». Поэтому он был как бы «Лукулловский узник». И вот почему эта маленькая яхта, болтавшаяся на Босфоре, стала как бы коробкой того сильного аккумулятора, которым был генерал Врангель. Ток высокого напряжения на «Лукулле» и был той психической энергией, которая в стиле XX-го века, т.е. «сан филь»[31] , передавалось в Галлиполи, Лемнос и другие места, поддерживая и сберегая «невознаградимые ценности». Те самые невознаградимые ценности, разрушая которые, Милюков вознаграждал себя за, очевидно, слишком долгую созидательную деятельность.
Когда-нибудь психолог задумается над тем, каким образом удалось «Лукулловскому узнику» держать под своим психическим влиянием десятки тысяч людей, брошенных в условия, способные ввести в искушение самых неискушаемых. «Сознательная дисциплина», о которой мечтал Керенский, неожиданно осуществилась и облеклась во плоть и кровь в 1921 году. Причем это произошло на совершенно противоположном «полюсе» —там, где скорее были бы понятны и приложимы слова поэта:
«Но у меня есть палка,
И я вам всем отец»…
А тут не было ничего. Не только палки, но даже «радио» не было в руках у генерала Врангеля. Разве о волшебной палочке тут могла идти речь.
Впрочем…
Впрочем, тут есть маленькая поправка. Не было ни палки, ни палочки, но зато был генерал Кутепов.
Представим себе эллипсоид. Эллипсоид — это, как известно, растянутый шар. У него — два фокуса. Но свойство эллипсоида таково, что слова, сказанные шепотом в одном фокусе, ясно слышны в другом. Так вот, у босфорского русского эллипсоида 1921 года было два фокуса: Врангель и Кутепов. Между этими двумя людьми установилось такое полное понимание, что мысль, вибрирующая на «Лукулле», целиком собиралась в галлиполийской палатке и обратно: галлиполийская обедня ясно слышна была в каюте Главкома. Эти два человек находились на одной оси, как и должны быть два фокуса, и ось эта была французской поговоркой:
«Fais ce que dois,
Advienne que pourra».
А вот Милюков был всегда совершенно вне этой поговорки. И это потому, что над ним совершилось — «горе от ума».
* * *
Все несчастья Милюкова происходили и происходят от того, что он действительно умен. Поясню сие примером. Однажды у себя в деревне, в одну очень непроглядную ночь, я, «сделав великое изобретение», приспособил к своим саням сильный ацетиленовый фонарь. И вот вначале, пока ехали усадьбой и селом, все шло прекрасно. Но когда мы выехали в широкие поля, мы потеряли дорогу, совершенно занесенную снегом. Кучер стал упрашивать, чтобы я потушил фонарь. Я удивился. Но он утверждал:
— Без фонаря выеду.
Я потушил и безнадежно закрылся воротником. А он нашел дорогу.
— Как же ты?
— Он мне глаза слепил!.. Близко вижу хорошо, а дальше — ничего! А как потушили, я вот тот огонек нашел — я его знаю: это будка на шоссе.
Огонек, действительно, мерцал еле заметной туманностью. Но это была путеводная туманность.
Так вот и с милюковским умом. Он светит ярко, вроде ацетиленового фонаря, да только не дальше куриного носа. И потому направления найти не может, когда «все дороги занесены». Милюкову жалко потушить «гордый свой ум», ибо горит он ярко, уверенно, резко выявляя ближайшее. Но если бы решился и потушил он этот гореумный свой фонарь, то, может быть, в непроглядной сначала глубине своего внутреннего «я» нашел бы «путеводную туманность».
* * *
В эпоху крушения национализма, т.е. в XX веке, пора перестать рассудочным путем осиливать вещи, рассудку пока не поддающиеся. Не то чтоб логика была не верна. Нет — логика правильна. Но вопросы, над которыми приходится биться в политике, это почти всегда — одно управление с бесконечным числом неизвестных. Математик в таких случаях говорит: вопрос неразрешим. А политик, типа Милюкова, все же берется за задачу, и дает рационалистическое разрешение, будто бы основанное на логических построениях. Но в этих построениях всегда фигурируют посылки недоказанные и недоказуемые. Например, Милюков утверждает: «генералы доказали свою неспособность бороться с большевиками». Но какая же это «доказанность»? Имеет ли она что-либо общее с тем, когда геометр или алгебраист говорит: «итак, мы доказали…» — и все его слушатели совершенно с ним согласны, что «предыдущее положение» действительно доказано? Нет — Милюковская доказанность «неспособности генералов» может быть опрокинута с совершенной легкостью противоположного рода утверждением: «генералы доказали, что они были единственные, кто способен был организовать борьбу с большевиками. Ибо не генералы не сделали ровно ничего. Неуспех же генералов объясняется низкой гражданственностью русской стихии, которая испортила дело Алексеева, Корнилова и Деникина». Этот спор можно продолжать до бесконечности. Все можно утверждать, и все можно опровергнуть.
Поэтому во всех наших делах, где нельзя базироваться на точных данных, логика может быть только элементом служебным. Решающим же является «категорический императив», диктующий нам нашу линию поведения.
* * *
Почему родилось сопротивление белых? Да только потому, что в груди как вожаков, так и рядовых, с одинаковой повелительностью, в конце 1917 года вспыхнул категорический императив: «не желаем подчиниться негодяям, захватившим Россию! Желаем драться с ними до смерти!» — и больше ничего… Все остальное приложилось потом.
Такие категорические императивы выплывают из глубины нашего существа иногда совершенно для нас самих неожиданно, а иногда вполне ожиданно, как естественное последствие стройного ряда однородных стимулов. Последние случаи говорят, что здесь сыграли роль глубоко заложенные основы или традиции.
Так или иначе, но только в этих «диктовках души» человек может найти свой путь, «когда занесены дороги». Когда все кругом неясно, непонятно и темно, и разум отказывается служить, как мой ацетиленовый фонарь, тогда говорит «даймон» древних греков, внутренний голос, по-нашему. Он говорит: «Не думай о том, что выйдет из твоих поступков, ибо твой разум слаб и не может подсказать тебе результатов; везде вокруг тебя и свет и тень, и «да», и «нет» — и нет ответа; думай о том только, где твой долг, думай о том, что ты должен сделать, что бы ты был продолжением самого себя и звеном того, что из рода в род, из века в век звучит в человеческом сердце; поступи так — и тогда будь что будет».
«Fais ce que dois,
Advienne que pourra».
* * *
Так вот, когда «генералов» выбросило на босфорские берега и перед ними встал вопрос «что делать», властно зазвучал категорический императив их военной совести: «надо сберечь армию!».
Для чего сберечь — этого никто не мог знать тогда, наверное. Но категорический императив звучал неумолимо и ясно: душевную силу, собравшуюся вовремя, надо сохранить физическую, а главное — душевную силу, собравшуюся во имя спасения Родины; распустить «армию», это значит украсть у России лучшее, что у нее осталось. Этого не захотели сделать ни Врангель, ни Кутепов, ни другие: вих сердцах слишком сильно звучала заповедь — повеления: «паси овцы моя».
И они взяли на себя этот крест. Крест такой тяжести, что просто можно было удивляться, как эта игрушечная яхта, стоящая передо мной, выдерживает его вес.
* * *
Правда, тяжесть задачи облегчалась тем, что те же чувства, которые приказали начальникам сберечь армию, родили в душах подчиненных не менее энергичную волну: «не желаем расходиться; не желаем быть эмигрантами; желаем быть армией!».
На этом выросла удивительная фигура Кутепова.
Когда в декабре 1920 года я был в Галлиполи, еще недавно «обрусевшем», ох, как скулили насчет Кутепова — должен это засвидетельствовать. И до такой степени, что, когда я после этого был у Врангеля, у меня на языке все время вертелось желание предупредить его о таком настроении лагеря. Я этого не сделал: в самом этом скулении я, очевидно, уловил нечто, что меня удержало. Как я внутренне себя поздравлял с этим, когда через год галлиполийцы стали гордостью русской эмиграции, сами же они гордились своим Кутеповым! Самое интересное тут то, что всеобщая любовь и уважение были куплены генералом Кутеповым, прежде всего, неумолимой его строгостью.
* * *
Но все же это был крест, требовавший необычайных усилий и постоянного, неумолчного напряжения.
Генерал Врангель, в условиях международного переплета, проявил себя, если можно так выразиться, искусным фехтовальщиком.
Дело было, собственно, так: вся Европа, по крайней мере, все Великие Державы, желали, чтобы генерал Врангель распустил свою армию. Соображения тут были всякие, которые, однако, обнимаются двумя латинскими словами vaе victis[32] , каковые слова на грубый русский язык переводятся с хохлацким прононсом: «скачи враже, як пан каже»…
Как бы там ни было, но генералу Врангелю пришлось «вести бой», или, по крайней мере, диспут один на один со всей Европой, и притом при особых обстоятельствах: не имея денег, причем от этой же Европы приходилось получать «паек», т.е. содержание армии. Правда, за паек Европа отбирала у нас корабли, но это мало принималось в расчет. Поэтому положение Лукулловского узника было особенно трудно.
Схема поединков была, насколько я понимаю, такова:
Европа : Генерал! Европа желает, чтобы вы дали приказ о расформировании армии.
Врангель : Мне очень жаль, так как я полон лучших чувств к бывшим и, надеюсь, будущим союзникам России, мне очень жаль, потому что я такого приказа не дам…
Европа : Генерал! Вы берете на себя большую ответственность. Нам совершенно нежелательно прибегнуть к мерам принуждения…
Врангель : К мерам принуждения? В отношении кого, смею узнать…
Европа : В отношении вашей армии. Мы лишим их пайка.
Врангель : Как досадно, что вы ставите вопрос так. Но в виду бывших и будущих отношений я считаю долгом вас предупредить: повиновение имеет свои границы, и я не ручаюсь…
Европа : Как это надо понимать?
Врангель : Голодные, и притом вооруженные люди… естественно… пойдут, ну скажем, «добывать себе хлеб»… Что из этого выйдет, я думаю, ясно.
Европа : Генерал! Мы можем быть вынужденными принять меры против вас лично.
Врангель : О, я буду страшно рад! Вы снимете меня с моего поста! А он не особенно приятен, как вы видите. Но я должен сказать, что добровольно я не уйду. Вы можете арестовать меня только силой. К сожалению, генерал Кутепов….
Европа: Что, это значит?
Врангель : Это значит, что если он, очень решительный человек… сочтет своим воинским долгом вступиться за своего начальника, то он таковое свое решение выполнит, и двинется… на Константинополь. Конечно, вы его остановите, но после кровавого боя. Если это желательно…
Европа : Но мы надеемся, что вы дадите им приказ подчиниться.
Врангель : На «Лукулле» я такого приказа не дам. А если я его дам из-под ареста, то его не исполнят… Ибо скажут, что он исторгнут силой.
Европа (после раздумья) : Генерал! Вы не хотели бы проехаться куда-нибудь… для переговоров.
Врангель : Очень польщен и тронут, принимаю приглашение с величайшим удовольствием.
Европа : Какое условие?
Врангель : Пустячное… Я получу письмо от главы правительства той страны, которая мне сделает честь меня пригласить, в коем письме будет сказано, что я вернусь беспрепятственно обратно на Босфор и что за время моего отсутствия никаких мер против армии не будет принято…
Европа : Такого письма быть не может!
Врангель : Какая жалость. Мне надоел «Лукулл»… Я с удовольствием проехался бы… досадно.
На этом, или чем-нибудь подобном, разговоры обрывались. Европа, подумав, продолжала паек, а на Босфоре сохранялось status quo…
Что будет дальше? Об этом пока не думалось.
Довлеет дневи злоба его…
Из лагерей доносилось ясное биение русского эллипсоида:
— Не желаем расходиться! Верим Главкому!
Отразившись от всех стенок, «категорические императивы» собирались на «Лукулле»…
И крепили Главкома.
Поэтому он вел дальше свой урок фехтования — безукоризненно упрямый и очень вежливый. Относительно такой тактики сказано:
C’est commande aux chevaliers…[33]
Русский совет
В сущности говоря, мысль, что нужно объединиться, была жива во всех слоях и лагерях русской эмиграции… Но осуществляли мы ее, вроде как в оперетте «Вампука, невеста африканская»: «Ужасная погоня — бежим, бежим, бежим» — и ни с места…
Все кричали, что нужно объединиться. И все делали все, чтобы разъединиться. Пример этому подал русский Париж: люди, которые три года «наблюдали», — плюнули в глаза (по выражению Львова) тем, кто три года «кровь в непрестанных боях за тя, аки воду, лиях и лиях»….
Так было — так будет… Мы проиграли. Разве бывают друзья у побежденных? Кто удержится от искушения лягнуть умирающего льва?..
Русский Париж и приложил свое копыто. Приложил ко лбу тяжело раненной русской армии, нашедшей приют на берегах Босфора…
* * *
«Исполнительная власть да подчинится власти законодательной»…
Эта формула едва не погубила Россию в первую революцию. Но тогда «исполнительная» (Столыпин), разогнав две первые Думы и приспособив третью «законопослушную», — спасла себя и «законодательную»… В 1917 году Столыпина, увы!, не было, а потому «законодательная» (4-я Дума) съела «исполнительную». Но немедля после сего «с натуги лопнула»… В этот момент образовалась новая «исполнительная» (князь Львов, Керенский). Эта новая «исполнительная» стала собирать новую «законодательную» (Учредительное Собрание), коей собиралась подчиниться. Но, не собрав — лопнула… Тогда родилась следующая «исполнительная» (Ленин). Эта «исполнительная» не собиралась подчиниться «законодательной». Поэтому, когда собралась «законодательная», т.е. Учредительное Собрание, матрос Железняк ткнул ему в зубы прикладом, вследствие чего «законодательная» лопнула… Когда это совершилось, стали образовываться, кроме московской, разные другие «исполнительные» — на Севере (Миллер), на западе (Юденич), на юге (Деникин) и на востоке (Колчак). Все эти окраинные «исполнительные» предполагали в том или ином виде подчиниться «законодательной». И все четыре не выдержали борьбы с большевиками. В этой борьбе удержалась только центральная «исполнительная», т.е. московская — большевистская, которая не подчинилась «законодательной», а наоборот,приспособила ее к себе. Приспособила в виде декретопослушных советов и удержалась. Правда, удержалась «рассудку вопреки, наперекор стихиям», поставив Россию вверх дном, но все же удержалась…
Итак, на протяжении 1905-1917 гг.все «законодательные» были неизменно биты. Биты были также и все «исполнительные», собирающиеся подчиниться «законодательной». Удерживались более-менее прочно только те «исполнительные», которые сумели приспособить к себе «законодательные». Крепко держалось Императорское правительство (при Столыпине), пока оно руководило Государственной Думой (1907-1912), и держится пока большевистское правительство, взявшее на строгий мундштук «Советы» (1917-1921).
Из этой краткой справки, казалось бы, выходит, что принцип «исполнительная власть да подчинится власти законодательной», хотя бы на время должен бы быть приостановлен. Так лет на пятьдесят…
Но русские все, по-видимому, бурбонской крови — ничему не могут научиться…
Поэтому среди жалких остатков, среди искалеченных обрубков русского тела, выброшенных на чужбину, немедленно возобновился старый спор «исполнительная да подчинится законодательной»…
Груда костей и мяса, обагренных страданием… Казалось, единственный крик, который они могли бы издавать, — единственный и единый: «Больно, больно, больно»!..
Так нет же…
Мясо шипит, заливаясь кровью: «Кость пусть подчинится мясу»!.. А кость, ломаясь и хрустя, хрипит: «Врешь, мясо, — подчинись кости»!..
Тридцать три члена Учредительного Собрания (из 8000) доползли до Парижа без зубов, выбитых Железняком, и кричат что есть силы:
— Нам поклонитесь!
А семидесятитысячная армия (из 10-ти миллионной), прострелянная, как решето, оставляя за собой струйку крови, раздетая, бездомная, кричит на голом поле Галлиполи:
— Подчиняйтесь Армии, тыловые бездельники! Довольно «нашей кровушки попили»!
* * *
Что ж! Пожалуй, они правы. Ведь опыт пятнадцати лет показал, что «законодательная» бита неизменно, а «исполнительная» выплывает, если сумеет приспособить «законодательную»…
* * *
Из этих соображений (может быть, и даже наверное, иначе формулированных), мне кажется, родился Русский Совет, т.е. попытка в условиях эмиграции власти «исполнительной» (генерал Врангель) приспособить власть «законодательную» (общественность)…
Я относился вначале к этому начинанию несколько скептически. Мне осточертели всякие Совдепы, Комиссии, Совещания — просто, и «Особые» в особенности — словом, всякое заведение, где творится что-то скопом: par depit[34] мне хотелось бы, чтобы мир управлялся так:
Три лица…
I. Тот, кто думает, человек, которого никто не знает. Son eminence grise…[35] Рамольный старик, прикованный к постели… Вся жизнь сосредоточилась в мозгу, совершенно необыкновенном, и в сердце, еще более удивительном. Он обдумывает и обчувствывает, что надо сделать.
II. Тот, кто приказывает . Глава Правительства, железный канцлер. Он приводит в исполнение все, решенное старцем.
III.Тот, кто говорит. Словоизвергатель — главнокомандующий. Делатель общественного мнения посредством печати и производства выборов. Он подсказывает «народу» решенное умным и добрым стариком.
Революционные правители были таковы. Князь Львов не умел ни думать, ни приказывать, ни говорить. Керенский умел только говорить. Ленин умеет приказывать и говорить, но совершенно не способен думать — он очень упрямый дурак или сумасшедший. (Позднее оказалось, что он «прогрессивный»…)
В Столыпине совмещались все три качества: думал, приказывал, говорил…
Если в Русском Совете найдутся три лица, способных выполнить эти три задания, то такой Русский Совет я бы понял:
Думающий, приказывающий, говорящий…
* * *
Но если не найдутся, а просто генерал Врангель хочет привлечь к своему делу «общественность», то и это нужно…
Но, Боже мой, как мясо зашипело…
«Белая кость… генеральско-помещичья клика»…
Точно его прижарили…
И не захотело «демократическое» розовое мясо обрасти «аристократическую» белую кость…
Так Русский Совет и остался скелет-скелетом…
* * *
Как бы там ни было, дело было поведено очень энергично, и 5 апреля нового стиля Русский Совет открылся…
* * *
Ambassade de Russie. Там есть шикарный вестибюль с белыми колонами. Так вот там это было…
Торжественный молебен. Архиерейское служение. Народом (и каким — elite!) залито все между колонами и даже величественная лестница в цветах… Голос диакона, журчащего священные слова, словно из глубины Китеж-Града; золототканая парча, говорящая о сказке, Боге и Родине; кадильный дым — как струящаяся молитва, и звуки молитвы, как кадильный фимиам… Стройные ряды молодых лиц, и высоко над ними и над всеми изящный профиль Главкома… И кругом все… все, кто верует в Бога и Россию… и даже некоторые неверующие…
* * *
Потом началось заседание. Торжественное заседание. За столом «крытым сукном» — только что родившийся Русский Совет; кругом — приглашенные…
Речи…
Вот речь Главкома. Главком (на звук) говорит смесью светского человека и «фронтовика». Выговор салонный, а фразы скандируются в короткие и протяжно заканчивающиеся возгласы — чтобы далеко было слышно и рядом… Пока идет спокойное изложение, доминирует «светскость»… Затем, когда начинаются призывы к сопротивлению… к мужеству… к борьбе… «фронтовые» нотки явственно врываются в «салонность»… Пахнет штыками, длинными рядами замерших войск, шелестящими знаменами, нависшими, как приближающийся прилив, «ура»…
— Здорово, орлы! Да поможет Бог всем нам и России!..
* * *
«Господа члены Совета. Учреждение, вызванное к жизни нашими совместными усилиями, приступает к трудам чрезвычайной важности.
Новое учреждение, созданное при такой исключительной обстановке, не может притязать на совершенство. Но, к сожалению, трудно было рассчитать, что оно образуется иным путем. Разбросанность русского населения по всем концам света, противоположные, враждующие течения, в пределах одного и того же политического толка, а также другие обстоятельства не позволяли надеяться, что русские люди сами сговорятся и создадут орган, более полно отражающий общественность. Наоборот, имелось много оснований для опасений, что важный и спешный вопрос — создание единого русского органа за границей, предоставленный своему стихийному течению, не пойдет дальше бесплодно затяжных разговоров и препирательств.
За четыре года переворота, скитаний, борьбы, попутных опытов строительства мы научились многому. Мы менее поддаемся соблазнам слова, какие бы прекрасные понятия за ними ни скрывались. Мы полностью познали ценность производительной работы, суровая же действительность научила, что не только мечты, воображение и чувства, но даже строго последовательные, казалось бы, выводы бесстрастных умозрений — в приложении к жизни могут обратиться для народа в неслыханные пытки и привести его на край гибели.
Стало ясным и другое: после своих переживаний страна не может вернуться к берегам, от которых она оторвалась четыре года тому назад. Она будет, она должна быть другой. Опыт, купленный такой ценой, не может пропасть даром. Русский народ в своих испытаниях обретает прирост гражданского сознания и дара самодеятельности. Какие бы порядки ни установились в России, во всех будущих построениях надо будет считаться с раздвинувшимися стенками народного разума и души.
Обширны задачи Русского Совета. За рубежом собралась вся вырвавшаяся из большевистского застенка Россия. Не раз уже подчеркивалось, что это мозг нации. Я думаю, что к этому ядру, выкинутому за пределы Родины, примыкает вся нация, что с нами вся нация. Не прекращаются обращенные ко мне призывы о помощи, идущие со всех концов России… Еще на днях из крупнейшего российского центра с великими трудностями мне доставлена икона и приветствие с просьбой «от всех русских людей» довести до конца дело освобождения. Не проходит недели без отлива за границу новых беженцев. Недавно ушли в изгнание новые десятки тысяч из Грузии и Кронштадта. Охвачена противосоветским движением вся оставшаяся дома Россия, стремлениями и чаяниями тесно связанная с Россией за рубежом. Россия, народная толща ее, по-прежнему едина.
На вас, господа члены Совета, лягут заботы по обеспечению многообразных духовных и материальных нужд русского населения, по сбережению живых сил для окончательной борьбы за освобождение России, для будущей работы, направленной к восстановлению хозяйственной жизни и государственного порядка.
Вам предстоит взять на себя сохранение остатков государственного достояния, для расчетливого и целесообразного использования их в интересах русского дела.
Вы будете блюстителями единого святого начала российской государственности. Вам предстоит воплощать это начало перед миром. Оно не может олицетворяться международным заговором, преследующим исключительно цели мирового коммунистического переворота.
Первый долг Совета — возвысить голос в защиту Русской Армии, над которой нависла угроза насильственного роспуска. Три года тому назад Армия отвезла в южные степи бездыханное тело русской национальной идеи и под сенью своих знамен вернула его к жизни безграничными жертвами и кровью лучших сынов России. Ни один русский человек, я скажу больше, ни один прозорливый современник, не может остаться безучастным зрителем распыления силы, сбереженной при столь трудных обстоятельствах и призванной к завершению борьбы за спасение родины и коренных устоев цивилизации.
Вам предстоит стать на страже целостности, экономической самостоятельности и сохранности хозяйственных благ России. Вы войдете в обсуждение вопроса, могут ли почитаться имеющими силу для будущего неосмотрительные соглашения с мнимым представительством России в лице Совнаркома. Совет, в первую очередь, также посвятит внимание необходимости предостеречь державы о недействительности признаний, поспешивших закрепить вызванные смутой преходящие явления временного распада России.
Деятельность Совета должна протекать вне обособленных домогательств партийных образований. Они давно обратились в пережитки, утратившие смысл прежнего своего предназначения. Но даже эти партии, как бы цепко они ни держались прошлых своих заданий и тактических приемов, свободно могли бы идти теперь сомкнутым строем к осуществлению бесспорных и очевидных задач текущего времени. Подобное слияние усилий могло бы последовать, конечно, при условиях, если в сердцах отдельных деятелей образ страдалицы Родины заслонил угасающую жизнь отживших свой век политических сочетаний.
Господа члены Совета! Русские люди ныне отчетливо сознают тяжесть утраты Родины. В то же время никогда еще столь остро не ощущалось кровная связь с родной землей. Невзирая на все ошибки и падения в нас растет гордое сознание, что мы русские и что перед Россией открывается будущее беспредельного исторического значения. Бедствие великого народа — источник его великого подъема!
Да поможет Господь Бог нашим трудам.
Объявляю действие и первое заседание Русского Совета открытым».
* * *
Многие еще говорили… В том числе и аз многогрешный.
После этой речи кто-то сказал кому-то на ухо:
— Если Милюков отец бестактности, то Шульгин — дедушка…
И правда, слабая была речь. Претенциозная ненужность…
* * *
Мораль сей басни: мансарда до добра не доведет.
И действительно: виданное ли дело — с чердака да в министры!
* * *
Может быть, поэтому (от резкости перехода) я заболел и лежал полтора месяца в постели… И мало принимал участия в работах русского Совета…
Поэтому я не берусь быть его историком…
Терапия
На мосту через Золотой Рог надо впопыхах купить орешков на пять пиастров, затем протолкаться сквозь густую толпу вниз по ступеням, чтобы взять билет, и наконец, последним вскочить на шаркет, когда уже убрали сходни… Тогда вы будете настоящим русским: русские всегда куда-то едут, всегда куда-то спешат, всегда куда-то опаздывают…
Шаркет — очаровательные суденышки… Быстрые, плавные, ловкие и даже нарядные, они совершают свою службу с удивительной аккуратностью. Изящно они несут на себе кишмиш человеческий, разноцветный, разномастный, разноплеменный… Борт шаркета обыкновенно обрамляет черная шелковая кайма турчанок, иногда открывающих свои белые-белые, сохраненные гаремом лица… Они хорошенькие — красотою несложности… красотою магнолий… красотою женщин «без прошлого»… Напрасно искать на этих лицах, сколько книжек они прочли, сколько походов пережили и сколько мужей переменили… У них большие глаза, широко расставленные, лица полудетские, угадывается еще здоровое, но уже изнеженное тело под шелком и тонкие косточки под телом… Эти тонкие косточки ca donne a penser…[36] Вообще они — женственные…
Русских всегда много на пароходе… Их не трудно узнать… Мужчины всегда почти носят что-то вроде френча, дамы… Дамы, в противоположность турчанкам, узнаются по «сложности» лиц… Чего в них только нет… Красота душевного развития и безобразие физического вырождения, болезни, лишения и «плоды просвещения» провели на русских лицах почти равные черты… Рядом с прелестью побеждающего духа — маска смерти тела. Увы, я ее часто вижу на русских лицах… Молоденькое лицо, а на нем — печать смерти… Смерти не грядущей когда-то, а уже стоящей за спиной… Что это — болезнь личная, какая-нибудь чахотка, или же это грехи предков — вырождение, или же это — кокаин, пьянство, или же это — моральное падение, обуславливающее в итоге смерть, — не знаешь, но чувствуешь Ее… Она смотрит с этих «сложных» лиц так часто… И так редко попадается благородное, железно-нежное существо, которое все выдержало, все испытало, и все стерло с себя силой заложенной в нем жизни, грязь и кровь не оставили на ней следа. Задумчиво опершись о борт шаркета, она скользит по Босфору, более нежная и юная, чем эти турчанки-магнолии, сбереженные гаремом…
«Меж шумными, меж вечно пьяными,
Всегда без спутников — одна»…
Да полно, есть ли они?..
«Иль это только снится мне?..»
Если и нет, то будут…
«Не говори с тоской — их нет,
А с благодарностию — были»…
* * *
Терапия была раньше дачей английского посольства… Но еще раньше, вероятно, была загородной виллой какого-нибудь турка… Расположение комнат указывает, что, вероятно, здесь был гарем: большая общая, в которую выходит много дверей из маленьких комнат, что кругом… А если гарема не было, то очень жаль — самое ему тут место, среди буйства вьющихся роз, «душного дыхания» каких-то совершенно уже неистовых цветов и роскоши белотельных, словно выкормленных на сладком щербете, магнолий…
Теперь же, вместо магнолий и Шехерезады, здесь общежитие из русских генералов и полковников… Сюда же прибился и я отдохнуть после полуторамесячной болезни…
* * *
Утром?
Утром надо посмотреть, как купается в море (оно тут же через дорогу) «генерал от кавалерии» — К… Ему 80 лет, он старше всех здесь… Он имеет, кажется, все русские ордена и чуть ли не все иностранные… Старик бодрый, сохранил выправку и важность, и голубовато-зеленая вода Босфора с некоторым почтением принимает в себя сохранившееся розовое тело… Это бывает утром, когда тут так тихо, как будто Босфор привык вставать поздно… Вода дремотная. Ленивая, душная, томная, дымчатая… При желании можно продолжать эти прилагательные… Но лучше пойти пить чай…
За чаем старый генерал сидит за узким концом длинного стола… Генералы помоложе, не говоря уже о полковниках, приходят каждый со своей чашкой, получают от заведующего хозяйством кусок хлеба, наливают чай из больших чайников и садятся за длинным столом…
Все проходит быстро, но чинно…
Затем?..
Затем генералы и полковники разбредаются по розам и магнолиям, и туда — выше, где на крутых склонах дичающий парк…
Там в одном месте есть полусломанный домик над пустыми оранжереями…
«Там некогда гулял и я, —
Но вреден…»
Да, этот домик с уничтоженными окнами, положительно был мне вреден… Ибо в пустующую раму окна была вставлена живая картина — великолепный босфорский изгиб, центром которого был… выход в Черное море… магнитное море…
* * *
Около десяти часов утра Босфор, наконец, просыпается от своей душной голубовато-дымчатой лени…
Пробуждение начинается там, около выхода… Это бежит дыхание Черного моря… Оно темной синькой постепенно заливает пролив, снимает с Босфора мечтательную дымку и расписывает все — горы, зелень, мозаику домов, воду пролива и, кажется, самое небо — яркими до чрезвычайности красками… Струя добегает и сюда — в Терапию, нарушая «чудный сон» генералов и магнолий, встряхивая зачарованное царство буйствующих роз и обессиленных полковников…
Это дыхание Черного моря…
Оно зовет, будит, требует…
И намагниченные сердца поворачиваются к Северу…
«Но вреден Север для меня»…
* * *
Днем?
Днем — все то же…
Обед… Скромный, но достаточный… Для организмов не первой молодости…
Затем?
Затем легкая дрема… среди цветов…
* * *
И все это было бы прекрасно — этот отдых для тех, кто имеет vint cinq ans bien sonnes [37] , — для полубольных, для ослабевших, для слишком много перестрадавших…
Это было бы хорошо, если бы.
Если бы все эти с виду полудремлющие люди, на самом деле, не грызлись бы всегда одним и тем же сверлящим вопросом:
— Ну, хорошо… пока… А что будет дальше?
Поэтому от времени до времени каждый из них срывается и мчится на шаркете в город… Там он бегает по бесконечным учреждениям, хлопоча занятие или визу…
Ибо магнолии отцветут, сделавшись коричневыми, как старушки Востока, розы облетят без следа, а Терапию… закроют…
* * *
Вечером?
Да, вечером, когда стемнеет, стоит постранствовать по крутым и душным аллеям…
Что это — опера?
Но почему нет звуков?.. Наоборот, тихо до чрезвычайности… И все же здесь что-то волшебное, сказочная оргия, симфония с стиле Шехерезады…
Это все делают тысячи загадочных, бесшумных, то вспыхивающих, то потухающих огоньков… Они, среди совершенно черных аллей, мятутся по всем направлениям, оставляя сверкающие, пересекающиеся обрывки кривых… Их тысячи тысяч, и они кратки, как отдельные слова «Тысячи и одной ночи»… Но их не пересказать… Тут рассказываются бесконечные истории… Таинственные, загадочные, бесшумные, бессловные, душные и несметные… Можно бы продолжить эти прилагательные, но лучше объяснить, что это — просто светящиеся летающие жучки…
* * *
Итак, жучки, старички и магнолии: вот Терапия.
* * *
Через две недели я покинул этот странный конгломерат… Нужно было ехать в Сербию… Я получил визу — мечту бессонных ночей столь многих…
* * *
Шаркет в последний раз нес меня мимо босфорических декораций…
Все было, как всегда, и все было по иному, как бывает, когда думаешь, что «в последний раз»…
И в последний ли? Кто это знает?
Есть, впрочем, одно существо, которое я видел в этот день в последний раз…
Стройная и маленькая яхта стояла на своем месте… Это был «Лукулл»…
Я смотрел на нее с пробегающего шаркета «прощальным взглядом»… Но я еще не знал тогда, что три месяца спустя огромный итальянский пароход среди белого дня «не заметит» яхты, стоявшей на своем обычном месте, и, не заметивши, пустит ее ко дну, перерезав пополам…
* * *
Пока же «Лукулл», как всегда, исполнял свой тяжкий долг…
На палубе был только один человек… Он не заметил привета — моего привета, с пробегающего мимо шаркета… Я же видел его хорошо. Высокий, тонкий, в серой черкеске, с маленькой бритой головой… Он стоял, опершись руками о борт, который (борт) казался поэтому низким, и смотрел прямо перед собой вдаль пролива…
Это был генерал Врангель…
* * *
«Fais ce que dois — advienne que pourra
C’est commande aux chevaliers»…
* * *
Эти слова шептала июньская струя шаркета, салютуя яхте… Этим же она отвечала на роковой январский вопрос «что делать?»…
* * *
Полгода списано со счетов истории…
Примечания
[1]
Проходите, господа!.. Не задерживайтесь, господа!.. (франц.)
(обратно)[2]
Согласования, перемещения, соглашения…(франц.)
(обратно)[3]
русские беженцы (франц.)
(обратно)[4]
стаканчик “клико” (франц.)
(обратно)[5]
произведения искусства (франц1)
(обратно)[6]
изысканные (франц.)
(обратно)[7]
горе побежденным (франц.)
(обратно)[8]
В. З. С. — Всероссийский земско-городской союз (Примеч. Ред.)
(обратно)[9]
Прошу обратить внимание на эту дату и не придавать последующему характер рецепта для современности. (Прим. Автора)
(обратно)[10]
Прекрасные дни фон Т-аль (нем.)
(обратно)[11]
…Я в постели… — Не беспокойтесь, месье… (франц.)
(обратно)[12]
в перчатках (франц.)
(обратно)[13]
Ну, я ухожу… (франц.)
(обратно)[14]
не будем углубляться… (франц.)
(обратно)[15]
уборка (франц.)
(обратно)[16]
мой жених (франц.)
(обратно)[17]
и тогда зачем? для чего? (франц.)
(обратно)[18]
русский писатель (франц.)
(обратно)[19]
другими словами — тошнотворной (франц.)
(обратно)[20]
повседневная жизнь (франц.)
(обратно)[21]
счастливчик (франц.)
(обратно)[22]
Немножко больше, чем двадцать пять (франц.)
(обратно)[23]
забавный (франц.)
(обратно)[24]
смеется тот, кто смеется последним (франц.)
(обратно)[25]
поддерживает честь дома (франц.)
(обратно)[26]
никогда (франц.)
(обратно)[27]
Осваг — осведомительное агенство. — Примеч. ред.
(обратно)[28]
блеклый свет (франц.)
(обратно)[29]
немного уж слишком (франц.)
(обратно)[30]
Делай, что должен, и будь что будет… (франц.)
(обратно)[31]
беспроволочный телеграф (франц. — sans fil).
(обратно)[32]
горе побежденным (лат.)
(обратно)[33]
Это приказ рыцарям… (франц.)
(обратно)[34]
от досады (франц.)
(обратно)[35]
его тайный советчик (франц.)
(обратно)[36]
это наводит на размышления… (франц.)
(обратно)[37]
немножко больше, чем двадцать пять (франц.)
(обратно)
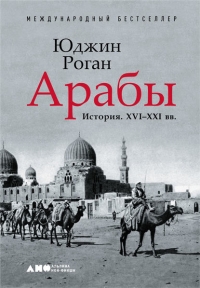




Комментарии к книге «1921 год», Василий Витальевич Шульгин
Всего 0 комментариев