Арсений Васильевич Ворожейкин Небо истребителя
Трудные дни Амет-хана
1.
Фашистская Германия разгромлена, Япония капитулировала. Наступил долгожданный мир. С большой радостью я с женой Валей и дочкой поехали в Крым. Дом отдыха в Алупке располагался на самом берегу моря. Позавтракав, мы спешили купаться, потом лежали на камешках и жмурились от ласкающего сентябрьского солнца.
— Так долго я еще никогда не плавала, — сказала Валя. — Какая прелесть!
— Ой, мамочка! — подхватила дочь. — Это же настоящий рай!
— Арсен! — раздался вдруг громкий голос.
Рядом стоял мой знакомый — майор Амет-Хан Султан при полном параде, с орденами и медалями. Особенно ярко на солнце блестели две Золотые Звезды.
— Я узнал, что ты у нас на отдыхе и заспешил сюда. Давно здесь?
— Сегодня утром приехали, — пожимая протянутую руку, сказал я, познакомил его с семьей и, продолжая разговор, спросил: — А ты?
— Два дня дома. Приехал повидать родителей. Всю войну не виделись. Верховный пожалел, не выселил моих из Крыма. Теперь учусь в академии.
Я знал, Амет-Хан окончил только семь классов и годичную школу военных летчиков, поэтому искренне пожелал товарищу успехов в учебе. Но он вдруг нахмурился и с непонятной мне грустью сказал:
— Эх, учеба, учеба, — затем показал рукой в сторону гор. — Мой дом там, метров триста отсюда. К обеду приходите в гости. Отец и мать будут рады.
— Спасибо. — В стране все еще существовала карточная система, поэтому я предложил: — Обеды возьмем в своей столовой.
— Договорились, — заключил Аметха, как его называли друзья на фронте, улыбнулся. — Я с детства люблю море. Особенно мне нравится, когда штормит. Часами, бывало, качался на волнах. Это, черт побери, интересно. Еще люблю по горам лазить, — он мечтательно взглянул на взметнувшуюся в небо гору Ай-Петри. — В такую хорошую погоду до войны на самую вершину забирался одним махом, без передыха.
— Значит, вы мастер лазить по горам? — вступила в разговор Валя. — Дали бы нам провозные.
— Это можно, — согласился Амет-Хан. — Только вчера там был. Все старые тропинки отыскал. Ведь я здесь жил и учился до тридцать шестого.
— Давайте такую экскурсию сделаем завтра, сразу же после завтрака, — предложил я.
— Хорошо, — согласился он. — А сейчас одевайтесь, идем обедать. Будут фрукты и вино. Такое вино! Я уверен, что вы еще никогда не пробовали. Отец сам делает. Он на это великий мастер.
До войны Амет-Хан учился и работал. В 1939 году был призван по путевке комсомола в военную школу летчиков. Его биография во многом сходна с моей. В юности я не собирался летать. В те годы много писали, что стать летчиком может лишь тот, кто имеет особый талант и божий дар. И вдруг неожиданно нас, студентов Горького, а также тех, кто уже закончил средние учебные заведения, вызвали в горком партии.
— Раньше, — сказали лам, — в летные училища шли добровольцы. Теперь обстановка изменилась. Промышленность увеличила выпуск самолетов, стране нужны летчики. Принято решение о призыве в летные школы коммунистов и комсомольцев. Считайте себя мобилизованными.
Для нас веление партии было законом, но из 5000 человек отобрали только 183. Отсев был в основном по двум причинам — по состоянию здоровья и по классовому признаку. Проверяли тщательно и придирчиво. В четвертом классе сельской школы я сидел за одной партой с дочерью местного попа. Комиссия раскопала и эту крамолу.
— Имеете ли вы связь с поповской дочкой? Ведете ли переписку? — спросили меня.
Последний раз я встречался с ней год назад, когда ездил в деревню, чтобы помочь матери на покосе. Город Балахна. Волга. Паром. Ожидая его, я прохаживался по берегу и вдруг увидел девушку, с которой вместе учился и даже сидел за одной партой. Узнав меня, она радостно бросилась навстречу, но тут я вспомнил, что она поповская дочка, и сухо отстранился. Пришлось рассказать об этой встрече членам комиссии. Председатель одобрил:
— Правильно сделали. Вам, сыну крестьянина, погибшего на гражданской войне, незачем знаться с поповской дочкой.
Среди нашего специального партийно-комсомольского набора было несколько парней-добровольцев. Особенно запомнился мне Алексей Рязанцев. Тогда считалось, что стать летчиком может человек богатырского здоровья. Алексей не подходил под такой эталон. Это был щупленький паренек с бледным лицом и постоянной смешинкой в темных глазах. Черные волосы делали его похожим на цыганенка. По сравнению с нами он успел закончить только ФЗУ Московского автозавода и боялся, что не пройдет мандатную комиссию, которая проверяла теоретическую подготовку кандидатов, особенно знание истории партии. С дрожью Алексей вошел в кабинет. Необходимо было сначала представиться, но он так растерялся, что не мог произнести ни слова. Председатель комиссии понял состояние парня и приветливо улыбнулся:
— Алексей! Язык у тебя есть?
— Есть… — Алексей показал язык.
— А не позабыл свою фамилию?
— Нет. Рязанцев.
Председатель уточнил другие биографические данные и вдруг показал на портрет Калинина:
— Знаешь, кто это?
Алексей удивленно пожал плечами.
— Как не знать! Михаил Иванович. Я с ним не раз ходил на охоту.
Члены комиссии с недоумением смотрели на Рязанцева. А председатель, показывая на портрет Ленина, иронически спросил:
— Может, и с Владимиром Ильичем охотились?
— Нет, с Лениным ходил на охоту мой отец, я тогда был еще маленьким. Владимир Ильич брал меня на плечи. Я с ним играл. Он угощал меня сахаром…
Отец Алексея — Федор Федорович Рязанцев был хорошим охотником и жил в поселке Белятино Раменского района. Ленин не раз приезжал к нему в дом. Однажды после охоты Владимир Ильич спросил:
— Кем ты хочешь быть, Алеша, когда вырастешь?
— Хочу быть храбрым и саблей белых рубить.
Услышав такой ответ, Владимир Ильич громко рассмеялся:
— Значит, будешь героем!
Мы успешно окончили военную школу летчиков. Воевали в Испании, Китае и на Халхин-Голе, участвовали в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. Мы были всюду, где требовалось защищать Родину. И Алексей Рязанцев сдержал слово, данное Владимиру Ильичу. В Великую Отечественную войну он сбил 24 фашистских самолета и получил звание Героя Советского Союза.
У Амет-Хана сначала не все ладилось с воздушной стрельбой. В летной школе к настоящим боям он не был подготовлен. И в полку не сразу вошел в строй. Летая на истребителях, он штурмовал фашистские войска, прикрывал своих пехотинцев, летал на разведку, сопровождал бомбардировщиков. Его машину не раз кромсал вражеский огонь, но сам он долгое время не мог сбить ни одного самолета. Все это волновало и тревожило гордого и горячего татарина с Крымских гор. Он начал терять уверенность. И без того небольшого роста, Аметха как-то оседал, казался совсем коротышкой, а его сильные плечи словно увядали. «Не отчаивайся, — успокаивали его товарищи. — Терпение и терпение, тогда придет и умение». Но сколько же может тянуться это терпение? Какой же он истребитель, если не истребил ни одного самолета врага!
Только спустя год Амет-Хан добился личной победы. Этот бой был переломным в его жизни. На перехват разведчика они взлетели парой, но у напарника машина оказалась неисправной. Амет-Хан остался один. Высота большая. Кругом только густая синева. Как найти разведчика в этом безбрежном океане? Выручили поистине орлиные глаза, которые могли в упор смотреть на ослепительное солнце. Особый дар природы пришел на помощь ему. В синеве он заметил небольшую пылинку, но сразу не решился идти на нее, боясь упустить разведчика. Внимательно огляделся: кругом пустота. И опять зацепился взглядом за пылинку, которая долго не приобретала определенных очертаний. Закралось сомнение. И запас горючего начал беспокоить, но глянул еще раз и удивился: пылинка выросла. Это был самолет. Вражеский. Наши у себя в тылу на такой большой высоте не летают.
Вскоре обстановка прояснилась. Впереди был разведчик Ю-88. Они выходили один на один. Никто не помешает поединку. Азарт охватил Аметху. Ни о чем не думая, кроме уничтожения противника, он ринулся в атаку. И вот громадный двухмоторный самолет в прицеле. Заструились огненные нити. В ответ хлестнули сразу пять пулеметов. Огонь на огонь. Чья возьмет?
Ничья. Он проскочил мимо «юнкерса». Черные, зловещие кресты промелькнули над головой. Злость обожгла душу. «Я же истребитель!» Он ведь не знал, что немецкие летчики — асы, побывавшие в небе Африки, Италии и Франции. Пять пулеметов в опытных руках.
Вторая атака тоже не принесла успеха. Пулеметы разведчика, правда, замолчали, но и его самолет был порядочно изрешечен. Пробит фонарь кабины, вкус крови во рту затруднял дыхание.
Третья атака. Враг уже не отвечает огнем. Теперь можно его без всяких помех расстрелять. Хватило бы горючего. Враг в прицеле. Надо только подойти поближе, чтобы не промахнуться. «Юнкерс» совсем рядом. Промаха не будет. И мысль: «Почему я раньше так не сближался? Сейчас даже и целиться не нужно: пулеметы будто уперлись в противника. Вот удача!» Он тогда еще не знал, что вершина мастерства истребителя как раз и заключается в том, чтобы уметь подойти на предельно малое расстояние к самолету врага, без единого лишнего движения взять его на мушку, на мгновение застыть, а затем меткой очередью прошить насквозь.
Амет-Хан приготовился услышать глухую воркотню своих пулеметов, увидеть огненный след пуль, уходящих в огромное чрево самолета. Но что такое? Молчание. Еще раз нажал на гашетку. Опять молчание. Наверно, какая-то задержка в стрельбе или кончились боеприпасы? А враг — вот он! Скорее перезарядить оружие!
Пулеметы снова на взводе. Но он уже отстал от противника. Хватит ли горючего на догон? Надо торопиться. Наконец «Юнкерс» в прицеле, но огня опять нет. Теперь ясно: кончились боеприпасы. Амет-Хан взвыл от досады и ненависти. А его истребитель оказался в опасной близости к самолету противника. И тут летчика осенило — таран! Надо винтом рубить хвост «юнкерсу»! О своей смерти у него мысли не было. Подобрался снизу. Большие черные кресты на огромных крыльях «юнкерса» заставили действовать с особой беспощадностью.
До вражеского хвоста осталось не больше пяти метров. И тут неведомая сила перевернула истребитель и швырнула вниз. Он понял, что в дело вмешались вихревые струи от «юнкерса». «Ничего, — успокоил он себя, — надо подбираться быстрым рывком. — И снова в сердце тревога: — А если кончится горючее?» Эта мысль заставила его торопиться. Он выправил машину. Правое крыло «юнкерса» висело над головой. Враг летел спокойно, оставляя белый ручеек инверсии. Сознание Амет-Хана сработало четко. Чтобы не тратить времени на повторный заход, он решил таранить врага левым крылом и резко бросил машину вверх.
Удар на секунду оглушил его. Очнулся от сильной тряски и резкого свиста. Вражеская машина горела и падала, но в смертельной судороге задела своим крылом его истребитель, подожгла и потащила за собой.
В критическое мгновение первый подсказчик — инстинкт самосохранения. «Прыгай с парашютом!» — диктовал он. Амет-Хан отстегнул привязные ремни, рванулся из кабины. Но стоп! Кабина его истребителя накрыта крылом «юнкерса». Две горящие машины в обнимку вертелись в штопоре. Густой горячий воздух, ворвавшись в кабину, затруднял дыхание. Чтобы выпрыгнуть из самолета, нужно было вырвать истребитель из вражеских «объятий». Амет-Хан, собравшись с силой, обеими руками оттолкнул от себя крыло вражеской машины, и его самолет, оказавшись на свободе, отвесно пошел к земле. Летчик попытался вывести истребитель из пикирования, чтобы скольжением погасить пожар, но машина была уже не в его власти, и он покинул ее.
Под белым куполом парашюта было тихо и свободно. Внизу в утренней испарине, окаймленная лесами, дремала Волга и лежал в дымке большой город, а совсем рядом спускались два вражеских парашютиста. Амет-Хан сплюнул скопившуюся во рту кровь, поняв, что в азарте боя прикусил язык. Но боли не испытывал. Его взяла в плен радость первой личной победы. Не думая ни о чем другом, глядя вниз на просторы родной земли, он, как в юности, когда забирался на Ай-Петри, запел: «Легко на сердце от песни веселой…»
За эту победу Амет-Хан Султан был награжден орденом Ленина, а граждане Ярославля присвоили ему звание почетного гражданина своего города.
После этого боя ему стало ясно, почему раньше он не мог сбить вражеский самолет. Сила истребителя — в маневре, в атаке, а главное в атаке — огонь. Как бы хорошо летчик ни владел машиной, но если он не научился метко стрелять, его нельзя назвать истребителем. Стрельба — заключительный аккорд любой атаки, ее венец. В этот момент летчик должен сосредоточиться только на прицеливании. Но легко сказать — сосредоточиться! Попробуй-ка сделать это в воздушном бою. Терпения и выдержки у стремительного и горячего Амет-Хана не хватало, Теперь он не только понял свою слабость, но и прочувствовал ее, А найти в себе слабость, осознать ее и преодолеть — главное условие успеха в любом деле. Это мне известно по личному опыту…
Самый тяжелый воздушный бой я провел на Курской дуге 4 августа 1943 года. Уже вечерело, когда мы восьмеркой вылетели на прикрытие наземных войск Воронежского фронта, который второй день развивал контрнаступление на белгородско-харьковском направлении. Воздушного противника нет. От напряжения болят глаза, им нужен отдых. Смотрю на землю. Сплошной линии фронта нет, она лопнула под ударами наших войск. Только по дымкам и вспышкам можно определить, где идут бои.
Углубляемся на юг, делаем разворот. Во время быстрого маневра взгляд скользнул по какой-то тени. Вглядевшись, замечаю компактный строй самолетов. Тень быстро вырисовывается в большую группу двухмоторных бомбардировщиков, летящих колонной в несколько девяток. Всего около полсотни самолетов. Если это гитлеровцы, то почему нет их истребителей? А если наши? И наши без истребителей прикрытия над фронтом не летают. Запрашиваю землю.
— Наших бомбардировщиков в этом районе нет, — ответил наземный командный пункт.
В это время бомбардировщики выпустили ракеты, сигнализирующие: «Я свой самолет». Сигнал правильный. Но мне хорошо известны силуэты всех наших бомбардировщиков. Это не наши. Однако атаковать не спешу. Ошибка может дорого стоить. Расходимся с бомбардировщиками левыми бортами. Теперь сомнения не остается: это «Хейикели-111». Обычно они летают ночью по нашим тылам. По фронтовым целям да еще такими большими группами используются редко. Занимаем исходную позицию. Видно, как на вражеских самолетах вскинулись стволы: на каждом семь пулеметов и одна пушка. Более трехсот пулеметов и пушек направлены на нас. Подходить близко опасно. Чтобы рассредоточить вражеский огонь, нужно атаковать с разных сторон.
Передаю командиру четверки, летящей выше:
— Карнаухов, звеном атакуй хвост колонны!
Карнаухов молчит и уводит звено в сторону. Этот маневр раздражает меня. Еще раз повторяю приказание. Опять молчание и никакой реакции. Боится сильного огня? Кричу, чтобы Карнаухов шел в атаку, а он уходит еще дальше.
Нас осталось только четверо. А «хейнкели», словно стальная глыба, спокойно плывут в небе, и от холодного, черного вида ощетинившихся стволов становится жутко. Что мы можем сделать с такой армадой? Решение зреет медленно. Удобнее атаковать заднюю девятку, можно сбить несколько бомбардировщиков, но тогда остальные отбомбятся. Принимаю решение разбить ведущую девятку и тем самым сорвать удар по нашим объектам.
С высоты пикирую на флагмана. Пули и снаряды хлестанули по моему «яку». Сквозь паутину дымчатых трасс не могу точно прицелиться, бью длинными очередями наугад, проскакиваю под строй бомбардировщиков и занимаю позицию для атаки с другой стороны. Колонна по-прежнему невозмутимо продолжает полет. Нас осталось трое. Четвертый подбитым вышел из боя.
Первая атака прошла неудачно. Почему? Нас мало. Против такой силищи нужно действовать по-другому, не подставляя себя под губительный огонь. Атака с задней полусферы в таких условиях вряд ли принесет успех. Фашистские летчики, собравшись в плотный строй, считают, что они неуязвимы, их самоуверенность раздражает и пугает. Неужели ничего не можем сделать? Попробуем обрушиться спереди. Боевой порядок «хейнкелей» — почти сплошная стена метров двести в ширину и метров пятьдесят по высоте. По такой мишени трудно промахнуться. К тому же спереди у бомбардировщиков нет брони. Спешу вырваться вперед и передаю ведомым:
— Атакуем в лоб, огонь по моей команде.
Летим навстречу врагу. Ведомые словно прилипли к моим крыльям. Если хорошо прицелиться, то и их трассы найдут свою цель. А если не рассчитаю момент отворота, из-за моей ошибки погибнут и они.
Держу небольшую скорость, но сближение идет быстро. Ведущий «хейнкель» в перекрестии прицела.
— Огонь!
Пучок красных, оранжевых и зеленых нитей протянулся к ведущему бомбардировщику. Он как-то внезапно вырос в такого великана, что стало жутко. Я рванул ручку на себя и на миг закрыл глаза. А что стало с другими летчиками? Чуть разомкнувшись, летят рядом. Разворачиваемся для повторной атаки. Из первой девятки один самолет грузно пошел вниз, другой, чадя, отстал от строя и, сбросив бомбы, начал разворачиваться. На место вышедших из колонны «хейнкелей» встали другие. Ведущая девятка, хотя и расстроилась, но снова приняла плотный боевой порядок.
Чувствую, что дрожу от собственной беспомощности и ненависти к врагу. У нас фактически осталось одно оружие — таран. Известно, что дружба проверяется в беде, смелость — в бою, а мудрость — в гневе. Злость уже давно перекипела во мне и стала той силой, которая упрямо заставляет управлять рассудком. Понял, что наша тройка в таких условиях может выполнить боевое задание только ценой собственной жизни.
Говорят, в такие минуты человек забывает себя. Нет, это неправда! Забыть себя невозможно. В такие мгновения очень хорошо понимаешь цену жизни и потому осмысленно идешь на риск. Кто не готов отдать жизнь за победу, тот не добьется ее. В помутневшей голове никогда не может быть ясной мысли. Только светлый, четкий разум — источник верных решений. Летчик, потерявший в бою самообладание, охваченный отчаянием, забывший себя, не только сам не способен до конца выполнить свой долг, но и помешает это сделать другим.
Снова разворачиваемся навстречу врагу. Бросаю взгляд на ведомых. Я знаю, они не осудят меня. Последний раз гляжу на солнце. Оно уже скрывается за горизонт. Собрав нервы в комок, весь сосредоточиваюсь на «хейнкелях», по-прежнему стройно и грозно плывущих в небе. На этот раз не командую: «Огонь!», а просто нажимаю кнопки вооружения. Светящаяся паутина трасс потянулась к врагу и тут же оборвалась. Боеприпасы кончились. Впрочем, они и не нужны. В такие мгновения оружие бессильно. Направляю «як» на бомбардировщик с таким расчетом, чтобы рубануть его винтом, а самому по возможности отделаться только повреждением самолета. Отделаться? Наверно, на это рассчитывали и другие летчики, погибшие при таранах.
«Хейнкели» быстро увеличиваются в размерах, стремительно приближаются. Весь напрягаюсь, готовясь к столкновению. Но удара не последовало. Бомбардировщики дрогнули. Первая девятка разметалась по небу.
Есть ли работа труднее, чем бой? Пожалуй, нет! Как много он требует душевных и физических сил! Я часто слышал от летчиков, что иногда приходится воевать только одними нервами, но только теперь понял справедливость этих слов. Выключив мотор, я почувствовал, как весь, словно лопнувший пузырь, обмяк. В этом бою наши нервы оказались крепче фашистской стали.
Заметил подошедшего к самолету Карнаухова, и гнев заклокотал во мне.
— Трибунал будет судить тебя! Мало того что сам сбежал — звено увел?
— Еще неизвестно, кого будут судить. Вы атаковали своих бомбардировщиков!
Эти слова не просто ошеломили меня, они испугали той неожиданностью, от которой люди становятся заиками. На мгновение я представил, что он прав. Что тогда? Ведь перед атакой и я колебался. Что-то страшное, непоправимое надвинулось на меня. Ничего не может быть хуже, унизительнее и преступнее наших настойчивых и расчетливых действий по уничтожению своих самолетов. Перед глазами опять встала армада бомбардировщиков, до мельчайших подробностей припомнился ход боя. Противника в небе определяешь не только по контурам, но и по поведению. Эти бомбардировщики, побросав бомбы, поспешно начали разворачиваться на запад, а не пошли на нашу территорию. Значит, ошибки не было. Страх начал проходить.
— Почему по радио ничего не передал? — спросил я Алексея Карнаухова.
— Передатчик отказал.
— Почему не сделал попытки предупредить нас эволюциями самолета?
— Боялся, что мои ведомые начнут вам помогать, поэтому и увел их.
Как он логичен в суждениях. Что это — умелая маскировка трусости или глубочайшее заблуждение?
После разбора вылета, когда ни у кого не осталось сомнения, что мы вели бой с фашистскими самолетами, Карнаухов, расстроенный и подавленный, долго сокрушался и мучился, переживая допущенную ошибку. Но никто не выразил ему ни жалости, ни сочувствия.
Вскоре Алексей Карнаухов искупил свою вину, совершив таран в воздухе.
2.
На другой день жарко палило солнце. За три часа крутого подъема к вершине Ай-Петри я выдохся. Во время войны мне, знавшему только аэродром и фронтовое небо, не приходилось столь долго ходить, тем более в гору. Но признаться в усталости я не хотел. Стал только молчаливым и под видом вытряхивания мусора из тапочек то и дело останавливался. Зато у Амет-Хана не было видно никаких признаков усталости. Он шел по дороге детства и с увлечением вспоминал, как еще малышом вместе о отцом на коне скакал по этим горам и ущельям, а позднее со сверстниками устраивал здесь военные баталии, играя в чапаевцев.
— Больше не могу, — тяжело выдохнула моя жена и буквально рухнула на землю в тень кизилового куста. — Уморили вы меня, герои. Я же первый раз в горах.
Я тоже устала, прижимаясь к матери, сказала дочь.
— И правда, Амет-Хан, загнал ты нас. Давайте отдохнем! — я решительно опустился на землю.
— Ну не изувер ли! — выругал себя Амет-Хан. — Забыл, что вы не горцы.
— Ты на фронте уставал когда-нибудь от полетов? — спросил я.
— Нет, дорогой. Наоборот, я плохо себя чувствовал, когда долго не летал. Голова как-то начинала тупеть и мышцы вянуть. Даже спалось плохо.
— Посидите с нами, — предложила ему Валя.
— Минуточку, сейчас я вам наберу фруктов. Дикие. Они кислые, но в них много соку. Усталость сразу улетучится.
Вскоре он пришел с полными карманами груш и яблок. Мы не столько их ели, сколько высасывали сок: хотелось пить. Жена и дочка восторгались природой, ее щедростью, красотой и доступностью. Они впервые были в Крыму. Валя, глядя на Амет-Хана, спросила:
— Вы здесь все знаете, все вам знакомо, и вы какой-то бесстрашный. Это, наверное, у вас с детства?
— В детстве был глупеньким, не понимал опасности. — Он вскочил. — А знаете, где поумнел? Пойдемте покажу. Минут двадцать до вершины.
— Отдохнем еще, — взмолилась Валя. — Ну хоть минут пяток!
— Виноват, — Амет-Хан поднял руки и сам сел.
— Как это ты сумел сразу поумнеть? — спросил я.
— Да, сразу. За какой-то миг. Сейчас на макушке горы вы увидите то место, где я понял, что такое жизнь.
После отдыха мы забрались на Ай-Петри. Под нами лежало необозримое море, и казалось, что на горизонте оно выше нас.
— Вот это да! — Глаза Вали блестели восхищением. Белое платье развевалось на ветру. Она глядела на море, горы и небо. — Перед такой красотой и величием сама душа поет!
— Не у всех, — вмешался Амет-Хан. — Я вчера взобрался сюда с одним отдыхающим. Кандидат наук. Так в первую очередь он плюнул отсюда вниз.
Из-под обрыва Ай-Петри вылетел орел. Очевидно, он не ожидал встретить людей и переворотом скрылся вниз. Амет-Хан показал на него рукой:
— Вот кто из меня выбил ребячье бесстрашие.
Мы повернулись к нему.
— Не говори загадками, рассказывай, — попросил я.
— Идите сюда, — Амет-Хан приблизился к обрыву горы. Мы последовали за ним, но тут же попятились назад.
— Ой, да там пропасть! — Валя побледнела.
— Страшно? — спросил Амет-Хан. — Подойдите поближе и еще раз взгляните.
Я взял Валю за руку и подвел к обрыву. Чуть ниже вдоль обрыва тянулась неширокая каменная терраса.
— Вот она меня и спасла, — начал Амет-Хан.
…У него было радостное и беззаботное детство. Он рос, не ведая ни печали, ни страха. Природа и крепкое здоровье были переданы ему по наследству. Когда Аметхе минуло тринадцать, его увлечением стали прогулки на Ай-Петри, откуда он любовался просторами неба, моря и земли, Но однажды его детская безмятежность с глазу на глаз столкнулась со смертью.
День тогда был ясный, и только на Ай-Петри природа надела белую и круглую облачную шапку. Мальчику нестерпимо захотелось забраться под эту «шапку» и руками пощупать ее «мех». На этот раз он не шел, а летел — так быстро преодолел знакомую дорогу.
Сама макушка горы оказалась открытой, а облако, искрящееся солнцем, венцом стлалось у его ног. Он застыл в восторге от этого чуда. И тут с шипением и свистом из искрящегося облака вынырнул огромный орел, чуть не сбив его с ног. Амет-Хан, обладая быстрой реакцией, прыгнул за птицей, чуть не схватив ее за хвост, но сорвался и полетел в пропасть. К счастью, у горы оказалась терраса.
Впервые в жизни его сковал страх, который по-разному влияет на людей. Одного он парализует, другого мобилизует на борьбу. Амет-Хана страх заставил растеряться, но только на мгновение. Какой-то миг он не знал, что делать. Однако тут же сработала воля, мышцы его напряглись, он сумел подтянуться и поднялся на вершину горы.
— Дурак! По глупости мог и разбиться, — закончил рассказ Амет-Хан. — Не зря говорят: кто не был молод, тот не был глуп.
Он не привык говорить длинно. Его смуглое лицо раскраснелось, из-под фуражки текли капельки пота, но он на это не обращал внимания, продолжая начатый разговор.
— Да, я понял, что встретился со смертью и победил ее. И вы знаете, что я сделал?
— Затянул, наверное, какую-нибудь песенку, как часто бывало на фронте после тяжелого боя? — пошутил я.
— Правильно! «Легко на сердце…» Так вот после этого случая я и поумнел. Испытав страх, познал себя, и это помогало мне воевать.
— Страх помог воевать? — недоверчиво спросила Валя. Из книг она знала, что страх на войне во вред, что побеждают люди бесстрашные.
— Ничего не боятся только дети и идиоты, — отрубил Амет-Хан.
Валя вопросительно посмотрела на меня.
— Правильно, — подтвердил я. — Страх, как и голод, относится к инстинкту самосохранения. Это своего рода предупреждение об опасности. Кстати, у меня этот инстинкт сигналит, что нам пора назад, а то останемся без обеда.
3.
Кого из офицеров не волнует назначение на новую должность! Это не просто смена места жительства, работы и расставание с друзьями, но и проверка профессиональной подготовки, знаний, опыта и способностей…
Кабинет заместителя начальника Управления кадров ВВС. За письменным столом сидит плечистый генерал-майор авиации Александр Шацкий. Перед ним развернутая папка с моим личным делом. Сверху мой рапорт о переводе из Главного управления боевой подготовки ВВС в войска. Второй круглый стол свободный. Генерал пригласил меня сесть за этот круглый стол. Взгляд у него добрый, приветливый.
— Как отдохнули?
— Нормально, — я сразу вспомнил Алупку и теплое сентябрьское море, уточнил: — Отлично. Море. Горы.
— Это хорошо! — одобрил генерал. — А как семейные дела?
— Ждем наследника.
Генерал рассмеялся:
— Все-таки наследника, а не наследницу? Понимаю, сказывается характер истребителя. Я ведь тоже когда-то летал. А какой летчик не хочет передать свое дело сыну? — улыбнувшись, генерал вдруг спросил: — Вы в каких краях хотели бы служить?
Со мной впервые советовались по такому вопросу. До войны почетным местом службы считалась граница. Там всегда пахло порохом, и потому многие рвались туда. Однако посылали в такие места наиболее подготовленных. И я считал это правильным. Командованию виднее, кому и где служить. Поэтому на вопрос ответил вопросом:
— Когда и куда прикажете выезжать?
Генерал, словно не расслышав, продолжал:
— У вас за плечами три войны. Дважды Герой Советского Союза. Окончили академию. Награждены Высшим авиационным орденом Соединенных Штатов Америки. И нам, работникам кадров, не безразлично ваше желание. Да и вам, думаю, не все равно где служить.
— Но до сих пор эти вопросы решались без меня,
— Времена меняются. Кстати, почему вы не носите нашивки за ранения? У вас их три, если верно записано в личном деле?
— Ранение у настоящего истребителя — признак ротозейства.
— Как так? — удивился генерал.
— Летчик зазевался, а противник этим воспользовался. Чаще всего мы, истребители, терпели неудачи из-за невнимательности, слабой подготовки и недисциплинированности. Хороший летчик, как ловкий и сильный боксер, всегда имеет возможность уклониться от удара противника.
— Интересное мнение. Но нашивки будут напоминать о ранениях, а забытые раны, как говорят в народе, не болят. Однако продолжим разговор о вашей службе. Как вы смотрите, если мы вас все-таки оставим в Москве на должности старшего инспектора Главного управления боевой подготовки ВВС?
У меня, как и у большинства летчиков, не лежала душа к работе в штабах, а работу инспектора я считал штабной, поэтому попросил:
— Пошлите в строевую часть.
— А как жена посмотрит на выезд из Москвы?
— Думаю, согласится.
— Минуточку, — генерал взял из личного дела мою брошюру «Заметки об огневом мастерстве». — Узнали?
— Конечно.
— До школы летчиков вы учились в Комвузе на факультете журналистики, собирались работать в печати. Инспекторам приходится много писать, но и летают они немало. По всем статьям вы подходите для работы здесь, в Москве, Подумайте хорошенько, посоветуйтесь с женой…
4.
К новому месту службы я прилетел за два дня до Нового года. В Белоруссии погода стояла солнечная, теплая и на редкость бесснежная. Природа как бы специально в год Победы так долго не прикрывала землю снегом, чтобы люди навсегда запомнили последствия войны. Военный городок оказался небольшим, но знаменитым. В Отечественную войну 1812 года наполеоновские войска потерпели там первое серьезное поражение от русской армии. Русскими было взято в плен две с половиной тысячи французов.
Еще с воздуха я разглядел летную полосу, которая сияла в лучах заходящего солнца, словно радовалась прилету нового человека. Меня охватило какое-то особое волнение. Кто из военных не испытывал его, прибывая к новому месту службы! Здесь мне предстояло летать на новом для меня самолете. И сразу же после прибытия в городок я заспешил на летное поле. Металлическая взлетно-посадочная полоса, на окраине аэродрома крыло в крыло выстроились ровными линиями самолеты. Есть среди них и «яки», и «ла-вочкины».
Встретили меня два офицера. Рослый, с крупным без единой морщинки лицом Виктор Семенович Никитин и коренастый, небольшого роста Дмитрий Владимирович Спиридонов. Подполковник Никитин в новой шинели, ладно облегающей фигуру, спокойно, с достоинством, которое присуще людям, знающим свое дело, сочным басом представился начальником штаба полка. Капитан технической службы Спиридонов в замасленной куртке с меховым Воротников отрекомендовался:
— Старший инженер полка, — а как бы извиняясь за форму одежды, пояснил: — Прибыл с места вынужденной посадки, не успел переодеться.
После знакомства начальник штаба заметил:
— Мы думали, что вы прилетите после Нового года.
— Я так и собирался сделать, а потом решил начать знакомство с полком до Нового года и отпраздновать его вместе с офицерами,
— Правильно сделали, — одобрил Спиридонов. — У вас не только Новый год, а еще и две свадьбы. Да а новоселье полка на новом месте службы отметим.
— Мы перебазировались сюда из Германии, из-под Берлина, — пояснил Виктор Семенович. — Разместилась хорошо. Приехали семьи. Жилья хватило для всех. Вас ждет трехкомнатная квартира.
— Спасибо. Жена с дочкой приедут завтра, — сказал я и, оглядывая стоянку самолетов, поинтересовался: — А как же летать в такой тесноте?
— Полку отводится шесть летных дней в месяц. Мало, конечно. Но больше не выкроишь. В дивизии четыре полка, и все на одном аэродроме.
Спросил еще:
— Наш полк на «лавочкиных», а остальные на «яках». Это не мешает работе?
— Есть немножко, — пояснил Никитин. — В летных делах полк от штаба дивизии почти не получает помощи: там никто на «лавочкиных» не летает.
Нас ждала легковая машина. В дороге зашел разговор о предстоящем новогоднем ужине. Никитин радостно заметил:
— На торжествах будет майор Амет-Хан Султан. Дважды Герой Советского Союза.
— Не может быть! — удивился я. — Он ведь учится в академии.
— Сбежал. И документ привез, что по его просьбе отчислен с учебы и направляется в свою часть для прохождения дальнейшей службы.
— Странно…
— А еще страннее то, что документ он достал по знакомству. На нем печать какой-то авиационной базы. Это уже дошло до командующего. Генерал Хрюкин сам в свое время направил Амет-Хана на учебу и теперь прислал срочную телеграмму: немедленно откомандировать его обратно в Москву. Но он узнал, что вы приезжаете, и решил подождать. Надеется, что вы сумеете уговорить командующего. Хочет служить в полку. И прежняя его должность свободна.
Вот когда мне стало ясно, почему Амет-Хан в Алуште не был рад моему поздравлению с поступлением в академию и уклонился от разговора об этом. Теперь мне предстояло снова встретиться с ним. Не без волнения открыл дверь в кабинет командира полка. На диване, подложив руки под голову и глядя в потолок, лежал Амет-Хан. При моем появлении он с необычной для него суетливостью вскочил. Глядя на него, худого, бледного, я не без тревоги спросил:
— Ты что, дружище, болен? Садись. Поговорим с глазу на глаз. Скрывать ничего не надо. Никитин мне уже рассказал, как ты «дезертировал» из академии.
— Откуда он это узнал?! — запетушился «дезертир».
— Да разве такую «хитрость» в армии можно скрыть? Знает уже и командующий, приказал немедленно отправить тебя назад.
— Ну-у вот, — Амет-Хан сник в опустился на диван, но тут же снова взял себя в руки и твердо заявил: — Все равно учиться не буду.
— Но почему? — воскликнул я в услышал в ответ короткую исповедь.
…После первого месяца учебы на Амет-Хана нахлынула тоска по полетам. Началась бессонница, он потерял аппетит. Обратился к командованию с просьбой отправить его в родной полк, обещая учиться заочно. Не разрешили.
— Без полетов, как без кислорода на высоте, я теряю силу и разум, — рассказывал он. — За годы учебы подорву здоровье и уже не смогу летать. А очень хочу.
Я понимал, что он не шутит и не сгущает краски. По характеру он не мог работать, не вкладывая в дело всю свою внутреннюю энергию. Еще в детстве он подготовил себя для мужественной профессии летчика-истребителя. Потом были почти четыре года войны, где он с упоением шел дорогой борьбы. Она стала для него сущностью жизни. И вдруг будто потерял крылья! Командование считало, что он сумеет побороть тоску, как побеждал врага в боях, но все оказалось сложнее.
— Почему нельзя для летчиков создать такую академию, чтобы они две недели учились, а неделю летали? — спрашивал меня Амет-Хан. — Это держало бы нас в постоянной форме. А то ведь после учебы одних по состоянию здоровья списывают с летной работы, другие разучиваются летать. А я боюсь вообще дать дуба, — Амет-Хаи потряс обвисший китель. — Смотри, я его словно с чужого плеча снял. Прошу, ходатайствуй перед начальством, чтобы меня зачислили снова в полк. На любую должность. Хоть рядовым летчиком.
— Хорошо, — согласился я. — Сделаю все, что от меня зависит.
На другой день со станции Жабинка я привез жену, дочку и чемодан, в который вмещалось все наше имущество. Нам еще никогда не приходилось жить в таких шикарных условиях. Мы ютились в гостиницах, жили в коммуналках. Новая квартира казалась нам невиданной роскошью.
5.
Поздно вечером в летную столовую начали собираться офицеры и их жены на новогоднее свадебное торжество. В просторной комнате столы стояли в виде буквы «П». Закуски, приобретенные за счет пайков, и красивые торты были разложены с особым искусством, а жареные карпы, как почетный эскорт истребителей, окаймляли столы. Цветы, привезенные отпускниками с юга, делали их празднично-нарядными.
Все пришли в парадной форме. По медалям за оборону Одессы, Севастополя, Сталинграда, Кавказа, за взятие Берлина, Вены, Кенигсберга, Будапешта, за освобождение Варшавы и Праги можно было проследить боевой путь полка, а гвардейские знаки свидетельствовали, каким славным был этот путь. В полку воспитано 24 Героя Советского Союза, а Амет-Хан Султан, Алексей Алелюхин, Павел Головачев и Владимир Лавриненков удостоены этого звания дважды. Не было другого такого полка в ВВС, который за годы Великой Отечественной войны дал бы стране столько знаменитых асов.
Одесса! В 1941 году 73 дня она находилась в окружении. И наш истребительный полк, сформированный в этом городе 13 сентября 1939 года, тоже был в окружения и вместе с наземными войсками защищал город. Последним его летным полем стал городской футбольный стадион. За оборону Одессы двенадцать летчиков полка были удостоены звания Героя Советского Союза. Пятеро из иах удостоены этого звания посмертно.
Родной наш гвардейский полк! За время войны только в воздушных боях им уничтожено 506 фашистских самолетов, потеряно 54 летчика. В это число входит в командир полка Лев Львович Шестаков, погибший в марте 1944 года в небе Украины. В Хмельницком ему поставлен скромный памятник. А в Одессе 69-му истребительному полку, ставшему впоследствии 9-м гвардейским, в 1982 году сооружен величественный монумент.
Наши боевые подруги принарядилась, но редко на ком было новое платье. За время войны все поизносилось. Зато невесты, смастерившие свадебные наряды из списанного парашюта, сияли белизной.
В комиссии по организации вечера возник спор, где должно сидеть командование полка, а где женихи с невестами. Одни предлагали разместить командование в середине поперечного стола, а правее и левее посадить свадебные пары. Другие считали, что свадьба является своеобразным символом начала мирной эры, поэтому надо отдать предпочтение новобрачным. Победило «мирное» предложение.
Направляясь вместе с Никитиным и Спиридоновым в штаб полка, я твердо решил, что командование приму после Нового года, а за оставшиеся два дня должен присмотреться к людям, ознакомиться с порядками и традициями, а поэтому твердо сказал своим спутникам:
— Я на этом торжестве буду вашим гостем.
Главным распорядителем праздника стал Спиридонов. Место ему определили между свадебными парами. Остальные садились по своему желанию. И получилось так, что офицеры разместились поэскадрильно, а в эскадрильях — по специальностям. Молодые летчики, только пришедшие из училищ (их было двенадцать), тоже отделились от ветеранов Они робко разместились за длинным столом и, точно первоклассники, не спускали любопытных глаз с прославленных фронтовиков. Героев Советского Союза на вечере было четверо — майор Иван Королев, старшие лейтенанты Сергей Елизаров, Георгий Банков и Михаил Твеленев. Треть летного состава была необстрелянная молодежь. Мне невольно вспомнилось напутствие заместителя командующего воздушной армией: «Вы идете на все готовое. Полк прекрасный, со славной боевой историей. Смотрите не подкачайте».
Входя в курс дела, я понимал, что сложно будет поддержать былую честь и традиции, умножить былую славу части, поэтому кристальней вглядывался в лица ветеранов. «Такие не подведут, — думая я. — Если станет трудно, помогут. Эти опытные летчики не только подчинены мне, но и я им. Ведь полк — это единый организм, где работа одного зависит от успеха другого».
Рядом со мной на праздничном вечере, как я положено по воинскому ритуалу, сели начальник штаба Никитин к заместитель по политической части подполковник Николай Фунтов, которого я хорошо знал по Халхин-Голу, когда был комиссаром разведывательной истребительной эскадрильи, Николай тогда имел звание старшего политрука и летал рядовым летчиком. Часто мы летали с ним в паре.
Амет-Хан пристроился к Никитиным и был угрюм и молчалив. Он хорошо понимал, что по приказу командующего его отправят в академию и ему уже не видать родного полка. Звал он и то, что учиться, все равно не будет. Поэтому и сидел отшельником, не вступая ни с кем в разговор.
Мне не представили заместителя командира полка по летной подготовке, поэтому я поинтересовался, где же он.
— Уехал на учебу, — ответил Никитин. — Назначили майора Александра Алесюка, но он в отпуске, У меня невольно вырвалось:
— Алесюка! Я его знаю, мы познакомились в запасном полку в сорок четвертом, когда получали новые самолеты. Хороший мужик, командовал эскадрильей.
Мне больше не хотелось отвлекать Никитина служебными разговорами. Я окинул взглядом столы. Мое внимание привлек порядок размещения людей, и невольно подумалось о войне. Тогда тоже, в особенности после напряженного боевого дня, люди на праздничных ужинах группировались по «производственному» принципу и степени боевого мастерства: командование, асы, молодые летчики, техники. Видимо, основу личной дружбы составляет совместная работа. А как же с характерами, симпатиями и антипатиями? Очевидно, и здесь всему голова — дело. Оно сплачивает людей, типизирует не только характеры, но и внешний вид. У летчиков лица более нежные и загар с румянцем, мягкий. Они все улыбчивые, резковато-подвижные в свой рассказы непременно сопровождают выразительными жестами. Это нетрудно объяснить. В полете, и особенно в воздушном бою, самолет следует за мыслью, а иногда интуиция опережает и ее. Все в воздухе делается быстро, решительно, с полным напряжением воли и сил. Техники более спокойны и скупы на движения. Лица, продубленные аэродромными ветрами, с отблеском металла. А руки тружеников — крепкие, ухватистые и почти черные от постоянного соприкосновения с моторной гарью.
Настроение у всех было торжественно-приподнятое, но, как бывает в ожидании застолья, разговаривали тихо, сдержанно, словно опасались кого-то потревожить. Приглушенный гомон сразу стих, когда поднялся Спиридонов. Хотя он и небольшого роста, но его кряжистость и погоны на кителе, которые как бы раздвинули и без того широкие плечи, делали Дмитрия Владимировича похожим на сказочного богатыря.
— Дорогие друзья! — начал он суховатым от волнения голосом. — Мне выпала большая честь впервые после войны на родной земле провозгласить тост, — разминая голосовые связки, он чуть прокашлялся. — Уходящий год — год Победы. И эти свадьбы тоже особые — свадьбы победителей. Сколько людей на фронте мечтало о женитьбе! Откладывали. И вот наступило долгожданное время. — Спиридонов с серьезным видом и нарочитой властностью произнес: — Приказываю всем наполнить бокалы… Молодцы! Сработано, как на войне, смело и быстро. За уходящий год, за наших новобрачных! Пожелаем им вечной любви и вечного мира!
Раздался звон бокалов, оживленные разговоры слились в единый гул, и вскоре в этом гомоне прозвучал, как бывает на свадьбах, чей-то громкий голос: «Горько!» Его тут же подхватили другие.
Спиридонов предоставил слово жениху, старшему лейтенанту Сергею Елизарову. Высокий, тонкий. Лицо по-девичьи нежное, румяное. Волосы русые, густые. На груди Золотая Звезда Героя и шестнадцать орденов и медалей. Парню двадцать два года. Голос звонкий, чистый. Поблагодарив однополчан за внимание, Сергей обнял невесту, поцеловал ее и, вытянувшись в струнку, клятвенно заявил:
— Вот так в обнимочку и прошагаем всю жизнь с Зиночкой!
— Пара подобралась хорошая, — сказал я Фунтову, — А кто она?
— Москвичка. Только что закончила музыкальное училище. Вчера я слушал, как она играла на рояле и пела вместе с Сергеем. Хорошо у них получилось. Я договорился, что они сегодня на вечере выступят и покажут свое мастерство. Но… — Николай Федорович сделал паузу, — с женихом что-то не в порядке: хочет увольняться из армии.
Я не удивился этому сообщению. Из войны мы вышли не просто победителями, показав всему миру свою сплоченность и силу, но кое у кого после всего пережитого появилось демобилизационное настроение.
— Елизаров сказал мне, — пояснил Фунтов, — какой, мол, дурак после этой войны снова захочет воевать? Да я наш тамада тоже собирается уйти из армии.
— Разве Спиридонов плохой инженер?
— Инженер сильный, умный мужик и хороший рационализатор, — Фунтов сделал паузу. — Он мне так сказал: «Здесь, в армии, я меньше принесу пользы, чем на гражданке. В полку я себя изжил: из этих „лавочкиных“ больше уже ничего не выжмешь, А там мне откроется дорога к творчеству, поэтому себя обкрадывать не хочу». Он тоже считает, что это последняя война.
Наш разговор перебили новые возгласы «Горько!», уже относящиеся ко второй паре новобрачных. После их чествования Спиридонов объявил:
— Теперь танцы… до Нового года!
Заиграл полковой трофейный аккордеон. Из командования полка Никитин, Фунтов и я почти не умели танцевать. Юные наши годы пришлись на то время, когда танцы считались мещанством, а позднее учиться танцевать не хватало времени. Мы к тому же не курили, сидеть нам одним было неловко, поэтому, чтобы не быть белыми воронами, мы тоже встали с намерением присоединиться к танцующим.
Потом была самодеятельность. Сергей Елизаров о Зиной спели и станцевали. Глядя на них, я подумал: может, действительно, Сергею лучше уйти из авиации, если у него душа больше лежит к сцене, чем к небу?
Вечер удался на славу. Улыбки, смех не только веселили и радовали людей, но и сближали, делали всех единой дружной семьей. А ведь в этом сближении, понимании друг друга и есть главная особенность всех праздников. К тому же все мы считали, что этот Новый год становится началом новой эры — эры мира. И праздник казался нам особенно светлым и значительным.
6.
На фронте каждый день для летчика начинался с тревожного ожидания. В мирное время — с новых надежд. Для меня первый день учебных полетов в должности командира полка начался и с тревоги и с надежды одновременно, а любимых «яках» я воевал в Великую Отечественную, тренировался в Москве, на «лавочкиных» никогда не летал, и для меня эта машина была новинкой. А новизна в любом деле тревожит.
Обычно при первом вылете на новом истребителе летчика тренируют на спарке — учебном двухместном самолете — и только после этого выпускают в самостоятельный полет на боевом. Но командир дивизии, доверяя мне, предоставил право самому решать, нужны мне провозные полеты или нет. Необоснованный риск я не любил и сам себе запланировал с инструктором тренировочные полеты на учебном «лавочкине». Однако самолет, на котором мы должны были лететь, вышел из строя. На второй исправной спарке летала молодежь. Есть ходячая побасенка: порядок кончается там, где начинается авиация. Она родилась в те времена, когда считалось, что профессия летчика — удел избранных, людей особого таланта. Жизнь доказала, что в авиации, где все основано на грамотном расчете и тренировках, порядок и дисциплина необходимы больше, чем где-нибудь еще. Поэтому мне не хотелось брать самолет у молодых ребят и нарушать их планы. И, откровенно говоря, боялся, что кто-то подумает: дважды Герой, командир полка, а сдрейфил подняться в небо без провозных полетов.
Профессиональная гордость и самолюбие у летчиков особенно развиты, Не зря говорят: он летает как бог. А кому в своем деле не хочется стать «богом»? Но где грань между самолюбием и правильной оценкой своих возможностей? Судьей в таком случае могут быть товарищи по работе и руководители. У меня непосредственный начальник — командир дивизии. Он предоставил мне право самому оценить свои возможности. И я полетел на боевой машине без тренировки. Естественно, подумал: «А вдруг что случится? Происшествие может произойти и не по моей вине. Потом доказывай, что ты тут ни при чем». Так некстати пришедшие мысли не дали мне все внимание сосредоточить на взлете. Я даже не учел ветер, дующий слева. По привычке, как и раньше на истребителях Яковлева, энергично дал газ, и тут же две могучие силы — ветер и реакция винта — повели моего «лавочкина» влево. Рулем поворота я хотел исправить опасное движение, но скорость была небольшая, и машина на движение рулей не реагировала. Ее вело, еще медленно, но вело.
…Человеческая память! Трагическое она никогда не забывает. 1939 год. Бои на Халхин-Голе. Тогда при взлете ветер тоже дул слева. И самолет повело влево. Разворот парировал рулями, но самолет налетел на кочку. Толчки передались на поврежденную поясницу. В глазах заискрилось, на какой-то миг пропал горизонт. Машина круто разворачивалась, не слушаясь рулей. Мотор ревел в полную силу и тянул меня к гибели. Чтобы спастись, нужно было немедленно убрать газ и прекратить взлет, но об этом я просто забыл. Самолет был разбит, а сам я отделался только травмами лица и головы.
Мысль о прошлой аварии словно ударила током. Я весь превратился во внимание, стараясь нейтрализовать опасные силы разворота. Призвав на помощь рули и тормоз, тут же всем телом почувствовал, что истребитель, как бы испугавшись этих новых сил, прекратил разворот. Правда, разбег происходил с отклонением от направления взлетной полосы, но Ла-7 уже набрал скорость и был послушен мне.
Все тревоги остались на земле. Я в небе! Небо! В такой момент нет ничего на свете милее и краше. Вот оно — чистое и прозрачное. Нормальный шум мотора и приглушенный стук при уборке шасси казались мне приятной музыкой. Я исправил допущенную при взлете ошибку. Но зачем убрал шасси? По плану должен сделать два полета по кругу, а при этом, как правило, шасси не убирают. Сказалась вспышка радости. На земле наверняка подумали, что я решил поберечь мотор, но я-то знал, что это получилось случайно. Да и на взлете у меня наклюнулась аварийная ситуация. А командир полка — главный учитель. С него берут пример молодые летчики, с него даже лепят свой характер.
Допущенные ошибки меня огорчили. Привычка. В ней большая сила. Не зря говорят: посеешь привычку — пожнешь характер. И на этот раз ошибки в полете произошли из-за того, что я привык к «якам», а «лавочкины» имеют свои особенности…
На земле меня встретил Николай Фунтов. Он, словно не видя моего плохого настроения, поздравил с вылетом на новом самолете и спросил:
— Ну как «лавочкин»?
— Великолепная машина!
— Да, — подтвердил Фунтов, — этот самолет превосходил немецкие истребители на всех высотах и по всем параметрам.
— А истребитель Яковлева, — уточнил я, — был хорош на средних высотах. Правда, позже появились «яки» с новыми моторами, но, к сожалению, поздно: война уже кончилась. Зато летчики любили «яки» за их простоту на взлете и посадке.
— Что верно, то верно, — согласился подполковник. — «Лавочкины» капризны на земле. Поэтому у нас больше летных происшествий, чем в тех полках, которые летают на «яках». Да и во время войны у нас из-за ошибок летчиков ломали машин больше, хотя летуны были как на подбор.
— А теперь много молодых, — вздохнул я. — В училищах они даже близко не видели «лавочкиных», их надо переучивать. Видел, как меня на взлете чуть было не развернуло?
— Видел. Но ты ловко исправил ошибку.
Фунтов прекрасный летчик и хороший политработник. Летает на «лавочкиных» давно, поэтому я спросил:
— А не поговорить ли мне с молодежью о своей ошибке? Ребята видели, как я вилял на пробеге. Это и им пойдет на пользу, и мне не во вред. Перед самолетом все равны.
— Правильно, — одобрил замполит. — Если бы летчик учился только на своих ошибках и промахах, толку было бы мало. А ты в воздухе показал высший класс. Особенно летчики были восхищены твоим пилотажем. После двойного иммельмана все так и ахнули. Ведь мы еще не видели, чтобы кто-нибудь его выполнял.
После беседы ко мне подошел младший лейтанант Кудрявцев и вытянулся в струнку:
— Меня, как неспособного к летному делу и не имеющего летного характера, хотят отчислить из авиации. Уже не допускают к полетам… — он захлебнулся от волнения, сделал паузу, потом тихо, доверительно продолжил: — А я хочу летать. И могу.
— А кто сделал заключение о вашей неспособности?
— Инспектор по технике пилотирования воздушной армии. Он со мной летал в зону.
— Инспектор опытный?
— Совсем старый, — неожиданно выпалил Кудрявцев.
«Скорее всего, летчик двадцатых годов, — подумал я про инспектора. — Многие из них все еще думают, что им талант летать дан самой природой. Какая чепуха! Все характеры и способности — летные, слесарные, токарные — рождаются в первую очередь в труде. Труд — мать всех характеров». Я внимательно, с профессиональным интересом осмотрел Кудрявцева. Среднего роста. Спортивного склада. Доброе, красивое, смуглое лицо с высоким, широким лбом, на который из-под шлемофона свисает прядь черных волос. А глаза — я их отметил особо — ярко-голубые. Такие люди обычно впечатлительны и легко ранимы. Для них неопределенность в жизни или угроза отчисления из авиации равна тяжелому ранению и требует немедленного лечения. К счастью для Кудрявцева, он еще не потерял уверенности в себе.
Чтобы вызвать летчика на откровенный разговор, я отошел с ним в сторонку и спросил:
— Как вас звать, товарищ Кудрявцев?
— Евгением.
— А как у вас, Женя, со здоровьем?
— Хорошо. Врачи записали: «Годен к полетам без ограничений».
— В училище летали нормально?
— Нормально. От товарищей не отставал.
— Общее образование какое?
— Десятилетку закончил с отличием. В Сормове.
— Выходит, мы земляки? Я тоже из Горьковской области. В Горьком учился в Комвузе.
— Неужели? — обрадованно удивился Кудрявцев.
— Вам сколько лет?
— Двадцать.
В двадцать лет уволить из авиации — значит сломать человеку всю жизнь, нанести душевную травму.
— Расскажите подробно, кто и как вас учил в полку на учебном «лавочкине», какие были замечания? — попросил я.
Из рассказа, а точнее, из исповеди Кудрявцева стало ясно, что его не учили летать, а проверяли, хотя он к этому не был готов, не адаптировался в новых условиях. В школе он обучался на «яке», приобрел элементарные навыки управления этой машиной. В строевой части летчика надо было не просто проверять на новом самолете, а заново учить летать.
— А сколько времени вы не летаете?
— Два месяца и четыре дня. С сегодняшним будет уже два месяца и пять дней.
«У человека каждый день на счету, — отметил я про себя, — Значит, он любит летное дело. Зачем же ему подрезать крылья?»
— Вы каждый летный день приезжаете на аэродром?
— Обязательно.
— И всегда в летном обмундировании?
— Да как-то неудобно выделяться. К тому же я знаю… — Кудрявцев замялся, но, взглянув мне в глаза, признался: — Если пронаблюдать пять полетов товарищей, можно считать, что один сделал сам. К тому же рядом с аэродромом живет знакомая девушка. Если она увидит меня среди летчиков в нелетной форме, как я ей это объясню?
— Любовь?
— Любовь, товарищ майор.
— Это хорошо, — сказал я и подвел итог разговору: — Ознакомлюсь с вашей летной книжкой и личным делом, поговорю с командирами и приму решение. Надеюсь, летать вы будете.
Думая о судьбе Кудрявцева, я решил, что откровенный разговор с летчиками о своей ошибке в полете и побудил его обратиться ко мне. Командиру полка надо идти к людям с открытой душой. Они ответят тем же.
…Зима вступила в свои права. Свежий снег слепил белизной, легкий морозец бодрил. Шли полеты. Я направился в эскадрилью, в которой служил Кудрявцев, чтобы поговорить с командиром о выпуске молодых летчиков в самостоятельный полет на боевом истребителе. Неожиданно передо мной, словно из-под земли, появился майор в парадной форме, не гармонирующей е аэродромной рабочей одеждой.
— Майор Алесюк прибыл для прохождения службы в должности заместителя командира полка.
В полку до инструкторской работы допущены только командиры второй и третьей эскадрилий. Один из них был в отпуске. Поэтому, глядя на парадно одетого, как и положено при представлении, статного Алесюка, я с радостью пожал ему руку:
— Очень хорошо, что прибыли сразу на аэродром! Как вас встретили?
— С вокзала привезли на квартиру. Жена и сыновья довольны. Сейчас разбирают вещи и расставляют мебель.
Поговорив о житейских делах, я предложил своему заместителю познакомиться с молодыми летчиками первой эскадрильи и, пока там нет командира, поработать инструктором. Особое внимание просил обратить на Кудрявцева.
— Займусь им лично, — пообещал Алесюк, — Всю войну переучивал летчиков.
7.
Внимательно прочитал личное дело Евгения Кудрявцева. Он характеризовался как человек честный, откровенный, не терпящий фальши и лицемерия. Его курсантская летная книжка тоже не вызывала сомнений. А вот в новой, заведенной в полку, было только три записи. Три полета на проверку техники пилотирования, И вывод — младший лейтенант Кудрявцев не способен быть летчиком-истребителем. Таково было мнение инспектора по технике пилотирования воздушной армии. Понимая, что инспектор без представления командира полка не стал бы проверять рядового летчика с целью отчисления из авиации, я спросил у начальника штаба Никитина, кто «творец» первой оценки Кудрявцева? Оказалось, «плохо» ему поставил молодой командир эскадрильи, только что допущенный к инструкторской работе. Молодые люди обычно торопливы, их суждения и выводы бывают поспешны. Второе заключение сделал командир полка в день своего отъезда в академию. Он торопился записать свой вывод, даже не успел побеседовать с летчиком. Ясно стало, что произошла ошибка. Чтобы ее исправить, нужен разговор с армейским инспектором, а он просьбу отказаться от своего заключения и перепроверить летчика может принять за недоверие к его профессиональной подготовке.
Все это заставило меня задуматься: не поторопился ли я обнадежить летчика, что тот будет летать? «Нет! — твердо сказал я себе. — Надо дать ему возможность полетать с инструктором, потом самому проверить его технику пилотирования». Моему решению взять всю ответственность за Кудрявцева на себя способствовало то, что в этом формально не было нарушений. Командир полка инспектору не подчинен.
Вскоре майор Алесюк доложил, что подготовил Кудрявцева к самостоятельному вылету на Ла-7. Алесюк восемь лет работал инструктором. Дело свое знает. Летает прекрасно. Такому нельзя не доверять. Оставалось слетать с Кудрявцевым и выпустить его в самостоятельный полет на боевом «лавочкине».
Это зимнее утро выдалось морозным и солнечным. Дул легкий встречный ветерок. Полеты начались по плану. Мне предстояло лететь на проверку Кудрявцева, решить судьбу летчика. Он, конечно, волновался и был наиряжен. И я, прежде чем сесть в спарку, спросил:
— Как настроение?
— Хорошее.
— Майор Алесюк доволен вашими полетами. А сами вы как думаете?
— Стараюсь.
— Повторите задание.
— Два полета по кругу и один в зону.
Летчик рассказывал, какие фигуры высшего пилотажа будет выполнять в небе, а я внимательно смотрел на него. Одет он был в новый черный меховой костюм и унты. Белизна унтов и снега сливались, и создавалось впечатление, что человек оторвался от земли и парит в воздухе.
После выполнения задания Кудрявцев бодро спросил:
— Товарищ майор, разрешите выйти из самолета?
Я едва успел ответить, как над передней кабиной в воздухе, точно крылья чайки, сверкнули белизной унты. Летчик был доволен своим полетом. При проверке Кудрявцева я ни разу не вмешивался в управление, хотя в любой миг готов был исправить грубую, опасную ошибку проверяемого. В небе всегда возможны непредвиденные обстоятельства. Ученик в таких случаях, как правило, надеется на учителя. И если инструктор хоть на долю секунды опоздает, может случиться непоправимое. В такие моменты исход полета немало зависит от мастерства инструктора. Вот почему я все время держался за ручку управления, но делал это так, чтобы Кудрявцев не мог почувствовать мою руку. И он не почувствовал.
— Младший лейтенант Кудрявцев задание выполнил. Разрешите получить замечания?
— Алесюк, — говорю, — научил вас взлет и посадку делать отлично. А вот фигуры пилотажа получались хуже.
Лицо летчика потускнело.
— Что закручинились?
— Так ведь высший пилотаж — главное для истребителя!
— В летном деле все главное. Не сумеешь взлететь — не будет и полета. Не зря говорят, что любой полет начинается со взлета, но не каждый заканчивается посадкой. Учтите это. А сейчас берите мой самолет и самостоятельно выполните все, что делали со мной на спарке.
Я хорошо понимал, что даже у летчиков высшего класса никогда не бывает полетов, похожих один на другой, как не бывает людей с одинаковыми характерами. Но при обучении необходимо, чтобы ученики старались копировать своего учителя. Принцип «Делай, как я» у хороших методистов-инструкторов положен в основу обучения. И полет Кудрявцева на поверку во многом напоминал полеты Алесюка, хотя об этом я ему не сказал ни слова.
Но летчик думал о другом. Его не столько обрадовало разрешение на полет, сколько то, что лететь ему доверено на командирском самолете.
— На вашем? — неуверенно переспросил он.
— А чем мой аэроплан хуже?
— Спасибо, товарищ командир!
Кудрявцев пошел к самолету, а я на стартовый командный пункт. Кроме руководителя полетов Алесюка там находился и замполит полка подполковник Фунтов. Он спросил:
— Как наш страдалец?
— Сейчас полетит сам, — ответил я и повернулся к Алесюку: — С Кудрявцевым все по плану.
— Понял, — ответил руководитель полетов, внимательно следя за истребителями, находящимися в воздухе и на земле.
— Мне кажется, — вздохнул Фунтов, — правильно говорят, что нет плохих летчиков — есть плохие командиры. — И ко мне: — Молчишь? Переживаешь?
— Нет! И Алесюк дал Кудрявцеву отличную оценку, и со мной на проверку он слетал прекрасно.
— Но ты перечеркнул заключение армейского инспектора. Это без последствий не пройдет…
В динамике, стоявшем на столе руководителя, раздался голос Кудрявцева:
— Я — Двадцать первый. Прошу запуск.
— Двадцать первому запуск разрешаю!
Заранее прогретый мотор заработал ровно и ритмично. Рулил Кудрявцев быстрее положенного, а еще бойчее запросил разрешение на вылет. Опытный руководитель полетов то ли потому, что очередной истребитель заходил на посадку, то ли просто хотел, чтобы Кудрявцев попридержал свою прыть, проявленную на рулежке, спокойно сказал:
— Подождите! Самолет заходит на посадку, — и только чуть позже скомандовал: — Двадцать первый, вам взлет!
Счастье! Чем труднее оно дается человеку, тем радостней для него. Это великое чувство за многие километры передалось но эфиру и нам, и всем, кто в те минуты находился на волне нашего аэродрома. Но радость мою потушил Амет-Хан. Оказывается, он стоял рядом и тоже слушал доклад счастливчика, но был окутан грустью и молчал. Я знал, что он ездил к командующему воздушной армией генералу Хрюкину, и спросил:
— Как результат?
Ответ был ясен без слов. Амет-Хан тяжело вздохнул:
— Командующий сказал: «Если сам не уедешь в академию, отправлю под конвоем». Но учиться я все равно не буду! Я летать хочу. Только летать! Посоветуй, что мне делать?
Я вспомнил генерала Александра Шацкого, с которым перед отъездом в Кобрин беседовал в Управлении кадров ВВС. Он мне показался душевным человеком, поэтому я порекомендовал Амет-Хану обратиться за помощью к нему:
— У него большая власть: он может направить тебя слушать даже в Крым.
Тревога
1.
Перед рассветом метеослужба по всем каналам связи передала штормовое предупреждение. Ожидалось усиление ветра чуть ли не до ураганного. Рядовой, сержантский состав и командование всех полков были подняты по тревоге. Люди должны были срочно прибыть на стоянки самолетов, чтобы проверить надежность крепления машин и спасти их от нашествия стихии. Много бед приносили авиации штормы, ураганы и смерчи. Они переворачивали самолеты, сдували их со своих мест и сталкивали друг с другом. Были случаи, когда машины поднимались в воздух и оттуда, подобно подстреленной гигантской птице, грохались на землю.
Я, Никитин и Алесюк, жившие в одном доме, ехали на аэродром в легковушке. У штаба полка Никитин вышел, чтобы проверить, как работает наземная связь. Я попросил его:
— Виктор Семенович, обязательно побывай в казарме, проверь, как люди поднялись по тревоге.
— А где живет подполковник Фунтов? — спросил Алесюк, когда машина тронулась. — Как он будет добираться?
— Фунтова я велел не будить: он вчера поздно приехал из штаба армии с совещания политработников. А сегодня ему читать лекцию и проводить политзанятия.
Ветер усиливался. На аэродроме он уже выл вовсю, но еще не набрал штормовую силу. Хотя небо и было зашторено облаками и стояла тьма-тьмущая, солдаты и офицеры бежали на полковую стоянку. Старший инженер полка Спиридонов встречал людей. Мне не понравились его панибратские отношения с подчиненными, Он называл их по именам, только и слышалось: «Коля, Петя…» Я сделал ему замечание.
— Слушаюсь, — с обидой в голосе ответил инженер.
Ветер свирепел. Порой трудно было устоять на ногах. Алесюк предложил посмотреть крепление самолетов По-2:
— Вчера на обоих летали. Надо проверить, надежно ли они привязаны? «Лавочкиным» ветер не так страшен, а эти «этажерки» может унести.
Авария произошла на наших глазах. Ветер рванул так, что левое крыло По-2 приподняло вместе с навалившимся на него человеком. Опершись на правое крыло, самолет перевернулся и с хрустом упал на спину. К счастью, люди были невредимы, но то ли по инерции, то ли от неожиданности продолжали держаться за крылья разбитой машины.
— Черт побери! — разозлился я и сквозь рев ветра крикнул: — Скорей ко второму По-два!
Люди вскочили, но ветер повалил всех на землю. Он свирепствовал налетами, как вражеская артиллерия. Почувствовав свою беспомощность, я поднял голову. У соседнего По-2 не было ни одного человека. Странно. Метеослужба своевременно доложила о приближении стихии, а люди не прибыли. И тут случилось то, чего я больше всего опасался. Второй «кукурузник», точно ретивый конь, вздыбился и, оторвавшись от земли, понесся прямо на людей. Все шарахнулись в стороны. Ветер превратил в лепешку еще одну «этажерку».
Шторм, совершив свое злое дело, стих. Пока мы с Алексюком оценивали последствия случившегося, рассвело. К этому времени на аэродром прибыл командир дивизии полковник Анатолий Голубов. Я доложил ему о чрезвычайном происшествии. Комдив, но характеру спокойный, возмутился:
— Как же это получилось? У людей ни царапины, а на технике целый погром! — В грузном, но еще сильном полковнике как будто забурлила кровь. Лицо покраснело и от негодования округлилось. Вспышка гнева словно забрала у него всю энергию. Он несколько секунд стоял молча. Потом, примирившись с бедой, более спокойно предложил: — Пойдем посмотрим.
…Голубов — Герой Советского Союза. С первых дней войны и почти до Победы был на фронте. Последний его боевой вылет чуть было не кончился гибелью. Летчик с трудом дотянул подбитую машину до своего аэродрома. Во время захода на посадку истребитель вспыхнул так, что сразу всю машину запеленал огонь и дым. До земли оставался какой-то метр. Голубов понимал, что машина сейчас взорвется. Это смерть. А ему, здоровому, крепкому, не знавшему в свои тридцать восемь лет никаких болезней, хотелось жить. В этой обстановке оставался один выход — выскочить из машины. Но когда? И как? Напружинившись, летчик расстегнул привязные ремни и всем телом рванулся из кабины. Единственное, что он помнил из этого последнего мгновения, — удар головой в какой-то, как ему тогда показалось, потолок. На самом деле он, как мяч, вылетел из машины, находящейся в воздухе. В этот момент истребитель взорвался, а летчик кубарем покатился по земле. Очнулся в госпитале. После длительного лечения снова вошел в строй. Однако травма головы и переломы костей таза давали знать, увяла былая резвость, тело приобрело грузноватость…
При виде разбитых По-2 Голубов вздохнул:
— На чем же теперь ваши молодые летчики будут летать по маршруту? Да и «старикам» надо осваивать полеты по приборам. А это что?
Внимание полковника привлекли выдернутые из земли два штопора, к которым был привязан разбитый самолет. У другого По-2 лежал один штопор.
— А где второй? — Голубов, видимо, подумал, что самолет был привязан к земле только в одной точке.
— Вместо второго штопора, — ответил я, — крыло крепилось к зарытому в землю бревну. Мертвяк шторм не вырвал. Крыло так и осталось на привязи. Если бы и другое крепилось не к штопору, самолет остался бы цел. А так человек чуть не погиб, его приподняло на крыле.
— Да ну-у! — удивился комдив. — И ничего?
— Все в порядке. Только лицо поцарапало.
— Надо его в приказе отметить. Кто он по должности?
— Механик этого По-второго младший техник-лейтенант Иващенко. Он же механик и моего «лавочкина».
Комдив обратился к Алесюку:
— Позовите Иващенко сюда.
Когда Алесюк ушел, Голубов доверительно сказал:
— Не нравится мне твой инженер полка. — С укоризной кивнул на разбитые самолеты: — Это он виновник. Во всех полках По-вторые поставлены на мертвяки, а у вас на штопорах. Морозов настоящих не было.
— Об этом я с ним говорил. Утверждает, что собирался поставить мертвяки, но не успел.
— Выходит, шторм виноват?
Подошел Федор Иващенко. Комдив внимательно осмотрел его, улыбнулся:
— Значит, ночью летали на По-втором?
— Так точно.
— Страшно было?
— Сразу и не сообразил, что происходит. А когда приземлился, понял, что повезло, отделался только легким испугом.
— Почему у вашего самолета оказался только один штопор? — поинтересовался комдив.
— Я самолет принял вчера утром. Во время полетов успел врыть один мертвяк.
— Вы его установили по своей инициативе или по приказу?
Иващенко насторожился, поняв, что комдив задает вопрос неспроста.
— Никто мне не приказывал, — и, как бы оправдываясь, пояснил: — Я считал, что мертвяк надежнее, чем штопор. Если бы успел врыть второй, с самолетом ничего бы не случилось.
Когда Иващенко ушел, Голубов спросил:
— А почему люди по тревоге из казармы явились неорганизованно?
— Я поручил разобраться в этом начальнику штаба.
В это время к нам подошел Никитин и с возмущением доложил, что старший инженер полка прибыл в казарму с опозданием, хотя за ним была послана машина. И в казарме действовал нерешительно, приказал по мере готовности каждому самостоятельно бежать на аэродром.
— Все ясно. Халатность инженера Спиридонова и его демобилизационное настроение обошлись дорого. — Комдив взглянул на меня: — Как думаете, не стоит ли поддержать его просьбу об увольнении из армии?
— Стоит.
— Тогда прошу написать представление, — Голубов повернулся к начальнику штаба полка: — А как вы, Виктор Семенович, думаете?
— Правильно, — ответил Никитин.
— Мне на днях доложили, что и у Елизарова появилось демобилизационное настроение. Странное явление, — в задумчивости заговорил Голубов. — На войне он не жалел себя, несколько раз ранен. Звание Героя ему присвоили. Увольнять такого мастера воздушного боя… — Голубов подумал, потом решительно заявил: — Была бы моя воля, издал бы специальный приказ о том, что Героев Советского Союза из армии увольнять нельзя. Если он теоретически слабо подготовлен — научить, больных — вылечить, не желающих служить — заставить. — И полковник предложил мне: — Поговори с Елизаровым, ведь он коммунист. Ему еще только двадцать два, летать да летать.
— Он поет хорошо, — заметил Никитин.
— Пусть свои способности проявляет в самодеятельности. Раздвоенности летное дело не терпит. Голубов снова взглянул на разбитые самолеты и не то вопросительно, не то сочувственно сказал: — Как теперь без По-вторых работать будете? Даже на полигон или на совещание в армию слетать не на чем.
Мне пришла вдруг идея использовать свои связи. Я ведь целый год работал в Москве, знал начальника управления формирования и комплектования генерала Волкова, через него я получил По-2 и на нем прилетел в полк из Москвы. Почему бы снова не обратиться к нему?
Комдив поддержал мою идею:
— Попытка не пытка. Езжай завтра же. Расскажи о шторме. Поплачься. Нельзя же гвардейский полк оставлять без По-вторых…
2.
Когда я вошел в купе поезда, там уже сидели трое: танкист — старший лейтенант, девушка-сержант и женщина с грудным ребенком. Я поздоровался. Военные встали, ответили по привычке четко. Я невольно улыбнулся:
— Чувствуется армейская закалка.
В это время кормящая мать вдруг заплакала. Я всегда болезненно переносил женские слезы и на секунду растерянно застыл. Потом опомнился, положил портфель и. сняв шинель, сел рядом с женщиной.
— Извините, уж не я ли в чем виноват?
— Нет-нет, что вы, — взяв себя в руки, но еще всхлипывая, она заговорила. — У меня муж тоже был майор. Служил топографом в Польше. В советских войсках. А в прошлом году пропал. Как сквозь землю провалился.
Установилась грустная тишина. Эта тишина, видимо, встревожила ребенка, и он, оторвавшись от груди, заплакал. Мы все вышли, чтобы не смущать мать. Поезд тронулся. В коридоре, глядя через окно на плывущие городские постройки, я задумался над сообщением женщины. Пропал муж. Сколько таких пропаж и убийств там, где побывали фашисты. В Западной Украине и Белоруссии, в Эстонии, Латвии и Литве.
— Товарищ майор, приглашаем на ужин, — прервал мои размышления голос девушки-сержанта. Столик был уже накрыт.
— Отметим возвращение на Родину, — сказала девушка. — Мы все из-за границы. Я и старший лейтенант из Германии. А вы?
— Я местный. Служу в Белоруссии.
— Какой вы счастливый! А я с сорок второго в армии. И все время мечтала о доме. — Девушка была бойкой и разговорчивой. — От радости, что еду к маме, в Москву, наверно, и в эту ночь не усну.
— Давайте сначала познакомимся.
— Ой, простите! Мне даже казалось, что мы уже давным-давно знакомы, — и протянула мне руку. — Рябцева Зоя.
Во время ужина я обратил внимание, что Зоя неестественно низко наклонила голову, а на солдатскую юбку текут слезы. «Что за плаксивая компания попалась? — подумал я. — И эта разбитная на вид девушка-сержант раскисла». Мысленно я осудил Зою и хотел было ей сказать что-то успокаивающее, но сдержался: может, личную трагедию вспомнила. Заговорил шутливо и бодро:
— Товарищ Зоечка, слезы только омрачают радость нашей душевной компании.
Сержант порывисто встала, оправила гимнастерку. Нежное, приятно-улыбчивое лицо стало строгим. Уже не так бойко, как прежде, она заговорила:
— Слушаюсь, товарищ майор. Не выдержала. У меня ведь был жених. Он, как и вы, летчик, Герой Советского Союза. Его сбили над этой проклятой Германией. А под Москвой в сорок первом погибли отец и брат.
Зоя замолчала. Я воспользовался этим:
— И у меня на войне брат стал инвалидом. Отец погиб (я специально не сказал, что в гражданскую войну). Если все мы, кто потерял близких и родных, будем лить слезы, то и сами захиреем. Погибшие за это нас не похвалят. Так что надо крепиться.
Когда поезд приближался к Москве, я вышел в коридор. Людей, прошедших Великую Отечественную войну, невольно тянет посмотреть места боев. При этом они любят тишину. В тишине лучше думается. Перед окном вагона проплывало Подмосковье. Здесь был развеян миф о непобедимости фашистской армии. Народ грудью загородил столицу.
Трудно под Москвой было нашим летчикам-истребителям. Враг бомбил столицу ночью, посылая иногда до 250 самолетов. У нас ночью летало не более ста летчиков. Причем на старых типах истребителей, в основном на «ишачках». И все же воздушную битву за Москву мы выиграли. Впервые за время Великой Отечественной нами было завоевано оперативное господство в воздухе. Налеты на Москву с апреля 1942 года фашистам стали не под силу и почти прекратились…
Утро. Белорусский вокзал. Зоя Рябцева спросила:
— Арсений Васильевич, у вас есть где переночевать?
— Попытаюсь устроиться в гостиницу.
— Зачем? — порывисто заговорила Зоя. — Поедемте прямо к нам. У нас с мамой отдельная двухкомнатная квартира.
— Спасибо, Зоечка, — поблагодарил я, — Но сейчас мне надо поехать в штаб. Может, после. Дайте ваши координаты?
Я записал адрес, номер телефона и прямо с поезда направился в штаб. Пожилой угрюмый полковник, ведающий распределением самолетов, встретил меня недружелюбно, даже не предложил сесть. Когда я рассказал ему о шторме и попросил выделить для полка самолеты, он властно сказал:
— Выходит, вместо того чтобы вас за преступную халатность наказать, мы должны поощрить вас самолетами?
— Виновники уже наказаны. А полк…
— Товарищ майор! — полковник повысил голос. — Вы почему грубо разговариваете со старшим по званию?
Сдерживая свою неприязнь к формалисту, я спокойно проговорил:
— Виноват. Разрешите выйти?
Прежде чем отпустить меня, полковник примирительно сказал:
— Предлагаю написать рапорт на имя своего командира дивизии, чтобы он походатайствовал перед высшим командованием о выделении вам самолетов По-вторых для учебно-боевой подготовки.
Иначе встретил меня генерал-майор авиации Александр Федорович Волков. Предложив сесть, он дружелюбно спросил:
— Какие проблемы?
Я повторил то, что говорил полковнику.
— Да-а, печальный случай, — заметил генерал. — В Белоруссии такие штормы — явление редкое. А люди не пострадали?
Потом Александр Федорович поинтересовался, как устроился полк, спросил о боевой подготовке, сообщил, что истребительные дивизии, вооруженные «лавочкиными», начали перевооружаться на Ла-9 и Ла-11. Пообещал, что в конце этого года и мы получим эти самолеты. Только после этого генерал спросил:
— Так сколько вам надо По-вторых? Завод настроил их порядочно. Боевые полки, вооруженные ими, расформированы. Так что у нас в этих машинах нехватки нет.
— Нам надо четыре, — набравшись духу, выпалил я.
— Хорошо.
3.
День выдался нелетный. Утром позвонил Голубов и приказал прибыть вместе с заместителем по политчасти на совещание. В дивизию прилетел командарм Тимофей Тимофеевич Хрюкин.
— Интересовался тобой и делами в полку, ведь у тебя под началом все асы, которыми командарм командовал под Сталинградом, — сказал Голубов.
— Поэтому и интересовался? Или есть другая причина?
— Узнаешь на совещании.
Генерал-полковника авиации дважды Героя Советского Союза Тимофея Тимофеевича Хрюкина я еще не видел, но слышал о нем много. За глаза его все почтительно называли Тимофеем Тимофеевичем, хотя он был самым молодым из командующих. В свои 35 он уже шесть лет возглавлял армию, участвовал в гражданской войне в небе Испании, воевал против японцев в Китае, во время советско-финляндской войны был командующим военно-воздушными силами 14-й армии, а в Великую Отечественную стал командующим воздушной армией.
Но не только опыт сделал Тимофея Тимофеевича мудрым авиационным руководителем. До партийной мобилизации на учебу в школу военных летчиков он успел окончить рабфак, учился в сельскохозяйственном институте. Перед Великой Отечественной войной, закончил курсы при Академии Генерального штаба. Чтобы дослужиться до командарма, ему нужно было преодолеть немало ступенек служебной лестницы. Для этого кроме опыта и знаний нужно иметь сильную волю и могучее здоровье. И я не удивился, когда увидел, что Тимафей Тимофеевич высок и удивительно строен. В нем все дышало богатырской силой. Спокойное, умное лицо с широким и высоким лбом, русые волосы с зачесом назад. И ни капли начальственной напыщенности.
После докладов командиров полков командующий сказал:
— Летная подготовка у вас застопорилась. Виновата теснота. Хотя вы и летаете в воскресные дни, но отставание от других дивизий все равно будет возрастать. Базироваться четырем полкам на одном аэродроме нельзя. — Он взглянул на меня: — Вам, как только просохнет земля, надо будет перелететь на новое место и войти в состав дивизии «лавочкиных». — Вот почему Тимофей Тимофеевич интересовался полком и мной, догадался я. А командующий, назвав новый аэродром для полка, пояснил: — Летное поле там большое, на возвышенности. В распутицу не раскисает. А вам летать нужно много. Вот только с жильем на новом аэродроме будет трудновато. Семейным офицерам придется снимать квартиры в деревнях. Холостяки расположатся в палатках. Инженерный батальон уже приступил к строительству казармы и столовой. Скоро привезут два сборных двухэтажных домика под штаб полка, медпункт и лазарет. Намечено построить четыре восьмиквартирных дома.
Командующий говорил негромко, спокойно. Он понимал, что в таких вопросах, как боевая подготовка и перелет на новое место службы, громкими словами, упреками можно только приглушить инициативу и даже обезволить человека. Дав указание о перебазировании полка, он обратился ко всем:
— А теперь какие будут вопросы и просьбы?
Встал я и сказал:
— Семьям и техническому составу, чтобы переехать на новое место по железной дороге, нужно делать три пересадки. Не могли бы вы на один день выделить транспортный самолет?
— Хорошо, что напомнили, — отозвался командующий. — Об этом пока ни штаб, ни я не успели подумать. Выделю, обязательно выделю несколько Ли-вторых.
Пожелания и просьбы были и у других офицеров. А один вопрос прозвучал тревожно:
— Когда у нас появятся реактивные самолеты? Американцы испытали их в прошлом году. Почему мы отстали?
Тимофей Тимофеевич после небольшого раздумья заговорил:
— Да-а. Вопрос этот всех нас волнует. С реактивными самолетами дело движется. Мы еще в сороковом году испытали ракетоплан, но война это дело затормозила. Сейчас наверстываем упущенное. Вот-вот поднимутся в небо реактивные истребители Яковлева и Микояна. И вам надо готовиться к переходу на новую технику. Она требует отменного здоровья. Следите, чтобы летчики не злоупотребляли водкой. — Командующий взглянул на меня: — Вам особенно это надо учесть.
Я встал:
— Не понял, товарищ командующий. До спиртного я не охотник.
Генерал извинился:
— Я сказал неточно. Имею в виду не лично вас, а летчиков. Ваш полк, наверное, первым будет переучиваться на реактивную технику. Вот и объясните нам, как готовите летчиков. Почему допустили к полетам Кудрявцева, если инспектор воздушной армии записал в летной книжке, что он не способен к летному делу? Почему не выполнили рекомендацию представителя воздушной армии?
Командующий отошел от стола и встал сзади всех. В его вопросе я уловил упрек в свой адрес, но не собирался оправдываться:
— Оценивая Кудрявцева, инспектор допустил ошибку. Кудрявцев отлично летает на боевом «лавочкине».
В комнате установилась гнетущая тишина, Ее нарушил генерал:
— Все?
— Все.
— А если бы Кудрявцев сломал самолет? Кто бы понес ответственность?
— Сам летчик, а в первую очередь я.
— И вы решились на такой риск?
— В авиации нельзя без риска. Научить человека летать — не только мой служебный долг, но и дело моей совести. Легче было, конечно, сделать заключение после одного полета по кругу, что летчик «не способен летать».
— Вы имеете в виду инспектора армии?
— Так точно. Не он пишет представление на отчисление из авиации, а командир полка.
— Теперь ваша позиция ясна, — командующий подошел к столу. — Сейчас у нас в армии много молодых летчиков. К ним надо проявлять особое внимание и терпение. Сменились многие командиры полков и эскадрилий. А это — главные учителя. Им нельзя проявлять поспешность и раздражительность. Вчера я просмотрел летную книжку Кудрявцева, побеседовал с ним. Парень мне понравился. В военном училище летал нормально, а в строевом полку чуть не утонул в бумажном водовороте. И виноват в первую очередь командир эскадрильи. Он первый забраковал летчика. — Тимофей Тимофеевич, глядя на меня, заключил: — Вы, как командир полка, правильно сделали, что не согласились с рекомендацией инспектора.
Прежде чем закончить совещание, командующий сообщил:
— Для усиления нашей воздушной обороны принято решение иметь в полках истребительной авиации не три, а четыре эскадрильи. Приказ о переходе на новые штаты вам уже направлен.
Меня радовало, что принимаются меры для усиления авиации и повышения боевой готовности. В памяти были свежи события предвоенных лет, когда приходилось терять людей из-за неорганизованности и плохой боевой выучки…
В мае 1939 года нашу эскадрилью подняли по тревоге и нас посадили в поезд. Мы предполагали, что поедем на запад: фашистская Германия шествовала по Западной Европе. Но поезд шел на восток. Выгрузились в Забайкалье на станции Разъезд и вскоре прибыли на аэродром, где рядами стояли новенькие истребители И-16.
— На облет машин дается три дня, — сказал начальник гарнизона. — Готовьтесь лучше, видимо, на этих машинах вам придется воевать. Япония напала на Монгольскую Народную Республику.
И вот под нами Монголия. Кругом неоглядная степь: ни одного домика, ни юрты, ни единого деревца. Только изредка попадаются стада диких коз и стаи дроф. Вспоминаю, что территория Монголии в два с половиной раза больше Украины, а проживает там в десятки раз меньше жителей. Пролетев около 750 километров, сели на степном аэродроме. Необозримая равнина, покрытая цветущим разнотравьем, неподалеку озеро Буйр-Нур и река Халхин-Гол. Командир полка майор Николай Глазыкин собрал нас для беседы:
— С начала тридцать девятого года японцы начали провокации, а с 11 мая перешли к открытым военным действиям…
27 мая состоялся первый воздушный бой. Когда на горизонте появилась девятка японских истребителей, наша шестерка пошла на взлет. Но подняться в воздух успели только три летчика. Три самолета были сожжены на взлете. На другой день уже двадцать советских истребителей были подняты на перехват японских самолетов. Первая десятка не стала дожидаться остальных, помчалась на перехват врага, но была встречена японскими истребителями. Все наши летчики смело вступили в бой, никто не дрогнул, никто не вышел из боя, но и никто не вернулся на аэродром: восемь человек погибли, двое приземлились в степи.
Надо было учиться воевать. И вскоре в Монголию прилетела большая группа опытных боевых летчиков, дравщихся с врагом в Испании и Китае, среди которых находилось 17 Героев Советского Союза. Возглавил группу заместитель командующего Военно-воздушными силами комкор Я. В. Смушкевич. Золотую Звезду Героя Советского Союза он получил за личное мужество и умелое руководство действиями советских летчиков-добровольцев в рядах испанской республиканской армии против франкистских мятежников, где был старшим советником по вопросам авиации.
Прибыв в Монголию, летчики этой группы разъехались по аэродромам и, пока на фронте после майских боев длилось затишье, передавали свой боевой опыт нам, необстрелянным воздушным бойцам. Они учили нас драться компактной группой, в тесном взаимодействии, еще и еще раз напоминали о необходимости взаимной выручки. Было резко увеличено количество аэродромов и посадочных площадок, большинство из которых располагалось значительно ближе к месту боевых действий, чем раньше. Почти на пустом месте была организована четкая служба воздушного наблюдения, оповещения и связи. Все это делалось в крайне сжатые сроки. Мы летали с утра до вечера.
…Был жаркий день. Летчики, ожидая вылета, сидели в кабинах истребителей. И вдруг — сигнал на вылет. Японцы для удара по нашим аэродромам послали 120 истребителей. Для их перехвата поднялось 95. Но перевес оказался на нашей стороне. Японцы вынуждены были уходить, мы их преследовали. В результате боя враг потерял 31 самолет, а мы 12. Тренировки под руководством боевых инструкторов не прошли даром. Когда совершил посадку, техник самолета Васильев доложил:
— Товарищ комиссар, над нашим аэродромом выпрыгнули трое самураев. Один сделал себе харакири, другой погиб в перестрелке, а третьего мы пленили.
Вражеского летчика окружили летчики и техники. Рубашки на нем не было. Тело в ссадинах, Плотный, коренастый, мускулистый парень. Смотрит как загнанный зверек, требует вернуть ему нож, всем своим видом показывая, что самурай — это рыцарь, а по рыцарским законам он не должен сдаваться в плен.
— Дай ему нож, пускай выполнит свой долг, — крикнул кто-то.
Японец какое-то время с любовью разглядывал сверкающее лезвие кинжала и вдруг, к всеобщему изумлению, четко выругался по-русски и с каким-то остервенением воткнул кинжал в землю. Несколько секунд пленный стоял в задумчивой растерянности, потом с вызывающей улыбкой посмотрел на нас и заговорил на чистейшем русском языке:
— Вы думаете, я дурак и кончу жизнь самоубийством! Нет! Я знаю ваши законы. Вы должны сохранить мне жизнь. Я бывал в Москве, во Владивостоке, в Харькове. Я сын дипломата, летал на вашем истребителе И-пятнадцатом. Знаю, что у вас из военных школ выпускают слабых летчиков. Чтобы стать полноценным истребителем, нужно прослужить в строевой части не меньше двух-трех лет, а здесь у вас больше половины второго года службы…
О военных школах пленный сказал правду. В ту пору курсанты со стрельбами и воздушными боями только знакомились, да и летали в школах на старых самолетах, поэтому летчику после школы требовалось освоить новый самолет, изучить его возможности в учебном бою.
А японец продолжал откровенничать:
— Я знаю, что здесь у вас мало летчиков с боевым опытом, А я воевал в Китае. Сбивал там ваши самолеты. И здесь два сбил. Таких пилотов микадо сюда прислал больше двухсот. Они с вами расправятся.
Видно было, что японская разведка поработала неплохо. Но многого она не учла, не предвидела, что мы и в меньшинстве будем одерживать победы, что в каждом бою станем проявлять мужество и смелость. За четыре месяца войны на Халхин-Голе советские войска разбили отборную 100-тысячную армию. Противник потерял убитыми, ранеными а пленными около 61 тысячи человек и 660 самолетов, Говорят, что человек рождается дважды: первый раз — физически, второй — духовно. Мы познали третье рождение — стали настоящими военными летчиками-истребителями. За Халхин-Гол впервые у нас трое летчиков получили звание дважды Героев Советского Союза: Яков Смушкевич, Сергей Грицевец и Григорий Кравченко.
4.
Открытое партийное собрание шло проторенной колеей. Дежурная повестка дня. Привычный доклад. Скучающие лица присутствующих. Неожиданным детонатором общественного мнения стало выступление Героя Советского Союза штурмана полка майора Ивана Королева. На трибуну он вышел неторопливо и с тем достоинством, которое присуще людям, знающим свое дело. На войне Иван с первых дней. Был ранен. Познал горечь поражений и радость побед.
— Говорят, что память прошлого — учитель настоящего и будущего, — спокойно начал он. — Война учит нас бдительности. У нашего вероятного противника есть атомная бомба, есть реактивные самолеты. У нас пока ни того, ни другого нет. Поэтому супостаты будут торопиться с нападением на нас. Главная сила у них бомбардировщики, которые отразить нелегко. Опыт войны показал, что даже в сорок пятом году, когда мы имели абсолютное превосходство над фашистами, они прорывались и бомбили наши войска и тылы. Но теперь мы этого не допустим. У нас есть проверенное и безотказное оружие.
Все насторожились, ожидая, что Иван назовет волшебное новое оружие. И он назвал:
— Это испытанный в воздушных боях таран! Его впервые применил летчик Нестеров еще в четырнадцатом году. Правда, царское правительство готово было извиниться перед вражеским командованием за то, что самолет барона Розенталя сбит «не по правилам». В этой войне советскими летчиками «не по правилам» была уничтожена не одна сотня фашистских самолетов. А в будущей войне, если она возникнет, таран будет иметь новый смысл…
В казарме, где проходило собрание, все стихло. Королев продолжал:
— Теперь таран у каждого летчика будет таким же обычным оружием, как пушка и пулемет. В этом новый смысл тарана. Мы сделаем все, чтобы ни одна атомная бомба не упала на нашу землю.
— Правильно! — с места отозвался Елизаров. Он уже не хлопотал об увольнении из армии и был назначен командиром вновь созданной четвертой эскадрильи.
Королев обратился к нему:
— Вот Елизаров правильно сделал, выкинул из головы демобилизационные мысли. И дела у него пошли хорошо. Это сейчас особенно важно. Мы сегодня на наших воздушных рубежах должны стоять насмерть, если надо, смело идти на таран!
Королева поддержал еще один фронтовик лейтенант Александр Кретов:
— Надо созвать специальную теоретическую конференцию, обсудить боевые действия летчиков в минувшей войне, попросить выступить тех, кто таранил фашистские самолеты. Яркой звездой в историю нашего полка вошел комиссар эскадрильи Семен Куница, — продолжил Кретов. — Последний бой он провел под Одессой. В этом бою группа сбила несколько фашистских бомбардировщиков. А они все шли. У истребителей кончились боеприпасы. И тут комиссар, уже будучи раненным, произвел свою последнюю боевую атаку — таранил врага. Сам он выбросился с парашютом. Фашисты забыли о своей боевой задаче и кинулись на беззащитного парашютиста. Четырнадцать ран было на теле коммуниста. Пехотинцы с почестями похоронили Семена. Историю полка надо помнить. Верно говорят: чем лучше мы знаем свое прошлое, тем мы тверже и сильнее в настоящем. Выступил обычно молчаливый Женя Кудрявцев. Он говорил о вводе в строй молодых летчиков:
— Мы все должны работать на форсаже!
Потом выступали техник самолета Федор Иващенко, командир гарнизонного авиационного тыла Семен Фалин. Не удержался и я. Мне не понравилось восхваление тарана. Это грозное оружие, но делать на него ставку в мирное время нельзя.
— Теперь мы имеем очень мощное вооружение, — говорил я. — С помощью скорострельных пушек один истребитель может уничтожить несколько самолетов противника. Надо только научиться хорошо стрелять, а не думать о самопожертвовании.
Собрание затянулось. Разгорелась настоящая дискуссия о таране. Подвел черту командир эскадрильи капитан Борис Масленников. Говорил он тихо, медленно, но убедительно:
— Говорят, что таран изжил себя, что надо учиться стрелять. А где и как учиться? Для наших пушек нет мишеней. Полотняный конус от первой очереди из пушек разлетается. А «огнем» из фотопулеметов настоящую стрельбу не заменить…
С собрания я шел в глубоком раздумье. Кто же прав? Я или Иван Королев? Как относиться к таранному удару? Что нужно сделать, чтобы научить летчиков вести прицельный огонь на поражение противника? Командуя полком, мне предстояло искать и находить ответы на эти вопросы.
Суд совести
1.
Летчики на боевых, а семьи на транспортных самолетах перелетели на новое место. Летное поле встретило цветущим разнотравьем и трескотней кузнечиков. От запустения кое-где появились даже кусты репейника. Перед войной тут стояли бомбардировщики. Для них на западной окраине аэродрома строилась бетонная полоса, но война помешала ее закончить, и теперь она напоминала о трагическом сорок первом годе. Вокруг летного поля зеленел лес. Женщины были довольны, с радостью рвали цветы, восторгаясь окружающей природой. Ребятишки собирались кучками и хвастались, кто больше нарвал одуванчиков.
Квартирьеры на аэродром прилетели давно и в окрестных деревнях уже сумели подыскать жилье для семейных, в чем им помогли местные власти.
— А ну, шпингалеты, по машинам! — скомандовал ребятам инженер Спиридонов.
Семейные, погрузив имущество, разъехались. Остальные направились в палатки, поставленные на опушке леса.
— О-о! — воскликнул радостно лейтенант Александр Кретов. — Для нас здесь построили целый городок. Вот житуха-то будет!
— Да, ничего не скажешь! Весело заживем, — поддержал Сашу командир эскадрильи Борис Масленников. — Скоро начнем ночные полеты и под музыку моторов спать еще крепче будем.
— А столовая где? — поинтересовался кто-то из летчиков.
— В селе, — пояснил квартирьер. — Отсюда минут двадцать пешочком.
Масленников, как и все командиры эскадрилий уже побывавший на этом аэродроме, пошутил:
— Но мы, холостяки, в палатках не приживемся. Недалеко большой цементный завод. С клубом. Там полно девушек. Они нам постараются найти жилье поближе к себе. Нужны только активные атаки.
Палаточный городок и впрямь просуществовал одну неделю. Большинство холостяков быстро нашли себе пристанище в поселке цементного завода и ближайших селениях. Зато солдаты и сержанты срочной службы не торопились переселяться в казарму, хотя ее строительство уже заканчивалось, Им нравилось жить на природе.
Село большое. В нем расположены штаб пограничного отряда и дирекция совхоза, который уступил полку одноэтажный барак, где нашлось место и для летной столовой, общежития летчиков, а в мансарде — для штаба полка.
Рядом c костелом оригинальной архитектуры стоял двухэтажный каменный дом ксендза. У его помощников тоже имелись капитальные каменные дома, но, когда квартирьеры обратились за помощью к главе костела, тот ответил:
— Могу предоставить жилище только вашему замполиту и его семье.
— А почему только замполиту?
— Потому, что я тоже политработник. Агитирую народ за веру в бога, за веру в идеи религии. Ваш комиссар агитирует народ за своего бога — Сталина, за свою религию — марксизм-ленинизм. Поэтому мне интересно рядом с собой видеть вашего замполита. Будем негласно с ним соревноваться в нашей работе.
С «философией» ксендза полковые квартирьеры, конечно, не стали спорить. Хорошо, что служитель римско-католической церкви предоставил жилье в своем доме замполиту Фунтову с женой.
Моя семья расположилась в деревянном домике из двух небольших комнат с кухней. В нем жила жена пограничника Мария Никифоровна с сыном. Мужа ее перевели в Закарпатье, он вот-вот должен был прислать вызов семье. Вскоре хозяйка получила телеграмму. Ранним утром, сияя от радости, она прибежала к нам.
— Сегодня же с сыном соберемся и вечером выедем! В Мукачево нас встретит муж, — усаживаясь, продолжала она, но спохватилась. — Да! Я вам чуть не забыла передать одну бумажку. Из райисполкома.
Мария Никифоровна передала мне извещение, где квартирантам предлагалось купить дом. Стоимость — пять тысяч рублей.
— А кто же продает этот домик? — удивилась Валя. — Хозяин-то сбежал.
— Я слышала, что бывший хозяин затребовал денежную компенсацию. Наше правительство обязано ее выплатить.
— А как же с огородом? Вы затратили столько труда…
Но хозяйка не дала мне закончить:
— Ой, Арсений Васильевич! Все оставляем вашей семье.
— Конечно, дом мы купим, — торопливо заверила Валя, глядя на меня. Я согласно кивнул. Она продолжала: — Будем иметь свое жилье, свою землю. — Жена была по образованию агрономом и не скрывала своего восторга. — Сад с огородом при доме! Это же для нас великая находка!
— А мне с сыном, будьте добры, помогите добраться до вокзала и сесть в поезд, — попросила Мария Никифоровна.
Во время завтрака в комнату вошли инженер полка Спиридонов и с нам гражданский представительный мужчина.
— Товарищ майор, — обратился ко мне Спиридонов. — У нас к вам важное дело.
Мария Никифоровна поспешила выйти. Инженер представил гражданского человека:
— Это директор местного фанерного завода.
Поздоровавшись, я попросил обоих сесть.
— Завод стоит, а фанера всей стране вот как нужна, — директор провел ладонью по горлу. — Стоит из-за масла. Выручайте. Дайте хоть килограммов пятьдесят.
— У нас много отработанного масла, — пояснил Спиридонов. — Некуда девать, а им оно в самый раз. Взамен получим фанеру для перегородок в штабе. У вас даже секретная часть не отгорожена. И семейные офицеры смастерят себе закутки.
Мне надо было идти на полеты, поэтому я перебил Спиридонова:
— Ясно.
Опасаясь, что я не разрешу дружеский обмен, директор поспешил заверить:
— Товарищ майор, поймите меня правильно. Это не какая-то корыстная сделка, а государственная. Вы только представьте: завод стоит, рабочие ничего не делают, а фанеру ждут мебельные фабрики и строители.
— Понимаю, — я взглянул на Спиридонова. — Согласен. Только как мы отчитаемся за отработанное масло?
— Да тут никакого отчета и не нужно. Раньше забирали и вывозили на переработку, а сейчас просто сливаем в яму.
— Хорошо. Давайте поможем друг другу, — согласился я.
2.
В этот день с утра летали две эскадрильи. Руководил полетами штурман полка майор Иван Королев. Когда я пришел на аэродром, все четыре По-2 и половина «лавочкиных» были уже в воздухе. Я поинтересовался, кто летает на По-2.
— Маршрутные полеты выполняют Алесюк, Масленников, Елизаров и Банков.
Старший лейтенант Георгий Банков несколько дней назад пришел на полеты после глубокого похмелья. Я догадался об этом по его виду, спросил:
— Тяпнули вчера?
— Было дело,
— Голова трещит?
— Есть немного, — признался летчик. — Но небо с похмелья — лучшее лекарство.
Байкова пришлось отстранить от полетов. Вспомнив этот случай, я спросил у Королева:
— Банков как выглядел?
— Нормально. Только на По-вторых он не любят летать, натура у него буйная. Даже на войне после боя часто над аэродромом кордебалеты устраивал.
— И это ему прощалось?
— Война была. Дрался он хорошо.
— Ну на По-два особенно не разгуляешься, — отозвался я и оглядел безоблачное небо. В зонах пилотировали «лавочкины» и кружились пары, отрабатывая групповую слетанность. Спросил, как слетал Кудрявцев.
— Чисто работал. Молодец! Я проследил весь его пилотаж. И посадка была отличной. Сейчас он с Байковым ушел по маршруту.
Я слетая, как и предусматривалось плановой таблицей, с Сергеем Елизаровым на проверку техники пилотирования, потом сделал полет на высший пилотаж и уехал в штаб.
Перед обедом мне позвонил майор Алесюк и, волнуясь, торопливо доложил:
— Полеты… закончились. Есть происшествие. С задания не вернулись старший лейтенант Банков с младшим лейтенантом Кудрявцевым. Если они заблудились, то совершили вынужденную посадку. Горючее у них давно кончилось.
Сообщение Алесюка точно огнем опалило. Виделось самое страшное. Ведь если бы летчики сели на какой-нибудь аэродром, они сообщили бы об этом по радио или телефону. Я немедленно позвонил о случившемся комдиву. Прошло два часа. Никаких известии не поступало, Командир дивизии полковник Правдин не выдержал и сам позвонил мне домой:
— О пропавших есть новости?
— Нет.
— У вас радио на каком-нибудь По-втором имеется?
— Нет.
— Да-а, это хуже, — сочувственно вздохнул Михаил Иванович. — Они могли и утонуть. Озер и болот в Белоруссии много. А вдруг отказал мотор и летчики где-нибудь барахтаются в воде или при посадке получили травмы и ее в силах передвигаться?
— Все может быть. Пока светло, я пошлю два боевых самолета. Пусть поищут.
— Добро.
Поиски не дали никаких результатов. Сон ко мне не шел. Валя тоже не спала. Вдруг звонок. Я порывисто схватил трубку.
— Спишь? — в трубке голос комдива.
— Какое там! Не спится.
— Мне тоже. Получено распоряжение. Завтра учебные полеты отменяются. Приказано продолжить поиски пропавшего экипажа.
Вскоре новый звонок. С почты:
— На ваше имя получена телеграмма из Слонима: «Отказал мотор. Сели вынужденно на лес. С нами порядок. Байков».
— Спасибо за сообщение! — крикнул я в трубку и облегченно вздохнул. — Нашлись ребята!
— Ну вот, видишь, все хорошо кончилось, — облегченно вздохнула жена.
«Все хорошо кончилось». Эти слова заставили меня снова задуматься. Может ли хорошо кончиться, если они сели на лес? И почему на лес? По заданию они должны были лететь на километровой высоте, с такой высоты можно без работающего мотора пролететь пятнадцать километров. А лес белорусский — не сибирская тайга. В нем небольшая посадочная площадка всегда найдется.
Вопросы, вопросы. Они долго не давали заснуть. Но мысль, что завтра розысков не будет и учебные полеты состоятся, успокаивала. С этой мыслью и заснул. Уже светало, когда снова раздался телефонный звонок. В этот ранний час звонил Байков, возвратившийся с Кудрявцевым в село. После доклада о вынужденной посадке он спросил:
— Какие будут дальнейшие указания?
— Выспаться хорошо и явиться ко мне.
Маленький кабинет командира полка. Два однотумбовых столика, небольшой шкаф, несколько стульев. Второй столик предназначен для будущего начальника штаба полка. Подполковник Никитин остался на прежнем месте в связи с назначением на новую должность. Ровно в 13.00 в кабинет вошли старший лейтенант Байков и младший лейтенант Кудрявцев. Байков высокий, сильный, со здоровым румянцем на лице, Кудрявцев среднего роста, крепкий, но рядом с командиром звена казался маленьким. На его лице читалась явная растерянность.
Я пригласил вошедших сесть за пустующий столик, предложил Кудрявцеву рассказать о полете.
— Вы управляли самолетом, а Байков вас контролировал, обучал» поэтому с вас и начнем.
Кудрявцев в нерешительности взглянул на своего командира звена, словно чего-то ожидал от него. Не дав им обменяться взглядами, я строго спросил:
— Так вы, товарищ Кудрявцев, управляли самолетом или Банков?
Лицо летчика вспыхнуло. Он виновато опустил голову, собрался что-то сказать, но Байков опередил:
— Я управлял самолетом.
— А почему вы?
— Когда все шло нормально, машину вел он, а когда обрезал мотор, я взял управление на себя. Я был командиром экипажа и нес ответственность за исход полета.
Мне стало ясно, что летчики темнят, решил поговорить с каждым отдельно.
— Товарищ Байков, спуститесь вниз. Там сидит штурман полка Королев. Передайте ему мое приказание, чтобы он подробно заслушал вас об этом печальном полете.
— Есть, идти к штурману полка, — повторил Байков, взглянул на Кудрявцева и даже приподнял руку, как бы призывая его не падать духом и выше держать голову. Но тот растерянно заморгал глазами. Банков не без раздражения махнул рукой и вышел.
Честным людям ложь скребет душу. Это было видно по летчикам: их мучила совесть. И если бы у них действительно отказал мотор, как сообщил в телеграмме Байков, они стали бы искать причину. Они же об этом не сказали ни слова ни мне, командиру полка, ни командиру эскадрильи, который раньше доложил о беседе с ними. Мне было все ясно, поэтому, оставшись с глазу на глаз с Кудрявцевым, я вздохнул:
— Жалко Байкова. Зачем ом соврал в телеграмме, что отказал мотор?
Кудрявцев понуро опустил голову. Я спросил:
— А почему не вы подписали телеграмму, ведь вы управляли самолетом?
— Я отказался. Рука не поднялась, — хрипловато и тихо ответил летчик. — Банков приказал мне солгать. И я согласился, струсил. И Банков тоже трус, хоть и Герой Советского Союза. Теперь мы с ним будем врагами.
— Зачем же так? Давайте договоримся, пусть Байкой сам вам скажет, чтобы вы мне рассказали, как все было.
— Он этого не сделает. Ему написано представление на звание капитана. Если он сознается, останется старшим лейтенантом.
Кудрявцев вышел, вошел Байков, сел за стол. Я доверительно начал:
— Странно ведет себя Кудрявцев. Напуган. А может, недоволен, но вы взяли у него управление и же сумели посадить самолет нормально? Я тоже вами недоволен. Опытный летчик, мастер высшего пилотажа, спортсмен, а попали в сложное положение и растерялись, не сумели выбрать подходящую площадку. Это же простенький самолет. На зря его во время войны называли «кукурузником» и даже девчата приземляли на любом пятачке. А вы разбили.
Байков, видимо, подумал, что я поверил его лживой легенде, с готовностью согласился:
— Ну что ж, и на старуху, говорят, бывает проруха.
Я уважал Байкова за бойцовский и решительный характер и за мужество. Сейчас же он явно фальшивил и казался каким-то бесшабашно безответственным. Это раздражало меня, но, чтобы вызвать старшего лейтенанта на откровенность, я старался говорить спокойно.
— Да, есть такая поговорка, — и я резко сменил тон. — Давайте без всяких присказок расскажите, как было? Лгать не надо.
— Мы не лжем.
— Значит, правду говорите? И только матушку-правду?
— Да.
— И совесть вас не грызет?
— Нет, — с деланной бодростью ответил Байков.
— Я не верю этому. Вы не такой человек, чтобы могли спокойно жить во лжи. Договоримся так. Я схожу за Кудрявцевым, а вы побудете здесь, подумаете. Когда мы придем, скажете подчиненному: «Женя, говори командиру только правду». И тут же выйдете из кабинета. Хорошо?
— Хо-ро-шо, — в растерянности протянул летчик. Мы с Кудрявцевым минут через пять возвратились. Байков встал и, направляясь к двери, вяло махнул рукой:
— Давай, Женя, расскажи командиру всю правду.
Кудрявцев сел на прежнее место. Я участливо улыбнулся:
— Давайте, как на духу, выкладывайте, как вы разбили машину.
— Я, товарищ командир, не виноват. Это он начал хулиганить,
— А вы почему молчали? У вас переговорное устройство работало?
— Работало. Но он мой командир!
— Вы комсомолец, подали заявление в партию… Ну да ладно. Об этом разговор будет позднее. А сейчас расскажите все подробности полета и сделайте сами вывод о причине аварии.
Исповедь Кудрявцева была короткой, но очень эмоциональной. После часа полета над населенным пунктом Слоним он сделал разворот и взял, курс на Мосты. Сияло солнце. Внизу петляла речка Щара, плыли леса, поля. Байков решил порезвиться. «Беру управление на себя», — передал подчиненному и, сделав переворот, перешел на бреющий полет. Теперь уже внизу не плавно плыли леса, озера, поляны — все мельтешило, сливалось в единый поток.
Байков бреющим давно не летал, зоркость оказалась притупленной. Когда верхушка сухого дерева хлестнула самолет, он инстинктивно хватил ручку управления на себя, чтобы выдернуть машину. Но… Это «но» оказалось сильнее желания летчика. Сухое дерево, словно крюком, зацепило легкий По-2, и тут же мертвой хваткой его обняли верхушки других деревьев. Летчики опомнились, когда вместе с обломками машины оказались на земле.
Некоторое время они сидели молча, отходя от страха. Очухавшись, поняли, что невредимы, и от радости рассмеялись. Однако это был смех сквозь слезы. Так уж устроен человек. Сознание, что смерть миновала, заставляет забывать обо всем другом. Пленит радость жизни. И смех в такие мгновения является непроизвольной разрядкой.
Но жизнь есть жизнь. Она быстро возвращает к действительности. Пришло время подумать и об ответственности. И они наскоро договорились скрыть причину аварии. Не хотелось им краснеть за свою недисциплинированность перед товарищами и командованием, свалили вину на мотор. Но свою совесть не обманешь.
После исповеди о случившемся, словно сбросив с себя огромную тяжесть, Кудрявцев заявил:
— Я, товарищ командир, все рассказал. Готов за свою минутную слабость и трусость нести любую ответственность. Только прошу, не отстраняйте меня от полетов.
Чтобы сообщить о случившемся, летчики более десяти часов добирались до Слонима. Здесь Кудрявцев опомнился и отказался подписать телеграмму, заявив, что врать не приучен. Байков обозвал его трусом и предателем, с которым на войне не полетел бы в бой. Это «обвинение» подействовало на Кудрявцева, и он дал согласие поддержать версию Байкова.
Молодость! В такие годы у человека еще не устойчивы моральные принципы. Зато узы товарищества крепки и, бывает, берут верх над нравственностью. И когда Байков бросил Кудрявцеву обвинение в трусости, парень счел разумным не подводить командира. Теперь он опомнился. Да и Байков уже, видимо, раскаивается в своей лжи.
Вскоре Байков был разжалован в рядовые летчики и переведен из гвардейского полка в обычный. Представление на присвоение звания не было отослано, Кудрявцева коммунисты не приняли в партию. Наказание летчики получили суровое. Но никакой трагедии не произошло. Кого уважают и любят, того за сознательно неразумные поступки бьют сильнее.
3.
После дивизионной конференции по обобщению опыта Великой Отечественной войны комдив пригласил меня в свой кабинет. Разговор начал с бумажки. Это была жалоба. Меня обвиняли в том, что я, пользуясь служебным положением, занимаюсь коммерцией: меняю государственное авиационное масло на фанеру. Бумага была адресована командующему воздушной армией. Подписи не было, зато была приписка: «Не называю свое имя потому, что опасаюсь преследования за правду». Резолюция командующего: «Разобраться. Если нужно — строго наказать командира полка и доложить об исполнении». Наложил резолюцию не генерал-полковник авиации Хрюкин, а мой однофамилец маршал авиации Г. А. Ворожейкин. Я спросил:
— А где Тимофей Тимофеевич?
— Переведен в Москву.
Мы с Правдиным давние друзья и земляки, Оба из Горьковской области. Не раз встречались во время войны, Михаил Иванович человек душевный, поэтому я по-дружески спросил:
— А что ты думаешь об этой анонимке? Я же тебе говорил о масле и фанере.
— Кляуза, конечно, но приказ есть приказ. Надо будет докладывать. Завтра к вам в полк прилетит командующий. Поговори с ним об этом.
Сообщение о прибытии командующего насторожило:
— Зачем он прибудет к нам?
— Видимо, хочет познакомиться с гарнизоном. Вашим полком он заинтересовался особо. Ты же сам написал рапорт, что полк по тревоге может подняться в воздух только через полтора часа. А у других истребительных полков готовность к бою не больше часа. Ваш срок командующего не устраивает.
— Объясню, обосную. Да, вот еще что. Мы начали стрелять по конусу новым методом. Результаты отличные. Может, мне стоит поговорить с командующим, об этом? Если нужно, летчики могут показать стрельбу прямо над аэродромом.
— Давай. Если одобрит, мы этот метод применим в других полках.
Небо принято называть голубым. Для летчика оно каждый летный день выглядит по-разному. Все зависит от задачи и ее выполнения в воздухе. Мне в это теплое осеннее утро оно виделось чистым, но тревожным. Я с особым вниманием следил за взлетом младшего лейтенанта Кудрявцева.
Наши асы в Испании, в Китае, на Халхин-Голе, а затем в ходе Великой Отечественной войны, как правило, уничтожали вражеские самолеты с первой очереди. Повторная атака по истребителю, если он не подбит, в групповом бою почти исключалась. Самолет врага резким маневром выходил из-под удара. Поэтому надо было обучать летчика-истребителя так, чтобы он поражал цель с первой очереди. Но обучали по старинке, как в двадцатые годы, когда максимальные скорости истребителя не превышали 200 — 280 километров в час. По полотняному конусу, который летчики называли «колбасой», стреляли только заградительным огнем, целясь не в саму мишень, а в упрежденную точку, надеясь, что «колбаса» сама наскочит на пущенную очередь.
На самолетах того времени поправка на скорость конуса и вынос точки прицеливания вперед были небольшими. Из поля зрения летчика в момент стрельбы конус не выходил.Заградительный огонь приближался к огню на поражение. С ростом скоростей истребителей, появлением крупнокалиберных пулеметов и пушек вынос точки прицеливания был настолько большим, что конус стал выходить из поля зрения летчика. К тому же светящиеся трассы перед носом врага предупреждали противника об опасности, он принимал контрманевр, атака срывалась.
Поняв, что существующий метод обучения стрельбе по конусу устарел, я нашел свой и отработал его в полетах. Результат оказался выше существовавших нормативов. На фронтах Великой Отечественной войны, применяя этот метод, я сбивал самолеты, как правило, с одной очереди. Но для того, чтобы применить его, надо в совершенстве владеть машиной. Слабо подготовленный летчик может врезаться в мишень. Вот почему я не спускал глаз с самолета Кудрявцева, который должен был стрелять по конусу моим методом. Это был его первый вылет на такую стрельбу, хотя до этого он прошел учебную тренировку, показав хорошие результаты. И все же я переживал.
Кудрявцев вырулил на старт. Я обратил внимание, что голос его звучит уверенно, но глуховато, выдает его волнение, и это порадовало меня. Равнодушным на старте летчик, как и спортсмен, быть не должен.
Самолет-буксировщик уже находился в воздухе. Кудрявцев пристроился к нему, а в зоне стрельб сразу отвалил в сторону. И тут же от буксировщика отделилась мишень. Под напором воздуха веревка быстро размоталась, в голубом небе белизной сверкнул конус. И тут же в динамике раздался голос Кудрявцева:
— Разрешите стрельбу?
— Разрешаю, — ответил летчик самолета-буксировщика.
Кудрявцев занял исходное положение для атаки, летя параллельным курсом на 500 — 600 метров правее конуса, потом рывком развернулся влево, направив нос истребителя в голову мишени. До нее уже было метров сто. Дальше сближаться становилось опасно: можно врезаться в конус. Глядя на этот маневр, я весь напружинился, опасаясь, что летчик может опоздать со следующим маневром. Но он круто переложил машину в правый крен. Инерция сближения была погашена. Конус застыл перед истребителем. Мишень в прицеле. Огонь! Но огня не последовало. Кудрявцев круто отвалил от мишени. Это была тренировочная атака, как и предусматривалось заданием.
Вторая атака. Она походила на первую. Только в шум моторов вплелся короткий рык пушек. Трассирующие нити прошили конус, и он, точно живое существо от боли, вздрогнул.
Вторым стрелял Иван Королев. За ним должен был отстреляться и третий летчик. Но от первой же очереди Королева мишень разлетелась. Когда остатки конуса были доставлены на аэродром, оказалось, что у Кудрявцева пять попаданий и два у Королева…
Нового командарма я не раз встречал в Главном штабе ВВС, а в годы войны мне пришлось с ним побеседовать в необычной обстановке. Было это в марте 1945 года. Я летел на истребителе в район озера Балатон, где шли жестокие бои на земле и в небе. За Карпатами из-за погоды мне пришлось выполнить вынужденную посадку, во время которой я получил травму. С места аварии кто-то доложил начальнику Главного штаба ВВС маршалу авиации Ворожейкину, что пострадал его родственник. За мной срочно вылетел самолет, меня доставили в Москву, где и состоялось знакомство с однофамильцем Григорием Алексеевичем Ворожейкиным. Когда я представился, он удивленно и с укором спросил:
— Почему вы выдали себя за моего родственника?
— Я не выдавал. Видимо, кто-то в штабе перестарался.
После того «деликатного» разговора мы больше не виделись. И вот новая встреча. Я знал, что маршал еще до революции окончил школу прапорщиков, был участником первой мировой и гражданской войн. До начала тридцатых годов служил общевойсковым командиром. Потом перешел в авиацию. Сильный, высокий и спокойный человек. Сейчас же, когда вышел из транспортного самолета, выглядел раздраженным. Я начал доклад, но он властно перебил:
— Почему летаете?
— Запрета полк не получал.
— А мой прилет вам ни о чем не говорит?
До меня дошел смысл вопроса, и я спокойно заметил:
— Вашей посадке ничто не угрожало. Все самолеты были выше вашего эшелона подхода к аэродрому на две тысячи метров.
— Выше, выше, — уже более сдержанно проговорил командующий. — А где машина, на которой я поеду?
Всякий раз, когда на аэродром прибывали старшие военачальники, они прежде всего интересовались организацией полетов и мастерством летчиков. Я думал, так будет и сейчас, поэтому машина стояла у стартового командного пункта. Но маршал авиации даже не оглядел аэродром и не посмотрел в небо.
— Машина ждет у эскапе.
— Ну ладно, пойдем, — снисходительно согласился мой однофамилец.
Уже в машине он сообщил, что поедет в казарму. Казарма — длинное одноэтажное деревянное здание. Двухъярусные койки. Постели заправлены. Чистота. Командующий заглянул в умывальник и туалет. Везде порядок. Прежде чем выйти из казармы, спросил:
— Специально для меня навели лоск или всегда так прибираетесь?
— Люди любят чистоту и порядок. А перед вашим прибытием особенно постарались.
— Теперь поедем в штаб, — сказал командующий.
Ехали молча. В штабе он тоже молча осмотрел нижний этаж, спросил:
— Фанерных клетушек зачем понастроили?
— Здесь была одна комната. А штабу нужны изолированная секретная часть, комната для начальника строевого отделения и кадров: личные дела офицеров положено хранить отдельно. Инженеру полка со своей службой тоже необходима клетушка.
— Где ваш кабинет?
— Наверху.
Мы вдвоем поднялись по крутой, как на военных кораблях, лестнице. Когда вошли в кабинет — мансарду сеновала, я пояснил:
— Здесь будет находиться и начальник штаба. Он уже назначен.
— Кто?
— Майор Сергей Жаров. Больше я о нем ничего не знаю.
Командующий, усаживаясь за стол, сообщил;
— На вашего старшего инженера Спиридонова пришел приказ об увольнении.
— Нового назначили? — спросил я.
— Пока нет. А теперь дайте мне план боевой тревоги.
Я его уже принес, и он находился у меня в сейфе. Командующий молча просмотрел, обратил внимание на схему расквартирования летно-технического состава:
— Ближе к аэродрому люди не могли разместиться?
— Не могли.
— Я получил сведения, — начал командующий, — что вы вместе с инженером полка занялись коммерцией: меняете масло на фанеру. Это так?
— Так, — ответил я и рассказал, как все было. — Если бы мы не дали масло фанерному заводу, он бы простаивал. Да и нам фанера нужна. А отработанное масло хранится в земле, в ямах. Сколько его пропадает.
— Понятно. Но это незаконно, — заключил командующий. — И больше такими делами не занимайтесь.
Он встал и молча направился к двери. Я остановил его вопросом:
— Товарищ командующий, можно обратиться?
Он остановился у двери:
— Что за дело? Срочное?
— У меня об этом уже был разговор с командиром дивизии полковником Правдиным. Насчет воздушной стрельбы. Мишень-конус не рассчитана на снаряды. Она пригодна только для самолетов с пулеметами. А на «лавочкиных» пушки, и бывает, что от четырех — шести снарядов конус разлетается.
— А сколько попаданий требуется, чтобы отлично выполнить упражнение? — спросил командующий.
— Три. Но дело в том, что по правилам стрельбы…
Маршал раздраженно перебил меня:
— Вот и не нарушайте эти правила. Строго выполняйте их, а не мудрствуйте!
Спускаясь по лестнице, он звонким шлепком ладони раздавил паука на своей щеке и зло выругался.
— Удивительно, как еще командира полка не съела пауки?
Я хотел пояснить, что вокруг мансарды хранится совхозное сено но у меня почему-то вырвалось другое:
— Сегодня же объявим войну паукам.
Командующий улетел. Небо мне уже казалось не просто чистым, а прохладно-тяжелым. Я вспомнил, как люди Древнего Востока обращались к богу: «Господи, дай мне силы, чтобы смириться с тем, чего я не могу изменить; дай мне мужество, чтобы бороться с тем, что я могу изменить; дай мне мудрости, чтобы суметь отличить одно от другого». С годами человек набирается мудрости и как будто должен более объективно оценивать себя, людей и происходящие события. Однако это не всегда так. Жизнь подтверждает, что такой порок, как властолюбие, не знает предела.
Вскоре на наш аэродром прилетел командир дивизий Правдин и сообщил, что по плану боевой тревоги полка у нового командующего нет замечаний. Порядок в гарнизоне ему понравился.
— А про полеты он ничего не говорил? — поинтересовался я.
— Нет, он ведь не летчик, хотя и закончил инженерную академию Жуковского.
После катастрофы
1.
Раннее осеннее утро было тихим и прохладным. Роща на восточной окраине аэродрома пожухла и золотилась в лучах солнца. На западе искрился сосновый бор. На севере зеленели озимые хлеба, а в долине речки струйками печного дыма маячило село, где жили многие летчики и техники. Слабый ветерок доносил дым до аэродрома, но он не мешал работе, а только напоминал о домашнем очаге.
В полковом строю первая эскадрилья расположилась на правом фланге. Ее командир — самый высокий из летчиков. Смуглое, продолговатое лицо капитана Ивана Аристархова застыло в строгости. В предстоящем полете ему доверено возглавить группу перехватчиков в составе трех эскадрилий. Задание сложное. Вылет должен показать, как истребителям лучше бить колонны бомбардировщиков: в плотном или разомкнутом строю?
Вторая эскадрилья будет имитировать бомбардировщиков. Ее поведет штурман полка Иван Королев. Его главная задача — выдержать расчетное время полета и оценить действия перехватчиков. Третью эскадрилью поведет капитан Борис Масленников. Он строен и красив, всегда спокоен, но справедливо требователен. Ему двадцать восемь лет. Холостяк, жениться пока не собирается, объясняя это тем, что холостяку спокойнее летать. Четвертая, недавно созданная эскадрилья во главе со старшим лейтенантом Сергеем Елизаровым будет замыкающей в колонне перехватчиков.
Осмотрев строй полка, я сказал:
— Погода хорошая. План полетов остается без изменений. Какие будут вопросы?
Вопросов не было, и я предоставил слово руководителю полетов майору Алесюку, который определил порядок запуска моторов и выруливания на старт.
…И вот начался, как я считал, главный вылет дня. Он должен был решить целесообразность атак в плотном строю. Первым взлетел Королев. Чтобы не тревожить шумом моторов жителей, эта группа километров десять не долетит до города и на высоте 6000 метров сделает разворот. В этот момент три эскадрильи, по восемь истребителей, поднимутся на перехват. Радиолокатора для наведения истребителей у нас еще ее было. Все выполнялось по расчетам, произведенным на земле.
Через семь минут после взлета «противника» по сигналу зеленой ракеты пошла на взлет первая восьмерка. За ней вторая. И третья, которую вел командир эскадрильи капитан Иван Аристархов. Все самолеты оторвались от земли почта одновременно, перешли в набор высоты, убрали шасси. И тут случилось самое страшное, что может случиться в авиации. Один «лавочкин», словно ему подставили ножку, споткнулся, осел, его будто кто-то невидимый схватил за левое крыло, он с большим креном отвернулся от группы и провалился вниз. Удара о землю я не видел: он произошел в лощине, где находится село. Но взметнувшийся столб огня и дыма сказал все. «Неужели самолет упал на дома?» — подумал я.
При виде этой трагедии вторая восьмерка задержалась со взлетом. Мне, сидевшему в кабине самолета, было слышно по радио, как ее командир, Борис Масленников, запрашивает руководителя полетов:
— Мне взлетать или отставить взлет?
Я хорошо понимал, что Алесюк после катастрофы запросит меня: продолжать полеты или прекратить? «Прекратить?.. Нет!» — решаю я. Во мне крепко еще жила минувшая война. Живы были в памяти погибшие друзья. В бою, когда уходил из жизни товарищ, настоящие солдаты неба еще злее и упорнее дрались с врагом. В бою человек думал не о смерти, а о победе. Но это же не боевое задание, а учебные полеты? Да, учебные. И на этом трагическом случае пусть люди учатся владеть собой. Это будет хорошей психологической проверкой их готовности к настоящей войне!
После секундного раздумья я передал руководителю полетов, чтобы он продолжал выпускать самолеты в воздух. Сам взлетел, как и было запланировано, последним. В первую очередь обратил внимание на место падения самолета у самой окраины села. К месту катастрофы уже мчалась санитарная машина, бежали люди.
Три группы истребителей, взяв курс на перехват «противника», летели, как в боевой обстановке, — в разомкнутом строю. По их «походке» было видно, что они готовы к атаке бомбардировщиков. Но по заданию они должны атаковать в плотных строях, для чего им надо будет сомкнуться. Однако при перехвате дорога каждая секунда. Как поступят ведущие? Мне не хотелось вмешиваться в ход событий, пусть способ атаки выберут сами командиры эскадрилий.
Высота у перехватчиков — семь километров, я летел на километр выше, поэтому раньше всех заметил колонну «противника», которая появилась далеко слева. На встречных курсах сближение происходило быстро, но ведущий группы перехватчиков Аристархов своевременно подал команду;
— Занимаем исходное положение для атаки, — и начал плавно рааворачиваться.
Следуя за ним, ведомые встали в разворот и стали плавно сближаться друг с другом. Аристархов рассчитал исключительно точно. Когда перехватчики развернулись, все их звенья уже летели в плотном строю, а «противник» был рядом.
— Внимание! — раздался его громкий голос. — Я бью первую группу, Масленников — вторую, Елизаров — третью.
Сверху мне хорошо было видно, как три восьмерки перехватчиков атаковали колонну «противника». Не нарушая боевого порядка, после атаки все три эскадрильи ушли вниз. И тут Аристархов понял, что для повторной атаки будет трудно развернуться в плотном строю. Не теряя времени, он подал команду:
— Атакуем одиночно. Цели прежние.
Сам Иван Аристархов резко развернулся и быстро настиг флагмана. Его примеру последовали остальные летчики. Каждый целился самостоятельно. Правда, времени для этой атаки потребовалось значительно больше.
Прежде чем приземлиться, я внимательно осмотрел место катастрофы. Оно было взято под охрану, солдаты никого близко не подпускали. Вокруг толпилось много людей.
На земле я узнал, что разбился младший лейтенант Кудрявцев. Это сообщение обожгло до щемящей боли в сердце. Я чувствовал в этом несчастье свою вину. Кудрявцев представлялся на отчисление из авиации, а я помешал этому. «Хотел сделать лучше для дела и для самого Кудрявцева, — подумал с горечью, — а вышло хуже некуда». Подозвал своего техника Иващенко, попросил:
— Позовите ко мне механика самолета Кудрявцева и капитана технической службы Бутова, — а сам с тяжелым чувством пошел к руководителю полетов.
На стоянку зарулил последний самолет, установилась траурная тишина. Хотя по плану полк должен был сделать следующий вылет, но его пришлось отменить. Нельзя летать, не выяснив причину катастрофы.
Алесюк вяло шел навстречу. Выслушав его, я спросил:
— Где формуляр разбившегося самолета и мотора?
— В сейфе у начальника строевой части. Там же летная книжка Кудрявцева,
— Ну а теперь, что ты думаешь? Почему произошла катастрофа? Тебе было видно все лучше, чем мне.
— Причины тут могут быть две. Или мотор отказал, или летчик потерял сознание.
— Второе отпадает, — заметил я. — Спортсмен, крепкий, выносливый.
— Так-то оно так, — начал Алесюк со свойственной ему рассудительностью и спокойствием. — Но они с женой жили у хозяина, который до освобождения Западной Белоруссии и при фашистах занимался торгашеством. Кухня у них была общая. Легко что-нибудь в пищу подсунуть. Националисты себя уже проявили. К тому же взлет был прямо на село. Могли из укрытия дать очередь.
— Все возможно, — вздохнул я. — Врачи в этом разберутся. Тело Кудрявцева сильно изуродовано?
— Порядочно. Но не так, чтобы не заметить ранения или не разобраться в отравлении. Что касается мотора, здесь дело особое. Мотор новый. После установки наработал всего восемь часов. Правда, механик самолета мог напортачить. Он молодой, недавно кончил школу. Да и контроль в эскадрилье за механиками неважный. Бутов, не справляется со своими обязанностями, суетится, кричит…
Наш разговор перебили командиры возвратившихся из полета групп. Доложив о выполнении задания, Аристархов убежденно заявил, что у Кудрявцева отказал мотор:
— Он шел рядом со мной. И вдруг резко отстал. Чтобы не потерять скорость, перевел машину на планирование. А впереди — село. Бензина полные баки. Село сгорело бы дотла. Он рули дал на отворот влево. Высота метров двадцать, скорость небольшая. На отвороте потерял ее окончательно и свалился у самых огородов.
Вскоре на аэродроме приземлился По-2, на котором прилетели командир дивизии Правдин с инженер-майором Кимом для. расследования катастрофы. Правдин после моего доклада посочувствовал:
— Какое несчастье! Хорошо, что упал не на село, — и, взглянув на инженер-майора, пояснил: — Он мужик дотошный, в технике разберется, а мы с тобой займемся летными делами. Сначала пешочком пройдемся по последнему пути Кудрявцева и посмотрим останки машины.
— Мне надо посмотреть документы: летную книжку Кудрявцева, формуляр самолета и мотора, — сказал инженер.
На полпути к месту катастрофы нас догнали Бутов и механик разбитого самолета Зонтиков.
— Товарищ полковник, — обратился Бутов к командиру дивизии, — разрешите доложить командиру полка?
Правдин остановился и, внимательно оглядев обоих, с подчеркнутой официальностью ответил:
— Разрешаю.
— Товарищ майор, капитан технической службы Бутов, исполняющий обязанности старшего инженера полка, с механиком самолета погибшего летчика Кудрявцева старшим сержантом Зонтиковым прибыли по вашему приказанию.
Комдив поздоровался с ними, спросил:
— Вы были на месте катастрофы?
— Были, — вразнобой ответили они.
— Как вы думаете, товарищ старший сержант, — обратился Правдин к Зонтикову, — по вашей вине разбился командир экипажа или же он сам допустил ошибку?
Зонтиков от такого прямого вопроса смутился, но ответил откровенно:
— Мой командир летал отлично. Я недавно стал механиком. Может, чего-то недосмотрел.
— А вы что скажете? — обратился Правдин к Бутову. Он вздрогнул, поморщился и нервозно ответил:
— Я тоже старался. Но катастрофа есть катастрофа. Надо докапываться до истины.
— Правильно. Надо докапываться, — согласился комдив и взглянул на меня: — Они вам сейчас нужны?
— Нет.
— Тогда идите и оба представьтесь инженеру дивизии Киму. Он находится в штабе полка.
— Не пойму, — заговорил Правдин, когда они ушли, — самолеты пошли сложные, а их хозяева — механики срочной службы. Временные люди в армии, учились сложной и ответственной профессии меньше года. А современному самолету хозяин нужен образованный.
— Такое было и с летчиками, — заметил я. — Перед самой войной их стали выпускать из училищ сержантами. И только война ошибку исправила. Наверно, скоро будет так и с механиками самолетов. Вот на моей машине работает младший лейтенант технической службы Иващенко. Парень образованный, начитанный, не сравнишь с Зонтиковым. На войне работал механиком, после экстерном сдал экзамены за училище. Я в нем уверен. У него и слов таких нет: «сплоховал», «недосмотрел», «упустил из виду»…
— Пожалуй, зря после войны демобилизовали опытных механиков, — продолжил Правдин. — Пусть бы, как твой Иващенко, подготовились, сдали экзамены и офицерами остались в кадрах.
2.
Когда Правдин, Алесюк и я подошли к месту катастрофы, из местного населения там остались только три человека: молодой мужчина с левой рукой-култышкой и женщина с мальчиком. Мужчина сразу подошел к нам и, вытянувшись, представился Правдину:
— Товарищ полковник, я бывший летчик-истребитель. Во время войны летал на Ла-пятом. В июле сорок четвертого был здесь сбит. Меня подобрала, — он показал на женщину с мальчиком, — девушка… Потом мы поженились. Сейчас живем в этом селе. Я работал в огороде и видел, как разбился самолет…
О катастрофе он рассказал почти то же, что и командир эскадрильи Аристархов, добавив только:
— Летчик специально отвернулся, чтобы не врезаться в дом. Это подвиг…
Подвиг! Тогда у всех была свежа память о войне, люди еще жили войной. И подвигом тогда считалось то, что делалось только на войне ради победы. Вот почему мы, офицеры, когда услышали о подвиге летчика, невольно переглянулись. Это почувствовал наш собеседник и в недоумении спросил:
— А что, разве не так? Пожертвовать собой, чтобы спасти других, уберечь от пожара село?
— Это подвиг, дорогой товарищ, — подтвердил Правдин и, пожимая руку бывшему летчику, поблагодарил за помощь в расследовании катастрофы и предложил ему вместе посмотреть, что осталось от самолета.
— Стой! — крикнул часовой, держа автомат наготове.
— Эх, черт возьми! — с огорчением произнес Алесюк. — Я же начальника караула предупредил, чтобы никого к самолету не подпускать. А потом забыл его пригласить с нами. Сейчас за ним съезжу.
Когда Алесюк привез начальника караула и тот отдал часовым нужное распоряжение, мы осмотрели место падения Ла-7. Ои ударился о землю крылом, перевернулся и прокатился по земле. Крылья, хвост и фюзеляж рассыпались в полосе длиной около ста метров. Мотор и кабина летчика сохранились, но кабина была сильно помята. После осмотра места катастрофы Правдин сказал:
— С летчиком все ясно. Человек умел управлять не только самолетом, но и собой, решение принял за какое-то мгновение.
— А для того чтобы отвернуть машину и сесть в поле, у него не было ни скорости, ни высоты, — дополнил я.
— Осталось инженеру Киму выяснить причину отказа мотора, — заключил комдив.
Ким уже закончил просмотр нужных документов и беседовал с исполняющим обязанности инженера полка Бутовым. При нашем появлении оба встали из-за стола. Бутов стоял с опущенной головой, нервно кусая губы. Он чувствовал свою вину. Низкорослый Ким рядом с ним казался воплощением спокойствия. Его спокойствие в напряженном разговоре объяснялось знанием инженером своего дела. Ким без лишних слов и сомнений предложил:
— Прошу немедленно отстранить Бутова от исполнения обязанностей инженера полка и решить, можно ли допустить его до работы старшим техником эскадрильи.
— Откуда такая поспешность? — спросил комдив.
— Это, товарищ полковник, не поспешность, а мое убеждение. После увольнения Спиридонова в запас в полку поставили на «лавочкины» три новых мотора. Бутов обязан был лично проверить правильность установки двигателей и сделать в формулярах запись о допуске самолетов к полетам. Он этого не сделал.
— Почему? — жестко спросил Правдин.
— Времени не хватало, товарищ полковник. Я инженером полка работаю по совместительству.
— По совместительству, — как бы про себя, тихо повторил Правдин и, глядя на меня, приказал: — Пока освободите его и от совместительства, и от работы в эскадрилье. Дальше видно будет. — И тут же спросил Кима: — А что с летной книжкой Кудрявцева?
— Все в порядке. Зачет по знанию самолета и мотора принят недавно. Оценки хорошие, — ответил Ким.
В это время позвонил врач и доложил, что труп Кудрявцева обследован. Других причин смерти летчика, кроме травм при катастрофе, не обнаружено. Я доложил об этом командиру дивизии. Правдин к этому времени посмотрел летную документацию. Все записи были сделаны правильно и своевременно.
— Мне ясно, — сказал комдив, — что в полку летная работа организована хорошо. А вот инженерно-техническая служба хромает. Я постараюсь прислать вам инженер-майора Теребилова. Он прибыл по замене в другой полк, но придется его послать к вам.
На другой день в кабинет ко мне вошел младший лейтенант технической службы Иващенко и передал, что инженер дивизии просит меня приехать к нему. Мотор и кабина летчика разбитого истребителя стояли на невысоких деревянных козлах, были тщательно промыты. Ким, подойдя к мотору, указал на одну из деталей:
— Вот причина катастрофы.
Я внимательно осмотрел длинную трубчатую тягу, идущую от кабины летчика к рычагу управления двигателем. Они соединяются между собой гайкой, имеющей отверстия, через которые полагалось соединить тягу с рычагом управления двигателем. Инженер пояснил:
— Контровки не было, — и показал небольшой шплинтик. — Вот такая штучка не была поставлена. От вибрации гайка отвернулась, мотор потерял тягу. — Ким взглянул на стоящих рядом Бутова и механика разбитого самолета Зонтикова. — Согласны?
— Согласен, — тяжело вздохнув, ответил Зонтиков. — Я знал, что надо законтрить, но позабыл.
— Позабыл, позабыл, — проворчал Бутов. — И я тоже. Из-за этой мелочи под трибунал попадем.
— Мелочей в авиации нет, — сказал задумчиво Ким.
Я невольно подумал, что правильно делаю, ставя в кабине самолета на сектор управления двигателем резинку. Когда по какой-либо причине мне приходится снять руку с сектора газа, резинка начинает увеличивать тягу. Это дважды спасало мне жизнь. Я спросил инженера:
— Почему бы конструкторам не придумать такое устройство, которое в случае повреждения тяги управления двигателем не давало ему переходить на малые обороты? Кудрявцев сумел бы набрать высоту, выключить мотор и нормально приземлиться.
Ким согласился:
— Об этом часто говорят, но конструкторы не слышат…
3.
Чрезвычайное происшествие позволило нам сделать разбор полетов только на четвертый день, когда была выяснена причина катастрофы и похоронен Кудрявцев. В казарму были приглашены летчики, техники и механики самолетов. Первым выступил инженер Ким, объяснил причину отказа мотора. Потом говорил я:
— Мы имеем дело с двумя трагедиями: отказ мотора и гибель летчика. Какие они противоположные в своей причинности: халатность и благородство! Да, благородно поступил младший лейтенант Евгений Кудрявцев, у него не было времени на раздумья. Он принял правильное решение…
Пользуясь тем, что присутствует практически весь полк, я представил назначенного старшим инженером полка инженер-майора Ивана Теребилова. Биография его не нуждалась в комментариях. Еще до войны окончил Военную академию имени Жуковского. На фронте работал старшим техником эскадрильи и инженером полка. Были у него и знания и опыт.
После разбора причин катастрофы в летном классе состоялся разбор выполненного в тот злополучный день перехвата. Наглядные пособия были подготовлены со знанием дела: карта с маршрутами полета «противника», схемы, результаты стрельбы из фотокинопулемета, оценки. В первой атаке, выполненной в плотном строю звеньев, хороших результатов добились командиры эскадрилий и звеньев. У ведомых оценки оказались невысокими, во время атаки в разомкнутом строю по количеству попаданий большинство летчиков показали отличные результаты. Оценив учебный воздушный бой, я спросил:
— Какие выводы сделали для себя командиры эскадрилий?
Первым взял слово капитан Аристархов.
— Считаю, что надо атаковать в разомкнутом строю с индивидуальным прицеливанием. Только при этом условии можно гарантировать хорошие результаты.
Капитан Масленников дополнил:
— Плотный строй ограничивает маневренность истребителей. Как мы ни старались вторую атаку произвести в прежнем порядке — не вышло. Если бы мы продолжали разворот звеном, вторая атака вообще бы не состоялась.
— А что думают ведомые летчики? — спросил я.
Участник Великой Отечественной войны лейтенант Александр Кретов с присущим ему юморком скороговоркой заявил:
— Плотный строй нужен на параде: он дает симметрию и красоту. Нам же нужно бить врага. А когда присосешься к ведущему, только и смотришь, как бы не столкнуться с ним. Тут ведомому не до хорошего прицеливания и удачного попадания в цель. Я за принципы боя, испытанные в боях с фашистами. Они не устарели и не устареют. Я подвел итог:
— Все летчики, в том числе и молодые, научились стрелять по конусу и вести воздушные бои в разомкнутых боевых порядках. Давайте учиться воевать и в плотном строю. Возможности у нас есть. Катастрофа проверила способность всех владеть собой в чрезвычайных, трагических обстоятельствах. Все видели гибель Кудрявцева, но ни у кого не сдали нервы.
Кто-то из молодых летчиков спросил, бывало ли на войне, чтобы у летчика в трагических обстоятельствах сдали нервы?
— Да, были такие случаи, — подтвердил я. — И не только от испуга, от трагических моментов люди теряются, но иногда и от радости забывают, что находятся в бою…
В 1943 году, в разгар наступления фашистов под Курском, восьмерка наших истребителей поднялась на прикрытие наземных войск. Над фронтом с высоты ее атаковала тоже восьмерка фашистских «мессершмиттов» и «фоккеров». Сразу один наш «як» и немецкий истребитель были сбиты. Образовалась свалка. В этой свалке вспыхнул еще один фашистский истребитель. Небо дышало огнем, и в нем висели парашютисты. Картина жестокого боя.
В восьмерке советских истребителей летели два молодых летчика. Это была их первая встреча с противником. Один дрался хорошо. У другого от испуга дрогнуло сердце. Он потерял самообладание и самовольно вышел из боя. Но в страхе он не мог определить свое местонахождение. Летел на восток, пока не израсходовал весь бензин. Приземлился в поле.
Невдалеке от места вынужденной посадки находился учебный авиационный полк. Его командир сам привез нашего «бегуна». Узнав, что мы в этой схватке сбили пять фашистских самолетов, а сами потеряли два, в том числе этого «бегуна», командир с возмущением сказал: «А мне трусишка наплел, что фашистских истребителей было в два раза больше и чуть ли не все наши летчики погибли».
Второй пример я привел из своего горького опыта. Это произошло во время боев на Халхин-Голе. Мы тогда полетели прикрывать наземные войска от ударов вражеских бомбардировщиков. У нас было двенадцать истребителей, а дорогу нам преградило более тридцати японских. Но вскоре к нам пришла помощь. Самураи начали поспешно выходить из боя. Один оказался у меня в прицеле. И близко. Очередь! Сбитый мною вражеский самолет загорелся. Очень красиво горел. Короткие секунды восторга, радости — и противник использовал это, окатил меня сзади очередью. Только тут я опомнился. Хорошо, что японские пулеметы только просигнализировали об опасности. Пули загрохотали по бронеспинке. Рывком я вывернул истребитель из-под огня, отделавшись только двадцатью двумя пулевыми пробоинами в фюзеляже и хвостовом оперении…
4.
Две недели спустя после гибели Кудрявцева в часть приехала его мать. На похоронах она не присутствовала из-за болезни: ее подкосило сообщение о смерти сына. Теперь, сидя на стуле в кабинете командира полка, она крепилась, хотя бледность лица и хрипота в голосе выдавали ее состояние. Во время войны матери отправляли на фронт сыновей. Многие из них не вернулись. Тогда это было понятно и объяснимо. И у матери Кудрявцева муж погиб на войне. Но вот как объяснить, что ее единственного сына, наследника семьи Кудрявцевых, не стало в мирное время? И я решил, ничего не скрывая, рассказать все о ее сыне. От характеристики на отчисление из авиации до совершенного им подвига.
В народе говорят, что большое горе не кричит, большое горе — молчит. И мать Кудрявцева, не шелохнувшись, выслушала меня. Потом тяжело вздохнула:
— А он мне писал, что его дела по службе идут нормально. Спасибо за заботу и хорошие слова о моем сыне, — встала было, но, спохватившись, тут же извинилась за свою забывчивость, села. — Хочу с вами посоветоваться. О Лиде. Она была женой моего сына. Золотой человек! По своей сердечности хочет переехать ко мне в Сормово. Говорит, нам вместе будет легче. Я живу одна. Комната неплохая. И вот никак не решусь: брать ее к себе или нет?
Мне пришли на память слова известной русской песни: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда». И сразу подумал: «Лида молода, красива, может здесь еще выйти замуж. Женихов много». Хотел было сказать об этом, но Софья Леонидовна опередила:
— Лидочка-то беременна. А у нее нет ни отца, ни матери. Она жила со старшей сестрой, а у той муж и дети. Может, Лидочка права, нам вдвоем будет легче? Что бы вы посоветовали?..
Халатность, беспечность и недисциплинированность в работе. Сколько горя и страданий эти пороки приносят людям! Как надо нам к таким явлениям и людям, породившим эти пороки, быть беспощадными! Я посмотрел на часы. Через десять минут партийное собрание. Мысленно твердо решил: настаивать, чтобы Бутова исключили из партии. Но что ответить матери?
— Посоветовать, — тихо сказал я. — Конечно, вам вдвоем будет жить лучше, чем одной. Да и ребенок станет для вас радостью.
— Вот и я так думаю, — подхватила мать. Заметив, что я посмотрел на часы, заспешила. — Так я пойду?
Горе матери щемящей болью отзывалось в моем сердце, будто сам я потерял единственного сына. Это заставило меня как-то по-новому взглянуть на летчика, который принял смерть ради жизни других людей. Подвиг Кудрявцева. Мне стали ясны его глубинные причины. В нем, как нигде, отразилось, что жизнь родителей является наследием их детей. А жизнь отца и матери Кудрявцева и их сына является не только их личной жизнью, но и частью истории нашей Родины…
Собрание открыл секретарь партийного бюро полка Федор Бабий. Старый партийный работник, призванный в армию во время войны, он сам никогда не летал, но партийное дело знал хорошо. Спокойный, рассудительный, он любил пофилософствовать. В такие моменты плотная его фигура как бы наливалась силой. Тенорок исчезал, голос становился басовитым. Так было и на заседания партийного бюро, где решалось, исключить Бутова из партии или объявить ему строгий выговор. Бабий настаивал на исключении:
— Из-за халатности Бутова погиб лучший из молодых летчиков полка. За такие дела на фронте отдавали под трибунал. Я за исключение Бутова.
Голоса раскололись. Три — за исключение, три — за строгий выговор. Бабий вскочил с места и несколько раз на своих коротких ногах словно прокатился вокруг стола, за которым сидели члены бюро.
— Как же так?! Неужели его можно оставить в партии? Где же ваша партийная совесть? Подумайте.
Проголосовали еще раз. Результат не изменился.
На собрании по делу коммуниста Николая Бутова выступило шесть человек. Все критиковали его, но никто не внес своего предложения о мере наказания. Многие причину катастрофы увязывали с бывшим инженером полка Спиридоновым. Тот относился к своему делу с непозволительной для авиаторов халатностью. Его стиль работы передался Бутову.
Перед голосованием предоставили последнее слово Бутову. Он изменился до неузнаваемости. Состарился. Лицо побледнело и осунулось. Он не говорил, а с трудом, с душевной болью выдавил из себя:
— Гибель Кудрявцева на моей совести. И только на моей. Но прошу оставить меня в партии. Не подведу. — На лице мертвая бледность. Стоял неподвижно, точно окаменел.
Настало время голосовать.
— Кто за исключение Бутова из членов партии? — я первым поднял руку. Думал, большинство пойдет за мной, но за это предложение проголосовало меньше половины присутствующих.
После собрания мы с Бабием шли домой вместе. Хотя он голосовал за исключение Бутова из партии, но в разговоре сказал, что передумал и считает правильным решение партсобрания.
— Причина плохой работы Бутова, — пояснил он, — в том, что затянулось увольнение Спиридонова из армии. Замена моторов происходила, когда пришел приказ. Старый инженер спешил сдать дела, Бутову требовалось время, чтобы врасти в дело. А полеты не прекращались. Где уж тут вникнуть в дела? Вот мужик и запарился.
Я подумал и согласился с Бабием:
— Пожалуй, ты прав. Бутов фактически работал за двоих. Выходит, все мы виноваты в катастрофе…
— А я-то в чем виноват?
— В том, что как секретарь партбюро не настоял, чтобы Бутов сдал свои обязанности в эскадрилье другому, чтоб работал только инженером полка. Твой же девиз: «Дела земные». А катастрофа случилась из-за земных недоделок.
5.
В стылый, хотя и солнечный, декабрьский день полк сдавал зачеты. В роли целей в небо были подняты бомбардировщики Ту-2. Двадцать семь тяжелых машин летели плотным строем в колонне девяток. Такую армаду в мирное время летчики видели впервые. Три эскадрильи атаковали методом индивидуального прицеливания, одна — в плотном строю, ее летчики открывали огонь по команде ведущего. Результаты в первых трех эскадрильях оказались хорошими, в четвертой только четыре летчика получили удовлетворительные оценки, пятеро промахнулись.
Контроль этого воздушного боя вел командир дивизии полковник Правдин. Михаил Иванович был вежливым, заботливым командиром, не любил поспешности. И на этот раз после разбора полкового боя из класса летчиков вышел не спеша и, не делая никакого намека на предстоящий для меня важный разговор, предложил:
— Пойдем посмотрим ваши новые Ла-девятые. Как они?
— Проще Ла-седьмого. Машина цельнометаллическая, легка в управлении.
— Дальность какая, скорость?
— Скорость почти такая же, как и у Ла-седьмого, дальность больше в три раза.
— Скоро ваш полк полностью перевооружится на Ла-девятые. Отбери двенадцать летчиков, которые уже летают на них. Деньков через пять они должны поездом выехать на завод и оттуда перегнать сюда истребители. А пока пускай хорошенько потренируются.
— Хорошо, — сказал я и попросил: — Разрешите с этой группой выехать мне?
Полковник многозначительно улыбнулся:
— Пока не разрешаю. А почему — скоро узнаешь.
Судьбы людские
1.
В конце 1946 года Сергей Елизаров, Николай Захарченко и я, а также авиационный техник Федор Иващенко были откомандированы для переучивания на новый тип самолета. Начальник Центра переучивания подполковник Прокопий Семенович Акуленко, небольшого роста, коренастый, с круглым, полным лицом, участвовал в боях за свободу и независимость республиканской Испании, воевал в Великой Отечественной. Его я знал хорошо. Требовательный офицер, он умел отругать за ошибки и похвалить за успех. Он принял меня приветливо, рассказал, как будет организовано освоение реактивных истребителей, потом сообщил:
— Летчики и техники разместятся в казарме. Для трех командиров полков выделена отдельная комната.
Выйдя из штаба, я так и остолбенел от радости: передо мной стоял Костя Домов. Вместе с ним в 1934 году мы уезжали из Горького учиться в Харьков, после окончания училища я был у него на свадьбе. Женился он на девушке, с которой воспитывался в горьковском детдоме. Родители обоих погибли на гражданской войне. Позже мы вместе с Костей сражались на Халхин-Голе и в советско-финляндской войне, потом вели переписку, которую прервала война.
Летчики не любят показной нежности и сентиментальности. Мы молча обнялись. У Кости, как это с ним случалось и раньше, от радостного волнения шевельнулось правое ухо и застыло.
— Домаха! (Так звали мы Костю.) Откуда ты? Я и тебя похоронил.
— И я тебя. Мне в сорок четвертом официально сообщили, что ты не вернулся с задания.
— Было такое недоразумение, — подтвердил я. — Но, как видишь, все обошлось благополучно.
Стоя возле штаба, мы увлеченно разговаривали. Мимо проходили люди. Первым опомнился Домов:
— Пойдем ко мне. У меня комната, — уже на ходу пояснил: — Я приютился у бывшего своего техника, с которым воевали с сентября сорок четвертого. Комната у него неплохая. Сам он женился на вдове погибшего летчика и живет у нее. Она работает машинисткой в гарнизоне.
— А откуда ты приехал сюда? — спросил я.
— Из Закарпатья. Райское местечко! — Он назвал городок.
Меня передернуло при упоминании «райского местечка». Домов заметил это:
— Что с тобой?
— Этот городок я никогда не забуду. Видимо, какой-то комочек той трагедии засел где-то в мозгу и дает о себе знать.
— Расскажи, сразу полегчает.
Я рассказал. И Домов уточнил:
— Это у тебя вторая «классная» посадка с сотрясением мозга и повреждением поясницы?
— Да, с Халхин-Голом вторая. А как у тебя война прошла?
— Мне везло, — ответил Домов. — Но ведь я летчиком-то провоевал только первый день войны и потом с сентября сорок четвертого до Победы. Более трех лет партизанил…
Домов замолчал, но я попросил:
— Расскажи о своей партизанской работе?
Но вместо рассказа Домов показал на двухэтажное деревянное здание:
— Вот мы и пришли. Это «творение» первой пятилетки. Но жить можно.
Комната на втором этаже. Чистая, прибранная. Две солдатские кровати.
— Сразу чувствуется, что здесь живут некурящие, — раздеваясь, заметил я.
— Вот это да! — восхитился Домов, увидев у меня на кителе две Звезды Героя, и не менее удивленно спросил: — А почему только майор? Ты же в тридцать девятом ходил в старших политруках, что равноценно капитану.
— А почему ты только старший лейтенант? — вопросом на вопрос ответил я.
— Рядовым партизанам воинские звания не полагались. Хорошо, что командир полка после освобождения Белоруссии допустил меня к полетам. Теперь представлен к званию капитана. Но вот почему ты с двумя Золотыми Звездами майор?
— Почти всю войну был командиром эскадрильи…
Наш разговор прервал взлетевший самолет. Мы привыкли слышать рокот поршневых двигателей. Сейчас же над нами властвовал шипяще-свистящий звук. Мы подошли к окну. Самолет круто уходил ввысь. Под его животом струился огонек, за которым оставалась белая полоса дыма.
— Як-пятнадцатый, — пояснил Домов. — Меня с ним познакомил хозяин этой комнаты. Это почти копия Як-третьего. Только вместо поршневого двигателя стоит турбина. Выхлоп газов у нее под углом к земле.
— Это же опасно. А если сзади взлетает другой самолет? — полюбопытствовал я.
— Часто приходится полосу ремонтировать. Совсем другое дело МиГ-девятый. Таких машин у нас еще не было. Костыля нет, зато есть носовое колесо. Хвост приподнят, струя газа идет горизонтально, а не бьет в землю. Ну да ладно. Сам скоро все увидишь и узнаешь. А сейчас в честь нашей встречи надо бы… — Домов развел руками: — Но у меня ничего нет. В гарнизоне никаких напитков с градусами не продают: Акуленко насчет спиртного строг.
— И хорошо делает, — заметил я. — Ты, я гляжу, за эти семь лет ничуть не изменился. А времени прошло много. У меня уже две дочки. Кого тебе Шура подарила?
Домов помолчал и с горечью сообщил!
— Нет у меня Шуры.
2.
Перед войной Домов служил в Белоруссии недалеко от Белостока. 22 июня на рассвете фашистская авиация нанесла удар по нашим аэродромам. К середине дня в полку, в котором служил Домов, осталось исправных только шесть самолетов. Враг обходил аэродром. Люди спешно эвакуировались. Машин не хватало, и многие уходили пешком.
Группа старшего лейтенанта Домова взлетела, чтобы штурмовым ударом хоть на несколько минут задержать продвижение противника. Как только его шестерка оказалась в небе, десятка два «мессершмиттов» набросились на нее. В воздушном бою советские летчики уничтожили пять фашистских самолетов, но и сами потеряли четыре.
Домов, прикрывая в воздухе товарища, попал под огонь «мессершмитта», поэтому не перелетел на новый аэродром, а вынужденно сел на старом. Оттуда еще не успели уехать техник Гриша Комов и моторист Петя Волков. Они задержались, чтобы уничтожить неисправные истребители, оставшиеся на аэродроме.
— А на чем вы собираетесь выбраться отсюда? — спросил Домов Комова, рассчитывая присоединиться к ним.
— На велосипедах, — техник замялся, поняв, что Домов хочет уехать с ними, но у них только два велосипеда.
Домов оглядел стоянку самолетов, по которой на рассвете большая группа бомбардировщиков нанесла удар. Большинство самолетов сгорели или получили повреждения. У старой машины Домова были повреждены два цилиндра мотора.
— Мою «Чайку» еще не спалили? — спросил он у Комова.
— Не успели.
На Халхин-Голе во время боя на истребителе Домова был разбит цилиндр, но он на поврежденной машине продолжал драться и сумел благополучно возвратиться на аэродром. Вспомнив этот случай, он обрадовался:
— Пойдем проверим. Моторы с воздушным охлаждением живучи.
Комов сказал мотористу, чтобы тот продолжал работу, а сам с Домовым пошел к «Чайке».
Один поврежденный цилиндр механик Домова успел заменить, другой был снят с мотора, и шатун с поршнем, словно оголенная рука с плотно сжатым кулаком, тянулся кверху.
— Ваш механик приготовился поставить второй цилиндр, но ему приказали все бросить, — пояснил Комов.
— Давай доделаем его работу.
— А если не успеем сжечь машины и они достанутся немцам?
— У фашистов много своих истребителей, зачем им наше разбитое старье?
В этот момент с запада появилась группа самолетов противника. Бомбардировщики начали действовать по шоссейной дороге, истребители направились в сторону аэродрома.
— И щелей нет. Укрыться негде, — негодовал Домов, забираясь вместе с Комовым под «Чайку».
Фашисты обстреляли стоянку самолетов и полетели дальше.
— Пронесло, — поднимаясь с земли, облегченно вздохнул Комов. — Теперь долго жить будем.
— Может быть, — согласился Домов и спросил: — Слышишь? Артиллерия бьет совсем рядом. Надо спешить с цилиндром.
Через полчаса мотор на «Чайке» заработал нормально. Техник вылез из кабины:
— Можешь лететь. Крылья сильно побиты осколками. Будь осторожен!
Домов уже застегнул шлем и надел парашют, когда увидел подбегающую к самолету жену. Голубое платье в нескольких местах разорвано, на лице ссадины, черная толстая коса растрепана, брови опалены. Шура повисла на шее у мужа и заплакала:
— Костя, милый. Все и таки застала. Теперь улечу с тобой.
Появление жены испугало Костю. Взять ее с собой он не мог. Машина сильно повреждена. Как ему поступить? Она, еще не понимая, что с ним творится, продолжала:
— Наш бензовоз подожгли немецкие самолеты. Шофер убит, а я вот…
Сердцем она уже уловила тревогу и растерянность мужа, порывисто, словно ее что-то обожгло, убрала руки с его шеи, вся разом сжалась и, глядя на мужа, еле-еле выговорила:
— Понимаю. Не до меня теперь.
В голубых глазах ни укора, ни слез. В них только одна беспомощность. И эта женская беспомощность на Домова подействовала сильнее любых просьб и требований. Он искал выход из безвыходного положения. Почему бы не взять Шуру с собой? Может, «Чайка» выдержит? Нет, опасно. Да а в воздухе могут сбить. Лучше ей ехать с Комовым.
Как все скверно получилось! Разве они имели право сегодня ночью спать, когда фашистские армии занимали исходные рубежи для нанесения удара? И вот результат: немцы обходят Белосток и их аэродром. И этот белостокский выступ при стремительном продвижении противника может стать ловушкой. А ведь мы все планы строили под девизом: «Ни одного вершка своей земли не отдадим никому». От обиды, что все получилось не так, как должно быть, от беззащитности Шуры и жалости к ней он хотел сказать: «Летим!» Но его колебание и раздумье заглушил пулеметно-пушечный говор четверки фашистских истребителей. Все инстинктивно упали на землю и укрылись под самолетом. От пуль и снарядов вокруг них взрыхлялась, земля. «Мессершмитты» пронеслись над ними и начали кружить над аэродромом.
— Они засекли нас. О взлете нечего и думать, — заговорил Комов. — И ждать больше нельзя: немецкие танки уже обходят аэродром и вот-вот могут прорваться к нам. У нас два велосипеда. На них безопаснее. Поедем по два человека.
Домов в раздумье глянул на Шуру. Он только сейчас понял, что своим поведением она спасла ему жизнь, задержав вылет. Эта четверка «мессершмиттов» прихватила бы его на взлете или в небе сразу после отрыва от земли. А он, не имея скорости, стал бы для противника просто мишенью.
— Товарищ командир, оставим «Чайку», поехали. Может, выберемся, — торопил Комов.
Домов понимал степень опасности, но ему не хотелось бросать «Чайку», а самому с женой спасаться бегством. Он колебался, с надеждой смотрел в небо:
— Может, появятся наши истребители? Надо подождать.
Никто из них и подумать тогда не мог, что к середине первого дня войны почти половина самолетов Западного Особого военного округа была уничтожена противником на земле и в воздушных боях. Из тысячи с лишним истребителей в строю осталось менее двухсот. Фашистская авиация господствовала в небе.
— Товарищ старший лейтенант, — обратился к Домову механик, — разрешите доложить технику.
— Докладывайте.
— Товарищ техник-лейтенант, ваше задание выполнено, самолеты сожжены, — затем кивнул на «Чайку», подготовленную к взлету. — А как с этим быть?
— Выжду момент в улечу, — твердо ответил Домов.
Молчание. Оно затянулось. В этот момент Домов подумал: «А что, если мне уехать с Шурой на велосипеде?» Он вопросительно обвел всех взглядом и с грустью остановился на жене. Она по-своему поняла его:
— Поедем? Вдвоем и умирать легче.
— Тебе надо жить, — твердо ответил он. — А нам, солдатам, воевать. Езжай на велосипеде, я полечу.
— Даю слово: Шуру доставим целой и невредимой, — заверил Комов. И, понимая сложившиеся условия, уточнил: — Если с нами ничего не случится.
Южнее аэродрома раздались сильные взрывы. Все настороженно повернулись. Там виднелась девятка наших бомбардировщиков СБ под прикрытием тройки И-16.
— По танкам работают, — предположил Домов и взглянул вверх: пара «мессершмиттов» от аэродрома устремилась на наших бомбардировщиков. Он решил воспользоваться моментом, распорядился: — А ну, Комов, быстро! Помоги запустить мотор, — и, торопливо простившись с женой, сел в самолет.
Прежде чем вырулить на взлет, Домов остановил взгляд на жене. Струя от винта «Чайки» развевала ее голубое платье и растрепанную, обгоревшую косу. Она прощально помахала рукой и как-то беспомощно улыбнулась. Но в этой улыбке он уловил укор, который хлестнул сильнее пощечины.
Оторвавшись от земли, он развернулся на восток, но его тут же атаковала пара «мессершмиттов». У самолета Домова то ли от огня фашистов, то ли от перегрузок (это с «Чайками» бывало) лопнула на левом крыле расчалка. Машина теряла управление. Понимая опасность, Костя поспешил выпрыгнуть с парашютом, но на земле попал в лапы вражеских солдат. Они сняли с него парашют, отобрали пистолет, связали руки, выделили сопровождающего, и тот, показывая дорогу автоматом, повел его. Когда проходили мимо кустов березнячка, Домов выразительно показал охраннику, что ему нужно справить естественную надобность. Гитлеровец брезгливо поморщился, но руки ему развязал, отошел от него шагов на пять и стал закуривать.
В километре от них проходила шоссейная дорога, по которой должны были ехать на велосипедах Комов, Шура и Волков. Домов решил, что успеет перехватить их и уехать с ними на восток. Использовав свои борцовские и боксерские способности, приобретенные в детдоме, он совершил тигриный прыжок к фашисту. Тот не успел и пикнуть, как был повален на землю и задушен. Домов схватил его автомат и не мешкая побежал к шоссейной дороге.
Шура ехала на велосипеде одна, а Комов с Волковым вдвоем. Домов сел с Шурой, и только они тронулись, дорогу начали бомбить и обстреливать фашистские самолеты. Одна бомба разорвалась рядом с велосипедистами. Гришу Комова и Петю Волкова убило наповал, а Шуру ранило в бедро. Пока Домов перевязывал жену, фашисты перерезали дорогу. Шура потеряла много крови и не могла идти. Нашли глухую лесную деревушку. У Шуры два месяца заживала рана. Потом они вместе ушли в партизанский отряд.
— Она была хорошим солдатом, — продолжал Домов свою историю. — Не раз мы вместе ходили на задания. Ты же знаешь, она в совершенстве владела немецким языком. Ее и решили в июне сорок второго направить в Минск на разведку с особо важным заданием. Назад она не вернулась.
Глядя на побледневшего и опустившего голову друга, я сказал:
— Что поделаешь, погибших не воскресить. Может, тебе жениться?
Домов будто не расслышал меня.
— После войны на все мои запросы о ней был один ответ: «Пропала без вести», — и, посмотрев на часы, предложил: — Идем на обед, время уже, — а одеваясь, спросил: — Ты на каком самолете дал согласие летать?
— На «яке».
— Я тоже попрошусь на «як». Может, будем в одной группе.
3.
Зима капризничала. Частые снегопады и метели, крепкие морозы и оттепели сбивали плановую работу. А перед Центром переучивания стояла задача к концу марта 1947 года 200 летчиков-истребителей, прибывших из разных районов страны, научить летать на реактивных самолетах Як-15 и МиГ-9. Поэтому в обиходе был совет: «Ловите погоду!»
Наша страна одной из первых начала заниматься реактивными самолетами, но война эту работу резко затормозила. Мы отстали. Надо было догонять. И вот первый прыжок — советская промышленность освоила серийный выпуск реактивных машин, не уступающих по своим летным качествам заграничной технике.
Обычно при переучивании на новый самолет дело начинается с теории, с классов, схем и макетов, потом обучаемые переходят к практике, к полетам. Начальник Центра подполковник Акуленко совместил изучение теории с полетами. А теория работы реактивных двигателей и их устройство были совершенно другими. Если пропеллер поршневого двигателя, ввинчиваясь в воздух, тянет самолет за собой, то реактивный двигатель мощной струей газов, как бы отталкиваясь от воздуха, посылает машину вперед. Этот принцип движения летчиками никогда не изучался. Требовалось много усилий, чтобы освоить основные законы механики и термодинамики. А время поджимало. Поэтому в Центре дело было поставлено так, чтобы никто — ни летчики, ни техники — ни минуты не терял зря. Испортилась погода, летать нельзя — все не мешкая переключались на теорию, появлялась хорошая погода — переходили к практике.
Командование ВВС, стараясь помочь Центру, в избытке слало своих представителей, направляло авторитетные комиссии. В тот холодный день с утра не летали, занимались в классах, но к полудню разведрилось, и начальник Центра решил летать. Один из проверяющих не без осуждения спросил Акуленко:
— А стоит ли?
— Почему же не стоит?
Проверяющий поучительно пояснил.
— Небо начинается с земли. Нет порядка, здесь. — не будет его и в воздухе. Вы еще не закончили изучение теории полета, а уже начали вовсю летать. При такой спешке можно и дров наломать.
Акуленко порядком надоели советчики. Прокопий Семенович частенько для убеждения собеседника кроме логики применял резкие словечки. На это замечание советчика он отреагировал иронией:
— Во-первых, советская промышленность теперь из дров не делает боевые машины. Они из металла. Во-вторых, вы, как я понимаю, сами плохо разбираетесь в теории полетов. Наши реактивные самолеты еще не летают со скоростью звука, а законы дозвуковых скоростей летчики познали еще в военных училищах. В-третьих, вы забыли, с какими летчиками мы имеем дело. Они все крещены и перекрещены в воздушных боях. Все коммунисты. Таким людям грех не доверять. Изменение распорядка дня для них не помеха.
Акуленко был прав. Но, как говорится, не совсем. Любовь к Родине, патриотизм рождают безграничную смелость, увеличивая душевные и физические силы человека. Однако без тактико-технического расчета смелость и на войне толкала на непродуманный риск, что приводило к неоправданным потерям. Это, видимо, понимал проверяющий.
— Вы все говорите правильно. Но…
— Какие могут быть еще «но»? — резко прервал его начальник Центра. — Или вы своими советами хотите затормозить выполнение важной государственной задачи?
— Что вы, что вы, Прокопий Семенович! — засуетился проверяющий. — Я хочу как лучше. Порядок всегда должен быть.
— Порядок только для порядка нам не нужен, — уже более спокойно сказал Акуленко. — Порядок нужен для дела. И у нас оно пока идет хорошо. А вот проверяющие стали нам мешать.
Двухместный учебно-тренировочный реактивный самолет наша промышленность еще не освоила. Чтобы выпустить летчика самостоятельно на новой машине, его проверял инструктор на поршневом учебном истребителе. Инструктором у меня был капитан Алексей Деев. Участник войны. Следы ее остались у него на лице рубцами от ожогов. Уравновешенный, вдумчивый. После полета со мной на проверку техники пилотирования на поршневом двухместном истребителе он разрешил мне вылететь самостоятельно на реактивном. Перед этим сказал то, что говорили другие инструкторы:
— Особенности Як-пятнадцатого вы хорошо знаете. Все остальное, как на Як-третьем.
Внешне Деев, как все опытные обучающие, был спокоен. На самом же деле первый самостоятельный полет на новом самолете волнует не только того, кто должен лететь, но и инструктора, и начальника Центра, и тех, кто готовил машину к вылету. Подполковник Акуленко хотя и не был рядом, но с меня, как и Деев, не спускал глаз. Они прекрасно понимали, что приобретенные мною ранее навыки для полета на реактивных самолетах не подойдут, а в определенных условиях могут и помешать.
Направляясь к Як-15, я невольно подумал: «Интересно, как этот „як“ будет вести себя в зоне? Почему на нем нельзя делать все фигуры высшего пилотажа, а разрешен только переворот через крыло? Тут какое-то недоразумение. На Як-3 мы делали весь пилотаж, а Як-15 создан на его основе. При случае надо испытать и эту машину на весь высший пилотаж». С такими мыслями я подошел к самолету.
— Товарищ майор! Як-пятнаддатый готов к полету, — доложил мне техник самолета Иващенко.
Я, как полагается, обошел самолет, проверяя его внешнее состояние. Все было в порядке. Надел парашют, залез в кабину и по привычке сразу же привязался ремнями. Хотя я с полчаса назад и сидел в этом самолете, тренируясь в запуске двигателя и вживаясь в кабину, теперь же с другой целью и с другими чувствами осмотрел все приборы, тумблеры, рычаги и, убедившись, что вся оснастка в порядке, скомандовал:
— К запуску!
Сделав все, что требуется, я хотел было подать команду «От винта!», но винта-то же было. Это развеселило меня. Так с улыбкой и крикнул:
— От сопла!
Техник еще раз убедился, что спереди ничего в воздухозаборник не попадает и сзади от двигателя никого не хлестнет огненной струей, ответил:
— Есть, от сопла!
Двигатель будто выпустил струю воды из шланга, зашипел, значит заработал, и не как поршневой, а без тряски, потом, постепенно набирая силу, завыл во всю мощь. По привычке я хотел включить тумблер вооружения, но догадался, что этого делать не требуется, на самолете не было оружия, для стабилизации веса на нем вместо пушек стояли болванки. Взглянул на техника, поднял руки и развел их в стороны, приказывая убрать из-под колес машины колодки. Получив по радио разрешение вырулить, опять взглянул на техника, стоявшего у левого крыла, и поднял руку. Техник в ответ, желая счастливого пути, козырнул.
Старт! Я был радостно возбужден. Для меня начинался взлет в новую эру — эру реактивной авиации. И эта новизна меня не тревожила. Я знал, что первый полет в неизведанное совершил еще в 1942 году капитан Григорий Яковлевич Бахчиваджи. После него было испытано много самолетов. Як-15 всеми признан самой удачной машиной. К тому же я на подобном воевал, участвовал 1 мая 1945 года в сбросе Знамен Победы над Берлином. Увязка прошлого с настоящим придавала мне уверенность в удачном исходе этого полета.
Взлет! Из всех самолетов, на каких мне доводилось летать, самыми сложными на взлете были И-16, Ла-5 и Ла-7, самыми простыми машины конструктора Александра Яковлева. А как эта новинка? Обычно я привык начинать разбег плавно. Так поступил и сейчас. «Як» тихо тронулся с места, скорость набирать не спешил, стремления к разворотам не показывал и не прижимал меня так сильно к спинке сиденья, как это делали «лавочкины». Я даже усомнился, наберет ли этот «як» нужную скорость для отрыва от земли до конца полосы? Не слишком ли плавно увеличивал я тягу двигателя? Но, убедившись, что все идет нормально, решил помочь «яку» и плавно потянул ручку управления на себя. Самолет послушно приподнял нос, а затем плавно расстался с землей. Только опыт подсказал, что я нахожусь уже в воздухе. Не теряя ни мгновения, перевел взгляд на землю, удерживая машину на небольшой высоте, чтобы набрать нужную скорость для полета по кругу.
Начиная набор высоты, я расстался с землей. Сбрасываю с себя взлетное напряжение и, облегченно вздохнув, оглядываю небо. Сейчас оно кажется мне до того чистым, словно его только что вымыли. Высоко и в стороне крутит виражи МиГ-9. На кругу один только я. Полная свобода. Двигатель гудит бодро, лаская нервы, точно приятная музыка.
Четвертый разворот самый ответственный. Его нужно выполнить так, чтобы самолет, оказавшись на последней прямой, сел точно у «Т» с полностью приглушенным двигателем. Однако практически такой расчет из-за разной силы ветра, его направления и барометрического давления сделать почти невозможно. Поэтому многие летчики планируют, как бы подбираясь к посадочной полосе на небольшой высоте и силе двигателя, пока не убедятся, что самолет приземлится в нужной точке, только тогда полностью убирают силу тяги. Так в этом первом полете на реактивном самолете поступил и я, но приземлялся с небольшим перелетом. Сказалось отсутствие винта, который создавал торможение.
Первый полет по кругу совершен. Я срулил с взлетно-посадочной полосы, выключил двигатель, открыл фонарь и все в том же приподнятом настроении вдохнул морозный воздух. Дышал минут пять, пока не стало зябнуть лицо. Когда прибыл тягач, чтобы отбуксировать самолет на стоянку, мое праздничное настроение уже угасло. В воздухе я находился всего десять минут, зато на земле ожидание тягача и буксировка заняли более часа. От такого нудного и длительного сидения в кабине я почувствовал усталость. Выйдя из самолета, вяло доложил инструктору:
— Задание выполнено. Разрешите получить замечания?
— Все правильно, — сказал капитан Деев, поздравляя меня с вылетом на реактивном самолете. — А как машина?
— Хороша: проста и легка в управлении, как и все самолеты Яковлева. — Но вот на земле с буксировкой — мучение.
— Это дело исправится, скоро поступит новая партия тягачей. Да, а почему вы на последней прямой планировали на повышенных оборотах турбины?
— Привычка свыше нам дана. Так я всегда делал. А на Як-пятнадцатом, по-моему, это необходимо. Чтобы турбину вывести с малых оборотов на полные, нужно секунд десять. А если расчет не точен? Если недолет и надо машину подтянуть?
— Понятно, — ответил Деев.
— А если перелет? — горячо продолжал я. — Скользит эта машина плохо. Придется уходить на второй круг. Может горючего не хватить. На Як-пятнадцатам лучше производить посадку на небольшом газе, с учетом инерции.
Инструктор на это ничего не ответил, посмотрел на наручные часы и пригласил меня на обед.
4.
Домову и мне запланированы последние полеты в Центре. И на этом кончится наше обучение высшему пилотажу. Полеты в зону будут зачетными. По плану их должен принимать сам начальник Центра.
На Як-15 я выполнял только виражи и перевороты через крыло. Петли, бочки, иммельманы и другие фигуры высшего пилотажа были запрещены. Почему? Мне было непонятно. Ведь без этих фигур нет высшего пилотажа, нет того мастерства летчика-истребителя, которое необходимо ему для боя.
Сначала я хотел эти фигуры выполнить тайком, чтобы никто не видел, но зоны пилотажа находились рядом с аэродромом, а за полетами следил инструктор. Как-то я намекнул, что собираюсь проделать весь пилотаж. Он сослался на инструкцию, но проговорился, что подполковник Акуленко в этом деле знаток и уже выполнял высший пилотаж на Як-15. Собираясь в этот день в последний, зачетный полет, я решил поговорить с начальником Центра. В столовой для руководства была отведена отдельная комната, где питались и командиры полков, прибывшие на переучивание. Акуленко был заботливым начальником. Всю организацию летного дня он проверял лично и, как правило, завтракал первым. Я постарался перехватить его на подходе к столовой, поздоровался.
— С до-о-брым утром, — протянул он. — А ты что так рано? Проголодался?
— Не спится: мысли тревожат.
— Какие, если не секрет?
— Прокопий Семенович, вы не знаете, почему перед войной был запрещен высший пилотаж на «Чайке»?
— Ну как не знать! Боялись, что она рассыплется. Потом все-таки разрешили. И ничего. А почему ты спрашиваешь?
— Интересуюсь, почему теперь запрещен высший пилотаж на Як-пятнадцатых?
— Вон ты куда клонишь, — Акуленко чертыхнулся. — Уж не хочешь ли испытать реактивный на всю катушку? Или уже испытал?
— К сожалению, нет. Не было подходящих условий. Но я уверен, что машина эта создана для пилотажа. В умелых руках это игрушка. Причем надежная.
— Да, игрушка надежная. И маневренная, — подтвердил он. — Я на нем крутил-вертел все фигуры. Великолепный истребитель. А вот почему разрешено делать только виражи да перевороты, мне и самому не ясно.
— Разрешат со временем, — предположил я и тихо попросил: — Позвольте мне сегодня попробовать, на что Як-пятнадцатый способен?
Акуленко выругался и резко сказал:
— Да разве об этом спрашивают?! Ты что, порядка в авиации не знаешь? Раз запрет, то все! Никаких разрешений быть не может.
Поняв бесполезность своей затеи, я решил попросить разрешение на полет по маршруту через деревню, где прошло мое детство. Мне хотелось с воздуха взглянуть на родные места.
— Правильно, — виновато отозвался я на резкость Акуленко. — Раз запрет, значит, запрет. Ну а как насчет полета по маршруту? Можно мне другой выбрать?
— Выбирай любой.
— А какой любой?
Акуленко рассмеялся:
— У тебя получается, как в байке про огурцы. Они лежат в огороде кучей. Малыш спрашивает: «Бабушка, можно мне взять огурчик?» — «Бери любой». — «А какой любой?» — «Который на тебя глядит». — «Они все на меня глядят!»
Я рассмеялся и продолжая:
— Мой маршрут проходит через Городец и Горький. Прошу увеличить протяженность на десять километров и сделать не три излома, а четыре, чтобы пролететь над своей родной деревушкой Прокофьево. Можно?
— Это в моей власти. — Акуленко предупредил: — Только особенно не задерживайся. Много картинок землякам не показывай. А то надышишься воздухом детства, позабудешь про керосин и сядешь вынужденно.
— Нет! Этого не случится, — заверил я. — Длина маршрута небольшая. Виражить не буду. Сделаю по одной фигуре высшего пилотажа и — курс на Горький.
Мы уже заканчивали завтрак, когда к нам подсели начальник штаба Центра и командиры эскадрилий. Акуленко спросил начальника штаба майора Нетребина:
— Списки участников парада составили?
— Да. Вечером закончил.
Солдатский вестник уже разнес, что Центр готовит летчиков для участия в Первомайском параде на реактивных самолетах. Официально я слышал об этом впервые, поэтому насторожился, прислушиваясь к разговору.
— Сегодня до начала полетов этот список надо довести до всех летчиков, — приказал Акуленко начальнику штаба и повернулся ко мне: — Ты назначен командиром полка. Москва утвердила,
Летный день выдался на редкость славным. Мартовское солнце, тишина и легкий утренний морозец способствовали деловому настрою. Все шло по плану. После меня полетел сдавать зачет по технике пилотирования Костя Домов. Выполнив в зоне то, что полагалось, он должен был войти в круг и сесть, но начал вдруг набирать высоту.
— Что это задумал твой приятель? — спросил меня Акуленко.
— Понятия не имею.
— Как он, мужик-то?
— Человек и летчик Домаха хороший, не терпит никаких недоразумений. Во всем любит ясность. В полетах одержим.
— Вот мерзавчик, — Акуленко опять выругался. — Гляди, гляди на своего Домаху! На очень хорошего человека!
Все смолкли, глядя на недозволенный пилотаж. Летчик, сделав переворот, пошел на петлю. Выполнив ее, в прежнем же темпе сделал иммельман, потом крутанул бочку, за ней переворот, с переворота пошел на горку. В верхней ее точке «як» развернулся через левое крыло и в прежней линии горки пошел вниз.
— Толково сделал ранверсман, — сквозь зубы процедил Акуленко и, взглянув на меня, спросил: — А теперь еще какого конька выкинет?
Домов, выполнив ранверсман, быстро вошел в круг, совершил посадку и спокойно вылез из машины. Перед ним сразу же вырос начальник Центра. Я, стоя рядом с Акуленко, думал, что сейчас на Домаху обрушится все «мастерство» его ругани. Тот же, плотно сжав большие губы, молчал, но внимательно следил за провинившимся летчиком. Домов, как и полагается, вытянулся и начал твердым голосом докладывать:
— Товарищ подполковник!..
— Стоп! Все ясно, — властно перебил его Акуленко. — Вон ты какой — малый, да удалый, — и, как бы отгораживаясь от летчика, поднял правую руку и показал на меня: — Докладывай своему командиру полка.
— Есть! — отчеканил Домов и подошел ко мне. — Товарищ майор зачетный полет выполнил. Разрешите получить замечания?
Особенности характера Акуленко я уже знал. Раз он с подчиненным перешел на «ты», значит, наказания не будет. Если же обращается на «вы», дела собеседника плохи. Но как мне говорить с Домахой? Чтобы собраться с мыслями, я спросил:
— Значит, выполнил?
— Точнее, перевыполнил.
— Это хорошо или плохо?
— Моя совесть не позволяет считать, что освоил реактивный истребитель, если не до конца познал его, — убежденно заявил Домов. — Теперь испытал. Себя проверил.
«Вот он, Домаха, весь тут, — подумал я про своего друга, — остался таким же — по-юношески откровенным, смелым и беззащитным». На память пришли бои на Халкин-Голе в 1939 году. Там он был представлен к званию Героя Советского Союза. Но документы из Монголии в Москву так и не были отосланы. Домов тогда во всеуслышание заявил, что «Чайка» хуже И-16, хотя выпущена на пять лет позже. Такого «очернительства» самой передовой техники ему не простили.
Воспоминания отвлекли меня от действительности. И я вместо того, чтобы поругать Домова, как этого хотел Акуленко, молча обнял друга. Что подумал тогда начальник Центра, неизвестно, но он несколько секунд стоял молча и глядел на нас. Потом подошел и, похлопывая обоих по спинам, тихо сказал:
— Вы не забыли, что находитесь на аэродроме? — и, глядя на Домова, продолжал: — А ты тоже, рыцарь-испытатель. Что мне с тобой делать? Наказать?
В ответ Домов без тени упрека, а скорее с восхищением
— Вы, товарищ подполковник, тоже проверяли Як-пятнадцатый на высший пилотаж.
— А ты откуда знаешь? — не без интереса спросил Акуленко.
— Все говорят. И все восхищаются вами.
То ли эти слова польстили Акуленко, то ли откровенность Домова подкупила его, он вдруг примирительно заключил?
— Понятно твое мировоззрение, товарищ старший лейтенант. Можешь быть свободным. А за твою недисциплинированность я накажу Ворожейкина. И марш отсюда!
После того как Домов ушел, Акуленко опытным взглядом окинул ясное небо, летное поле и, убедившись, что работа ждет нормально, доверительно сказал:
— Твой друг очень прям и упрям. На конференции при начальстве ляпнул, что Як-пятиадцатый и МиГ-девятый не боевые машины, а бутафория.
— Но он же прав. На них нет оружия, пилотаж ограничен, а воздушная акробатика истребителю необходима.
— Я смотрю, вы одного поля ягодки, — заключил Акуленко. — И ты навострился проделать, что вытворял Домаха. Только с моего разрешения. А ведь прекрасно знал, что и не имею права благословить тебя на это. И теперь не разрешаю лететь через твое Прокофьево, лети по старому маршруту. Это тебе наказание за недисциплинированность твоего друга.
Я не ожидал, что так обернется дело. Что это? Наказание? Дисциплинарное взыскание? Ни то ни другое. Хотел поговорить с Акуленко, но так был оглушен «наказанием», что, пока опомнился, тот уже далеко отошел от меня. «Ну что ж, для меня и этот маршрут будет проходить тоже по родным местам, только уже не детства, а юности и первых лет молодости», — успокаивал я себя.
5.
Обида на Акуленко прошла, когда я взлетел и чистое мартовское небо окунуло меня в деловую обстановку, смыв предполетные переживания. Первый этап маршрута — Городец. Видимость отличная. Отбуйствовал февраль, а март, вовсю прокладывая дорогу лету солнцем и утренними заморозками, сделал воздух чистым и прозрачным. Хотя Балахна была от меня в сорока километрах, она сразу напомнила о себе черными клубами дыма, взметнувшимися над горизонтом. Там вовсю трудилась на торфе Балахнинская электростанция. А внизу леса и леса.
Наконец впереди замаячил блеском церквей и темной полосой высоченного, почти отвесного левого берега Волги Городец. Он старше Горького и почти ровесник Москвы. В дореволюционном Городце было десять церквей, двенадцать молельных домов и Федоровский монастырь, хотя насчитывалось всего шесть с небольшим тысяч жителей. Когда-то он являлся центром раскольников, масса которых проживала в скитах Керженских лесов. Городецкие старообрядцы были связаны с московским центром раскольников, который находился на Рогожской заставе. Недаром в старину пели:
Что решили на Рогоже, То решили в Городце, Что решили в Городце, То решили в Керженце.Подлетев ближе к городу, я, к своему удивлению, не увидел высоченной колокольни Федоровского монастыря, в котором умер Александр Невский. «Неужели снесли? — подумал я. — А зря. Такая старина — это связующее звено настоящего с прошлым, как и орден Александра Невского, которым я награжден». Город рядом. Все внимание обращаю на южную окраину Городца, где находится школа, в которой я учился в пятом и шестом классах. Здание каменное, белое, двухэтажное. Стоит вблизи крутого берега Волги. Вот оно! Я даже разглядел южнее дугу крепостного вала, построенного еще во второй половине двенадцатого века для защиты от монголо-татарского нашествия. Это единственный памятник того лихолетья. Вал, заросший соснами, походил с неба на своеобразный зеленый пояс.
Вспомнилась первая поездка в город. Была зима. Холодно. Мать, собираясь на базар, одела меня тепло: валенки, полушубок, на голове кроме овчинного малахая шерстяная шаль. Это были годы разгара нэпа. Базар ломился от изобилия разных товаров и всякой живности. Мое внимание привлекли городецкие и семеновские игрушки. Я, раскрыв рот, до того увлекся, что не почувствовал, как с головы сползла шаль. Когда заметил, шали не было. Мать заохала, запричитала, а я заплакал. Для нас это было большой потерей. И все же шаль нашлась. Какой-то добрый человек повесил ее у доски объявлений при выходе с базара. Помню, мать на радостях купила мне городецкий пряник.
Крепче взяв управление машиной, нацелил ее на школу, решив поприветствовать ее по-авиационному. Пока разгонял скорость самолета, бросил взгляд на северную окраину, где находился детдом и где я жил, когда учился в Городце. Сразу же вспомнил песенку, которую пели старшие детдомовцы о времени беспризорничества:
Меня били, колотили В три ножа, в четыре гири. Я и то не унывал — Финский ножик вынимал…И снова взгляд на школу. Она уже близко. Высота минимально допустимая. Мне даже показалось, что я уже дышу родным воздухом. Надо выводить «як», а то можно и «поцеловаться» с крышей. Перевожу машину вверх. Она послушно вписывается в полукруг и уходит ввысь. Делаю две восходящие бочки и, перевалившись через крыло, снова пикирую на двухэтажное белое здание, делаю иммельман и, оказавшись на курсе, каким подошел к Городцу, прощально машу крылом.
Смотрю на часы. Прошло всего десять минут, а впереди уже виднеется Балахна. Повернул голову назад. Городец отдалялся от меня, уменьшаясь в размерах, и казался совсем маленьким. Памятен он мне еще и первой получкой, заработанной весной 1931 года, когда я плавал матросом, ходил с рейкой по берегам Волги, переплывал ее на лодке и ручным лотом измерял глубины. Тогда активно велись исследования для сооружения на Волге каскада будущих гидроэлектростанций. Сейчас я летел над участком реки, которую измерил вдоль и поперек, изучил ее глубины и затоны, устья рек и речушек, впадающих в Волгу.
Еще мысленно не расстался с Городцом, а передо мной уже выросла Балахна — город бумажников и энергетиков. Здесь осенью 1931 года я работал на лесозаводе и вступил в комсомол. Отсюда в день своего рождения добровольцем ушел в Красную Армию. В тот день кончилась моя беззаботная юность и началась пора зрелости и мужания. Вместе с группой призывников я был направлен в отдельный кавалерийский эскадрон 17-й стрелковой дивизии. Шагая от райвоенкомата до вокзала, мы во все горло пели:
Мы красная кавалерия, и про нас Былинники речистые ведут рассказ…От Городца до Горького летел всего шесть минут. Этот город мне не менее памятен, чем Городец и Балахна. Здесь в 1919 году был похоронен мой отец. Не раз я бывал на его могиле. В Горьком я стал солдатом и принял присягу на верность Родине, а в 1932 году вступил в партию. Здесь после службы в армии я учился в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. Мой взгляд безошибочно разглядел ее здание на улице Лядова. Оттуда я по партийной мобилизации был призван в Харьковское военное училище летчиков.
В годы Великой Отечественной войны Горький являлся крупным арсеналом страны. Он давал фронту самолеты и танки, самоходные артиллерийские установки и бронемашины, пушки и автомобили. Фашисты посылали на город бомбардировщики, но советские истребители преграждали им путь. Первое время, защитники неба не имели боевого опыта. Его часто заменяла отвага. «Умереть, но не пропустить вражеские самолеты», — было их девизом. В сорок втором году один из фашистских бомбардировщиков подходил к Горькому на большой высоте. Зенитные пушки не могли его достать. На помощь пришел высотный истребитель. Но огнем летчик не сумел сбить цель. И тогда лейтенант Петр Иванович Шавурин уничтожил врага таранным ударом. Таран советских летчиков был особенно страшным оружием для врага. Бывали случаи, когда фашисты при угрозе попасть под таранный удар отказывались выполнять боевую задачу. Я вспомнил Курскую битву…
Август 1943 года. Тогда мы четверкой на «яках» километров за пятьдесят от линии фронта встретили большую группу фашистских бомбардировщиков «Хейнкель-111». Это были лучшие стратегические бомбардировщики фашистской Германии. Первая атака, вторая, третья… Кончились боеприпасы. А «хейнкели» летят и летят. Стало жутко. Я понял, что отразить налет мы можем только ценой собственной жизни. У нас оставался один выход — таран. А как таранить? Врезаться в эту армаду сверху? Каждый из нас с собой унесет по одному бомбардировщику. Но эти отпетые пираты не свернут с курса. Мы уже сбили четыре «хенкеля», но те еще плотнее сомкнули строй и летят, точно монолитная глыба металла. Таранить нужно в лоб. Мы должны всем звеном сомкнуться крыло в крыло. И на встречных курсах, как снарядом, распороть этот монолит. И распороли. Все бомбы фашистские бомбардировщика сбросили по своим войскам, не долетев до линия фронта.
От этого воспоминания мне стало жарко. Неужели всегда так властно и безжалостно, как и сама война, будут преследовать нас воспоминания? Очевидно, так оно и будет. Войны для их участников незабываемы. От этой мысли я резко развернулся и взял курс на аэродром.
На стоянке ко мне подошел Домов и сообщил, что мы приглашены на вечеринку в честь 8 Марта. Немного смутившись, он пояснил:
— Там задумано познакомить меня с девушкой. Как, пойдем?
— Конечно! — с охотой согласился я, подумав, что это может помочь Домахе забыть свое горе, и спросил: — А как с продуктами?
— Все уже сделано. Семен Иванович, в комнате которого я живу, мужик расторопный, хозяйственный. Наши сегодняшние ужины и завтрашние завтраки уже перекочевали на квартиру хозяйки, где мы собираемся. Он на ужин пригласил и нашу официантку Соню. Так что с закуской все будет в порядке.
6.
Двое товарищей, с которыми я жил в комнате, ушли на ужин, я хотел переодеться и идти в гости, но в дверь постучали. Приехал из деревни мой брат Степан, Он уже демобилизовался, но явился в военной форме. Под Сталинградом Степан был тяжело ранен. Госпиталь. Потом снова фронт. Под Берлином мы оба воевали рядом, но не встречались. На солдатской гимнастерке Степана орден Красной Звезды и несколько медалей. Инвалид третьей группы.
Когда улеглось волнение от встречи, я сказал:
— Видишь, живем по-фронтовому.
— Заметно. И постель солдатская, — отозвался Степан. — А я приехал к тебе за помощью: нужны запасные части к автомобилю. У вас могут быть списанные машины. Я устроился в колхозе шофером. Машина дряхлая. Думаю восстановить.
— С одной рукой?
Степан приподнял кисть правой руки и подвигал тремя пальцами:
— Эти немного оживают. А мизинец и средний отдохнут и тоже воскреснут. Так сказал мне врач.
— Хорошо бы. А то, наверно, вам с женой трудновато справляться с домашними делами?
— Конечно! Так что маму ты в Белоруссии долго не задерживай. А то моя Раечка днюет и ночует на маслозаводе, а у нас свое хозяйство, и мать на попеченье оставила корову, поросенка, трех овечек.
— А как с хлебом, с кормами?
— С хлебом трудновато, но до нового урожая дотянем. Поможет молочко, одну овечку заколем.
Потом мы заговорили о минувшей войне и так увлеклись, что я забыл о приглашении на праздничный ужин. Вспомнил, когда в двери появился запыхавшийся Домов.
— Ой, Домаха, извини ты нас, — показал на Степана. — Брат приехал.
— Вот и хорошо, — отдышавшись, заговорил он. — Приходите оба, отпразднуем вашу встречу и женский день. Нас ждут две хорошенькие девушки и три прекрасные дамы. — Костя взглянул на меня: — А я, грешник, зная твою пунктуальность, подумал: уж не случилось ли что с тобой?
— Со мной ничего. А как ты там? Видел девушку, с которой тебя собираются познакомить?
— Не только видел, но и говорил с ней.
— Ну и как?
— Хороша! Галей звать. Учится в Горьком на последнем курсе мединститута. С ней подруга. Тоже студентка. Живет в Горьком.
— Значит, Галя тебе понравилась?
— С первого взгляда.
— Так, может, этот ужин будет вашей свадьбой? — пошутил я. — Мы с братом готовы стать дружками.
— Арсен, я не шучу. В любовь с первого взгляда верю, но боюсь своей поспешностью напугать девушку. К тому же сестра, мне показалось, командует ею. Властная женщина. Артистка. Таких диктаторов я не люблю. А вдруг и Галя в сестру. Ну да ладно, нас ждут. Давайте, братцы, одевайтесь.
Когда мы пришли, гости встали в радостном возбуждении.
— Степан, поднимай руки! — шутя скомандовал я и сам высоко взметнул свои. — Виноваты, сдаемся!
Костя пояснил:
— Братья семь лет не виделись.
— В таком случае прощаем, — мило улыбаясь, сказала за всех картинной красоты женщина и, подойдя ко мне, подала руку: — Нина Тимофеевна. Приятно познакомиться. У меня сын тоже собирается стать летчиком. Учится в Горьком, в суворовском училище, — не дав мне сказать ни слова, она повернулась к одной из девушек: — Галя, подойди к нам.
Я понял, что Галя и есть та, в кого с первого взгляда влюбился Домаха. Она во многом походила на Шуру. Такая же длинная черная коса, такие же тонкие длинные брови. Красивая! Круглое лицо пылало от смущения, что редко случалось с Шурой. Та умела владеть собой.
— Это моя младшая сестра, — представила ее Нина Тимофеевна.
Квартира была из трех комнат. Две занимала Нина Тимофеевна с Галей, третью — Люся. Стол был накрыт в большой комнате сестер. Вторая их комната предназначалась для танцев.
Нина Тимофеевна на правах хозяйки разместила гостей. Особое внимание привлекли к себе Семен Иванович и Люся. Люся оделась во все белое, как невеста. Да и косметика на лице придавала особую праздничность. Семен Иванович в парадной форме с орденами и медалями. Эту пару Нина Тимофеевна усадила в торце стола на самом видном месте, как обычно бывает на свадьбе. Левее меня оказалась Соня, правее хозяйка поставила стул себе и рядом с собой усадила Степана. Напротив нашей четверки сел Домов в окружении Гали и ее подруги. Нина Тимофеевна взяла на себя функции тамады:
— Дорогие мужчины, будьте любезны, наполните бокалы сначала дамам, а потом себе, — стоя обратилась она. — А теперь выпьем за нас, женщин, дающих жизнь человечеству.
Мое внимание привлекла Соня. Я видел ее почти каждый день в летной столовой в синем костюме с белым передником. Она птичкой-синичкой порхала по залу. Летчики уважали ее за вежливость и аккуратность в обслуживании. Улыбалась она не так часто, зато улыбка у нее была очень милой. Сейчас Соня была неузнаваема. Куда девалась ее резвость, она приуныла и замкнулась. Я повернулся к ней:
— Вы сегодня не похожи на себя.
— Я с сорок первого не была в такой компании. Отвыкла. У меня муж был летчиком. Погиб в начале войны…
Поднялся Семен Иванович.
— Дорогие друзья! — громко произнес он. Как у многих авиационных техников, работающих зимой и летом на воздухе, голос у него был басовито-хрипловатый. — Мы с Люсей официально поженились, поэтому у нас сегодня двойной праздник. Этот ужин будет нашей свадьбой.
Все радостно зааплодировали. Как принято в таких случаях, раздались возгласы:
— Горько!
Потом много танцевали, Домов пел: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» Популярную песню дружно подхватили. Спели фронтовую «Раскинулись крылья широко…» на мотив «Кочегара». Степан спел свою, танкистскую, переделанную из песни о шахтерах. Пел он тихо, задумчиво и трогательно, как могут петь только люди, пережившие то, о чем рассказывает песня:
По полю танки грохотали, Танкисты шли в жестокий бой, А молодого в танкошлеме Несли с разбитой головой…Слова никому, кроме Степана, не были известны, но последний куплет, повторяющий первый, подхватили все. И подхватили с таким чувством, словно у каждого в душе эта песня давным-давно созрела и теперь вырвалась наружу с таким накалом, что никто не заметил, как ее дружно пропели второй раз.
Наступила тишина. Женщины застыли в печали. Нина Тимофеевна явно нервничала. Я решил ее развеселить, но она вдруг со слезами на глазах бросилась в другую комнату. Это получилось так неожиданно, что все, кроме Гали, растерялись и застыли в недоумении. Галя извинилась за сестру:
— Когда Нина получила похоронку на мужа, она больше месяца болела. И сейчас еще часто плачет.
Вскоре мы разошлись по домам. У себя на тумбочке я обнаружил письмо. Время было уже позднее. Чтобы не беспокоить спящих, не стал зажигать свет, а тихо вышел в коридор. «Дорогой мой Сеня! — писала Валя. — Сильно скучаю по тебе. Но я, твоя боевая подруга, как принято называть нас, жен военных, горжусь тобой. Я тоже выполняю свой долг — пестую Веру и Олечку. Оля уже встает на ножки, но еще не ходит.
У нас днем и ночью летают самолеты, наводят тоску и тревогу. Мне иногда становится страшно. Страшно за тебя. Но я глушу этот страх. И, кажется, мне это стало удаваться. Ведь вы, летчики, летаете потому, что научились владеть собой. И я научусь, ведь я твоя жена.
Сейчас мы в разлуке. А сколько таких разлук было с 1937 года, когда мы поженились? Не счесть. И эти разлуки дали мне и, наверное, тебе возможность ощутить нашу любовь. Но все же без тебя я полсебя. С тобой — вся. Но не думай, что я хирею. Нет и нет! Надежда — вот что дает мне силу и радость. И живу и питаюсь ею. И чувствую себя нормально.
Нас разделяет расстояние около полутора тысяч километров. Однако я испытываю такое чувство, будто мы служим вместе и одному делу. Ты командир полка, а я его мать.
Разлука! Жить постоянно вместе — все как-то притирается, сглаживается, точно камушки на морском берегу. Ты даже не чувствуешь ход жизни. Все становится обычным, будничным. И любовь не замечаешь, как не замечаешь работу сердца. Стоит же только ему забарахлить, сразу же поймешь, что значит для тебя оно.
И вот снова жду тебя. Только от одной мысли о будущей встрече у меня на душе праздник.
А как ты живешь?..»
Дело случая
1.
В марте 1947 года около двухсот летчиков-истребителей закончили курс переучивания на реактивный самолет. Для участия в воздушном параде было отобрано сто десять человек. Сто должны были лететь, остальные находились в резерве. В конце марта и начале апреля пять полков расположились на подмосковных аэродромах. Нам выпало жить в Монино, где я начинал службу после окончания училища летчиков и где у меня было много друзей: Виталий Беляков, Паша Господчиков, Иван Красноюрченко, Григорий Викторов…
Лейтенант Григорий Викторов выделялся тем, что свободно говорил по-немецки и умел петь. Любимой его песней была «Пройдет товарищ все бои и войны…». И Гриша прошел. Вместе мы воевали на Халхин-Голе. Потом наши военные дороги разошлись. В 1944 году несколько месяцев мне пришлось прослужить в 32-м истребительном полку. Там я узнал, что Григорий Викторов встретил Великую Отечественную войну в этой части. Считалось, что он сгорел в небе под Смоленском, но позже выяснилось, что был сбит и попал в плен, бежал и продолжал успешно воевать с фашистами, только уже не в составе нашей армии, а во Франции, в 1-й Альпийской дивизии. Ему особенно удавалось вести разведку в фашистском тылу. Под партизанской кличкой Григорий Петров он и погиб при исполнении одного из заданий. Французы хоронили его со всеми почестями на Лионском кладбище.
Монинский городок считался благоустроенным авиационным гарнизоном. Он окружен лесом, вблизи течет чистая речка Клязьма. Многие жители Монино предпочитали летние отпуска проводить дома.
Приказ о перебазировании полков был получен неожиданно. У Домова с Галей как раз на день отъезда была назначена свадьба.
— Как же мне быть? — обратился он ко мне.
— А на кой черт тебе эта пьянка?! Регистрацию уже отметили, вот и считай это свадьбой.
— Мы с Галей тоже так думали. Но ее сестричка. «Ни в коем случае, — говорит, — нельзя нарушать русские обычаи. Я этого не позволю: перед людьми стыдно».
— Могу тебе разрешить приехать в Монино на двое суток позднее полка, — смирился я.
— За это спасибо. Но на свадьбе с Галиной стороны будет пять человек, а с моей — никого. Нине Тимофеевне это наверняка не понравится. Скажет, что я без роду и племени. И в детдоме, где я воспитывался, знакомых никого не осталось. Ведь с тех пор прошло тринадцать лет.
— Ну, если Нина Тимофеевна и выкинет какой фокус, не обращай внимания, — посоветовал я. — Тебе жить не с ней, а с Галей.
— Это верно, — согласился Домов. — Но не хочется портить отношения. Жить нам придется пока у Нины.
— Ну смотри, решай сам. Кстати, Семен Иванович с Люсей будут на свадьбе?
— Будут.
— С чьей стороны?
— С Галиной.
— А ты перетяни их на свою сторону. Семен твой друг. А еще, чтобы гостей с обеих сторон было поровну, пригласи Акуленко. Ведь муж Нины Тимофеевны был его приятелем.
— Идея! — обрадовался Домов.
С просьбой ко мне обратился и Сергей Елизаров, попросил разрешения съездить в Москву к жене. Она живет там с отцом и матерью, недавно родила сына. Я вспомнил Кобрин, новогодний ужин победителей, прекрасное пение Елизарова со своей невестой Зиной и спросил:
— Утром на другой день приедете?
— Разрешите позднее? Хочу заехать в военторг, купить фуражку.
В Монинском гарнизоне полк встретили гостеприимно. Для нас был отведен целый этаж большой каменной казармы, где все было приготовлено: два больших помещения для общежития летчиков и техников, кабинет-спальня для командира полка и заместителя по политчасти. В комнате командира и заместителя был установлен телефон для связи с командующим авиацией Московского военного округа.
Гарнизон разросся за счет жилых и служебных зданий. А вот аэродром остался, как сообщил мне комендант, прежним. Это насторожило меня. Взлетно-посадочная полоса была построена давно. Тонкий слой асфальтобетонного покрытия давно начал трескаться. По такой полосе реактивному «яку» взлетать нельзя. Струя газа начнет срывать покрытие. Волнуясъ, я сразу после завтрака взял два тягача и вместе с летчиками поехал осмотреть новое рабочее место.
Хорошо знакомый мне въезд на аэродром. Красивая арка. Она запомнилась мне по двум громадным бомбам, стоящим по бокам ворот. Правда, теперь одна из них, видимо от усталости, накренилась в сторону. Раньше эти бомбы говорили о том, что здесь место бомбардировщикам. Сейчас они стали памятником той нашей тяжелой бомбардировочной авиации, которая начала бурно развиваться в годы первой пятилетки. Истребительная эскадрилья, в которой тогда служил я, была придана бомбардировочному соединению,
Приехав на летное поле, я сразу увидел, что здесь действительно осталось все без изменений. Те же служебные аэродромные здания и добротные ангары, какие теперь уже не строят, тот же двухэтажный командный пункт. Особое мое внимание привлекла мачта для авиационного флага. Флаг был спущен. Это означало, что полетов на аэродроме сейчас нет. Мачта со спущенным флагом напомнила лето 1938 года.
В тот день я дежурил по аэродрому. Накануне перед заступлением на дежурство летали, но под вечер сильный дождь заставал прекратить полеты, однако флаг не был спущен. Заступая на дежурство, я попытался убрать его, но узел, соединяющий флаг и веревку, не проходил через направляющее кольцо.
— От дождя размок, — пояснил солдат, дежуривший на КП. — Надо подождать, когда просохнет.
— Хорошо. Подождем, — согласился я. — За ночь просохнет, а утром спустим.
Следующий день выдался солнечным и теплым. Уходя на завтрак, я решил, что флаг еще не просох, и дал ему поразвеваться на ветру. К тому же на аэродроме не было никого, кроме дежурной службы и часовых.
Возвращаясь с завтрака, я увидел, что над аэродромом кружится самолет-истребитель, прося разрешения на посадку. Заявки на прилет не было. Значит, без предупреждения мог явиться только кто-нибудь из больших начальников. Стартовый наряд быстро выложил разрешающие знаки, и И-16 стал заходить на посадку. Я, позабыв о флаге, побежал встретить прибывшего командира.
Прилетел командующий армией особого назначения комдив Виктор Степанович Хользунов. Подростком он участвовал в обороне Царицына, одним из первых получил звание Героя Советского Союза за боевые дела в Испании. Комдив небольшого роста, но для его могучих плеч кабина И-16 была явно тесна. Я подумал, что такому летчику, когда потребуется покинуть истребитель с парашютом, сделать это будет довольно трудно. Ему удобнее летать на бомбардировщике. Хользунов в Испании воевал на них, но теперь почему-то отдавал предпочтение истребителям.
— Товарищ комдив! Дежурный по аэродрому лейтенант Ворожейкин, — представился я.
Хользунов поздоровался со мной за руку, медленно повернулся кругом, внимательно оглядел небо, аэродром и поинтересовался:
— Кажется, у вас сегодня полетов нет?
— Так точно, нет! — ответил я, понимая причину вопроса, и пояснил, почему авиационный флаг не спущен. На лице командарма появилась ироническая улыбка:
— Выходит, флагом управляет не дежурный по аэродрому, а дождь?
— Так получилось, — виновато ответил я.
— Флаг требует особого уважения. А у вас он развевается без надобности. Пойдемте попробуем его опустить.
Мне стало ясно, что командарм хочет не только опустить флаг, но и одновременно проверить: правильно ли я ему доложил? «Веревка и узел наверняка высохли, флаг должен опуститься, — переживал я, но меня тут же обожгла тревожная мысль: — А если не опустится? Значит, я принял неисправным устройство управления флагом. Вот тогда и попробуй доказать, что ты не лгун!»
Опасения мои сбылись. Как я ни старался спустить флаг — узел не пропускал веревку через кольцо. Показывая на флаг рукой, Хользунов спросил:
— Так кто же виноват в неисправности этого механизма: вы или дождик?
— Разрешите по шесту добраться до кольца? — попросил я. — Попробую продернуть веревку.
— А сумеете?
— Сумею, товарищ командующий.
Карабкаясь по столбу, я быстро достиг кольца. И все же узел веревки, хотя и был сухим, через кольцо не проделся. Тогда, удерживаясь ногами на столбе, я одной рукой ухватился за флаг, другой — за веревку и хотел силой вытащить ее из кольца. Но флаг оборвался, а я вместе с ним упал прямо на широкие плечи командующего. Тот охнул и, хотя был крепок, устоять на ногах не смог и упал вместе со мной. Я никакой боли не чувствовал, но испугался за командующего. У меня невольно вырвалось:
— Ушиб я вас? Извините, — хотел было встать, но Хользунов то ли от боли, то ли от вспышки гнева приказал:
— Лежи! — сам он встал и, оглядев меня, спросил: —, Ушиблись?
— Нет.
— Встаньте.
Прихватив слетевшую с головы пилотку, я поднялся, привел себя в порядок и, вытянувшись в струнку, спросила
— Товарищ командующий, разрешите получить дальнейшие указания?
Хользунов внимательно оглядел меня и, поправляя на себе гимнастерку, уже спокойно, но с упреком заговорил:
— Указания? Какие такому лихому акробату могут быть указания? Хотя есть. Прощупайте себя, нет ли каких повреждений?
Я действительно не чувствовал никакой боли, поэтому, не пошевелившись, четко ответил:
— Никаких ушибов нет!
Мои спокойные ответы подействовали на Хользунова не в мою пользу. Он повысил голос:
— А сейчас марш на пять суток под арест!
— А как быть с дежурством? — спросил я, не меняя позы.
Комдив, прощупывая свое правое плечо, притопнул ногой:
— Выполняйте, что приказано!
Пока я шел до гауптвахты, командующий сменил гнев на милость и, позвонив начальнику гауптвахты, передал, что он снял с меня взыскание, разрешив продолжать дежурство.
Вспомнив этот случай, я с грустью вздохнул: Виктор Степанович Хользунов через год погиб при испытании новых бомб…
Мы объехали летное поле. Особое внимание обратили на взлетно-посадочную полосу, где уже заканчивала работу снегоочистительная машина, оголив асфальтобетонное покрытие. Хотя полоса сильно потрескалась, но была крепко приварена морозом к земле. Пока летать с нее было можно. Но апрель снимет с нее морозную сварку и оголит щели. Тогда все усложнится.
Осмотрев аэродром, мы поехали в казарму, чтобы уже по картам изучить предстоящий район полета. Однако и здесь нас ожидало разочарование. Как это нередко бывает в больших делах, о мелочах забывают. Так получилось и теперь. На полетные карты своевременно заявка не была дана.
— Но из этого положения, я думаю, мы выйдем, — продолжал информировать меня только что назначенный начальник штаба полка майор Валентин Иванов, — Я сейчас пошлю человека к штурману местной летной части, он нам поможет.
Для участия в параде нам предстояло создать семь звеньев и один резервный экипаж. А мы все прибыли из разных частей и даже из разных военных округов, многие впервые встретились в Монино, раньше не знали друг друга. Надо было решить, по какому принципу лучше формировать экипажи и тройки. Командование по характеристикам, по деловым и психологическим принципам подобрать людей затруднялось. Это нужно было сделать коллективно. Такой демократический принцип создания звеньев и экипажей соответствовал обстановке. Однако до начала организационного совещания мне позвонил командующий авиацией Московского военного округа генерал Сбытов:
— Самолеты Як-пятнадцатые прибудут к вам не раньше чем через неделю, — сказал он. — Зато поршневые «яки» появятся завтра, и вы начните на них полеты строем. Сначала тройками, потом попробуйте пятерками. Заодно облетайте район аэродрома. Задача ясна?
— Ясна. А кто будет обслуживать «яки»?
— Ваши техники.
— Понятно. Я с летчиками осмотрел аэродром. Полоса сильно растрескалась. Боюсь, летать на реактивных с нее будет нельзя.
— Пока летайте на поршневых. Когда прибудут реактивные — решим. Может, придется и перебазироваться.
2.
В народе говорят, что март прокладывает дорогу весне. В том же году он словно вступил в сговор с зимой и упорно сражался за нее. Ночью морозы зло обжигали людей, а днем часто свирепствовали снежные метели. Только в начале апреля зима отступила. Хотя перед рассветом она напоминала о себе легкими заморозками, днем начиналась власть солнца. До чего же оно было ласково-теплым! Во время полетов техники и механики снимали с себя зимние куртки и работали в гимнастерках, наслаждаясь приветливо-игривым солнцем. И только потемневшие остатки снега да искрящиеся лужи напоминали о том, что до лета еще далеко.
С утра я руководил полетами. Летчики на поршневых «яках» летали звеньями в три самолета и пятерками. Сначала не все получалось. Летчики-руководители отвыкли летать ведомыми, да еще в плотных строях — крыло в крыло. Оттягивалось прибытие реактивных «яков», что особенно тревожило меня.
Костя Домов лучше других понял мое состояние.
— Не грусти, — посоветовал он. — Погода установилась. Отставание наверстаем. И зачем тебе самому руководить полетами? Назначай других. У нас в полку пять майоров.
— Не говори чепухи! — упрекнул я Домаху. — Ты же прекрасно знаешь, мы летаем полком, поэтому руководить обязан командир полка или его заместитель.
— Есть идея! — воскликнул вдруг Домов. — Попроси командующего, чтобы он прислал постоянного руководителя полетов.
— Действительно! — подхватил я. — А таких командиров звеньев, как ты, Елизаров и майор Горелов, надо назначать ведущими пятерок. На параде наверняка пойдем колонной пятерок.
— Конечно! Первую пятерку поведешь ты, вторую — твой зам, третью — Горелов, а четвертую… четвертую… — и отрубил: — Только не я. В полку хватит Героев Советского Союза и майоров.
Домов был награжден двумя орденами Красного Знамени. Красную Звезду получил за участие в партизанской войне. Хотя никогда прямо он не говорил, что его обошли с награждениями за боевые дела, но в разговорах эта мысль иногда проскальзывала. Я постарался успокоить его:
— У тебя налет больше, чем у других. И мы с тобой по возрасту почти на десять лет старше всех. А потом, Домаха, не порть себе и мне настроение. За эту войну все еще продолжается награждение. Тебе же могут учесть Халхин-Гол и финскую. Ты сбил семь фашистских самолетов и девять самурайских. Если придется оформлять наградной материал, я напишу на тебя представление на звание Героя Советского Союза.
— Ясно. Поживем — увидим, — отозвался Домов, не желая продолжать об этом разговор.
Мы находились на стартовом командном пункте, а все остальные летчики у самолетов. Я попросил Домова, чтобы он передал майору Киселеву построить всех летчиков, а сам прямо со старта позвонил командующему ВВС генералу Сбытову и попросил выделить постоянного руководителя полетов.
— Хорошо, — согласился генерал. — Сегодня же руководитель полетов прибудет в ваше распоряжение. Фамиляя его Висковский, он подполковник. Работает в ВВС округа старшим инспектором. На парад полетим пятерками.
Когда закончился летный день, летчики пошли на ужин, а я зашел к себе в кабинет, чтобы посмотреть и утвердить плановую таблицу полетов на завтра. Сделав это, собрался было идти в столовую, но в кабинет вошел подполковник. Широкоплечий, очень смуглый, энергичный, но уже в годах.
— Борис Константинович Висковский, — представился он. — Прибыл к вам руководить полетами.
Висковский кратко рассказал о себе. В авиации с 1926 года. Освоил около семидесяти типов самолетов. Год назад вылетел на Як-15. Общий налет более полутора тысяч часов. Воевал под Москвой на ЛАГГ-3, отражая налеты фашистских бомбардировщиков на столицу. Два раза был ранен.
— Потрудились на славу, — не скрывая своего восхищения, сказал я.
Наш разговор перебил звонок над дверью.
— Входите, — ответил я, и тут же передо мной возник высокий, приятный на вид командир в общевойсковой форме и, вытянувшись, представился:
— Подполковник Сорокин прибыл в ваше распоряжение на должность заместителя командира полка по политической части.
Я представил Сорокину Висковского. Оказалось, оба уже давно знакомы. Предложив прибывшему сесть, подумал: «Необычная ситуация. Два подполковника представляются майору, младшему по званию. Видимо, присвоение воинских званий по выслуге лет не всегда идет на пользу службе. Почему бы не сделать так, чтобы выслуга оставалась выслугой, а офицеру присваивалось звание, соответствующее должности. Это не только поднимало бы авторитет командира и само воинское звание, но и способствовало укреплению дисциплины, исключало такие недоразумения, какое случилось сейчас».
— Теперь все полковое начальство в сборе, — начал я. — Только инженер Косицкий на аэродроме готовит самолеты к полетам. Летчики на ужине. Нам тоже надо поспешить туда.
— Я уже поужинал, — сообщил Сорокин.
— Я тоже, — сказал Висковский.
— Ну вот и прекрасно. — Я обвел рукой кабинет-спальню. — Два стола у нас есть. Думаю, для троих хватит, ведь работа наша в основном будет проходить на аэродроме.
3.
К середине апреля первая семерка реактивных самолетов прибыла по железной дороге. Эшелон пришел ночью, а утром истребители уже были собраны и готовы к облету. Хотя никто из техников и механиков ночью не сомкнул глаз, настроение у всех было бодрое и даже торжественно-радостное. Наконец-то появились реактивные машины! Теперь можно твердо сказать, что полк полетит на парад.
Я. решил проверить взлетно-посадочную полосу. Погода стояла солнечная. Утренний морозец спаял щели на асфальтобетонной полосе. Руководитель полетов Висковский посоветовал повременить с проверочным полетом, пока не растает лед:
— Сейчас струя от турбины может скользнуть поверх полосы, и лед в щелях останется нерасплавленным.
— Верно, — согласился я. — Поэтому сразу же облетаем все машины. А ты внимательно следи, как поведет себя полоса, когда начнет отпускать мороз.
— Хорошо, — согласился Борис Константинович. — А если ты сейчас вскопаешь асфальт? Где садиться будешь?
— В Щелково, — сказал я. — Там знаменитая полоса Героев из бетона и длиной не менее двух километров. В свое время с нее взлетал Чкалов, направляясь на остров Удд и через Северный полюс в Америку.
— Ясно. Насчет посадки в Щелкове я договорюсь. Но мне кажется, можно обойтись и без Щелкова. Взлетай только по правой половине полосы. Если ее попортишь, сядешь на левую.
На взлете я не почувствовал никаких осложнений. Но как только перевел машину в набор высоты, услышал спокойный голос:
— Арсен! Как слышишь?
— Хорошо, — бодро ответил я и подумал: «полный порядок».
Но руководитель полетов разочаровал:
— Ты основательно пропахал правую сторону полосы. Метров двести. Сейчас осмотрю твое «художество» и сообщу, где тебе лучше садиться.
— Понял. А я пока похожу над тобой.
«Вот тебе и полеты на реактивных, — загрустил я. — А мы размечтались. Надо же было такое вообразить, что лед в щелях, не растает, когда температура выхлопных газов около шестисот градусов! При таком накале металлы плавятся. Значит, придется перебазироваться в другое место. А куда? Все пригодные аэродромы под Москвой перегружены. Наложить на нашу полосу металлическое покрытие? Времени нужно не меньше недели. А его и без того в обрез. Неужели полк отставят от парада?»
Удрученный невеселыми мыслями, произвел посадку. Как только вылез из самолета, меня окружили летчики и техники. На лицах всех тревога и вопрос: как быть? На поршневых «яках» летчики пятерками уже слетались отлично. Все ждали реактивных «яков». И на тебе!..
— Плохи наши дела, — сказал я. — Пойду доложу командующему, что летать на Як-пятнадцатых на этой полосе нельзя.
Все облегченно вздохнули, а инженер полка спросил:
— Может, начнем готовиться к переезду?
— Сейчас узнаю, — сказал я, а сам с горечью подумал: «Перебазироваться нам некуда. Летчики об этом не знают. Но огорчать их пока не надо».
В тот же день после обеда на аэродром приехала строительная рота. За двое суток, работая днем и ночью, солдаты на асфальтированную полосу и на рулежные дорожки наложили металлическое покрытие. За это время прибыли все реактивные «яки»…
Настал день смотра мастерства летного состава. Солнце только вышло из-за горизонта. Было безоблачно и безветренно. Летчики и техники выстроились перед самолетами. Со стартового командного пункта к строю подошел командующий авиацией Московского военного округа Николай Александрович Сбытов. Моложавый, очень статный и спокойный. В глазах Сбытова жизнелюбие и доброта, располагающая к доверию и уважению. Я доложил о готовности к полету семи звеньев трехсамолетного состава и одной машины резерва. Генерал, поздоровавшись, сказал:
— Вы эту неделю поработали много и плодотворно. Догнали остальные полки. Правда, техникам пришлось трудновато, но никто не спасовал. Все выдюжили. А сейчас посмотрим, чего достигли летчики. — Генерал взглянул на меня: — Можете начинать работу. Я буду на стартовом командном пункте. Хорошо слетаете тройками — начинайте тренировку пятерками.
Полк взлетел и через пять минут собрался в колонну из троек. Сзади группы резервный самолет. Его летчик готов занять место вышедшего из строя ведомого любой тройки. Если строй покинет ведущий, на его место встанет правый ведомый. Эти летчики натренированы летать и ведущими и ведомыми.
После пролета первого контрольного пункта я взял курс на западную окраину Фрязино. Город хорошо было видно. От него расстояние до центра Монинского гарнизона такое же, как и от Химок до центра Красной площади. Это последние контрольные ориентиры. Здесь должны быть высота триста метров и парадная скорость. Нужные параметры пролета последнего контрольного пункта выдержал точно, скользнул взглядом на ведомых звена. Ребята идут — лучше никак нельзя. Дальше — прямая на аэродром. И не просто на аэродром, а на стартовую радиостанцию, где находится генерал Сбытов. Вся колонна должна пролететь над его головой. Моя машина не шелохнется. Земля мельтешит. Но я не обращаю на это внимания: впился взглядом в радиостанцию, застыл и испытываю такое ощущение, будто вместе со мной застыло и время.
Наконец радиостанция так понеслась на меня, что я даже не мог уловить момент, когда она скрылась подо мной! Все! Теперь можно взглянуть на летчиков звена. Оба летят идеально.
Выполнив последний разворот, я начал снижаться на посадку. Подо мной, разрезая густой лес, промелькнуло Горьковское шоссе. Планирую, как всегда, на небольшой силе двигателя. Лес заканчивается. За ним начинается рулежная металлическая дорожка, соединенная с полосой. Я рассчитываю над дорожкой убрать газ и точно приземлиться у посадочного «Т». Но убрать газ не успел. По бокам самолета что-то промелькнуло, раздался удар страшной силы…
Войны. Их трагические мгновения и тяжесть фронтовых будней пропитывают человека, точно смола дерево. И время, видимо, не в силах это выветрить. В сознании молнией промелькнула обстановка огненных лет: «По мне ударил зенитный снаряд». И тут же с такой же мгновенной реакцией сознание переключилось на действительность — вороний базар?
Мой «як» от удара судорожно вздрогнул, затрясся. Меня резанула тишина. Неужели остановилась турбина? Даю сектор газа. Ни гула, ни тяги. Турбина остановилась. Очевидно, в ее воздушное горло попала ворона, и двигатель задохнулся. Машина резко сбавила скорость и «посыпалась» вниз. Хотя подо мной уже лежал аэродром, до посадочной полосы было еще далеко. А металлическая рулежная дорожка на линии посадочной полосы приподнята земляной насыпью. Если машина приземлится до нее, встречи с этой насыпью не избежать. А это не сулит ничего хорошего.
На память пришла недавняя катастрофа на подмосковном аэродроме. Ситуация была аналогичной. Разница только в том, что погибший летчик просто ошибся в расчете — не долетел до полосы. Заметив эту ошибку, он хотел подтянуть машину, начал увеличивать обороты двигателя, но времени не хватило. Машина приземлилась метров за пять до земляной насыпи и, встретившись с ней, перевернулась.
Впервые я почувствовал, что моя привычка рассчитывать посадку при небольшой тяге двигателя может привести к несчастью. Впрочем, разве можно в авиации все предусмотреть! Летчик в любую секунду должен быть готов к любым неожиданностям. Выравниваю «як». Он несется над землей, но скорость необычно быстро гаснет и машина вот-вот коснется земли. Металлическое покрытие рядом. Держу машину на пределе, но она проваливается. Подо мной не полоса, а еще зеленая трава. «Неужели коснусь ее?» Я приготовился к этому. Будет кульбит — голову уберу глубоко в кабину.
Кульбит! У меня они были на И-16 и на «яке». Отделывался только травмами головы и поясницы. А сейчас, на реактивном истребителе? Мысли сменяют одна другую, и в гробовой тишине слышу, как тревожно грохочет сердце. Но вот ясно вижу насыпь. В ней заключена моя жизнь или смерть. «А ну, мой милый „як“, еще хоть десяток метров подайся вперед!» Ручкой стараюсь поднять самолет. Нос задирается, но хвост, чувствую, опасно опускается. Я весь напружинился. Однако интуитивно чувствую, что колеса уже почти над рулежной дорожкой. Доля секунды — и «як» плюхается на нее колесами. Но тут же будто кто-то дернул самолет сзади. Он с хрустом вздрогнул и клюнул носом. Я чуть было не спрятался в кабине, но «як», милый мой «як», снова приподнял нос и побежал по рулежной дорожке.
Все обошлось благополучно только потому, что «як» без винта имеет лучшие качества планирования. Это спасло меня. Я не торможу бег машины, как бы давая ей возможность после удара о металл прийти в себя. Да и мне надо притормозить вспыхнувшую радость от счастливого исхода посадки. К тому же пока и нет необходимости тормозить: надо рассчитать так, чтобы самолет закончил пробег на самом конце полосы, потому что следом за мной уже приземляются другие машины. Чтобы дать им дорогу, направляю свой «як» на рулежную дорожку.
К счастью, все сели благополучно. И только после этого я почувствовал, как устал. Но предстояла еще встреча с генералом Сбытовым и тренировка полка в полетах пятерками. Все это прогнало усталость, и я сел в самолет, чтобы отбуксировать его на противоположную сторону аэродрома.
Мое предположение о причине остановки турбины в воздухе подтвердилось. Генерал Сбыюв посоветовал:
— Надо что-то делать, разгонять ворон. Инженер-капитан Захар Косицкий, внимательно проверивший двигатель на моем самолете, сказал:
— Придется в районе аэродрома потрошить гнезда. Иначе они нам часто будут портить настроение. На этот раз только турбина разрушена, ее мы заменим. Но могло быть и хуже.
— Могло, — согласился генерал. — Но как этих птах разогнать? Может, попугать на По-втором?
Я поддержал командующего, сказал, что после моего пролета над вороньим базаром птицы разлетелись.
— Вот уж никак нельзя было и подумать, что для реактивных самолетов птицы станут опасным врагом! — Николай Александрович сочувственно взглянул на меня: — А если бы эта ворона попала в воздухозаборник при взлете?
Прежде чем уехать с аэродрома, генерал собрал руководящий состав полка и сообщил:
— Двадцать восьмого апреля утром будет генеральная репетиция — пролет через центр Красной площади. Первая пятерка, ведущая, пойдет в полном составе. От остальных трех пятерок полетят только ведущие. Дистанция между ними пятьсот метров. Поднимутся и оба резервных самолета. Им идти на посадку сразу же, как только полк сделает разворот над последним контрольным ориентиром. После этого полета самолеты привести в полную готовность и опломбировать. Двадцать девятого и тридцатого апреля всему полку выходной, но без особой надобности из гарнизона не отлучаться. После парада и до утра третьего мая отдых. Отлет в свои гарнизоны намечайте на пятое-шестое мая. Вот все, У кого есть вопросы ко мне?
— Есть вопрос, — раздался голос замполита полка Сорокина. — Можно двадцать восьмого и двадцать девятого организовать поездку в театры и музеи Москвы?
— Пожалуйста.
— А съездить в Москву к жене? — спросил Елизаров.
— Конечно. Жен можно пригласить в гарнизон. Здесь есть гостиница. Я позабочусь, чтобы им дали номера.
Как только я проводил генерала, ко мне подошел Костя Домов:
— Как ты думаешь, на праздник не пригласить ли мне в Монино Галю?
— Одобряю, Домаха!
4.
Рассвет в тот день был особенно ярким я теплым. Летчики приехали на аэродром в летных комбинезонах. Но когда из-за горизонта выкатилось солнце, оно словно разбудило спящие облака, и они поплыли к аэродрому. Через полчаса пропало солнце, а вскоре все небо стало темно-серым и хмурым. Однако четыре пятерки Як-15 и пара резерва успели слетать поочередно с интервалом в пять минут. Получилось неважно. Крайние самолеты не выдержали симметрию пятерок. Я не удивился. Известно же, первый блин комом. А второй, третий?
— Следующий полет будет лучше, — заявил подполковник Висковский. — Но, — он показал в небо, — мне эти облака не нравятся. Я только что разговаривал с метеорологами. Они не обещают улучшения.
— А ухудшение обещают?
— Сейчас высота нижнего края восемьсот метров. Предупреждают, что к середине дня облачность понизится. И даже возможен небольшой снег с дождем. Видимость при осадках упадет до трех-четырех километров.
— А успеем мы еще разок слетать пятерками? — спросил я Бориса Константиновича.
— Я что-то не верю этим прогнозам: уж очень толстые облака, и снегопад с дождем может быть таким густым, что видимость совсем пропадет. Не дай бог, если такая погода застанет летчика в небе.
Подошел инженер полка Косицкий и доложил, что двадцать два Як-15 готовы к полету. Я вопросительно взглянул на Бориса Константиновича. Он понял мой взгляд и неопределенно пожал плечами: решай, мол, ты командир. На мой вопрос, через какое время ожидается снег с дождем, начальник метеостанций ответил: «Часика через два-три».
— Все пятерки должны успеть провести тренировку, — сказал я руководителю полетов. — Но ты, Борис Константинович, смотри за небом внимательно и поддерживай связь с синоптиками. В случае ухудшения погоды сразу командуй посадку.
— Давай рискнем, но условимся, что ты пятеркой походишь в районе аэродрома, присмотришься к облакам, оценишь горизонтальную видимость.
Пятеркой я сделал большой круг над аэродромом. Высота нижнего края облачности семьсот метров. Видимость на пределе. Если она уменьшится, летать будет трудно. А такая возможность не исключена: облака толстые и до того холодные, что при соприкосновении с ними на стекле кабины сразу же образуется иней. Они будто застыли, плотно заслонив землю от солнца.
Во время войны мне не только случайно, но и по заданию приходилосъ летать в тяжелые снегопады, дожди и туманы, а до войны я даже специально тренировался летать в сложных метеоусловиях. И каждый раз чувствовал, что погода может быть коварнее, чем враг. Опыт вырабатывает предчувствие. Поэтому и поспешил распустить пятерку на посадку, передав на старт, чтобы в воздух никого не выпускали.
Сжижался на полосу с того же направления, где столкнулся с вороной. На этот раз в районе аэродрома никаких птичьих базаров не было. Они то ли разобрались, что от металлических «птиц» можно погибнуть, то ли погода им для веселых «бесед» не подходила,
Не успел я срулить с полосы и выключить двигатель, как пошел моросящий дождь. Видимость резко ухудшилась. А вскоре с моросью повалил снег. Я взглянул на полосу: по ней бежал самолет. Вторая половина полосы уже не просматривалась. Я встревожился, а затем и перепугался. Снег повалил такой густоты, что сразу же покрыл весь аэродром.
Вспомнил март сорок четвертого. Тогда пятерка «яков» и двенадцать штурмовиков вылетели из Ровно в район Бродов. Погода была плохая, но задание мы выполнили. На обратном маршруте нас накрыл снегопад. В Ровно прилетел только один истребитель, остальные приземлились в поле и на других аэродромах. Для многих летчиков-штурмовиков это был последний полет. Погиб и командир группы майор Иван Павлюченко. Тогда, во время войны, полет был необходим в интересах победы. А сейчас? Риск, как говорится, благородное дело. Трое сели. А остальные?
Кто в ответе, если они разобьются или поломают машины? Только я один. Душу терзала мысль: «Зачем пошел на такой неоправданный риск, ведь войны нет и никто меня не подгонял?» И тут же спешил успокоить себя: «Да, войны нет, но фронт есть. Мирный фронт. Только он и высокая боеготовность армии могут предотвратить новую войну». Только тут я вспомнил про радио, нажал кнопку и запросил Бориса Константиновича:
— Все приземлились? Порядок?
Руководитель полетов сразу уловил мое натужно-деланное спокойствие, я даже почувствовал в его голосе смешинки:
— Что, Арсен, дрожишь? Полный порядок. Не волнуйся. Все сели нормально.
От радости я даже запел, как когда-то Амет-Хан на Ай-Петри: «Легко на сердце от песни веселой…» Но, видя перед собой плотную занавесь снега, понял, что эта песня совсем некстати. Летчики одеты по-летнему, а на старте нет никакого укрытия. Включив радио, передал Висковскому, чтобы он немедленно отправил людей в казарму, Хуже было мне самому. Я, как и все, летал налегке. В закрытой кабине было тепло, поэтому не хотелось вылезать из самолета. Не спеша снял с головы шлемофон, который всегда оставлял в машине, протер вспотевшую голову носовым платком. На платке почему-то оказалось много-много волос…
Как только я открыл кабину «яка», техник самолета Иващенко подал мне фуражку:
— Здорово похолодало, товарищ майор. Оденьтесь, а то простынете, — потом накинул на меня свою зимнюю куртку и сообщил: — Вас ждет старый фронтовой товарищ.
— Кто?
— Сами увидите.
Из двери стартовой радиостанции выскочил Амет-Хан. Вспомнился новогодний ужин. Тогда он был худым, подавленным и каким-то оскорбленно-униженным. Сейчас выглядел, как на фронте, радостно-возбужденным. Я понял, что жизнь у Аметхи наладилась.
— А почему ты в гражданском костюме и без пальто? — спросил я.
— Угадай, где я теперь работаю? — вместо ответа спросил он. — Где служу Родине?
По радостному тону я решил, что он все-таки добился перевода из академии в свой родной полк. Но почему одет в гражданский костюм? Едет к себе на родину, в Крым?
— Я стал летчиком-испытателем — с радостью выпалил Амет-Хан. — Работаю поблизости отсюда.
— Это хорошо! А как с армией? Неужели уволился?
— Уволился. Почти полгода жил безработным. В кадрах меня обвинили во всех грехах, в каких только можно обвинить военного человека. Спасибо главкому. Заступился. Теперь я летаю. Да еще как!
О своих мытарствах Амет-Хан говорил скупо, зато о новой работе рассказывал увлеченно. Меня заинтересовало вооружение реактивных самолетов.
— Насчет Як-пятнадцатого, — со знанием дела объяснил Амет-Хан, — этот самолет переходный и специально создан, чтобы летчики почувствовали, что такое реактивная авиация. МиГ-девятый — перспективный. Пятидесятисемимиллиметровых пушек на «мигах» не будет. На них устанавливаются три пушки: две двадцатитрех— и одна тридцатисемимиллиметровая. А на «яках» две пушки двадцатитрехмиллиметровые.
— Вот это да! И скоро мы получим такие машины?
— Скоро. Их уже начали выпускать серийно. А вот-вот появятся реактивные истребители Микояна и Лавочкина. Необычные — со стреловидным крылом. И скорость за тысячу километров.
— А ты, Аметха, не фантазируешь?
— Сам сначала не верил: уж больно сильный скачок в развитии истребительной авиации. И не только в истребительной. Уже готовится к выпуску и реактивный бомбардировщик Ильюшина. Двухмоторный со скоростью за девятьсот километров. И вообще, скоро вся наша военная авиация перейдет с поршневой на реактивную.
— Значит, догоним американцев? — спросил я.
— Конечно! — уверенно ответил Амет-Хан. — Новый «миг» будет и но скорости и по маневренности лучше.
— Хорошо бы. — Заметив, что товарищ ежится от холода, я пригласил его на обед: — Заодно посмотришь, как реактивщиков кормят. Нам дают одного шоколада в месяц чуть ли не килограмм.
— С удовольствием сниму пробу, — согласился Амет-Хан. — Я чертовски проголодался.
5.
Настал день генеральной репетиции. Его начало омрачило меня: на было ведущего пятерки старшего лейтенанта Сергея Елизарова. Летчики заявили, что после обеда его в гарнизоне никто не видел. «Наверно, в такой ответственный момент уехал к жене и проспал, — подумал я. — Хорошо, что командир резервной пары на месте. Предусмотрительность — великое дело». Хорошо, что в этот день на аэродроме не было вышестоящего начальства. Генерал Сбытов предоставил полную самостоятельность командирам полков. Он даже не определил время взлета, а только указал с точностью до секунды, когда группа должна пройти над первым контрольным ориентиром. От него полк должен был сделать разворот и занять свое место в парадной колонне реактивных самолетов, летящих курсом в а Красную площадь.
Аэродром высох, зазеленел и позволял работать с грунта. Чтобы экономить горючее, было решено взлетать и садиться пятерками. Летчики освоили самолет и делали это уверенно. Для безопасности при взлете и посадке приходилось держать между машинами увеличенные дистанцию и интервал.
Четыре пятерки и два самолета резерва дружно поднялись в небо. Генеральная репетиция прошла хорошо. Все были довольны, что пролетели над Красной площадью так, как а предусматривалось заданием. Я возглавлял пятерку. Сзади меня в колонне летели только ведущие. Их ведомые и два летчика резерва, как и было предусмотрено, отошли от колонны, когда она развернулась над главным ориентиром.
После репетиции руководитель полетов Висковский и замполит Сорокин уехали в Москву. Висковский торопился домой, а Сорокин хлопотал о посещении театров и музеев. Все это было оговорено заранее. Техники остались на аэродроме готовить самолеты, а летчики, проведя разбор генеральной репетиции, поехали с аэродрома в казарму на грузовой машине. Как обычно, при выезде с аэродрома остановились у закрытых ворот. В кабине сидела женщина-врач, я с Домовым — в кузове на скамейке в первом ряду. Пока часовой проверял документы у водителя, я смотрел на величаво стоящие по бокам ворот бомбы. Домов заметил:
— Этим махинам когда-нибудь надоест стоять часовыми, и они лягут на землю. Отдохнуть. Одна, того и гляди, упадет.
Машина резко, рывком тронулась, и накренившаяся бомба, как бы подтверждая предположение Домова, начала медленно падать прямо на людей. Все на какой-то миг застыла, не понимая, что происходит. Я подумал, что движение бомбы есть не что иное, как галлюцинация от яркого солнца и быстро рванувшегося грузовика. Видимо, и остальные подумали что-то в этом роде. Иначе все стали бы прыгать из кузова, но этого никто не сделал. Машина двигалась, и бомба только шаркнула по заднему борту кузова. Это шарканье сняло все иллюзии. Не успей машина проскочить вперед на метр-два, несчастья бы не миновать. Я обеими руками заколотил по кабине. Летчики спрыгнули на землю — и к бомбе. Кто-то тревожно произнес:
— Неужели диверсия?
Но осмотр показал, что виновником происшествия стал небольшой камень. Бомба стабилизатором стояла на земле, под тяжестью оседала, но злосчастный камешек нарушил ее равномерную осадку, и она стала постепенно клониться в сторону дороги. Рывок машины колыхнул почву, и бомба упала.
Машина снова тронулась. Взволнованные происшествием, летчики возбужденно разговаривали. Костя Домов, плотно сжав губы, молчал. Я сказал ему:
— Ты, Домаха, настоящий пророк. Из-за этой коварной бомбы и твоя встреча с Галей могла сорваться. Она, наверно, уже ждет тебя в казарме?
— Меня потрясла эта бомба. Никак не могу опомниться.
— И о Гале забыл?
— Ты что?
— А номер в гостинице заказать не забыл?
— Я договорился с нашим начальником штаба. Его жена с сыном уехала к родным. Он остался один. А квартира двухкомнатная. Одну он уступил нам с Галей.
Когда мы открыли дверь в кабинет-спальню, там на диване сидели Галя и какая-то незнакомая мне женщина. Я весело поздоровался. К моему удивлению, Домов как-то странно застыл, а точнее, остолбенел, и его правое ухо нервно задергалось. Наконец и я узнал в незнакомке Шуру, его первую жену. Ее взгляд пронзил Домова. Этот взгляд был, наверно, таким же, как 22 июня 1941 года. Сколько раз этот взгляд снился ему и терзал душу! И вот все повторилось. Только сейчас Шура была не в голубом платье, а в светлом костюме. Пока мы в растерянности стояли, она раньше всех опомнилась и деланно-любезно, словно хозяйка дома, пригласила:
— Входите, пожалуйста. Мы вас давно ждем, — и спокойно поднялась с дивана. Галя, словно ей кто-то властно скомандовал, тревожно вскочила. Она была ниже Шуры и рядом с ней выглядела совсем девочкой. Домов, не зная, как себя вести, медленно приближался к женщинам. Но Шура пришла на помощь и, кивнув на Галю, пояснила:
— Я ей многое рассказала о себе, а она мне о ваших семейных делах, — Шура сначала обняла и поцеловала Домова, потом меня, отступила на шаг, окинула нас обоих оценивающим взглядом. — Я рада за вас, за ваши боевые дела и за вашу счастливую семейную жизнь.
Шура говорила спокойно, но в этом спокойствии проскальзывали нотки тревоги и глубокого горя. Минувшая война, видимо, крепко жила в ее сердце, Галя не выдержала и со слезами на глазах кинулась к мужу:
— Костя, дорогой мой…
Много написано про любовный треугольник. И вот он, этот треугольник, изуродованный войной, смешанный с трагедией. На спинке дивана лежали две дамские сумочки и два букета. Букеты из красных тюльпанов и ландышей. Мое внимание привлекли волосы Шуры. Раньше они у нее были черными. Почему она их покрасила? Где она была эти пять лет? В концлагере? Или работала разведчицей в тылу врага? Она ведь знает немецкий язык. Многие женщины с годами теряют красоту, но лет до сорока по-своему становятся лучше, нежнее и женственнее. Шура явно состарилась. На круглом лице появились морщины. Губы заметно увяли. Сколько горя, страданий и страха надо пережить, чтобы так измениться! А ведь она ровесница Домахе.
Галя с мужем тоже глядели на Шуру.
— Изучаете меня? — с тяжелым вздохом спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Что, сильно «похорошела»?
— Не надо, — попросил Домов, но она словно не слышала его.
— Видимо, есть доля правды в народной поговорке: все, что ни делается, — к лучшему, — сказала Шура и резким жестом взяла букет тюльпанов. Он в моих глазах мелькнул, как огненная трасса в воздухе. Она разделила букет на три части, одну оставила у себя, остальные подарила Косте и мне: — Это в честь нашей Победы. Красный цвет — цвет борьбы. А мы ведь с вами солдаты.
— Так откуда ты? — не выдержал Домов. — Я считал тебя погибшей.
— И, может быть, хорошо сделал. Я уже третий год замужем за немцем. Я и муж стали партийными работниками. И столько у нас дел, что порой и спим на работе. У меня служебный деловой разговор вошел в привычку. Муж мой был фашистом, а стал коммунистом.
…Наши разведчики выдали Шуре паспорт на имя жены погибшего немецкого офицера и послали в Минск. Оттуда она уехала в Варшаву, устроилась на работу машинисткой на железнодорожной станции, с которой отправлялись поезда на восточный фронт. Здесь она и познакомилась с фашистским полковником. Весной 1943 года его перевели в группу армий «Центр» под Курск. Он просил Шуру, чтобы она поехала с ним. Наши разведчики через своих связных дали на это согласие. Там он устроил Шуру в штаб.
— Полковник — сын рабочего, токаря, — пояснила она. — Это помогло мне повлиять на него. Да он и сам после Курской битвы начал поговаривать, что войну Германия уже проиграла, что Гитлер — авантюрист. Однажды я сообщила ему, что служу в советской разведке. Он хотел меня застрелить, но я крикнула: «Какой же ты сын токаря? Ты холуй Гитлера!» — и плюнула ему в лицо. Мой плевок оглушил его. Он больше месяца не владел собой. Врач ежедневно по нескольку раз навещал его. Я опасалась, что он может в таком состояния проговориться, что я советский агент, поэтому не отходила от него. Ухаживала, как за ребенком. А когда он опомнился, пришел в себя, то спросил: «Неужели мои тридцать пять лет прожиты зря?» Нет, говорю, ты много уже поработал для Советской Армии. Все секреты, которые ты мне рассказывал, я передавала своим. Теперь настала пора тебе сознательно поработать на народ, на рабочий класс Германии, к которому принадлежал и твой отец. Вскоре мы поженились.
— А потом, после капитуляции Германии? — воскликнул Домов.
— Жили в английской зоне оккупации. Там почти трехмиллионная фашистская армия не была распущена. Американцы и англичане думали натравить ее на нас. Мы, как могли, мешали этому. А потом тайно перебрались в Восточную Германию.
Исповедь Шуры как бы приглушила у Домова внутренние переживания, которые хотя и потеряли былую остроту, но часто давали о себе знать. Он считал, что она погибла, и видел в этом долю своей вины. И теперь был рад за Шуру, за ее тяжелый подвиг разведчицы, за самого себя, за Галю… Он расчувствовался и воскликнул:
— Какая ты молодчина!
Шура торопилась. Они с мужем ехали на юг, к Черному морю.
— У меня сердце стало пошаливать. Сплю плохо. Ведь я фактически непрерывно воюю с сорок первого. И сейчас у нас, в Германии, идет идеологическая война, — Шура встала с дивана, — Извините, мне пора идти.
Мы проводили Шуру до электрички, после этого Домов с Галей ушли на квартиру, а я направился в столовую. Там ко мне подсел Елизаров. Он признался, что вчера после ужина к нему приезжала жена, сказала, что ее отец уезжает в длительную командировку и поэтому пригласил дочь с мужем к себе.
— Неудобно было отказать тестю, — с грустью пояснил Елизаров. — Выпили. Я лег отдохнуть и проспал до утра.
До женитьбы у Елизарова служба шла хорошо. Потом жена и тесть склоняли его к демобилизации из армии. Но нависшая опасность новой войны помешала этому. Летал он нормально. Стал командиром эскадрильи. И вот снова срыв. Я любил Сергея как боевого летчика и трудолюбивого, доброго человека. Но видел, что семья ему мешает. «Попробую строго наказать, — подумал я. — А потом посмотрю, как он себя поведет».
— Заснули? А Зиночка, тесть почему вас не разбудили? — спросил я. — Да и сами-то неужели не понимаете, что генеральная репетация и Первомайский парад — большое государственное дело?
— Понимаю, но так получилось…
— А где ваша воля? Зиночка, значит, вас под своим крылышком убаюкала, а тесть охранял ваш покой? Они по-прежнему хотят, чтобы вы уволились из армии?
— Жена нет, а тесть хочет.
— Я попрошу с ним поговорить замполита. Не возражаете?
— Это было бы хорошо, — поддержал Сергея.
— Договорились. А за то, что вовремя не прибыли на генеральную репетицию, лишаю вас полета ведущим пятерки. Пойдете командиром резервной пары.
— Слушаюсь, — подавленно ответил Сергей и понуро поплелся к выходу.
6.
Ясное теплое утро Первомая 1947 года казалось мне самым ответственным утром в моей жизни. Видимо, и другие авиаторы, находящиеся в тот день на аэродромах, испытывали такое же ощущение. О пролете реактивных самолетов над Красной площадью будет знать весь мир. Враги этот факт примут с горечью и раздражением, друзья — с радостью и восторгом.
Двадцать пять Як-15 заняли всю восточную рулежную дорожку Монинского аэродрома. Двадцать два взлетят, а три останутся в запасе. На всякий случай летчики выстроились перед самолетами. Я с замполитом Иваном Сорокиным приближаемся к строю. Майор Георгий Киселев командует:
— Смирно!
Все в фуражках. Красиво и внушительно, пилотки летчика как-то беднят, даже ростом делают ниже. В них блекнет мужественность, присущая авиаторам. Все в кителях с орденами и медалями. Невольно подумалось — в строю и молодость и воинская зрелость страны.
— Красивые ребята! — сказал Иван Сорокин.
— Хорошо смотрятся, — одобрительно заметил я и, приняв доклад Киселева, подал команду «Вольно!». Когда летчики сбросили физическое напряжение и приготовились слушать, спросил: — Всем задача ясна? От наземного розыгрыша предстоящего полета прошла целая ночь. Может, кто свои действия в воздухе заспал?
Никто не отозвался, но многие улыбнулись. Я посмотрел на часы и сказал:
— Через семнадцать минут запуск двигателей. Взлет по команде. А теперь не спеша расходитесь по самолетам.
Хотя я и был уверен в благополучном исходе полета, но, садясь в кабину «яка», вспомнил столкновение с вороной, и тревожная мысль неприятным холодком обдала меня. Полк будет пролетать над лесными массивами и парками, над реками Яуза и Москва, над Химкинским водохранилищем. В этих местах немало птиц. А лететь будем очень низко.
Полк взлетел быстрее положенного и взял курс на Мытищи. Над Медвежьими озерами летели уже сомкнутой парадной колонной. Страхуясь от птиц, я держал пока высоту пятьсот метров. Над Мытищами увидел городок Химки, где был установлен особый маяк — зеркальный отражатель. Его солнечный зайчик игриво блестел. Над ним все полки на высоте триста метров должны встать в общую парадную колонну и взять курс на Красную площадь.
Прекрасная видимость облегчает задачу. Я хорошо вижу, как первые четыре полка над Химками выстраиваются в колонну. Их командиры так точно по времени вышли на первый контрольный ориентир, что мне теперь незачем на него смотреть и сверять время по часам. Над зеркальным зайчиком, регулируя скорость и темп разворота, полк займет свое место в строю.
Разворачиваясь на главный курс, вижу, как пятерки «мигов», скользят по последней прямой. Впереди меня красиво идет пятерка «яков». Дальше за пятеркой мне уже ничего не видно: колонна вытянулась в прямую линию. Я даже не могу взглянуть на своих летчиков. Мне важно выдержать нужную дистанцию и высоту относительно впереди идущей пятерки. Она увеличивает скорость. Мой глаз это улавливает, и я тоже прибавляю скорость. Земля подо мной уже не плывет, а от огромной скорости быстро мелькает.
На генеральной репетиции я видел зеркальный маяк на площади Маяковского. Теперь же только ведущий общей колонны смотрит на него и вводит нужные коррективы. Допущенная им неточность будет общей ошибкой. Качество пролета всей колонны сейчас зависит от командира ведущей пятерки подполковника Прокопия Акуленко. Он возглавлял Центр переучивания на реактивные самолеты, а теперь летит ведущим на параде, первом таком параде в нашей стране.
Мое внимание настолько было сосредоточено на летящей впереди пятерке, что я не заметил, когда под нами промелькнула Красная площадь. Лишь в тот момент, когда эта пятерка начала разворачиваться влево и набирать высоту, я понял, что Красная площадь и вся Москва остались позади. Расслабившись, с облегчением взглянул на плотно прижавшихся ко мне летчиков, улыбнувшись, плавно перевел машину в набор высоты и передал по радио:
— Все! Теперь домой!
После посадки я выключил двигатель и почувствовал, что от напряжения весь взмок. Сняв шлемофон, сразу же выскочил из самолета и так, с открытой головой, любовался приземлением своих подчиненных. Двадцать пять «яков» снова встали в одну линию. Перед ними в ожидании команды на построение сгрудились летчики. Я внимательно оглядел ясное небо. Высоко поднявшееся солнце приветливо сияло, словно своими ласковыми лучами благодарило нас. И сама небесная голубизна была умиротворенно-тихой. И вид летчиков-победителей говорил об их торжественном и радостном настрое. Особенно сиял руководитель полетов Борис Константинович Висковский. Да разве мог он быть равнодушным, если сумел в минимально возможное время поднять полк в воздух, а затем оперативно посадить истребители!
— Я еще не знаю случая, — горячо говорил он, — чтобы двадцать самолетов сели так быстро. Это не летчики, а какие-то сверхасы.
После полета полагается произвести его разбор. Зачем? Похвалить летчиков? Но сам успешно проведенный парадный полет выше любых лестных слов. Это все чувствуют. И я решил поговорить с летчиками и техниками полка после получения от генерала Сбытова особых указаний, о которых он сказал мне после генеральной репетиции. На характер указаний он тогда даже не намекнул. Все стало ясно вечером, когда командующий позвонил по телефону:
— Напишите на всех летчиков, участвовавших в параде, представления к награждению орденами. Из технического состава отберите тех, кто особенно хорошо работал. С сегодняшнего дня до десяти часов третьего мая личному составу полка предоставьте отгул, а к пятнадцати часам того же дня всем летчикам быть готовыми к отъезду на прием в Кремль. Из технического состава приглашаются инженер полка Косицкий, начальник штаба Иванов и по вашему усмотрению один техник. И еще. Летному и техническому составу надо подготовиться к конференции по реактивным самолетам. Время и место проведения сообщу дополнительно. Вопросы и просьбы есть?
— Есть. Разрешите летчика Домова представить к присвоению звания Героя Советского Союза? Он этого достоин за участие в боях на Халхин-Голе, в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. Сбил шестнадцать самолетов врага. Участник партизанской войны в Белоруссии.
— Не время… — после паузы генерал сказал, что об этом надо было хлопотать раньше.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1947 года 163 авиатора (и среди них 110 летчиков) за освоение новой техники были награждены орденами.
7.
После командировки мы возвращались на свой аэродром в Белоруссию. Еще с воздуха я заметил, как сильно поредела стоянка самолетов. Это удивило меня. Накануне вечером я разговаривал по телефону с командиром дивизия Правдиным, и тот сказал, что все на своих местах, что идет нормальная работа. Но где же техника? Может, с утра по тревоге началось какое-то учения и часть полка перелетела на другой аэродром?
Ли-2 сел. Под звуки работающих двигателей, словно под музыку, Сергей Елизаров, Николай Захарченко, я и Федор Иващенко вышла из самолета и сразу почувствовали особый аромат цветущего летного поля. После шума моторов мы захлебнулись тишиной, молча огладывали аэродром и примыкающие к нему рощи. Подъехала легковушка. Из нее вышел майор Алесюк и доложил, что полк занимается предварительной подготовкой к завтрашним полетам. У меня невольно вырвалось:
— А где остальные «лавочкины»?
— Сгнили и списаны.
Мы были удивлены, но Александр Константинович не стал об этом больше говорить, пригласил всех в машину. Елизаров, Захарченко и Иващенко ушли в столовую, мы с Алесюком поднялись в кабинет, где я и услышал печальную историю. В марте у самолета Александра Кретова при выруливании со стоянки на старт отвалился хвост. Полеты пришлось прекратить. Инженер полка выяснил, что причиной разрушения хвоста стал износ древесины.
— Хорошо, что хвост разрушился на земле, а не в воздухе, а то была бы беда, — вздохнул Алесюк.
…Вспомнился декабрь 1945 года. Тогда я прилетел на аэродром и обратил внимание, что истребители полка стоят хвостами на опушке березовой рощи, и спросил инженера Спиридонова: «А хвосты машин не погниют от влаги?» «Нет, — заверил инженер. — Истребитель хотя и деревянный, но крепкая птаха, вся пропитана клеем».
— Теребилов вызвал заводскую комиссию, — продолжал Алесюк. — Каждую машину проверяли особой аппаратурой. Оставили только те, которые не вызывали никакого подозрения. Машины выпуска сорок четвертого года забраковали без проверки. Члены комиссии были возмущены, что бывший инженер полка Спиридонов как будто специально гноил самолеты, уткнув их хвостами в лес. А по секрету председатель комиссии сказал, что наш полк должен получить цельнометаллические Ла-девятые, а Ла-седьмые списать.
Летчики любят новые самолеты. Я считал, что, раз из полка трое летчиков и техник вызваны для обучения на реактивных машинах, значит, полк вскоре получит их. А выходит, придется летать, как и прежде, на поршневых «лавочкиных». Это сообщение меня огорчило. Но я решил успокоить себя и Алесюка:
— Наверно, это сделано правильно: наш аэродром для реактивных самолетов не пригоден. Для них нужна бетонная полоса или с железным покрытием. У нас такую вряд ли будут строить: жилья нет.
Алесюк продолжал рассказывать о делах полка:
— Начинаем благоустраиваться. Начальник лагеря военнопленных продал нам семьдесят столов и много стульев. У них хорошие столярные мастерские. Так что штаб мы обставили, оборудовали два класса. Несколько столов и стульев отдали офицерам. Денег для хозяйственных нужд за этот год в полку еще осталось поредостаточно. Строители обещали сдать к Новому году восьмиквартирный дом. — Помолчав, Александр Константинович спросил: — А вы с Елизаровым и Захарченко завтра будете летать?
— Обязательно! — И я попросил, чтобы Алесюк запланировал нам по два полета по кругу и один в зону. — Поршневые «лавочкины» сложнее, чем реактивные.
Когда вышли из штаба, Алесюк поинтересовался:
— Как вас принимал Кремль? Сталина видел?
— Видел, — ответил я и на всякий случай посмотрел, нет ли кого поблизости. — А со Сталиным даже имел личный разговор. И с его сыном Василием. Как ни странно, самым неприятным осадком на душе от этой командировки осталась эта встреча…
Алесюк тоже осмотрелся:
— Да ну?! Давай рассказывай!
— Все шло обычно: произносились тосты и раздавались аплодисменты. В середине застолья вдруг кто-то меня похлопал по плечу. Обернулся: стоит генерал-майор авиации. Небольшого роста, щупленький. Я встал, хотел представиться, но он опередил:
«Я генерал Сталин. Мы с папашей договорились, чтобы ты выступил от летчиков и рассказал о реактивных самолетах».
О Василии Сталине я только слышал, видеть его не доводилось, — продолжал я. — От его слов сначала опешил, но тут же решил: а почему бы и не выступить? Да и нельзя отказаться. Сам Сталин с сыном решили.
«Слушаюсь!» — ответил я.
Сталин с Молотовым сидели вместе в торце длинного стола. Мы направились к ним, но Берия рукой преградил нам путь. Василий резко отшвырнул его руку и зло упрекнул:
«Ты всегда мне мешаешь!»
— А что это значило? — спросил Алесюк.
— Я ничего, не понял. Представился Сталину. Он внимательно посмотрел на меня и медленно проговорил:
«Прошу вас, товарищ Ворожейкин, сказать свое мнение о новых реактивных самолетах. Только прошу — свое личное мнение».
Когда мы отошли от Сталина, ко мне вплотную подошел уже пожилой мужчина в гражданском и тихо, почти шепотом, сказал:
«Я полковник госбезопасности. Прошу, товарищ Ворожейкин, откажитесь от слова. Прошу, как отец сына».
— Странно, — заметил Алесюк.
— Очень, — согласился я. — После парада я немного простыл, и у меня появилась в голосе хрипота. А тут совсем пересохло, в пот бросило. И я сказал Василию Сталину, что не могу говорить: охрип.
«Струсил! — упрекнул он и грубо выругался, потом спросил: — Посоветуй, кто из летчиков может хорошо выступить?»
«Акуленко, начальник Центра переучивания».
— Так кто же от реактивщиков выступил? — спросил Алесюк.
— Никто, — ответил я. — И дело, по-моему, в обмане. Сталину не было известно, что на реактивных истребителях вместо пушек стоят металлические болванки. А Берия не хотел, чтобы он об этом узнал.
С Алесюком я распрощался у его дома и пошел к себе. Как только открыл калитку во двор, сразу увидел Валю. Они с Верой высаживали в грядки рассаду помидоров. Оля ползала рядом.
Я тихо подошел:
— Слава труженицам!
Жена вздрогнула и выпрямилась. Какое-то мгновение она молчала, сияя от радости, потом упрекнула:
— И не сообщил, что прибудешь…
— Так получилось. Но это к лучшему: неожиданность усиливает радость встречи. Так ты писала мне. — И, взглянув на застывшую в недоумении младшую дочку, спросил: — Правильно, Оленька?
У девочки задрожали губы, она потянулась ручками к матери.
Но Валя не взяла ее, а только погладила по голове. От радости, что дочка не заплакала, я начал подбрасывать ее вверх, и она заулыбалась, а Вера, стоя около нас попросила:
— Папочка! И меня тоже подкинь!
Что может быть в жизни приятнее таких встреч! Разлука не только проверяет, но и крепит настоящую любовь. Встреча принесла нашей семье столько новых красок, неповторимых чувств, что весь остальной мир на какое-то время остался вне наших ощущений.
«Ищите женщину…»
1.
Совещание в Главном штабе Военно-воздушных сил, на которое я был приглашен, открыл главнокомандующий маршал авиации Константин Андреевич Вершинин.
— Нам предстоит, — сказал он, — проверить готовность авиационных заводов к выпуску новых реактивных самолетов. Военные приемщики сжились с заводами, не замечают недостатки. Они во многом лично зависят от руководства заводов, — взгляд маршала стал строгим. — Такое положение нельзя считать правильным. Любая зависимость человека от кого-либо ведет его к подчинению, к снижению требовательности.
…Мне невольно вспомнился май сорок третьего. Тогда наш истребительный авиаполк получил новые самолеты Як-7Б. А вскоре с их крыльев в полете начала слетать обшивка. Причиной «раздевания» стало нарушение заводом технологии работ. Была в этом вина и представителей военной приемки. К нам прибыли заводские рабочие. День и ночь работали они, чтобы исправить дефект. И в Курскую битву мы вступили на исправных, надежных истребителях.
А маршал между тем продолжал:
— Объективнее всего заводы могут проверить знающие люди. Прошу встать участников Первомайского парада на реактивных истребителях.
Из летчиков поднялся один я. Вершинин с удивлением взглянул на своего заместителя по боевой подготовке генерал-лейтенанта Степичева:
— Почему только один? Разве остальные летчики не освоили реактивные машины?
Степичев пояснил:
— Инспекторы не участвовали в параде. А майор Ворожейкин скоро будет переведен к нам. Но почти все летчики, кто выделен для проверки авиазаводов, летали на реактивных самолетах, а инженеры изучали реактивную технику.
— Что значит «почти все»? Выходит, проверять готовность заводов к выпуску реактивных самолетов будут инспекторы, которые сами не работали на них? Это неправильно. Задача инспекторов сложная, нужно вникнуть во всю заводскую жизнь. Недавно начался выпуск бомбардировщиков Ту-4. По дальности полета они не уступают американским. Такие машины мы не собирались делать, но международная обстановка после войны резко изменилась и вынудила форсировать выпуск своих дальних четырехмоторных бомбардировщиков.
Я был включен в группу, которую возглавлял Герой Советского Союза подполковник Щиров Сергей Сергеевич. Среднего роста, плотного сложения, лицо смуглое, полноватое. Черная шапка вьющихся волос придавала его облику что-то цыганское. Говорил он спокойно, но с некоторой властностью. В черных глазах часто проскальзывала какая-то тревога, казалось, он вот-вот сорвется на злой и крикливый тон.
Август стоял жаркий. На вокзале при выходе на перрон я встретился с Щировым и его женой. Она была весьма привлекательная, шеголеватое шелковое платье подчеркивало ее великолепную фигуру.
— Знакомься. Моя жена, — представил ее Щиров.
— Софья Матвеевна, — сказала она с приятной улыбкой и протянула руку.
Пожимая ее мягкую ладонь, я физически ощутил повеявший на меня аромат сирени и невольно подумал, насколько эти духи гармонируют с ее внешностью.
— Везет офицерам, которые имеют таких прекрасных боевых подруг, — сказал я и, чтобы не показаться сентиментальным, сделал ударение на «боевых подругах».
Обычно такая похвала заставляет женщину улыбнуться. Улыбнулась и Софья Матвеевна, но тут же на ее лицо легла тень тяжелой грусти. Силой воли она как бы смахнула с себя эту набежавшую тень, снова мило заулыбалась и скорее утвердительно, чем вопросительно, ответила:
— Но и Сережа такой видный мужчина.
Я никак не мог предположить, что мой комплимент может обидеть такую прелестную женщину, и поспешил сгладить свою восторженность первыми пришедшими на ум словами:
— Конечно, конечно! Вы достойны друг друга!
К моему удивлению, у Сергея Сергеевича при этих моих словах вырвался тяжелый вздох и непонятное мне осуждение:
— Красавица, красавица…
Вид и слова Щирова меня насторожили. Я понял, что невольно коснулся больного места. Видимо, виной всему ее красота. Ведь красота жены не всегда становится счастьем мужа. Может, лестные слова, подобно моим, им уже надоели и только раздражают их? Я хотел было извиниться, но Щиров опередил меня, поспешно обнял жену, заторопился:
— Нам пора садиться.
— Да, да, пора, — согласился я, хотя до отхода поезда оставалось еще минут пятнадцать.
Глядя на статную фигурку одиноко стоящей на перроне женщины, я с острой отчетливостью вспомнил трагедию, происшедшую в годы войны…
На фронте всегда самочувствие лучше, если оружие под рукой, поэтому мы всегда торопились к самолетам. Но на этот раз я застыл, увидев необычную картину: наш аэродром был усыпан одуванчиками. Три девушки — Надя Скребова, Тамара Кочетова и Аня Афанасьева, — служившие в полку авиаспециалистами, сплели из цветов венки и кокетливо любовались собой. Золотистые кольца венков были похожи на сказочные короны, а девушки, одетые в синие комбинезоны, — на прелестных фей. Заслышав мои шаги, они растерялись.
— Ой, товарищ майор, — по-ивановски окая, быстрее всех опомнилась Надя Скребова. — Мы вас и не заметили.
Я хотел сказать, чтобы они сидели, но опоздал. Девушки, как и положено солдатам, стояли в полной форме, держа в руках только что сплетенные венки. На зардевшихся лицах виноватая застенчивость и ожидание. Они, видимо, приготовились выслушать порицание. В этот момент в воздухе родился подозрительный шум. Зловещими крестами к аэродрому приближались черные тени. По конфигурации и маневру нетрудно было догадаться, что это «фоккеры». С приглушенными моторами они пикировали на нашу стоянку. От них отрывались бомбы, которые должны были упасть на середину летного поля. Сзади четверки, вытянувшись в колонну, неслась основная волна фашистских истребителей.
Мы оказались в ловушке. Взлетать нельзя, до щели, вырытой метрах в двадцати от самолета, не успеешь добежать. Прыжок с крыла — и я за насыпью капонира, в неглубокой выемке. Рядом со мной техник Мушкин. От взрывов бомб тяжело охнула и застонала земля. Казалось, раскололось небо, и из него хлынула лавина бомб, снарядов и пуль. Прижавшись ко дну выемки, я смотрел вверх, где один за другим проносились лобастые тела «фоккеров». Рядом с нашим убежищем вспыхнул бензозаправщик.
— Бежим в щель, — кричу Мушкину.
Но в этот момент над нами рассыпались контейнеры с мелкими бомбами. Широко разлетевшись, они черной тучей падали на нас. Жизнь меня приучила не подчиняться смерти и бороться до конца, пока есть силы. Безвыходного положения в небе не бывало, а вот на земле…
Мне хочется уйти в землю и спрятаться в ее глубинах, но она какая-то открытая, твердая и безразличная ко мне. Нет, даже не безразличная — она, словно на ладони, приподняла меня и держит перед бомбами, не давая укрыться. Какое-то оцепеняющее равнодушие и покорность сковали меня. Только мысль, оторванная от тела, продолжала жить. Война — риск. Нет, не только риск, но и верная смерть. И я гляжу на нее. Не в моей власти что-либо сделать. Ни опыт, ни знания, ни воля — ничто не поможет. У меня одна возможность: принять смерть. И я жду. А время словно застыло. Нет солнца, нет неба — есть только чувство конца. Взрывы, огонь, едкий дым…
Отчетливо слышу тишину. Но ведь мертвые не должны слышать. Но я чувствую еще и сильное жжение в правой ноге, хотя мертвые, наверное, ничего не чувствуют. Значит — жив! Рывок — и я на ногах. На западе, за Тернонолем, виднеются уходящие вражеские самолеты. Рядом стоит Дмитрий Мушкин и сверху вниз смотрит на меня. А на земле лежат девушки с венками. Лежат неподвижно, и из-под них выползают алые лепестки. Глаза у девушек спокойные, лица чужие, видны глубокие рваные раны. И тут только доходит до меня, что красными лепестками уходит из девушек жизнь.
Наклоняюсь к Наде Скребовой, но подкашивается правая нога, и я валюсь на бок. Резкая боль. Из голенища сапога через край льется кровь. Я чувствую слабость и безразличие ко всему окружающему. Мушкин, сняв с себя поясной ремень, туго перетягивает мою раненую ногу. Кто-то копошится у меня на груди, показывает металлический осколок от бомбы. Я беру осколок в руки. Он в крови. Откуда же кровь, если на моей груди нет раны?
2.
Несколько дней мы знакомились с заводом, беседовали с рабочими и руководителями. Часто нас, представителей Москвы, засыпали вопросами, в которых звучала тревога за судьбу Родины. Люди возмущались, что их завод не переключился полностью на производство самолетов-истребителей. Рабочие вспоминали визит в США премьера Англии Черчилля, его призывы к американцам начать крестовый поход против СССР. Америка, говорили они, имеет атомные бомбы, а у нас их нет. Может случиться трагедия ужаснее, чем в сорок первом. Однажды ко мне подошел в цехе рабочий:
— У вас, товарищ майор, две Золотые Звезды. Вы с честью прошли через невзгоды войны. Скажите, как солдат солдату, почему наш завод не переключается на выпуск боевых самолетов? Значит, войны в ближайшие годы не предвидится?
Вопрос для меня не был неожиданным. Он волновал всю страну, но никто на него не мог ответить определенно. У всех в памяти была свежа прошедшая война. Народная мудрость гласит: когда войну забывают, начинается новая. А мы ее не просто помнили, мы видели ее следы, восстанавливали разрушенные села, города, заводы. Существовала карточная система на продовольствие и промышленные товары, поэтому пришлось армию резко сократить, а военные заводы перевести на выпуск стиральных машин и пылесосов.
— Капиталисты, — ответил я рабочему, — развернули «холодную войну», а это подготовка к «горячей». В такой обстановке мы должны быть бдительны. А что касается кастрюлек и сковородок, то и эта «техника» нам сейчас нужна не меньше, чем самолеты.
Рабочий не без иронии заметил:
— Кастрюлями отобьемся??
Это задело меня за живое, и я, позабыв о секретности, откровенно сказал:
— Нет, самолетами. И не такими, какие выпускали вы. Будете делать реактивные истребители. Лучше, чем те, какие впервые в этом году пролетали над Красной площадью. Именно ваш завод должен начать выпуск этих самолетов. Это я вам говорю по секрету, как солдат солдату. И вы мне откровенно скажите: вы, рабочие, и ваше руководство готовы к этому?
— Конечно готовы! Только был бы приказ.
На другой день я познакомился с летчиками-испытателями, проверил их летную документацию. В плане значился и мой полет с ведущим летчиком майором Иваном Буровым. Бурову тридцать четыре года. На груди орден Красной Звезды и медаль «За трудовую доблесть». Я поинтересовался:
— На фронте заработали?
— Нет! — резко ответил он с обидой. — На фронт меня не пустили. Всю войну в тылу испытывал истребители.
— Испытание самолетов тот же фронт, — я ответил так, как обычно писалось во время войны в газетах о тружениках тыла.
— Федот, да не тот! — убежденно заявил Буров. — Такие ответы писались на всех моих рапортах, в которых я умолял послать меня на фронт. У меня двое ребят, теперь они, как и все дети, спрашивают меня о войне, а мне ответить нечего.
Я посочувствовал Бурову, вспомнив, как в 1942 году в академии меня за такой же рапорт привлекли к партийной ответственности. Потом просмотрел топографическую карту, на которой рукой летчика был отмечен маршрут нашего полета на двухместном истребителе, сделаны необходимые расчеты. Когда я одобрил его работу, он порывисто и с пренебрежением воскликнул:
— Это же наука для первоклашки! Другое дело — пилотаж!
— Бывает, теряют ориентиры и очень опытные летчики.
— Да я по этому маршруту пройду с закрытыми глазами: тут все мной облетано-переоблетано. — Буров говорил быстро, словно куда-то спешил. — Каждая балочка, деревушка и кустик мне знакомы до чертиков. К тому же Волгу с высоты можно видеть за сотню километров.
Откровение летчика я не воспринял как чрезмерную самонадеянность. Это выплеснулась сама опытность и душевная откровенность, и я с ним согласился. Мне не доводилось испытывать заводские самолеты и видеть эту работу. Сейчас это дело меня заинтересовало. Чтобы прочувствовать такой полет и проверить профессиональную работу Бурова, я поставил ему задачу:
— Когда придем с маршрута, выполните два комплекса фигур высшего пилотажа: один согласно Курсу боевой подготовки истребительной авиации, а другой — свой, испытательный, после которого машина считается принятой.
— Хорошо! — глаза его задорно сверкнули. — Сегодня я сделал всего один полет по кругу. Даже как следует не размялся, — и летчик, как бы испытывая удовлетворение от предстоящего пилотажа, даже невольно подвигал плечами, в которых чувствовалась сила.
Мы в небе. Я в задней кабине, проверяемый — в передней. На первом отрезке маршрута Буров набрал высоту и ни разу не оглянулся назад. Правда, перед ним установлено зеркальце, но оно не дает полного обзора. Боевому летчику нужно постоянно крутить головой и накренять самолет. Иначе вражеский истребитель, прячась за заднюю нижнюю часть самолета, окажется незамеченным и нанесет удар.
Сейчас не фронтовое небо, но военный летчик в воздухе должен постоянно находиться в боевой готовности. И эта готовность должна стать его инстинктом. На Халхин-Голе к нам прибыл опытный летчик-испытатель и погиб в первом же вылете из-за своей неосмотрительности. Вот почему мне не понравилось беспечное поведение моего проверяемого.
До первого поворотного пункта испытатель набрал высоту пять тысяч метров. На такой высоте он прошел и остальные два отрезка маршрута, прошел точно по намеченному пути и расчетному времени, но ни разу не оглянулся назад. При подходе к аэродрому спросил меня:
— Разрешите выполнить пилотаж?
— Разрешаю. Но сначала внимательно осмотритесь и запросите согласие стартового командного пункта.
Пилотаж! Он наглядно показывает не только профессиональную выучку летчика-истребителя, но и его характер, а также физическую натренированность. Первую часть задания Буров выполнил чисто, хотя и без той плавности, какая полагается. Временами он слишком резко двигал рулями: сказывался его энергичный, порывистый характер. Но здесь, в пилотировании, свое летное «я» допускалось.
Испытательный комплекс фигур Буров выполнил с большими перегрузками. Порой у меня на глаза наползали веки. А на петле Нестерова он так закрутил вертикальное кольцо, что у меня не только невольно закрылись глаза, но от перегрузки заныла поясница, не раз поврежденная на фронте. Я хотел было подсказать летчику, чтобы он без натуги выполнял фигуры высшего пилотажа, но воздержался: я же сам дал ему задание показать уровень испытания. Правда, спросил:
— А машина не деформируется?
— Нет! Я не допускаю предельных перегрузок, — быстро ответил он. — Это проверка машины на прочность.
Когда испытатель закончил пилотирование и стал снижаться на посадку, моя поясница уже ныла вовсю. Да, испытателем по здоровью я быть не могу. А летчиком? Формально тоже. В 1939 году из-за повреждения поясницы в боях на Халхин-Голе я был списан госпитальной комиссией с летной работы. Однако летаю. Боль возникала и проходила. Пройдет и сейчас. А может, Буров перестарался с перегрузками? Бывает, что при проверке техники пилотирования перебарщивают и летчики строевых частей. Нет! Буров действительно проверяет истребитель, а заодно получилось, что он и меня проверил на прочность.
Зарулив на стоянку, летчик выключил мотор, открыл фонарь кабины, расстегнул привязные ремни, снял шлемофон. Техник подал нам фуражки. Мы надели их, и испытатель с раскрасневшимся лицом устало доложил:
— Майор Буров ваше задание выполнил. Разрешите получить замечания?
— Замечание есть, правда, оно может показаться вам несущественным. В полете вы ни разу не повернули голову назад. С такой осмотрительностью на фронте делать нечего. Сразу собьют. А задание по маршруту и пилотаж в зоне выполнены отлично.
— Спасибо!
Прежде чем пожать друг другу руки и разойтись, я поинтересовался:
— У меня порой от перегрузок наползали веки на глаза. А у вас?
— Тоже. Они ведь летчика не слушаются, подчиняются только перегрузкам. Главное в такие моменты — не потерять сознание. Но я знаю свои возможности и возможности машины. Скоро обещают создать прибор перегрузок, тогда наша работа будет поставлена на научную основу.
— Сейчас летаете, наверно, маловато? — поинтересовался я.
— Да. Вот во время войны уставал так, что едва домой добирался. Летчику-испытателю надо иметь одну особенность: никогда не красоваться в небе, а работать на пределе своих сил. Только так можно правильно проверить самолет на прочность, маневренность и управляемость. — Иван замолчал, видимо обдумывая, говорить или не говорить, однако решился: — Но думаю оставить завод. Здесь работа только с машинами. А мне нравится учить людей летать. По образованию я не только летчик, но и учитель. Думаю написать рапорт, чтобы меня перевели в строевую часть.
«И он прав, — подумал я. — Ведь смысл жизни именно в преодолении трудностей, в душевном росте человека».
3.
За неделю проверку завода мы закончили. Свой материал о летно-испытательной работе я написал и отдал старшему нашей группы, а сам поехал в городской драмтеатр. Щиров остался оформлять материал проверки завода: утром мы должны совместно обсудить его, сделать с руководством завода и военными представителями разбор и уехать в Москву. Билеты были на руках.
У трамвайной остановки ко мне подошла незнакомая девушка. Она, видимо, наблюдала, откуда я шел, и любезно, с милой улыбкой спросила:
— Товарищ майор! Вы не знаете, случайно, подполковника Щирова? Он живет в заводской гостинице, — и рукой показала в сторону гостиничного здания.
— Знаю. А вы что, родственница ему?
— Да нет, — она замялась и чуть смутилась.
Девушка высокая, худая, с комически броским большим носом и сухим, вытянутым лицом. Правда, ее некрасивая внешность сглаживалась милой улыбкой. В разговоре с ней я уловил оканье и, чтобы сгладить ее смущение, спросил:
— Вы не горьковчанка?
— Да. Из Горького.
— Я тоже из тех мест. Выходит, мы земляки. Может, познакомимся?
Девушка непроизвольно повернула голову в сторону заводской гостиницы и торопливо протянула руку:
— Лина.
— Арсений, — представился я. — Да не придет ваш Сережа, он занят.
Она хмуро взглянула на меня и произнесла с обидой:
— Он же обещал.
— Ну зачем так обижаться? У него срочная работа.
— Мог бы прийти и сказать мне об этом. Здесь же совсем рядом.
— Если нужно что-нибудь передать, скажите, я это сделаю. Кстати, вы давно его ждете? Может, еще придет?
— Давно, — с огорчением ответила она и печально вздохнула. — Мы с ним договорились сходить в драмтеатр. У меня два билета.
— Я тоже еду в этот театр. Оказывается, мы попутчики.
После театра я проводил Лину домой. Она дала мне домашний телефон и попросила передать Сергею, чтобы тот позвонил ей. На другой день, возвращаясь из столовой в гостиницу, я рассказал Щирову о встрече с Линой.
— Отбил, значит? — усмехнулся Сергей.
— Но ты сам виноват, обещал ее встретить, а не вышел из гостиницы, — пошутил я. — Вот с обиды она изменила тебе и все рассказала про вашу любовь.
— И про гостиницу?
Я понял, что она была у него в гостях, и продолжал фантазировать:
— Говорила, что ночевала у тебя.
— Вот болтушка.
— Но как ты мог променять свою жену на такую носатую «красавицу»?
— Красота, красота, — сморщился Щиров.
— Лина дала мне телефон, просила, чтобы ты ей позвонил.
— Давай запишу, — равнодушно отозвался Сергей.
— Но ведь семья — родник человечества, она требует чистоты, иначе общество загрязнится.
— Ты, философ, прав, — согласился Щиров. — Я где-то читал, что любовь на время, а жена навсегда. Но ты живешь своей жизнью, а я своей, и тебе меня не понять. Красоту я ненавижу, а жить хочу, — Щиров ушел в себя. На лицо его набежала грусть. Он тяжело вздохнул, и у него непроизвольно вырвалось: — Прошу тебя, больше никогда не спрашивай меня о жене!
Странно, отметил я про себя, о жене слышать не хочет, о Лине говорит с удовольствием. Гнев плохой помощник в семейных делах. Мне его вспышка гнева показалась бессмысленной и бестактной. Может, это результат войны? На войне никто не был уверен, что с ним случится завтра. И этой неуверенностью война порой ломала характеры. Люди сходили с колеи, отчаянье толкало их к пьянству, к случайным связям.
До гостиницы он шел молча, в задумчивой отрешенности. Я тоже молчал, понимая, что с женой у него тяжелый разлад.
После командировки я уехал отдыхать в Алупку, где снова встретился с Щировым и его женой. Оба веселые, радостные. Я часто с ними был на пляже, мы вместе купались. И все же странный разговор в городе на берегу Волги у меня иногда возникал в памяти, хотя сентябрьское солнце, горы, лес и теплое море, что называется бархатным сезоном, растворяли эти мысли.
Обычно большинство отдыхающих после мертвого часа спускались к морю купаться или просто подышать морским воздухом. Щировы всегда после дневного отдыха шли к морю. А в этот день перед ужином я увидел Щирова и Софью на автобусной остановке.
— Куда вы?
Щиров был нетрезв
— В Москву. Вызвали ее…
Вспомнил просьбу Щирова никогда не спрашивать о жене и, не зная, что сказать, молчал. Они поднялись в автобус. Женщина, сопровождающая отдыхающих, упрекнула их:
— Нельзя так задерживаться. Из-за вас мы должны до самого Симферополя ехать без остановок, иначе можем опоздать к поезду.
Щиров вышел, автобус тут же тронулся. Софья в открытое окно махала рукой, но Сергей стоял спиной к машине.
— Повернись, жена прощается с тобой, — я тронул его за плечо.
Но тот гневно бросил:
— Пусть катится!
Когда автобус скрылся из глаз, я спросил:
— Пойдешь на ужин?
— Мы ужинали, — ответил он и тихо, со слезами объяснил: — Соня работает в штабе машинисткой. Печатает документы особой важности. Уговаривал не ехать. Не послушалась.
Женские слезы у меня всегда вызывали грусть и жалость, мужские — злость. Я не выдержал:
— Вот уж не предполагал, что ты слизняк!
Сергей промолчал, но слезы вытер. Я подумал, что он просто не владеет собой, и предложил:
— Иди к себе и ложись спать. Утро вечера мудренее.
Я чувствовал, что с Сережей творится неладное. Он словно угадал мои мысли:
— Не подумай обо мне плохо. Я люблю Соню, и она меня, но обстоятельства сильнее нас. Я порой боюсь ее, хотя мы раньше жили душа в душу… — его словно кто-то с опасной властностью одернул, и Сережа сник. Молча взъерошив густые волосы на голове, он тихо, с какой-то непонятной для меня внутренней болью и страхом выдавил: — Эх, жизнь…
Возвращаясь из санатория, я заехал в Москву к старому своему приятелю майору Петру Варнавовичу Полозу. Мы с ним дружили еще с Халхин-Гола, вместе воевали в Берлинской операции, участвовали в почетном эскорте двух истребительных авиаполков, которые сбросили знамена на Берлин. В войну он служил в гвардейском полку, который теперь возглавил я.
Ехал к нему домой с опаской. Я знал, что его жена — женщина неуравновешенная, властная. У них возникали частые ссоры, поэтому сразу же поинтересовался:
— А где твоя женушка?
Он с грустью опустился на диван и показал рукой на вторую комнату:
— Там. Мы развелись. Нашла хахаля с большими деньгами.
— С тобой живет, здесь?
— Да.
Я внимательно посмотрел на товарища и только теперь заметил, как он похудел. Цвет поношенной пижамы было трудно определить, а тапочки и без того невысокого Петю сделали совсем маленьким. Всегда спокойный, уравновешенный, сейчас он говорил зло и с раздражением:
— Ты бы только знал, какая это женщина! Злая. Ленивая. Я все хозяйство вел, продовольствие покупал, готовил еду, полы мыл. А она только и знала спать да красоту наводить.
Вскоре стол был накрыт: мясная тушенка, капуста, черный хлеб. Оглядев угощение, он сказал:
— Это я получаю по карточке. А из армии уволился из-за язвы желудка и сильной аритмии.
Я знал только про его язву, поэтому спросил:
— А сердце-то отчего забарахлило?
— Забарахлит, когда женушка в тюрьму упрячет.
— За что? Что ты натворил?
Долго мы с ним сидели, он тихо и печально рассказывал свою трагедию. С женой жил плохо. В один из осенних вечеров возвратился с работы раньше обычного. Жены еще не было. Приготовил ужин, взял книгу. Жена пришла поздно. Застав его за чтением, зло бросила:
— Лодырь! Все читаешь, а ужин не приготовил!
— Ужин готов, а вот где ты гуляла…
— Ах ты негодник! Я гуляла?! — она начала хлестать его руками по лицу. Он схватил ее за руки, завел их за спину. — Помогите! Убивают! — истошно закричала она.
В комнату ворвались двое здоровенных парней, схватили его, но Петр вырвался — в злобе силы человека неизмеримо увеличиваются. Он схватил попавший под руку нож:
— Зарежу! Не подходите!
Парни вышли. Жена тихо и мирно стала уговаривать:
— Петя, успокойся, — усадила на диван, взяла нож.
В этот момент в комнату вошел врач и те два парня. Не успел он опомниться, как на него надели смирительную рубашку и отправили в психиатрическую больницу…
— Ты серьезно или шутишь? Сам же говорил, что она тебя упрятала в тюрьму? — спросил я.
— Для меня психиатричка была хуже тюрьмы. Я был возмущен, ничего не ел. Всем врачам твердил, что не сумасшедший. Они поддакивали: «Хорошо, хорошо. Успокойтесь, и все прояснится». Сколько труда стоило себя сдерживать, — продолжал Полоз. — От этого у меня и появилась аритмия. Сердце к несправедливости чуткое.
— А как же ты вырвался из больницы?
— Допустили ко мне Лешу Пахомова. У него кто-то из родственников работает на самом верху. Он и вызволил меня.
Мы расстались, и больше встретиться нам не пришлось. Вскоре Петр Полоз умер…
Его судьба напомнила мне войну. Февраль 1943 года. Калининский фронт. К нам в полк прибыли молодые летчики. Мы, уже повоевавшие, вводили их в строй. У лейтенанта Гриши Тютюнова дело не ладилось. После дополнительной летной тренировки мне было поручено проверить его и дать свое заключение о его допуске к полетам. Задание было обычным — слетать по маршруту, а при возвращении на аэродром провести воздушный бой.
Полетели. Погода безоблачная. В утреннем морозном воздухе видимость, как летчики говорят, миллион на миллион. Хотя внизу все покрыто снежным покрывалом, но свободно, почти как летом, можно хорошо видеть леса, дороги, деревни и города. Вблизи линии фронта нам встретились два фашистских истребителя Ме-109. Произошла короткая схватка. Одни «мессершмитт» подбитым вышел из боя, но Тютюнов бросился за вторым. Опасаясь за проверяемого, я оставил преследование подбитого Ме-109 и хотел догнать ведомого, но он упорно гнался за врагом. «Чудак, — подумал я, — разве можно „мессера“ догнать на И-16?»
Когда фашистский истребитель пошел на посадку на свой аэродром, я с ужасом и недоумением увидел, что и Тютюнов выпустил шасси. Предупредительным огнем я образумил его. Летчик убрал шасси и пристроился ко мне. Когда мы вернулись к себе, я помахиванием крыльев предупредил ведомого, что мы дома, и пошел на посадку…
На земле Гриша убежденно доказывал, что после встречи с «мессершмиттами» он пытался догнать меня, летел до самого нашего аэродрома. Я вроде бы сел и он хотел приземлиться, но какой-то И-16 не дал ему сесть, открыл огонь, куда-то завел его и бросил.
В странном поведении летчика лучше всего могли разобраться врачи, но медицинская комиссия признала его годным к полетам без ограничения. Это была трагическая ошибка. Гриша погиб в первом же воздушном бою над Курской дугой, и погиб очень странно. Наша шестерка «яков» схлестнулась с десятью Ме-109. Гриша ни с того ни с сего вышел из этой «карусели» и полетел по прямой. Пара «мессершмиттов» сверху ринулась на него. На неоднократные наши предупреждения об опасности он не реагировал, летел как загипнотизированный. От первой же атаки «мессера» его самолет вспыхнул. И причиной его гибели была психика. При виде врага летчика парализовал страх.
Но что такое психика человека? Врожденное качество? Воспитание? Об этом мне приходилось думать много и часто. Вспоминалась встреча с вражеским летчиком, оказавшимся в госпитале города Теребовли весной 1944 года. Мы тогда впятером вошли в палату, в которой лежали два сбитых нами фашиста. У одного — ноги в гипсе, у другого — сильные ожоги лица и рук. Летчик с подбитыми ногами, увидев нас, сразу же понял, кто мы, подтянулся на руках, сел, упершись спиной о стойку кровати, почти радостно воскликнул:
— Приветствую моих победителей!
Льстивая улыбка врага давала основание подумать, что пленный будет раскаиваться, начнет ругать своего фюрера. Но он попросил:
— Покажите того рыцаря, который сбил меня?
В просьбе была и восторженность и снисхождение. Восторженность понятна: дань победителю. Но снисхождение? Я спросил:
— А почему вас это интересует?
— Для истории Великой Германии. Хорошего противника мы уважаем, и имена советских асов вписаны в наши книги наряду с немецкими рыцарями.
Мы рассмеялись, а немец от обиды встрепенулся. В глазах застыла бычья решимость. Он поднял руку в фашистском приветствии и рявкнул:
— Хайль Гитлер!
— Зачем Гитлера славишь? — спросил я удивленно.
— Он мой фюрер, а вы мои враги.
— А мы тебя уже не считаем врагом. Ты пленный, и скоро фашизму будет конец.
— Вы нас, национал-социалистов, никогда не победите. Мы отступаем потому, что пока за вами сила. Многие нас еще не понимают, но настанет время — поймут. Поймут американцы и англичане. Мы — одаренная нация, самый талантливый народ в мире! Мы спасем мир от коммунистов!
Эти слова нам были знакомы, как и его убежденность.
Говорил наверняка богач. И каково же было наше удивление, когда он сказал, что его отец грузчик в Гамбургском порту, а мать домохозяйка.
Этот разговор заставил нас глубже понять и ощутить, что живучесть и сила фашизма не столько в экономической сущности, сколько в особой идеологии, в воспитании чувства превосходства одного народа над другим. Это, видно, в наше время самое страшное социальное зло на земле. Такой теорией, рассчитанной на первобытный инстинкт и не требующей работы мысли, удобнее всего обманывать людей с детства, а потом посылать их на кровавую дорогу войны.
Земля — небо — земля
1.
После отпуска мне пришлось сдавать дела в полку. Пришел приказ о моем назначении в Москву старшим инспектором по истребительной авиации. Начальником Главного управления боевой подготовки ВВС был дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Евгений Яковлевич Савицкий. У него имелся кабинет и приемная, которой владела секретарша, она же машинистка управления. Когда я вошел, она печатала на машинке, подложив на стул кипу каких-то папок с бумагами: иначе ей трудно было видеть клавиши. Пальцы ее рук мелькали так быстро, что почти сливались. Стук клавишей напоминал гудение поршневого моторчика. Глаза девушки были сосредоточены только на тексте, мой вход она не слышала. Дождавшись, когда машинистка смолкнет, я поздоровался и начал с комплимента:
— Какая вы великолепная мастерица! Наверное, в час из-под этих хрупких пальчиков десятки страниц вылетают!
— Что вы, какие десятки, — со смущенной улыбкой ответила она и встала.
Такой мини-девушки я еще не встречал. Красива, женственна, скромна. Мы познакомились. Зина юркнула в кабинет начальника и тут же, как птичка, выпорхнула.
— Генерал ждет вас, — и предупредила: — Только имейте в виду — он человек деловой, впустую глаголить не любит.
— Я тоже. — Посмотрев на часы, спросил: — Мне прием назначен на двенадцать, сейчас без пяти. Не подождать ли?
— Идите, идите скорее, — заторопила Зива. — Ему до обеда надо куда-то съездить.
Генерал Савицкий. Нет, наверное, ни одного летчика, участника Великой Отечественной, кто бы не знал его. В Советской Армии это был единственный командир авиационного истребительного корпуса, который сам водил летчиков в бой, показывая примером, как надо уничтожать врага. Он лично сбил более двадцати фашистских самолетов. Всю войну и после нее Евгений Яковлевич имел позывной «Дракон». Называли его и хозяином неба, говорили о нем, как обычно говорят о хороших летчиках, что летает как бог. Все это я знал, но встречать Савицкого мне не доводилось. Поэтому шел в кабинет не без волнения. Только открыл дверь, он порывисто встал из-за стола и шагнул мне навстречу. Высокий, прямой, с энергичным, волевым лицом. Темные глаза смотрят внимательно, открыто и как-то просветленно. Я представился.
— Здравствуйте, — сказал генерал и, протягивая руку, изучающе оглядел меня. — О вас я слышал, но вижу впервые. Теперь будем работать вместе.
Савицкий не пригласил меня сесть и сам не садился. Мы ходили по кабинету и разговаривали. Он расспрашивал про войну, про полки, в которых я служил, про командиров. Когда я сказал, что оба командира полка в бой почти не летали, Савицкий поморщился:
— Зачем таких только держали! Командир полка — это бог для летчика. А место бога — в небе. Вот и надо при проверке частей и соединений особое внимание уделять командирам полков и дивизий. Если они летают плохо, это обязательно скажется на делах подчиненных.
— Зато наш командир полка умело руководил полетами, — заметил я.
— Это тогке дело, — снисходительно улыбнулся генерал. — Но мы считаем, что в полках должен быть штатный руководитель полетов. Скоро это будет принято официально.
После разговора о минувшем Савицкий заговорил о своих подчиненных подполковниках Николае Храмове и Андрее Ткаченко:
— У них учитесь инспекторскому делу. И летному мастерству. Да что я о них вам рассказываю! Вы их знаете не хуже меня. Они же и порекомендовали вас для работы в управлении.
Голос у Савицкого немного глуховат, с хрипотцой, но четок. Прежде чем отпустить меня, спросил:
— Как у вас с квартирой?
— Пока живу в гостинице.
Генерал посочувствовал:
— Да, квартиру получить будет нелегко. Я тоже пока не имею. Но обещают.
В приемной Зиночка уже не печатала, а настороженно ходила по комнате, беспокоилась, что я так долго «глаголю» с генералом. Увидев меня, облегченно вздохнула:
— Наконец-то! — и улыбнулась. — Значит, вы понравились Евгению Яковлевичу.
В этот момент из своего кабинета стремительно вышел Савицкий и, увидав меня, показал на стол секретарши:
— Знаете, что она печатает? — Я пожал плечами. — Так вот, когда она отпечатает, поручаю вам эту рукопись прочитать. Потом доложите мне свои соображения и будете добиваться, чтобы Воениздат ее срочно издал. Это очень важный материал, его давно ждут в истребительной авиации.
Полковник Андрей Ткаченко был руководителем группы политзанятий. Он предложил мне заменить его:
— Ты кончал комвуз, курсы комиссаров, несколько лет комиссарил. Это дело тобой давно освоено.
Ткаченко звание Героя Советского Союза получил за участие в советско-финляндской войне. По возрасту он был старшим из нас. Заместителя начальника управления истребительной авиации по штатам не полагалось, но он по опыту работы, по летному мастерству и инициативности фактически являлся заместителем и главным советником начальника управления. Поэтому он не упустил момента дать мне партийное поручение. Его сразу же поддержал подполковник Храмов:
— Правильно. Арсен еще в Харьковском училище летчиков руководил кружком политзанятий.
Вместе с Ткаченко мы участвовали в Берлинской операции. В нашей шестерке тогда летали Павел Песков, Иван Лавейкин, Костя Трещов и Петр Полоз. У Пети я был. А где остальные — не знал, поэтому поинтересовался их судьбами.
— Паша, Иван и Костя учатся в академии, — сообщил Ткаченко.
Дружеская встреча состоялась у меня с Сергеем Щировым. Он спросил, где я буду жить с семьей, пообещал, что постарается посодействовать в получении жилья.
— Ну а ты-то как живешь? Как супруга? — спросил я, вспомнив, как он провожал из Алупки жену.
— Все по-старому, — сухо ответил он и, резко смахнув чуб со лба, жестко отчеканил: — Мы же договорились, чтобы ты никогда не спрашивал о моей жене!
Вместе с нами в столовую шел Алексей Пахомов, с которым мне пришлось вместе воевать на 3-м Белорусском фронте. Чтобы перевести разговор на другую тему, Алексей спросил меня:
— Тебе не пришлось побывать в теперешнем Калининграде? В тех местах, где мы били немцев?
…Первым городом, который мы увидели в Восточной Пруссии, был Голдап. Небольшой, каменный. В уютных особняках комфорт и роскошь. Но не это привлекло наше внимание, а подвалы в домах: железобетонные, глубокие, похожие не столько на хранилища домашнего добра, которого было в избытке, сколько на военные оборонительные сооружения с крепостными стенами, отвечающими современным требованиям долговременных фортификационных сооружений.
Сначала мы думали, что такие особняки-доты только в Голдапе, поскольку это особый город. Возле него перед войной размещалось главное командование военно-воздушных сил фашистской Германии и невдалеке — ставка Гитлера «Волчье логово». Именно здесь 20 июля 1944 года было совершено покушение на Гитлера. Однако вскоре пришлось убедиться, что Голдап не исключение. Каждая деревушка, хуторок — опорный пункт, город — настоящая крепость, а вся территория Восточной Пруссии — укрепленный район с крепостями, большими и малыми, с фортами, дотами, соединенными между собой великолепной сетью шоссейных и железных дорог, ходами сообщения и траншеями. И все это скрыто кронами деревьев, рощами и лесами.
Когда мы вошли в Восточную Пруссию, странно было видеть пустые города и села. Население бросило все нажитое и устремилось на запад. В поисках корма бродили коровы. Недоенные, они жалобно мычали. Бегали одичавшие лошади и свиньи. Из запертых дворов несся рев голодного скота. Проезжая как-то мимо брошенного хутора, мы обратили внимание на жалобный визг свиней во дворе. Я не выдержал и выпустил их на волю. Обезумевшие от голода животные с диким визгом бросились на меня и Лешу Пахомова. Спасли нас только пистолеты. Невольно подумалось, что здесь даже домашний скот надрессирован в прусском духе.
Первых немцев, мирных, гражданских немцев, мы встретили только в Бартенштейне (Бартошице). Это было жалкое зрелище. Женщины, дети и старики с узлами, колясками загнанно теснились к берегу реки Лына. Здесь их догнала наступающая волна советских войск и, никого не тронув, покатилась дальше. Растерянно смотрели мы на перепуганную толпу людей и не могли разобраться в своих чувствах. Ненависть, жалость и сострадание перемешались с горькой обидой за человека и за все человечество. Подошли к женщине с мальчиком лет семи. Малыш от страха жмется к матери, мать в испуге. Чтобы успокоить их, я произнес:
— Гутен таг!
Женщина с мольбой о пощаде подняла руки. Мальчик заревел. Детские слезы я никогда не мог спокойно видеть, а сейчас как-то испугался их. По всему видно, женщина, с которой мы пытались заговорить, из трудовой семьи (богатые успели удрать на запад). И как я ни старался убедить себя, что среди рабочего люда не все наши враги, сердце не хотело принимать эту мысль.
Сколько горя, страданий принесли нам немцы! Злоба, ненависть кипела в нас. «Хочешь жить — убей немца!» — призывали газеты. И мы били врага так, что порой смертью побеждали смерть. И нам в огне сражений казалось, что все немцы — фашисты.
Не забыть случай в Инстербурге (Черняховск). Его только что освободили наши войска. На улицах пусто. Холодно. Вижу, как наш уже немолодой солдат поджег деревянную веранду у трехэтажного каменного здания.
— Зачем ты это сделал?
— Руки погреть. Шибко озябли.
— Но это варварство!
— Да, товарищ майор, безобразие. Это я понимаю, — виновато и горестно сказал солдат, — но обидно. У нас, где они побывали, развалины и пепел. А тут ничего не тронуто. Как же теперь быть-то? Неужели после всего, что они наделали, мы им так все и оставим, а сами заново будем строить?
Месть! Нам в принципе чуждо было это слово. И все же я больше ничего не сказал солдату. Ненависть тоже имеет инерцию. Да только ли инерцию? За годы войны она у многих стала чувством, почти равным инстинкту. Такая ненависть может погаснуть только со смертью преступников. А фашизм пока еще жив. Значит, и ненависть живет в крови, в мыслях, и не так-то просто ее сдерживать холодным рассудком…
— А какие у тебя новости? — спросил я Алексея Пахомова. — Не женился?
— Женился. Дочке Людочке пошел второй годик.
Мы тогда и не предполагали, что Людмила Пахомова станет заслуженным мастером спорта, мировой рекордсменкой, знаменитым тренером.
2.
Мастерица Зина рукопись отпечатала, и я с трепетом взял из ее рук «Временные указания по отражению массированных налетов вражеской авиации». Материал был создан важный и нужный. На основе специальных учений в нем рассматривались способы и методы отражения налетов больших групп бомбардировщиков. В феврале сорок восьмого года я принес верстку на подпись Савицкому. В приемной Зина читала книгу. Она приветливо улыбнулась мне и, поздравив с присвоением звания подполковника, тут же юркнула в кабинет Савицкого. Генерал внимательно изучил сделанную мной правку, одобрил и подписал. Вид у Евгения Яковлевича был довольный и гордый. Он в эту работу лично внес большой вклад.
— Как только выйдет сигнальный экземпляр книги, — сказал он, — прошу сразу же показать его мне.
Вскоре после того, как на местах получили этот важный документ, большая группа инспекторов вылетела в Среднюю Азию для проверки истребительной авиации. В составе комиссии были летчики, инженеры, офицеры политического и оперативного отделов. На аэродроме нас встретил командир дивизии генерал-майор авиации Иван Алексеевич Лакеев, невысокий, статный, спокойный. В его фигуре и голосе не было зримых черт мужества. И только в глазах виделись упорство и настойчивость. В общении он был душевным человеком, требовательным командиром, компанейским товарищем. За его плечами была большая жизнь. Он одним из первых летчиков-интернационалистов получил звание Героя Советского Союза за бои с фашистами в небе Испании, где лично сбил двенадцать самолетов врага.
На фронтах Великой Отечественной войны Иван Лакеев был с первого до последнего дня. Его имя четырнадцать раз называлось среди отличившихся в боях командиров. С ним я познакомился еще в 1939 году, в боях на Халхин-Голе. Там он стал не только учителем для нас, молодых, необстрелянных летчиков, но и организатором управления истребительной авиацией с земли. Тогда на истребителях еще не было радио. Лакеев смастерил огромную полотняную стрелу, которая выкладывалась у наземного командного пункта, и с ее помощью летчикам сообщалось, в каком направлении и на какой высоте находятся японские самолеты. Эта стрела заменяла нам радио. Знал я Лакеева и по советско-финляндской войне. А на авиационном празднике 18 августа 1940 года в Тушине наблюдал виртуозно-цирковой пилотаж знаменитой «красной» пятерки, которую он возглавлял.
Как и положено младшему по званию, Лакеев представился генералу Савицкому, доложил, чем занимается дивизия. Вместо обычного рукопожатия Евгений Яковлевич дружески обнял Ивана Алексеевича. Генералу такая фамильярность была не свойственна, и его поведение можно объяснить тем, что Савицкий в этом году в День авиации должен был продемонстрировать каскад фигур над Тушинским аэродромом, причем такой же, какой восемь лет назад показала пятерка Лакеева, только уже на реактивных самолетах. Видимо, преклоняясь перед творцом пилотажного искусства, Савицкий так душевно, вопреки субординации, поздоровался с Лакеевым.
Выполняя «Временные указания по отражению массированных налетов вражеской авиации», авиаторы провели несколько экспериментальных учений, что позволило выявить сильные и слабые стороны в подготовке полков. На этот раз дивизия готовилась к итоговому учению с участием проверяющих. Мы тщательно изучили, как учение обеспечено в инженерно-техническом, политическом и тактико-оперативном отношениях. Для исправления найденных недоделок дали сутки. Да и нам самим, летчикам-инспекторам, требовалось время для изучения предстоящего района учений.
Весна в тот год стояла теплая, день проверки выдался даже жарким. Когда я взлетел, подо мной во всю ширь открылся неоглядный азиатский простор. Внизу поплыли пустыни, степи, зеленеющие леса и разноцветные поля. Особое внимание привлекли предгорья: они пестрели огненными тюльпанами и фиалками. Здесь земля казалась цветистым ковром, Но любоваться живописной картиной не было времени: надо было смотреть в небо, где истребительный полк на поршневых «яках» вышел на перехват бомбардировщиков.
Дивизия взлетела по тревоге с разных аэродромов, но полками управлял один наземный командный пункт, на котором находились генералы Савицкий и Лакеев. Ведущими полков были их командиры. Управление производилось по данным радиолокаторов.
Я слышал по радио властный, с металлическим оттенком голос:
— Курс двести тридцать. Высота восемь тысяч. Скорость полета максимальная.
— Вас понял, — отвечал командир полка.
Со времени взлета прошло 23 минуты, а впереди чистое небо. Цели не видно. Ведущего волнует тревожный вопрос: сейчас должен быть воздушный бой, потом возвращение домой, бензина может не хватить. После таких беспокойных мыслей небо само пришло на помощь. В нем, как это бывает на больших высотах, точно открылся занавес — появилась армада бомбардировщиков Ту-2. Командир полка скомандовал:
— Атакуем сверху первыми звеньями!
«Яки» едва успели произвести атаку, как на них сверху посыпались истребители «синих».
Командир полка «яков» передал новую команду:
— Вторым звеньям сковать боем истребителей!
Я летел ниже всех, и мне на фоне чистого неба хорошо было видно, как четыре звена «яков» схватились боем с истребителями «противника». В тот же момент другие четыре звена «яков» в разомкнутых боевых порядках ударили по четырем девяткам бомбардировщиков. Воздушная схватка напоминала воздушные битвы Великой Отечественной войны.
Когда полк вышел из боя и взял курс на свой аэродром, я увидел, что бомбардировщиков по-прежнему атакуют истребители двух других полков дивизии. Такой эксперимент не был предусмотрен, но бой есть бой. Условия его диктует обстановка, которая не всегда укладывается в рамки плана. Оценку действиям этих полков должны были дать подполковники Сергей Щиров и Алексей Пахомов.
Организация учебного боя истребителей с большой группой бомбардировщиков не вызывала нареканий. Но наглядный факт еще не сама правда, не полная истина. Результатом атак является огонь, который в момент прицеливания требует исключительно точных, ювелирных движений. А при атаках в плотных строях этого добиться сложно. Успех зависит не только от командиров эскадрилий и звеньев, но и от их ведомых, для чего ведущему, чтобы не нарушить плотный строй, приходится очень плавно выполнять маневр. А это несовместимо с динамикой боя.
Результаты фотоконтроля не радовали. Пораженными оказались менее половины бомбардировщиков, остальные могли беспрепятственно лететь к цели. При наличии у вероятного противника атомного оружия это была реальная и весьма опасная угроза. Даже один прорвавшийся самолет способен натворить столько бед, сколько в ходе прошедшей войны не могли причинить и несколько тысяч бомбардировщиков. Во «Временных указаниях…» не было определено, какую давать оценку в таких случаях. Поэтому генерал Савицкий собрал инспекторов на совет и первым спросил мнение подполковника Пахомова.
— За организацию атаки я думаю поставить полку «отлично», — ответил тот. — За стрельбу из фотопулеметов — «неудовлетворительно». Средняя оценка — «хорошо».
— Маневр и атака еще не результат боя, — вступил в разговор Щиров. — Решающим показателем должна быть стрельба: уничтожен «противник» или нет?
Я поддержал Щирова:
— Трудно оценивать результаты стрельбы из фотопулеметов по таким большим группам бомбардировщиков, если истребители летели крыло в крыло. Ведомые не прицеливались, открывали огонь по команде ведущего.
Генерал Савицкий, слушая летчиков, контролировавших воздушный бой, ни разу никого не перебил ни вопросом, ни уточнением. Подведение итогов начал с характеристики нашей работы при инспектировании:
— Хорошо, что вы не выискивали недостатки, а оценивали боевую подготовку каждый по своему собственному опыту. Вы правы: при оценке учебных воздушных боев надо исходить из того, что ни один «вражеский» бомбардировщик не должен прорваться к цели. Но… — генерал развел руками и после некоторого раздумья продолжал: — Теперь не война. В боевой действительности наши летчики, чтобы не пропустить бомбардировщик к цели, наверняка использовали бы последнее свое оружие — таран! И это надо при оценке боя дивизии учесть. Поэтому, если мы дадим общую оценку «удовлетворительно», то никого не обидим, зато заставим людей вдумчивей проводить боевую подготовку…
Закончив работу, мы, как было и в другие вечера, собрались в большом номере гостиницы у Савицкого, чтобы послушать последние известия. Обычно дикторы сначала рассказывали о делах нашей страны, потом начинали передавать международные события. Так последние известия начались и в этот вечер. Но вдруг диктор смолк. Молчание затянулось. Все насторожились.
— Что это значит? — глядя на нас, спросил Савицкий. И, словно отвечая на его вопрос, радио снова заговорило:
— Внимание, внимание! Передаем сообщение ТАСС: «Сегодня войска бывших наших союзников по антигитлеровской коалиции перешли границы наших дружественных стран, вставших на социалистический путь развития, и устремились на восток…»
Мы все застыли в тревожном ожидании дальнейших сообщений. Диктор продолжал:— Их авиация…
Радио вдруг смолкло. Генерал Савицкий встревоженно выдавил из себя:
— Неужели война? Сейчас позвоню в Москву…
Но приемник снова заговорил, однако уже другим, знакомым голосом:
— Говорит подполковник Алексей Новиков из соседнего номера гостиницы. Ну как, товарищи, похоже на голос Левитана?
Через минуту Алексей Новиков пришел в наш номер. В начале Великой Отечественной войны он был ведомым у генерала Савицкого, они были друзьями. Однако сейчас, как только Алексей вошел к нам, у генерала из глаз посыпались, словно из грозовых туч, молнии, он с негодованием накинулся на своего приятеля. Тот, представительный, с мягкими чертами широкого лица, крепкий, даже чуть полноватый, любивший пошутить, растерянно стоял перед генералом, однако быстро взял себя в руки и спокойно заговорил:
— Товарищ генерал, не волнуйтесь. Кроме нас, никто не мог слышать это «сообщение». Я же мастер по радио.
— Мастер, мастер, — уже примирительно заговорил Савицкий. — Но разве можно так пугать?
— А ведь они действительно готовят против нас войну. Вот я и решил объявить вам учебную тревогу.
— Ну хватит об этом, — перебил Новикова генерал. — И о шутке больше ни слова. А теперь все пошли спать. Завтра вылетаем рано.
3.
В это летнее раннее утро я был в особенно радостном настроении: первую ночь моя семья спала в собственной комнате. До этого мы жили в гостинице, и жена готовила еду на примусе прямо в номере. Здесь же, не разбудив ни меня, ни дочек, Валя приготовила завтрак в кухне на газовой плитке.
Летчики штаба ВВС для личной летной тренировки имели авиационный полк, располагавшийся в Подмосковье и имевший на вооружении истребители, бомбардировщики и штурмовики. Сегодня летало управление истребительной авиации.
Впервые после минувшей войны инспекторы стреляли по конусу-мишени. Мне выпало лететь в паре с генералом Савицким. Сделав последние указания на вылет, он улыбнулся:
— Посмотрю, как ты стреляешь. Ведь это ты написал книжечку «Заметки об огневом мастерстве»…
Взлетели парой. Когда сблизились с самолетом-буксировщиком, Савицкий по радио передал:
— Стреляй первым. Я посмотрю. Только действуй по науке.
По какой науке? В стрельбе по конусу есть фактически две теории. Одна описана в книге «Курс боевой подготовки». Но практика заставила внести изменения, и многие летчики создали свою науку. У меня тоже выработался особый метод, которым я пользовался и в стрельбе по конусу, и при атаке вражеских самолетов. Об этом мною была написана брошюра, о которой упомянул Савицкий.
Резким маневром я сблизился с мишенью на сто метров под тридцать градусов слева, потом круто развернул самолет вправо. Момент был пойман. Голова конуса застыла в прицеле. Очередь! Я хорошо видел, как трасса пронзила мишень. Она, словно испугавшись огня, вздрогнула, от нее даже полетела пыль.
После первой очереди я круто отвалил от мишени и хотел повторить заход, но тут же услышал резкий, требовательный голос генерала:
— Стреляй, как положено!
— Понял, — ответил я и произвел повторную атаку узаконенным способом. Но огня не вел: все патроны были израсходованы в первой атаке. Доложил генералу: — Стрельбу закончил.
— Разрешаю идти на посадку, — ответил Савицкий.
Однако я не спешил уходить, хотелось посмотреть, как будет атаковать мишень генерал. Он стрелял по методике, изложенной в документах, и сделал на стрельбу пять заходов.
Когда конус был сброшен, мы с полковником Андреем Ткаченко подсчитали результаты. В конусе оказалось пятьдесят пробоин, его прошило насквозь двадцать пять пуль из сорока, выпущенных нами. Но чьи были пули, мы не могли определить. Стрельба велась зажигательными патронами, концы их пуль еще на заводе обозначены красной краской. Все пробоины в конусе оказались одного цвета. Ткаченко предложил:
— Давай решим, что вы оба выполнили упражнение сверхотлично. Но генералу дадим на одну пулю больше.
Савицкий после посадки сразу подошел к конусу, Ткаченко доложил:
— Вы, товарищ генерал, попали шесть раз. Ворожейкин пять…
Не дав ему закончить, генерал горделиво рассмеялся и, глядя на меня, не без упрека заметил:
— Тоже мне мастер стрельбы и воздушного боя! Попал меньше, чем я. Но все равно молодец.
Зная, что Савицкий человек гордый, самолюбивый и эмоциональный, но в то же время добрый и справедливый, я сказал:
— Это не совсем так, товарищ генерал. Мы насчитали двадцать пять попаданий, но принадлежность половины из них не могли определить. Расцветка следов от пуль оказалась одинаковой. Мы их оставили в резерве. На ваше усмотрение.
Евгений Яковлевич насторожился:
— Это как — на мое усмотрение? Вы что, решили со стрельбой комедию сыграть?
Ткаченко предложил ему осмотреть полотно конуса. Савицкий внимательно исследовал все пробоины, спросил, нельзя ли отличить подкрашенные техниками пули от заводских меток, потом спросил меня:
— А как у вас в полку стреляли по конусу?
— Мы летали на «лавочкиных». На них двадцатимиллиметровые пушки, поэтому стреляли только бронебойными снарядами. Там заводская краска черная. На одном самолете оставляли ее, на другом смывали и красили другим цветом.
— Мне кажется, товарищ генерал, — вступил в разговор Ткаченко, — надо дать указание во все воздушные армии, чтобы перед стрельбой но конусу заводские метки на пулях и снарядах счищали и наносили свои.
— Разумно, — ответил генерал и взглянул на меня: — Извини, я поторопился тебя упрекнуть. В этой путанице мы сами виноваты. Но вы, товарищ Ворожейкин, — он перешел на официальный тон, — стреляете не так, как положено. Почему?
— Я, — говорю, — не понял. Вы осуждаете мой прием стрельбы или интересуетесь, почему я выработал свой маневр захода на конус?
— Отвечайте по существу, — сухо заметил Савицкий. — Почему вы нарушили правила стрельбы?
— Метод стрельбы утвержден очень давно и оторван от боевой действительности, — решительно заявил я. — Надо максимально приближать стрельбу по мишени к стрельбе по самолету противника. Моим способом стреляют многие летчики. Пора его узаконить. Почему в стрельбе по конусу мы работаем методами двадцатых годов? Неужели война в этом деле нас ничему не научила?
Генерал хотел сказать что-то резкое, но передумал, насторожился, словно к чему-то прислушиваясь. Потом в раздумье, медленно, что не было ему свойственно, проговорил:
— Может, вы и правы.
Отдав необходимые распоряжения Ткаченко, Савицкий уехал с аэродрома. Он торопился на тренировку. Ему предстояло пятеркой на реактивных самолетах продемонстрировать мастерство высшего пилотажа над Тушинским аэродромом в День Воздушного Флота СССР. Для этого он включил в свою группу известных летчиков Николая Храмова, Василия Ефремова, Павла Соловьева и Героя Советского Союза Петра Середу. Евгений Яковлевич был одержим в полетах, вникал во все тонкости летного мастерства и добился в этом деле многого. Он подтвердил на практике поговорку: кто ищет, тот всегда найдет.
После полетов порядочно уставшим и проголодавшимся я приехал домой, где сразу же увидел незнакомого мне капитана. Оказывается, комната, которую мне дал Моссовет, принадлежала ему. Еще до войны он жил по этому адресу и отсюда был призван в армию. Теперь он демобилизовался и приехал в Москву, рассчитывая поселиться с семьей в своей комнате. Слушая капитана, я вспомнил свой разговор с начальником Мосжилуправления. Приняв меня, он доверительно сказал: «Есть хорошая комната. Хозяева недавно умерли. Переселяйтесь побыстрее, а то передадим другой семье».
— Теперь мне ясно, почему он торопил меня, — сказал я капитану. — Видимо, знал о вас?
— Конечно, — подтвердил капитан. — За всеми военнослужащими, находящимися за границей, сохраняется жилплощадь. Но как теперь мне быть?
— А мне? — этот вопрос я задал скорее себе, чем капитану. — Ордер есть, мы вчетвером здесь прописаны.
— Я подам в суд, — заявил капитан.
— А жить-то где будете?
— Пока у сестры. Во всей этой игре с ордером виновато Мосжилуправление.
4.
Мне срочно приказано слетать в Прибалтику, проверить летную подготовку заместителя командира дивизии. Этого человека я знал, хотя у нас была только одна встреча на летно-тактическом учении. Он тогда, как и я, командовал истребительным полком и показался мне волевым, хорошим, образованным летчиком. Почему же встал вопрос о его пригодности? Может, дело в возрасте? Но ведь на это есть врачи. Они определяют допуск к полетам по состоянию здоровья, поэтому я спросил у Савицкого, чем вызвана проверка?
— Командир дивизии им как летчиком недоволен. Заодно выясните их взаимоотношения. Если характерами не сошлись, их целесообразно разъединить.
В Прибалтику вылетел на учебном самолете. Встретил меня командир дивизии полковник Артур Иванович Латис. Его внешний вид напомнил мне Якова Алксниса, командовавшего ВВС до 1938 года. Такое же продолговатое, мужественное и загорелое лицо. Однако ростом Латис выше и могучее Алксниса. К тому же тот был энергичен и эмоционален, а этот невозмутимо-спокоен. Своего заместителя он охарактеризовал скупо, но выразительно:
— Безудержный болтун. Неохотно летает с летчиками на проверку техники пилотирования, а свою летную выучку поддерживает. Понимает толк в авиационной науке.
— Спарки есть для проверки? — спросил я.
— Есть. Минут десять назад техник опробовал мотор. Вскоре явился и заместитель командира дивизии. Высокий, статный, он не без волнения скороговоркой выпалил:
— Полковник Халтурин по вашему приказанию прибыл, — и вручил мне свою летную книжку.
Комдив, не желая присутствовать при нашей беседе, сказал:
— Когда будете готовы к полету, сообщите. Я буду на старте. — Он посмотрел на карманные часы: — До плановых полетов еще больше двух часов.
— Нам спешить некуда, — сказал я Владимиру Ефимовичу, заметив на его груди планки двух орденов Красного Знамени, Красной Звезды и нескольких медалей. — Давайте выйдем на свежий воздух, — а уже на улице спросил: — Комдив, видать, старше вас?
— Да, старше. Как человек он очень хороший, прямой…
Говорил Халтурин много. Слушать не умел, но рассказыватъ был великий мастер. Я изредка перебивал его вопросами. Никакой обиды на командира он не высказал, но в его словах чувствовалось, что тот чрезмерно властолюбив. Я поинтересовался:
— А часто вы с командиром встречаетесь в домашней обстановке?
— Встречаемся. Дружим семьями.
— А семья у вас большая?
— Жена, двое ребят и теща. Старушка заботливая. Очень любит детей. Они слушаются ее лучше, чем мать. Но теща хочет уезжать в Москву: там у нее квартира.
— Вы женаты на москвичке?
— Да. Женился, когда еще учился в академии Жуковского, — Халтурин начал расхваливать жену, тещу, детишек, и его рассказу конца не было видно. А я невольно подумал, что летчик, любящий чесать языком, как правило, летает неважно. Но выводы делать было рано, поэтому я спросил:
— А где вы служили после окончания академии?
— В Люберцах. Командиром эскадрильи.
Факты! Через них можно взглянуть на стремление человека. Жена москвичка. Теща хотя и живет в маленьком прибалтийском городке, но вместе с дочерью рвется в столицу. Видимо, и сам Халтурин не прочь перебраться в Москву, поэтому у него и нет желания летать. Но мне надо проверить самый главный и веский аргумент, определить уровень его техники пилотирования. Мы направились к двухместному учебно-тренировочному «яку». Перед посадкой в самолет я попросил Халтурина повторить задание. Он изложил его точно, но без того возбужденно-приподнятого настроения, какое свойственно летчикам. Каждый волнуется перед экзаменом, а мой проверяемый был равнодушен.
Взлетел он хорошо, в зоне сделал левый вираж, потом медленно, даже как-то лениво, переложил самолет вправо и выполнил такой же круг. Высший пилотаж начал с переворота через левое крыло. Когда машина снова приняла горизонтальное положение, летчик осмотрелся и сделал аналогичный переворот вправо. Все остальные фигуры он выполнил правильно, но в его работе отсутствовал тот огонек, который присущ летчикам-истребителям, любящим свою профессию, когда пилотаж напоминает красивую ребячью игру, которой дети настолько увлечены, что, кроме игры, больше ни о чем не думают и, кроме играющих, ничего не видят.
Истребитель должен выполнять пилотаж в комплексе, без разрыва между фигурами. Это приучает летчика к большим и длительным перегрузкам, необходимым для боя. Халтурин делал фигуры с расстановкой и с малыми перегрузками, будто после каждой из них давал себе отдых. Я показал ему, как выполняется комплексный пилотаж, и попросил повторить задание. Он повторил. Сделал переворот, используя набранную скорость, выполнил петлю, пошел горкой на ранверсман и, перевалив самолет через крыло, на пикировании увеличил скорость, потом снова повторил весь комплекс фигур, закрутил горизонтальные бочки вправо и влево, после чего доложил:
— Задание выполнено, разрешите идти на посадку?
— Сделайте еще один комплекс.
Он сделал, но совсем вяло. И слетал вроде неплохо. Но лицо его меня насторожило. Он вспотел и был бледным. Все говорило о том, что по состоянию здоровья на истребителях ему летать нельзя. А на чем же? Какой сделать вывод? От моего заключения зависит судьба человека. Для разговора мы отошли от стоянки самолетов.
— Что вы думаете о своем полете? — спросил я.
— По-моему, слетал нормально, — тяжело дыша, ответил он.
— По-моему, тоже. А с новыми реактивными самолетами вы знакомы?
— Был на курсах, летал на Як-пятнадцатом и Миг-девятом. Они для летчика проще поршневых, — уже более свободно заговорил Халтурин. — Только вот Як-пятнадцатый сделан неудобно: струя от турбины здорово портит аэродром. Миг-девятый в этом отношении лучше…
Листая личное дело летчика, я обратил внимание, что у него за время Великой Отечественной войны было два ранения. Он много летал ночью, отбивая фашистские налеты на Москву, летчиком был сильным. И дивизия, в которой он теперь служит, боевая. А командиры полков — настоящие асы. Размышляя над этим, я спросил собеседника:
— Почему вы мало летаете на проверку техники пилотирования?
Он вздохнул и признался:
— У молодых проверять технику пилотирования тяжеловато. Они любят пилотировать с огоньком, не как я…
«Не как я…» То ли у него эти слова выскочили случайно, то ли осмысленно, но я понял, что настоящий пилотаж для него дело прошлое. Очевидно, возраст, война и ранения берут свое. Быть постоянно ведущим — для этого в летном деле нужны ее только воля, нервы, но и крепкое здоровье.
— А физкультурой, спортом занимаетесь? — спросил я.
— Да что вы! Времени нет.
— Может, пора кончать летать?
Халтурин, очевидно, не ожидал такого прямого вопроса и на какую-то минуту смолк. Но фальшивить он не умел и тут же признался:
— Врачи пока пишут, что годен к полетам без ограничений. Но сам чувствую, что настоящий пилотаж не по плечу. Завидую вам: мы крутились с большими перегрузками, а у вас на лице здоровый румянец. А я вот выдохся. Наверно, и в самом деле отлетался, — с сожалением выдавил он из себя.
После этого признания Халтурина мне стали понятны слова: «Проверить заместителя командира дивизии на пригодность быть летчиком-истребителем». Видимо, врачи, допуская к полетам человека, не всегда увязывают объективные показатели своих медицинских обследований с возрастом, войной и характером работы. Да и нет и не может быть документов, определяющих, до каких лет способен летать летчик-истребитель. Ведь успех его работы зависит не только от возраста, но и от того, как он себя чувствует в полете, особенно при перегрузках. Халтурин понял, что пришло время расставания с истребителями. Но чувствовалось, что ясных планов на будущее у него не было.
— На другой самолет переучиваться не хочу. Пошел бы в академию преподавателем. Образование у меня есть, педагогику люблю, в Москве пустует квартира.
— Хорошо, — пообещал я ему, — доложу начальству и свое мнение, и вашу просьбу.
5.
Генерал Савицкий остался в Москве, где шли тренировки к воздушному празднику, а группа инспекторов во главе с полковником Андреем Ткаченко улетела в Прибалтийский военный округ для инспектирования двух истребительных дивизий. Первой дивизией командовал Герой Советского Союза полковник Николай Иванович Свитенко, мой однокашник по Харьковской школе летчиков. Человек физически крепкий, плотно сбитый, энергичный, он жил постоянной тягой к небу. Если Свитенко долго не летал, то чувствовал себя неважно. Подчиненных он обучал по испытанному принципу: «Делай, как я». Пример командира сказывался на всей боевой подготовке дивизии. Он обладал живым, незлобным юморком, любил посмеяться, к людям шел с открытой душой.
Знакомство с дивизией начали мы с изучения документации, потом присутствовали на предварительной подготовке, а на другой день с земли наблюдали за полетами, запланированными еще до нашего прибытия. Инспектировать в небе не стали: в дивизии не было ни одного двухместного учебного самолета. Технику пилотирования нам пришлось оценивать наблюдением с земли. Общее впечатление у нас сложилось хорошее.
Перед отлетом в другую дивизию Свитенко спросил меня:
— К кому теперь направляетесь?
Я назвал номер дивизии. Николай Иванович воскликнул:
— Нашего кавалериста будете проверять? Артура Ивановича я хорошо знаю. Он еще в гражданскую войну воевал в конной армии. Кавалерийская закалка в нем осталась на всю жизнь. Он часто говорит: «Самолет, как и конь, любит внимание и ласку». А вообще, хороший мужик! На днях я его видел.
Погода на всем маршруте стояла безоблачная. На аэродроме нас встретил уже знакомый мне командир дивизии Артур Латис. Все такой же крепкий и моложавый — никак не подумаешь, что ему перевалило за пятьдесят. Бывший его заместитель Владимир Халтурин намного моложе его, но для полетов на истребителях уже силенок не хватало. Его не без моего участия перевели в Военно-инженерную академию.
После того как Ткаченко представил инспекторов, комдив посмотрел на карманные часы и предложил поужинать.
— А сколько на ваших карманных? — спросил Ткаченко.
— Восемнадцать часов тридцать три минуты,
— У меня тридцать пять. Это точное время. И вы поставьте такое же. На случай тревоги.
— Тревоги? — удивился Латис.
— Да. Сейчас поедем на командный пункт и оттуда объявим боевую тревогу всему авиационному гарнизону. Ваш Як-третий исправен?
— Да.
— Где он находится?
— Рядом с командным пунктом дивизии.
— Если сейчас с первым полком на нем слетает подполковник Ворожейкин, не возражаете?
— Не имею права возражать властям, — преодолев растерянность, уже не без иронии сказал Артур Иванович. — А другие два полка тоже будут подняты?
— Решать будете вы. Вы же этой дивизией командовали и во время войны, а недавно провели дивизионные учения по отражению массированных налетов вражеской авиации?
— Да, провели.
— И какими группами действовали?
— Летали полками. Две эскадрильи атаковали в плотном строю, а две — с индивидуальным прицеливанием.
— Так будете действовать и сейчас. С учетом обстановки. Все летчики должны стрелять по целям из фотопулеметов. Пленки проявить и дать свои оценки каждому летчику завтра к девяти часам утра.
После сигнала дивизия заняла боевую готовность на четырнадцать минут раньше, чем предусматривалось планом тревоги. Ткаченко спросил:
— Почему такое большое расхождение? Может, в плане тревоги завышено время сбора полков?
— Расхождение объясняется просто, — заметил Латис. — Сегодня был день работы на материальной части. Люди находились на аэродроме.
— Понятно. — Ткаченко внимательно осмотрел большой подземный железобетонный командный пункт, построенный еще фашистами. На планшете воздушной обстановки целей не было, но они вот-вот должны были появиться, поэтому он спросил: — Все готово к перехвату?
— Все!
— Тогда начнем работу. — И Андрей Григорьевич дал вводную: — По данным разведчика, большая группа бомбардировщиков «противника» держит курс на ваш аэродром.
Артур Иванович взглянул на безмятежно чистый индикатор радиолокатора, хмыкнул и после короткого раздумья заговорил как бы сам с собой:
— Да-а, наверно, они еще далековато, — и насмешливо взглянул на Ткаченко.
Тот еще раз посмотрел на планшет. На нем по-прежнему было чисто. По этому взгляду Артур Иванович догадался, что Андрей Григорьевич тоже ожидает увидеть цели на планшете. Он быстро взял трубку радиопередатчика и приказал полку приготовиться к взлету.
Одновременно с истребительным полком взлетел и я. Погода была отличная. Однако опустившееся к земле яркое солнце затрудняло видимость. Мне пришлось надеть свето-фильтровые очки. Они помогли издали обнаружить две девятки Ту-2. И в тот же момент в эфире прозвучала команда Латиса, приказывавшего полку идти на перехват. И хотя он не указал высоту полета «противника», зато курс дал точный.
Вскоре я увидел впечатляющую картину. Каждую девятку Ту-2 атаковали по две эскадрильи истребителей. В воздухе стало тесно. Летчикам трудно было маневрировать, что мешало им хорошо прицеливаться. А ведь сила Як-3 в маневре и огне. Этот верткий самолет прекрасно вооружен: на нем установлены 20-миллиметровая пушка и два пулемета крупного калибра. Плохо было и то, что две атаки продолжались неоправданно долго — на протяжении 75 километров полета бомбардировщиков.
Вторая группа Ту-2 появилась через пять минут после первой и не была атакована. Полк, поднятый на перехват, в слепящих лучах солнца прошел мимо цели, а пока разворачивался и догонял «противника», тот был уже над аэродромом. Третью группу бомбардировщиков удалось атаковать, но атаки получились затяжными и малоэффективными.
Когда я приземлился, августовское солнце хотя и садилось за горизонт, но было еще жарким. И этот зной, и красное небо на западе напоминали мне жаркое лето боев на Курской дуге. Там мы действовали успешно. Здесь же истребителям никто не мешал бить «противника»: у него не было даже истребителей прикрытия. Но атаки были нерешительными, а результаты фотострельб оказались неудовлетворительными. Даже ведущие групп выполнили не все упражнения. Зато дивизия точно провела полет, как предусматривалось в подготовленных нами «Временных указаниях…». Я все больше убеждался, что методика атак большими группами в плотном строю ошибочна, что тактической огневой единицей должна стать пара истребителей. Надо было решительно ломать бюрократические препоны. Из-за них в годы войны было немало неоправданных потерь.
Хорошо помню август 1943 года. Солнечное утро. Наш аэродром был расположен близ села Большая Писаревка, недалеко от Харькова. После успешного боевого вылета мы возвратились домой. Я приземляюсь первым. Мой «як», вздыхая мотором, резво бежит по земле. Чтобы уменьшить пробег, нажимаю на тормоз, но вместо знакомого подергивания машины — в глазах огненный блеск, слышатся выстрелы. «Растяпа, вместе с рычагом тормоза нажал кнопку пушки», — ругаю себя. И тут же что-то острое впилось в щеку, горячим хлестнуло в левую руку, а из левого крыла истребителя с треском и шипением вырывается что-то яркое, ослепляя меня. Над головой с оглушительным ревом на недопустимо малой высоте проносится самолет, взгляд упирается в черные кресты «Фокке-Вульфа-190», атакующего моего напарника. Две длинные очереди громыхают над аэродромом. «Як» обволакивается черным дымом, вяло кренится, опускает нос и врезается в землю. А фашистский истребитель спокойно сближается со штурмовиком.
Только тут я сообразил: истребители противника налетели на аэродром, мой самолет подожгли, ведомого сбили. А что с остальными? Разглядывать некогда: мой самолет вот-вот должен взорваться. Скорее из кабины!.. Но земля стремительно летит под крыло, скорость еще большая. Жму на тормоза! Самолет упруго приседает, грозя встать на нос. Чуть отпускаю тормоза и опять надавливаю на них. Слышится тявкающая стрельба пушек. Мне некогда смотреть, что делается над аэродромом. Воображение рисует волну вражеских истребителей, обрушившихся сверху…
Тело сжимается в комок, голова вдавливается в плечи, спина прижимается к бронированной спинке. А огонь все больнее хватает за лицо. Загораживаюсь рукой. Как долго не гаснет скорость! Пламя и дым, словно красно-черный флаг, развеваются над головой. Задыхаюсь. Чувствую, что дальше находиться в кабине невозможно. Резко нажимаю на педали, машина разворачивается, скорость уменьшается. Вываливаюсь из кабины и кубарем качусь подальше от самолета.
Над аэродромом невероятная сутолока. Где немецкие истребители? Противника нет. В западном направлении на полной скорости уходит «фоккер», второй летит чуть выше. Беспорядочно носятся наши самолеты. Горит сбитый «як». Подбитый штурмовик, дымя, неуклюже тащится к земле. Крыло моей машины пылает.
Первыми ко мне подбежали техник и медицинская сестра.
— Товарищ капитан! Вы весь в крови, ранены… — участливо и тревожно произнес техник. Он хотел вместе с девушкой оказать помощь. А я до того был взбешен, что не помня себя закричал, показывая на самолет:
— Чего встали? Тушите пожар!
Все объяснялось просто. Два «охотника» «Фокке-Вульф-190» во время нашей посадки заняли исходное положение для атаки со стороны утреннего солнца, откуда мы заходили на посадку. Солнце их хорошо маскировало. Один вражеский истребитель атаковал, другой прикрывал его.
После этого трагического случая я понял важность внезапной атаки из своего рода воздушной засады, но каждый раз мне с большим трудом удавалось получить разрешение на свободную «охоту» у своих командиров. В наших инструкциях такой вид боевых действий не был предусмотрен.
6.
В воскресенье Латис, Ткаченко, Щиров и я на легковой машине выехали на Рижский залив. Великолепный песчаный пляж был переполнен. Андрей Григорьевич предложил:
— Я позагораю на песочке. Кто со мной?
Согласились Артур Иванович и шофер. Мы с Сергеем Щировым решили искупаться. Разделись все, кроме Ткаченко.
— Я впервые на солнце, — сказал он, — а здесь не Черное море. Вода холодная. Искупаюсь в середине дня.
На берегу залива сидели девушка и уже немолодая женщина. Обе показались мне знакомыми. Я сразу же вспомнил, как по служебным делам ехал из Бреста в Москву и со мной в одном купе оказалась эта девушка в форме сержанта. В Москве мне пришлось по предложению Зои остановиться у нее. Мать девушки, которая сейчас сидела под зонтом рядом с ней, встретила меня тогда гостеприимно. Сейчас, увидев их, я подошел:
— Здравствуйте, Наталья Михайловна, здравствуйте, Зоя.
Они с удивлением смотрели на меня. Пришлось напомнить им февраль 1946 года.
— Ой, Арсений Васильевич! — в один голос воскликнули обе и пригласили меня под свой тент.
Я представил Щирова. Разговорились. Оказалось, что в Риге живет с мужем вторая дочь Натальи Михайловны. Зоя учится в институте, у нее каникулы. Вот они и приехали в Прибалтику.
Когда закончились расспросы, я предложил женщинам искупаться. Мать отказалась, а Зоя согласилась. У воды она стала закручивать косу и скреплять ее шпильками. Мы с Сергеем залюбовались ее фигурой. Зоя, видимо, это заметила и отвернулась.
Жесты — не просто движения. По ним угадываются
характер человека, его привычки и даже уровень воспитания. Нельзя было не восхититься проворными, изящными движениями рук девушки, поворотом ее головы. Закрыв черные волосы самодельной клеенчатой шапочкой, Зоя робко взглянула на залив и, словно почувствовав на себе его свежесть, поежилась и повернулась к нам:
— Только я большая трусиха в воде.
В мягком голосе я уловил нотки волнения и, поняв, что она неважно плавает, подбодрил:
— У летчиков есть девиз: чтобы хорошо летать — надо летать. Чтобы не бояться плавать — надо плавать.
Вода и солнце, словно смывая и выжигая все наносное, делают людей естественными и доверчивыми друг к другу. По побледневшим щекам Зои стекала вода. В ее голубых глазах, довольных, но чуточку усталых, отражался весь Рижский залив. Зоя сняла с головы шапочку и, поправляя волосы, с благодарностью взглянула сначала на меня, потом на Сергея:
— Как хорошо!
— Зоя! — раздался голос Натальи Михайловны, — ты же вся продрогла. Да и мужчинам после купанья тоже, наверно, не жарко. Полежите на песке, погрейтесь.
Андрей Григорьевич и Артур Иванович сидели на топчане и увлеченно играли в шахматы. Шофер, точно судья, внимательно глядел на доску. Я возбужденно воскликнул:
— Братцы, да вы купались ли?
Ткаченко оторвался от шахмат, взглянул на небо, потом на часы и удивился:
— Увлеклись мы, время уже перевалило за полдень, — и пошел к воде.
После обеда Андрей Григорьевич от перегрева на солнце почувствовал себя неважно. Купаться и загорать у него уже не было желания, и мы возвратились в гарнизонную гостиницу.
7.
Хороша Прибалтика летом! Если погода не пасмурная, то солнце не палит, как на юге, а ласкает. Однако эта ласка, если ей поддаться, может и подвести, как подвела Ткаченко. У него поднялась температура. И хотя погода в понедельник была летная, он не мог выполнять запланированные полеты на проверку техники пилотирования.
Мы стояли у стартового командного пункта и наблюдали за организаций работы на аэродроме. Воздух был наполнен гулом моторов, в небо один за другим начали уходить «яки». Настроение Ткаченко резко изменилось. Позабыв про температуру, он оживился и заявил:
— А все-таки с буденновцем я слетаю! Во время войны он в бой летал мало, как и многие комдивы. И сейчас налет у него небольшой. Надо проверить его технику пилотирования.
— Давай-давай, лети, — с иронией отозвался я и сочувственно заметил: — Тебе бы в постели лежать, а тебе, как юнцу, море по колено.
К нам подошел комдив и четко, спокойно доложил, что готов к полету на проверку техники пилотирования.
Ткаченко глянул в небо:
— Погода прекрасная. Жалко, что не полечу с вами: температура. Полетит подполковник Ворожейкин.
— Правильно решили, — одобрил Латис. — С температурой не шутят.
Но Ткаченко болеть не собирался:
— Чтобы не нарушать план полетов, пусть командир дивизии проведет пилотаж на боевом самолете над аэродромом. Я с земли буду наблюдать и сделаю запись в летную книжку.
Обычно летчики-руководители перед посадкой в самолет не осматривают его, полностью доверяют технику, Артур Иванович неторопливо обошел двухместный «як», покачал хвостовые рули, потрогал элероны и, прежде чем надеть парашют, спросил техника:
— Сколько горючего заправлено?
— По самые пробки.
— Когда масло меняли?
— После субботних вылетов.
— Полковник Латис и учебный «як» готовы для полета. Разрешите получить указания, — доложил мне комдив.
— Сделайте все, что положено. Последний комплекс фигур выполните в быстром темпе, — сказал я.
Взлетел Артур Иванович так плавно, что я не испытал никакой инерции разбега. Меня, как это бывает при разбеге самолета, не прижимало к спинке сиденья. При наборе высоты земля, небо, истребитель — все плыло спокойно, а я словно сидел в кинозале и не чувствовал на себе никаких эволюции машины. В зоне все фигуры высшего пилотажа он выполнял так же плавно, почти без перегрузок. Особенно меня покорили мелкие и глубокие виражи. Они, точно живые существа, каждый раз сами сигнализировали легким покачиванием самолета, что сделаны идеально правильно. А это происходит только тогда, когда кольцо виража самолет прочертит с точностью циркуля и в одной плоскости. В какой точке неба самолет начинал вираж, в той же точке выходил в горизонтальное положение. Об этом говорили оставшиеся в небе воздушные струи, которые в конце виража встряхивали истребитель. Оценив классические виражи, я передал Латису:
— Полный порядок. А теперь в быстром и неразрывном темпе повторите все фигуры.
Задание он начал выполнять с разгона скорости на прямой. Это не понравилось мне. Скорость можно быстрее набрать переворотом через крыло. Замкнув петлю Нестерова, летчик снова несколько секунд летел по прямой, сделал левую бочку, огляделся и только после этого выполнил правую.
Каждый хороший летчик в небе имеет свой почерк, свой стиль, свойственный его характеру и мастерству, как бывает у художников. Латис летал по шаблону, словно ученик. Когда закончил предусмотренный программой комплекс, я передал:
— Беру управление на себя!
На скорости, которая у нас была, я сделал переворот через левое крыло, с переворота сразу пошел на петлю, с петли на иммельман, после него снова в переворот, только уже правый… Выйдя из пикирования, я на вертикали закрутил восходящие бочки, погасил скорость, вывел машину в горизонтальный полет и только после этого передал:
— Берите управление на себя, идите на посадку.
С минуту было молчание, потом в наушниках послышался хриплый голос.
— Есть, взять управление.
Первое время проверяемый летел с правым креном. Я сделал ему замечание. Он исправил ошибку, но полетел уже с левым креном, посадку произвел с перелетом. На земле я спросил:
— Почему не сразу взяли управление?
— У меня от вашей акробатики закружилась голова. Так резко и с такими перегрузками пилотировать нельзя: можно поломать «як». Самолет, как и конь, любит внимание и ласку.
Не удержавшись, я спросил:
— Как же вы воевали? В воздушных боях — не вихрь, а настоящий огненный смерч.
— В бой летал мало. Командующий воздушной армией жесткий установил порядок. Как-то я обратился к нему за разрешением на боевой вылет, он упрекнул: «Что у вас, летчиков мало? Ваше дело руководить боевой работой полков, а не храбриться в небе. Летчиков у нас много, а хороших руководителей не хватает».
Ткаченко, слышавший наш разговор, спросил Латиса:
— Но вы и теперь мало летаете. Почему?
— Мне хватает, — ответил Артур Иванович.
Нетрудно было понять, что Латис потерял интерес к полетам, а это порождает физическую вялость и равнодушие к делу. Значит, Артуру Ивановичу пора переходить на другую работу. Не зря говорят: небо любит молодых. Однако вслух я этого не сказал. Быть ему или не быть комдивом — решать не мне.
Недалеко от нас сбросили конус. Мы пошли к нему. Стреляли три летчика, а в конусе была одна пробоина. Ткаченко вздохнул:
— Полк стреляет неважно. Может, ты слетаешь и поглядишь, как они выполняют атаки?
— Хорошо. Но раз я полечу, придется и мне стрелять. Надо не только инспектировать и проверять, но и показывать личный пример.
— Верно, — согласился Андрей. — Только стреляй не в зоне, а прямо над аэродромом. Когда тройка отстреляется, буксировщик не сбросит конус, а пройдет над центром летного поля. В этот момент ты его и поймай. Успеешь?
— Успеть-то успею, но я стреляю не по правилам. У меня свой метод.
— Вот и покажи его.
Психология поступка сложна. Я сам напросился на стрельбу, а тут как-то оробел, заволновался. Особенно сильное волнение охватило, когда подходил к самолету. «А если промажу? Опозорюсь на всю дивизию! Не где-то в зоне воздушных стрельб, а над центром летного поля». Как я себя ни успокаивал, волнение не проходило.
Каждый человек испытывает страх. Но одного он парализует, а другого мобилизует. У меня большой боевой опыт. Три войны научили меня в трудные минуты владеть собой. При сближении с конусом все наносное, ненужное мигом испарилось. Я сосредоточился только на маневре и прицеливании.
Конус после сброса напоминал решето: восемнадцать попаданий из двадцати возможных, Артур Иванович был удивлен:
— Ну, Арсений Васильевич, вы и влепили! Сработали за шестерых истребителей. Вот бы научиться так стрелять!
— Учиться никогда не поздно, — улыбнулся я. — Чтобы хорошо стрелять, надо не только виртуозно летать. Важно найти «стойку», чтобы удачно прицелиться и вовремя нажать кнопку.
— Но должно быть официальное указание, как найти эту «стойку», — развел руками Латис.
— Разве можно предписать летчику, каким должен быть его почерк в небе? — вмешался в разговор Ткаченко. — Почерк у каждого свой. А вы, Артур Иванович, и сами редко стреляете по конусу, и ваши летчики стреляют плохо.
— На то и инспекция, чтобы выявлять недостатки, — насмешливо бросил комдив.
На крыльях и «под крылышком»
1.
После авиационного праздника генерал Савицкий был назначен командующим авиацией Противовоздушной обороны страны. С его уходом в ВВС негласно были отменены атаки целей истребителями в плотном строю. «Временные указания по отражению массированных налетов…» так и остались временными. Начальником управления истребительной авиации был назначен генерал-майор авиации Анатолий Павлович Жуков, знающий дело, спокойный, уравновешенный, невозмутимый человек.
Однажды я был срочно вызван к нему, и он приказал мне отправиться на курсы ПВО, где летчики начали осваивать ночные полеты на реактивных самолетах.
— Войдете в строй и сразу поедем в Закарпатье, проверять дивизию ночников, — поделился он ближайшими планами.
В тот же день я был на аэродроме, где разместились курсы. Новые Як-17 уже были выстроены в линию на заправочной стоянке. Эти машины по своим летным данным соответствовали Як-15, на котором я участвовал в Первомайском параде над Красной площадью. Однако Як-17 был удобней предшественников — имел носовое колесо. Выхлопная струя от турбины не била вниз, не разрушала землю или искусственное покрытие. На таком самолете можно было летать с грунтовых аэродромов.
Перед началом полетов я встретил генерала Савицкого.
— Хорошо, что прибыли, — сказал он, пожимая мне руку, — ночная подготовка нужна не только экипажам бомбардировщиков.
Ночь выдалась до того темная, что с трудом можно было увидеть стоящего рядом человека. Властвовала тишина. Все застыло в ожидании. Ярко сияли по бокам взлетно-посадочной полосы фонари «летучая мышь». Ими же были обозначены стоянка самолетов, место сбора людей, называемое квадратом, и посадочное «Т». Эти огни затмили небесные звезды. Светился и расположенный рядом подмосковный город. Он темнил небо, делал его непроглядным, черным куполом.
Первым запустил двигатель генерал Савицкий. Струя от его самолета, точно огненный меч, заблестела сзади его машины. Тут же вспыхнули еще четыре таких меча. Через несколько секунд гул турбин заполнил весь аэродром. Летчики прогревали турбины. Потом три огонька — красный, зеленый и белый — поплыли вдоль стоянки. Самолет Савицкого вырулил на старт, секунду-две постоял и начал разбег. Огненный факел стал быстро удаляться, пошел вверх, превратился в огненный диск и на развороте скрылся совсем. Остался в небе только красный сигнал на крыле и белый на хвосте самолета.
На ночном аэродроме я впервые оказался просто наблюдателем, и мне показалось, что все это — интересная ночная игра, похожая на спектакль в театре. Но вот, заглушая небесные звуки и игровые огоньки ночи, на посадочную полосу обрушился ослепительно ярким ударом свет двух прожекторов. Увлекшись наблюдением за небом, я как-то забыл о прожекторах, от резкого всплеска света вздрогнул и сразу повернул голову на освещенную полосу. Через несколько секунд из темноты вынырнул истребитель и, немного проплыв над полосой, приземлился…
Следующей ночью я сам выполнил контрольный полет в зону и четыре по кругу. Было нелегко. Ночью на боевых самолетах я не летал с 1941 года, когда в совершенстве освоил такие полеты и научился даже стрелять по конусу.
Вскоре на курсах я уже без инструктора тренировался на Як-11, летал по кругу и в зону на высший пилотаж, а затем совершил самостоятельный вылет на боевом Як-17. Первый вылет на любом новом самолете волнует летчика. Я поднимался в небо на девятнадцати типах самолетов, но что сулит этот — двадцатый? Неизвестность всегда настораживает.
Техник доложил о готовности истребителя к полету. Мне полагалось обойти машину, убедиться, что с внешней стороны «яка» нет никаких неполадок, расписаться в книге о приеме исправного самолета от техника. А зачем? Такое было правило, хотя оно как-то бросало тень на летчика и техника, будто они не совсем доверяли друг другу. И многие летчики выполняли это правило чисто формально. Я тоже относился к этой категории. Зато когда надел парашют, сел в кабину и привязался ремнями, не забыл проверить, как действуют рули управления. Это было похоже на пожатие руки при знакомстве с новым человеком. Управление самолетом — целая система рычагов и тросов, которая, подобно нервной системе, пронизывает всю машину. И если в этой системе происходил даже незначительный сбой, полет или даже руление на земле заканчивались трагически. Вот почему проба рулей управления перед запуском мотора стала у летчиков главным инстинктом. Прежде чем вырулить на старт, по привычке военного времени я проверил положение тумблеров двух 23-миллиметровых пушек, хотя стрелять не собирался. Это тоже был выработанный годами инстинкт.
Разбег машина начала легко и очень устойчиво, а когда она набрала скорость, я легонько взял ручку управления на себя, и Як-17 послушно оставил полосу. По простоте взлета, посадки и выполнению фигур высшего пилотажа таких истребителей у нас еще не было. Я сделал на нем двадцать шесть полетов днем и ночью, налетав более пяти часов. Кроме того, я совершил несколько вылетов в задней кабине только что выпущенного учебно-тренировочного двухместного реактивного истребителя «Яковлева» и был допущен на нем к инструкторской работе…
2.
Для проверки авиации Львовского военного округа была назначена группа инспекторов во главе с начальником Управления боевой подготовки бомбардировочной авиации ВВС генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевичем Ушаковым. Возглавлял авиацию округа дважды Герой Советского Союза Василий Рязанов. Судьбы генералов были похожи. В Великую Отечественную оба командовали авиационными корпусами: Ушаков — бомбардировочным, Рязанов — штурмовым, а затем перешли на нелетную работу. Правда, по характеру и внешнему виду их нельзя было спутать. Ушаков — высокий, спокойный. Рязанов — небольшого роста, хрупкий, энергичный.
После рассказа о ходе боевой подготовки в подчиненных частях Рязанов поинтересовался, сколько времени мы будем проводить проверку.
— Это зависит от вас, — загадочно улыбнувшись, ответил Ушаков. — В хорошей работе мы быстро разберемся, а вот с недоделками придется покопаться. Наша цель не только выявить недостатки, но и помочь вам устранить их. О летчиках будем судить по технике пилотирования и качеству стрельбы, воздушным боям и маршрутным полетам.
На другой день наша группа инспекторов во главе с полковником Ткаченко летела в Закарпатье. Этот перелет воскресил в памяти март 1945 года. Тогда мы с Алексеем Пахомовым летели на истребителях к озеру Балатон, где фашистские войска перешли в контрнаступление. Для дозаправки самолетов нам предстояло сесть на том самом аэродроме, куда держали путь теперь. Метеоколдуны (так летчики в шутку называли метеорологов) сказали, что Карпаты закрыты облаками, а за Карпатами — ясно. Однако и по ту сторону гор стояла сплошная облачность. Понимая, что для возвращения нет горючего, мы отыскали окно в облаках и нырнули в него. На поля садиться было опасно: они раскисли от дождей. Сели на шоссейную дорогу. Самолеты были разбиты. Пахомов отделался испугом, а я получил серьезные травмы,
На этот раз утро было тихое и солнечное. Хорошо смотрелись горы, переплетенные ручейками и речушками. Изредка под крылом проплывали небольшое сияющее пятнышко озерка или желтеющая оголенная скала. А в основном внизу лежали сплошные леса и зеленые луга с пасущимися на них стадами.
Наконец впереди показался город, куда мы держали курс, и на окраине его желтеющая полоса аэродрома. О нашем прибытии в авиационном гарнизоне никто не знал, кроме диспетчерской службы. Я вспомнил, что взлетно-посадочная полоса там сделана из досок бука. В нашей стране этот деревянный аэродром был единственным творением мастеров. Да, наверное, не только в стране, но и во всем мире. Летать с такой полосы на поршневых машинах было хорошо, самолет шел по ней ровно и устойчиво. А как теперь, спустя три с половиной года, выглядит эта деревянная полоса? Когда мы приземлились, я увидел, что не изменилась и почти не износилась. Крепок бук!
Авиационный гарнизон еще спал, когда мы объявили тревогу. Половина нашей группы осталась на аэродроме, чтобы проверить, как полк займет боеготовность и согласно плану начнет летать, остальные направились в штаб дивизии. Встретил нас комдив полковник Витте Федорович Скобарихин, которого я знал еще по боям на Халхин-Голе, когда он был старшим лейтенантом. За десять лет он немного постарел, но по-прежнему был бодр.
— Все идет по плану боевой тревоги, — сообщил он после взаимных приветствий.
— А когда две эскадрильи поднимутся в воздух? — спросил я.
— Он назвал время.
— Тогда мы с вами поедем на аэродром, — предложил я, — а остальные инспекторы останутся в штабе.
В дороге Витте Федорович вводил меня в курс дела:
— Сейчас мы тренируемся в дальних полетах. Ла-одиннадцатые свободно могут летать часа четыре, и мы привыкаем к дальним маршрутам: дивизия предназначена для прикрытия бомбардировщиков.
Я посмотрел на часы. Через сорок минут должна была появиться контрольная цель. Спросил комдива, как он будет действовать, если появится воздушный «противник»? Скобарихин пояснил:
— В планах вылеты на перехват «противника» не предусмотрены. Определено только время на сбор из разных положений.
— Вот это и плохо, — сказал я. — В июне сорок первого объявленную тревогу многие считали учебной, а действовать пришлось по-фронтовому. Вот так работайте и сейчас. Считайте, что цели не учебные.
Скобарихин задумался. Он смелый человек. И смелость его не безрассудна. Его принцип воевать так, чтобы и грудь была в крестах, и голова оставалась на плечах. В 1939 году во время боев на Халхин-Голе он одним из первых советских летчиков произвел воздушный таран, уничтожив японский истребитель. В то время наша печать о советских летчиках-интернационалистах, об их героических делах почти не писала. И мы не могли знать, что первым выполнил воздушный таран лейтенант Евгений Николаевич Степанов в небе Испании, таранив ночью итальянский бомбардировщик «Савойя». Второй таран совершил в мае 1938 года в Китае Антон Губенко. Скобарихин был третьим, но все равно он первым таранил врага на встречном курсе.
— Вот что я решил, — после глубокого раздумья сказал комдив. — Сейчас отдам распоряжение, чтобы взлетели три звена для прикрытия аэродромов. А остальные летчики будут в кабинах ждать приказа на вылет.
— Действуйте по своему усмотрению, — сказал я, — но непременно подготовьте четверку истребителей для перехвата контрольной цели. Стрельба из фотокинопулемета будет зачетной.
Вскоре, как и было запланировано, появился бомбардировщик, маршрут которого был согласован с местной противовоздушной обороной. Дивизии ВВС тогда не имели своих радиолокационных станций, наведение и на нарушителей границы, и в учебных целях осуществляли командные пункты ПВО. Так было и сейчас. Скобарихин поднял на перехват звено истребителей. Те связались с командным пунктом ПВО и взяли курс на цель. Штабу дивизии оставалось только слушать переговоры по радио.
На стартовом командном пункте находились полковник Андрей Ткаченко и Сергей Щиров. Я доложил Ткаченко о своих распоряжениях и решении комдива.
— Ясно, — сказал он. — Но как мы оценим действия перехватчиков?
— По результатам фотострельбы.
— Перехватчиков четверо, а бомбардировщик один. Не запишем же, что все сбили по самолету,
— Фотопленка покажет, кто как стрелял, — сказал Щиров, — по ней и будем судить.
Истребители, контрольную цель перехватили на заданном рубеже и тут же атаковали. По проявленным пленкам фотокинопулеметов ведущему была поставлена оценка «отлично», двум ведомым — «удовлетворительно» и одному — «плохо». Звено заслужило общую удовлетворительную оценку,
— Мне кажется, — глядя на меня и Сергея Щирова, заговорил Ткаченко, — самолет сбил командир звена. Остальные летчики могли только подбить его или сделать пробоину в крыле.
Мы с ним согласились.
3.
Комдив, Щиров и я стояли неподалеку от стартового командного пункта. Сергей видел сбор по тревоге и сказал не без восхищения:
— Молодцы! Полк изготовился к бою на пять минут раньше, чем предусмотрено планом. Командир полка поднял звено, чтобы прикрыть аэродром. И вообще, пока я заметил только один недостаток. — Сергей, глядя на меня, на полном серьезе спросил: — Какой думаешь?
— Тебе видней.
— Люди не успели побриться и пришить чистые воротнички к гимнастеркам.
Его шутка всех рассмешила. Витте Федорович также шутливо оправдался:
— Планом боевой подготовки это не предусмотрено.
После отбоя тревоги полк начал плановые полеты: Щирову и мне предстояло заняться проверкой техники пилотирования летчиков. Первым со мной летел командир полка Желудев. Я обратил внимание, что он не просто доложил о готовности к проверочному полету, а словно бы отчеканил все слова, которые полагается говорить в таких обстоятельствах. И никакого волнения ни на лице, ни в голосе. Я внимательно оглядел его. Ростом невидный, щупленький, но энергичный. Лицо продолговатое и загорелое. Чувствовалось, что человек умеет владеть собой.
Глядя на Желудева, я упрекнул себя, что не поговорил о нем со Скобарихиным, не посмотрел его летную книжку и, кроме внешнего вида, ничего не знаю о нем. Но это, пожалуй, даже к лучшему: не будет предвзятости, сам полет покажет уровень профессиональной выучки. Перед посадкой в кабину я спросил его:
— Не устали при руководстве полетами?
— Нет. Люблю смотреть, как летают мои летчики, и давать им указания.
Слово «указания» меня насторожило. В авиации командир полка — главный учитель и воспитатель летчиков. С него берут пример, ему подражают. И лучшего указания, чем личный пример командира, быть не может. К тому же фраза «мои летчики» прозвучала собственнически.
Когда мы уселись в кабинах, Желудев таким же спокойно-чеканным языком запросил разрешение на запуск, а потом на выруливание.
Взлет — одни из первых элементов оценки полета. И он довольно сложен, поэтому я из задней кабины контролировал летчика, готовый в любой момент вмешаться в управление. На разбеге машина начала уклоняться влево. Это опасно. Если Желудев немедленно не исправит ошибку, самолет станет непослушным. И я, чтобы не было поздно, выправил положение, хотя не был уверен, что сделал правильно. Может, следовало подождать, когда летчик внесет поправку сам?
В зоне летчик спросил разрешение на выполнение задания. Начали с виражей. Горизонтальные круги, если их выполнять правильно, сами дадут объективную оценку легким встряхиванием машины, попавшей в собственную струю. Так было в Прибалтике, когда я проверял тактику пилотирования у комдива Латиса. На этот раз спарка «не выразила» благодарности ни на одном из четырех кругов. Виражи были неправильными, они не замыкались. И остальные фигуры выполнялись как-то судорожно, словно летчик боялся неба. А оно было до того спокойным и чистым, что, глядя на ласкающую синеву, мне захотелось в нем, как в теплой воде, поплавать и понырять. Я показал Желудеву весь пилотаж и попросил повторить. Его техника пилотирования оставалась такой же сумбурно-хаотической и резко неуравновешенной. Можно было подумать, что со мной летит не командир полка, а начинающий летчик. Стало ясно, что я правильно сделал, вмешавшись в управление при взлете. Надо будет спросить: заметил ли он это?
И посадку Желудев совершил неважно. В его приземлении была и профессиональная стандартность, и какая-то опасная неряшливость. Смешение этих двух противоположностей говорило о том, что у летчика нет своего летного «я», своей выработанной системы. Такая неуравновешенность в посадке недопустима для главного учителя летчиков. Когда мы вылезли из самолета, у меня чуть было не вырвалось: «Как же вы можете давать указания другим, если сами летаете плохо?» Однако, понимая роль и ответственность проверяющего, я сдержался. Эмоции не лучшее средство установления причин неудовлетворительного полета.
Желудев держался бодро, словно задание было выполнено на «отлично». Глядя на его щуплую фигуру, я поинтересовался:
— Не трудно было в зоне?
— Нет! На здоровье не жалуюсь, и врачи пишут, что годен к полетам без ограничения.
— А как бы вы сами оценили свой полет?
— По-моему, все нормально. Правда, не было в некоторых элементах чистоты, но это объяснимо: я мало летаю, больше руковожу полетами.
Как бы человек ни был образован, но если он гордыня, то не может быть объективным ни к себе, ни к людям.
— Но у вас же, — говорю, — есть заместитель по летной подготовке, штурман, начальник воздушно-стрелковой службы. Почему они не руководят полетами?
— Я как-то им не доверяю. Самому руководить надежнее, я люблю это дело.
— А летать самому не интересно?
Желудев растерялся, заморгал глазами и опустил их к земле. Значит, устыдился.
— Вы летать любите? — спросил я.
— Не понимаю вопроса.
Летчик, а не понял такого ясного вопроса! Это многое значит. Ведь главный стимул хорошего летчика — его влюбленность в свое дело. Такой человек может всего достичь. Равнодушие к небу для летчика подобно смерти.
— Олег Абрамович, вы воевали на истребителях? — спросил я.
— Да-а, на истребителях, — протянул он и откровенно признался: — Но воевал мало. Был на политработе в корпусе.
Я тоже был более двух лет на политработе, но считал, что для политработника-летчика лучшее слово в пропаганде — самому летать хорошо. Если же этого не было, любые его слова теряли силу. На политработу брали лучших летчиков, но некоторые из них постепенно теряли мастерство. Мешала занятость наземными делами. Личные тренировки, как и дыхание человека, требуют постоянства. Здоровое дыхание летчика может быть только при ритмичной работе, без суеты и спешки. Все мысли его должны быть подготовлены к небу. И в летном мастерстве царствует народная мудрость: посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу. Желудев посеял равнодушие к небу, а это обернулось боязнью летать.
— При взлете вы ничего не заметили? — спросил я.
— Нет. Отклонений от нормы не было.
— Даже не почувствовали, как я вмешался в управление, чтобы машина не развернулась?
Он равнодушно пожал плечами…
4.
Командир дивизии полковник Скобарихин на том же самолете, на котором только что летал Желудев, показал безукоризненную технику пилотирования. Когда мы вышли из самолета, я спросил его:
— Почему вы не заставите Желудева летать?
Витте Федорович не без сожаления сказал:
— Ничего поделать не могу. И ругал, и запрещал руководить полетами. Боится летать. Зато на земле любит поораторствовать. Про него у нас говорят, что он среди летчиков — оратор, а среди политработников — авиатор. «Партия», «Советская власть» и прочие громкие слова у него, как и лозунги, при любом выступлении, где нужно и где не нужно, с уст не сходят. Мне кажется, под этими лозунгами он и добрался до должности командира полка.
— Значит, его надо освободить от этой должности.
— Надо, — согласился со мной Скобарихин. — Но летчики летают хорошо. Командиры эскадрилий с боевым опытом, прекрасные инструкторы. Полк на хорошем счету. Да и заместитель у Желудева — прекрасный летчик и изумительный человек. Поэтому он часто не в ладах с командиром.
— На полк подойдет?
— Конечно!
— Вот и предложите его.
— Предлагал. Настаивал. Но, кроме неприятности, за этого ничего не получилось. У Желудева есть «рука», — и Витте Федорович, назвав покровителя, попросил, чтобы я свое мнение высказал инспектирующей группе и чтобы это включили в акт. Тогда, мол, ему никто не поможет.
Ох уж эти «руки»! Их надо беспощадно отрубать. Сила человека в своих руках. Опекуны нужны только детям да больным. И я поддержал комдива:
— Хорошо. Обязательно сделаю. А кто заместителем у Желудева?
— Капитан Домов…
— Костя? — невольно вырвалось у меня. — Это мой приятель еще по школе летчиков. Воевали на Халхин-Голе и в советско-финляндской. А в прошлом году, Первого мая, мы с ним участвовали в первом параде на реактивных самолетах над Красной площадью. Почему же его не видно?
— На днях с женой уехал в отпуск.
Разговаривая, мы подошли поближе к стартовому командному пункту. Желудев по-прежнему четко, с особым вдохновением руководил полетами. Я поинтересовался:
— Всегда у него так получается?
— В этом деле он молодец.
— Вот и сделайте его руководителем полетов, — предложил я. — Скоро такую должность собираются ввести.
— Давно бы надо, — заметил Скобарихин.
Недалеко от нас в ожидании стоял летчик. Витте Федорович спросил: почему он здесь?
— Хочу обратиться к командиру полка с личной просьбой.
Когда сел очередной самолет и у Желудева образовалось в работе «окно», старший лейтенант подошел к нему и попросил разрешения уехать с аэродрома, чтобы встретить мать.
— Уехать с аэродрома? Во время полетов? — строго переспросил командир полка.
— Да, матери будет трудно добраться до городка.
— Не разрешаю! — отрубил Желудев. — Полк проверяет инспекция, а вы будете болтаться.
Скобарихин, не выдержав неуважительного отношения к летчику и его матери, покраснел и не без раздражения приказал командиру полка:
— Отпустите, — и показал на легковую машину, стоявшую невдалеке от нас. — Пусть едет на дивизионной «Победе».
— Слушаюсь, — ответил Желудев, не испытывая ни угрызений совести, ни обиды, что комдив в присутствии подчиненного отменил его приказание.
Когда мы отошли, Скобармхин, как бы извиняясь за свою резкость, тихо сказал:
— Еще Суворов предупреждал, что строгость от прихоти есть тиранство.
В полку, которым командовал Желудев, мы с Щировым проверили технику пилотирования у трех рядовых летчиков, у всех командиров эскадрилий и двух командиров звеньев. Все они получили хорошие и отличные оценки. Плохую оценку получал только Желудев.
5.
Одни авиационные начальники считают, что инспектирование должно проходить так, чтобы проверяемые штабы и подчиненные им части знали об этом заранее, могли качественнее подготовиться и показать высокие результаты. Другие уверены, что только внезапная проверка способна дать объективную оценку боевой подготовки. Те и другие по-своему правы, поэтому только в один полк мы прилетели внезапно, а другие уже знали о нашем прибытии, но были предупреждены, чтобы работали по своему рабочему плану.
Очередной полк мы инспектировали без Сергея Щирова. Он был вызван во Львов. Решили, что Ткаченко будет проверять технику пилотирования только днем, а я только ночью.
Первый час предварительной подготовки к полетам проводил командир полка майор Иван Ярцев. Мое внимание привлекла одна деталь. По приказу руководить полетами должен был заместитель командира полка. Но с нашим приездом в приказ были внесены изменения. Руководить полетами назначался сам командир. Во время перерыва мы со Скобарихиным перешли из класса в штаб эскадрильи. Иван Ярцев встретил нас со спокойным достоинством. По словам комдива, он был лучшим летчиком в соединении. В войну вступил девятнадцатилетним младшим лейтенантом, в конце ее стал майором. Как только мы втроем уселись за стол, я спросил командира полка:
— Почему вы сами решили руководить полетами?
На волевом лице удивление, Ярцев с некоторой даже обидой пояснил:
— Вы меня на эту ночь проверять не запланировали. А я бездельничать не люблю: или летаю, или руковожу полетами.
— Это хорошо, — похвалил я. — Но оставьте все как было.
— Слушаюсь, — понизив голос, ответил Ярцев, но его деятельная, откровенная натура пересилила в он спросил: — Значит, я буду при инспектировании полка наблюдателем?
— Нет, командиром полка. Ваше дело — помогать нам, инспекторам, проверять летчиков. Вы лучше знаете их. С вами я слетаю по маршруту.
— Ну это другое дело!
В следующую летную ночь, как и было запланировано, я полетел с командиром полка на двухместном «лавочкине». Ярцев продемонстрировал классический высший пилотаж. Единственно, что у него не так чисто получилось, это мелкие виражи. Однако я на них не обратил особого внимания. Если их выполнять строго по правилам, они для летчика-истребителя, привыкшего пилотаж выполнять в быстром темпе и с большими перегрузками, кажутся нудными. Да и в воздушных боях мелкие виражи почти не применяются.
После посадки я не сказал о полете ни слова, и мы пошли на стартовый командный пункт. Это был двухэтажный домик, похожий на башню. На верхнем застекленном этаже находился руководитель полетов со своими помощниками, внизу располагалась комната для ожидания полетов и подготовки к ним. Когда мы пришли в эту ярко освещенную комнату и сели за стол, я попросил Ярцева:
— Дайте оценку своему полету.
— Кажется, слетал нормально.
Этот же вопрос я задавал Желудеву и получил такой же ответ. А какая разница в полетах!
— Нет, вы, Иван Петрович, слетали не просто нормально, а отлично.
От моей похвалы Ярцев зарделся.
— У кого учились классно пилотировать?
— На войне у своего любимого командира полка Сергея Петухова. После войны, — он немного замялся и, чуть смущаясь, взглянул на Скобарихина, — у своего комдива.
Скобарихин, сидевший рядом, от такой похвалы подчиненного смутился, и я подумал: Витте Федорович скромный человек. Он не только мастер летного дела, но и умелый методист, поэтому его, как мне было известно, собираются перевести в ДОСААФ для работы с допризывниками.
— А теперь, — говорю Ивану Петровичу, — покажите расчетные данные для полета по маршруту.
Ярцев вынул из планшета полетную карту с яркой ломаной линией и цифрами расчетных данных. Длина маршрута 430 километров. Три излома. Первая прямая 140 километров. Высота 5000 метров. Скорость 400 километров в час. Время полета 28 минут…
— Вы, — спрашиваю, — со штурманом полка советовались?
— Нет. Не успел.
Как только мы вышли из хорошо освещенного командного пункта, вас плотно накрыла темнота. В душу невольно закралось сомнение — не заблудиться бы: у меня с Ярцевым были большие расхождения в расчетных данных. Может, приказать Ярцеву взять мои расчеты? Но я инспектор, а не инструктор. В случаях грубых отклонений от маршрута прикажу Ярцеву следовать за мной. Если же и мне не совсем будет ясно местонахождение, запрошу по радио аэродром, чтобы обозначили себя вертикальным лучом прожектора. Его световая стрела в такой темной, но звездной ночи будет видна с любой точки нашего пути.
Взлетали против ветра. И с тем же курсом вышли на первый отрезок маршрута. Звездное небо! Оно кажется цветистым колпаком. На земле же виднеются только редкие огоньки: люди спят. Земля не просматривается, а только угадывается по этим редким огонькам. Прошли расчетное время по данным Ярцева.
Он доложил:
— Разворот влево.
— Понял, — отозвался я.
Второй отрезок маршрута. Приборную скорость командир полка выдерживает точно — 400 километров в час. Однако на высоте она по прибору меньше истинной. На второй поворотный пункт мы прибыли не через 21 минуту, а значительно раньше и с отклонением влево. Мое расчетное время точно сошлось с фактическим. Я выжидаю, что дальше будет делать проверяемый. Он, хорошо зная район полета, конечно, распознал по сиянию огней, где находится второй поворотный пункт. Красный огонек на левом крыле самолета Ивана Петровича заколебался. Я понял, что он кренит «лавочкина», чтобы уточнить свое местонахождение. Наконец проверяемый сообщил:
— Подошли ко второму поворотному ориентиру на пять минут раньше, с отклонением влево…
Чтобы дать ему время на поиск причины своей ошибки, я передал:
— Идите на поворотный ориентир, погасите запасное время и точно по своей схеме полета выйдите на последний отрезок маршрута.
— Понял, выполняю.
На последний отрезок маршрута мы встали в расчетное время Ярцева. С минуту он держал приборную скорость 400 километров в час, но, поняв, что мы окажемся над аэродромом на 6 минут раньше, попросил разрешения уменьшить скорость полета.
— Не разрешаю! — ответил я. — Держите по прибору четыреста, но подсчитайте, когда мы окажемся над аэродромом, и сообщите мне.
— Понял вас. — И через несколько секунд: — На точку придем на шесть минут раньше.
После посадки командир полка подошел к моему самолету, доложил мне:
— Товарищ подполковник, майор Ярцев выполнил полет по маршруту. Разрешите получить замечания?
— Замечаний я давать не буду: вы сами хорошо все знаете, как подготовились к полету и как выполнили его. Район полета вы хорошо знаете, поэтому так небрежно отнеслись к расчетам. Посмотрю, как слетает по этому же треугольнику командир эскадрильи.
У командира эскадрильи штурманские расчеты были выполнены правильно, но полет он выполнил с небольшими отклонениями. При подведении итогов инспектирования полковник Ткаченко уделил внимание полетам по маршруту и воздушным стрельбам. Эти виды подготовки у проверяемых были наиболее слабыми, а ведь дивизия предназначена для дальнего сопровождения бомбардировщиков.
6.
Для разбора результатов инспектирования в штаб армии прибыл руководящий состав частей и соединений. Хотя за дисциплину в войсках и боевую учебу была поставлена хорошая оценка, смотр показал, что боевое применение в штурмовой и бомбардировочной авиации отработано лучше, чем в истребительной. Это было объяснимо. На вооружение истребителей поступили новые самолеты, для их полного освоения летчиками требуется немалое время. У штурмовиков и бомбардировщиков осталась техника военного образца.
Разбор закончился поздно. По дороге в столовую ко мне подошли Витте Скобарихин и Сергей Щиров. Скобарихин со вздохом сказал, что ему объявлен выговор за то, что без разрешения вышестоящего командования выпустил меня в самостоятельный полет на истребителе Ла-11.
— Так мне же разрешил генерал Ушаков! — возмутился я. — Не «рука» ли Желудева сработала?
— Возможно…
Об этом выговоре я тут же доложил начальнику нашей инспекторской группы.
— Разберусь, — пообещал генерал Ушаков.
После разговора с Ушаковым ко мне подошел Щиров:
— Пойдем ужинать к моей знакомой. Стол накрыт, и неплохой.
— Мы же на рассвете улетаем в Москву.
— Дома отоспимся.
У меня не было никакого настроения идти на вечеринку, но Сергей уговорил:
— Прошу, сделай это для меня. Не понравится — ты можешь смотаться в любое время, понравится — проведем вечер вместе.
Щиров накануне получил письмо от жены, после чего в гостинице уже не ночевал. С женой у него что-то не ладилось. И я не смог отказать ему. В старинном двухэтажном особняке нас мило, как старых знакомых, встретила хозяйка Катя. Она до того была похожа на жену Сергея, что я, пожимая протянутую руку, чуть было не назвал ее Софьей. Тут же была ее подруга, совсем молодая, высокая, ясноглазая. Она с каким-то особым вниманием разглядывала меня и, когда я хотел с ней поздороваться, расплылась в радостной улыбке:
— Да ведь мы знакомы с войны. Городок Карей в Румынии, Неужели забыли?
Вот уж действительно, гора с горой не сходится, а человек с человеком… Я вспомнил ее имя — Маруся. Она назвала меня Арсеном. Тогда, в Закарпатье, в авиационной аварии я был сильно травмирован. Очнулся, когда меня вытаскивали из-под самолета. После уколов в санчасти военной комендатуры спал больше суток, и Маруся была первым человеком, которого я увидел после такого вынужденного «отдыха». Она помогла мне подняться с кровати и своими по-детски наивными разговорами словно придала мне силы. Сейчас мы с особым памятным чувством о минувшей войне обнялись и расцеловались. Щиров и Катя удивленно уставились на нас.
— Видишь, какая встреча, — сказал Сергей, — а ты не хотел идти.
Большая гостиная была скромно обставлена. Стол, три стула, старенький диванчик. Маруся в пору нашей первой встречи была совсем девчонкой, длинной и щупленькой. Сейчас она повзрослела и похорошела. Глядя на нее, я не без восхищения отметил:
— Как вы изменились! Просто красавица!
— А я тоже красавица? — улыбнулась Катя. — Мы же двоюродные сестры.
На правах хозяйки она усадила меня и Марусю на диван, а сама с Сережей села напротив нас. Мы продолжали вспоминать нашу встречу в Румынии. Оказывается, она добилась своего, была переведена из тыла на фронт, дошла до Праги, имеет боевые награды.
— Значит, отомстила за отца? — спросил я, припомнив наш давний разговор с ней.
— Я до сих пор не могу заглушить свою ненависть к фашистам, — возбужденно сказала она. — Мой отец, как и Катин муж, были кадровыми офицерами и погибли в начале войны. Мою мать и брата убили бандеровцы, которыми руководили немцы. Я сейчас работаю и заочно учусь в институте. Тяжело. Редко бываю в гостях, а сюда пришла ради любопытства. Катя сказала, что на ужине будет дважды Герой, я сразу подумала о нашей встрече в городке Карей.
Незаметно мы перешли на «ты». Откровенно душевный разговор Маруси о прошлом и своей настоящей жизни меня растрогал. Я вспомнил жену и двух наших дочек. Очевидно, эта тень задумчивости отразилась на моем лице. Она не без удивления спросила:
— Тебе надоела моя болтовня?
— Нет, что ты! Но я больше люблю слушать, чем говорить.
— Слушай, да не увлекись, — вмешался в наш разговор Щиров. — Я вот решил сделать Кате предложение, хотя у меня официально есть жена. Но я люблю жить честно.
Ужин затянулся. Время уже перевалило за полночь, когда Щиров, взглянув на часы, воскликнул:
— Ой, дорогие наши красавицы, нам пора. С рассветом к гостинице подойдет машина, а нам еще топать минут тридцать. Приходите нас проводить.
— А что подумает ваше начальство? — спросила Катя.
— Начальство? — Щиров на минуту смутился. — Пусть знает…
Вскоре после нашей поездки в Прикарпатье Щирова направили в Среднюю Азию начальником аэроклуба. А через несколько месяцев нас официально поставили в известность, что он являлся шпионом иностранного государства и арестован при попытке перейти границу. Завербован он был будто бы в Югославии, где командовал авиационным полком. После такого сообщения я по-своему объяснил, почему Щиров вел себя порой необъяснимо сумбурно. Его угнетал страх. Я вспомнил Алупку 1947 года, его слезы, вспомнил, как жена без его согласия уехала в Москву печатать какие-то документы особой важности, хотя мне было известно, что она нигде не работала.
В измену Родине я не верил. Щиров был Героем Советского Союза и звание это получил за героизм в воздушных боях, в которые сбил более пятнадцати фашистских самолетов. А что может быть для такого человека важнее и дороже Родины?! Считая обвинение ошибочным, я пошел к маршалу авиации Вершинину, рассказал о Щирове и его жене. Хотя он меня выслушал не перебивая, но по его лицу я понял, что он со мной не согласен. И, очевидно, чтобы я не счел его слова за приказ, мягко, как-то по-товарищески заговорил:
— Дело странное… Мне тоже не хочется верить, что он предатель. Однако факт остается фактом — попытка перейти госграницу. Он выбрал местность, где раньше служил, хотел проскользнуть незаметно для пограничников.
— Но ведь и в Средней Азии, где он служил последнее время, у него была возможность изучить границу не хуже, чем в Закавказье. Наконец, на самолете мог перелететь.
— Не будем фантазировать, — перебил меня маршал. — Госбезопасность разберется. Ей теперь больше известно о Щирове, чем нам. И вам не советую больше ни с кем об этом говорить, чтобы не иметь неприятностей.
Вскоре после этого разговора мы с женой пошли в театр, и там в фойе я увидел жену Щирава. Она спокойно и как-то мило держалась за руку полковника госбезопасности. Я хотел было подойти к ней, но вовремя вспомнил совет Вершинина…
Цена ошибок
1.
После окончания академии в управление истребительной авиации прибыли Герои Советского Союза подполковник Александр Кириллович Лаухин и майор Афанасий Петрович Лукин. Лаухин — невысокий, крепко сбитый, улыбчивый и веселый. При докладе генералу Жукову о своем прибытии его голос был твердым, но в голубых глазах и на губах чувствовалась застывшая смешинка. Казалось, вот-вот она расплывется по румяному лицу. Лукин, спокойный, высокий, с крупным чистым лицом и каштановыми волосами, напоминал сказочного русского богатыря. Впрочем, Герои Советского Союза все своеобразные богатыри. Чтобы летчику-истребителю стать Героем, нужно не только иметь большую душевную силу, но и быть крепким физически. Ведь только силач может выдержать тринадцатикратную перегрузку. На эту «чертову дюжину» рассчитана крепость почти всех самолетов-истребителей, но в воздушных боях были случаи, когда от перегрузок деформировались и даже разваливались машины, а летчики отделывались только секундным потемнением в глазах и болями в пояснице.
Первые реактивные самолеты МиГ-9 и Як-15 были переходными в реактивную эру, которая уверенно шагала вперед. Начали серийно выпускать МиГ-15 и Ла-15, а из нас, управленцев, на них еще никто не летал. Поэтому мне, Лаухину и Лукину было приказано побывать в Нижнем Поволжье, в учебном полку, освоить эти машины и дать заключение о их боевых качествах.
В учебном полку я встретил Ивана Бурова, бывшего летчика-испытателя авиационного завода. На этот раз не я проверял его технику пилотирования, а он стал моим учителем. Теорию и материальную часть мы освоили быстро. Однако, прежде чем приступить к полетам, нам предложили пройти медицинскую комиссию, что меня не на шутку встревожило. Я опасался, что врачи определят поясничный компрессионный перелом позвоночника, а им только бы найти зацепку. Но они не заметили дефекта, и в моей медицинской книжке появилась запись: «Годен без ограничений к полетам на реактивных самолетах».
На четвертый день напряженных тренировок Иван Буров подвел нас к «мигам»:
— Эти самолеты в технике управления проще других истребителей. Но есть одна особенность. Вы всю жизнь летали на истребителях с прямым крылом, а на этих машинах оно стреловидное: без поворота головы назад вы его не увидите. Не зря многие летчики этот самолет называют «балконным».
Слова инструктора о том, что МиГ-15 проще других самолетов, ослабили напряжение, свойственное летчикам в первом вылете. А самолет и в самом деле был прост в управлении, послушен и хорошо вооружен. На нем стояла три пушки. За простоту и силу огня летчики называли его «солдатом неба». В этот день мы вдоволь налетались на «солдате» и успели полюбить его.
Наш трудовой день длился до обеда, который превращался в неторопливый разбор рабочего дня. После этого мы шли отдыхать, перед ужином прогуливались, вечером шли в кино или же читали книги.
Прошел месяц. Мы в совершенстве овладели дневными полетами на трех типах реактивных истребителей, в том числе и боевыми стрельбами по наземным целям. В наших летных книжках появилась заключительная запись, что каждый из нас допускается к инструкторской работе на МиГ-15, Ла-15 и Як-17. И снова медицинская комиссия. Врачи решили проверить, какие изменения произошла за месяц напряженной работы. Начали с весов и не просто удивились, а напугались. Я прибавил в весе более пяти килограммов, постарались и Лаухин с Лукиным. Врачи даже думали, что мы заразились какой-то еще не изученной болезнью, и пригласили в комиссию специального врача. Но вскрыть причину он не сумел. А она была не такой сложной. Полеты для нас на новых истребителях стали настоящей трудовой радостью. Не было никакой спешки. Никто нас из понукал. Все шло в спокойном русле.
Жена ждала меня и тоже была удивлена, что я так заметно поправился.
— В командировке нас калорийно кормили, — начал было я, но Валя перебила:
— Разве я плохо готовлю? — и пригласила меня за стол.
Во время ужина к нам без стука ворвалась небольшого роста суровая молодая женщина и, отрекомендовавшись судебным исполнителем, в приказном тоне предложила, чтобы мы немедленно выселились.
— Куда хотите, по немедленно освободите комнату. Иначе я позову милицию, и она вас выдворит силой.
В решении суда указывалось, что комната должна быть передана ее владельцу — капитану, возвратившемуся в Москву.
Жена и дочери в испуге глядела на меня. «Значит, всех нас могут вышвырнуть на улицу, — думал я. — Неужели это законно? За Советскую власть у меня три войны за плечами, три ранения». Не выдавая своего душевного волнения, я молча взял судебного исполнителя за локоть к вывел на лестничную площадку… А сам долго еще не мог прийти в себя. Сердце, казалось, готово было выскочить из груди. Заснул уже утром. А в полдень, когда собрался уходить, раздался стук в дверь. Пришел офицер милиции, довольно пожилой, седой и спокойный. Он пояснил, что решением суда я с семьей подлежу выселению, но морально он сделать этого не может и посоветовал написать заявление в Верховный суд СССР.
— Если вы подадите такое заявление, — сказал он, — по закону вас до нового решения вопроса никто выселять не имеет права.
Вот что значит житейский опыт…
Транспортный самолет, на котором мы прилетели в ГДР, приземлился на большом и хорошо ухоженном аэродроме, который был красиво окаймлен нешироким кольцом сосновых деревьев. Дальше, за этим кольцом, виднелись сады, огороды и жилые дома. Асфальтобетонные взлетная полоса и рулежные дорожки были построены еще гитлеровцами. С такой полосы мне довелось летать в мае сорок пятого на аэродроме Гроссенхайн, где у фашистов было скопление реактивных самолетов разных марок, не успевших ни разу подняться в небо.
Прямо с аэродрома мы направились в столовую, где меня уже ждал капитан Костя Домов, с которым мы расстались в мае сорок седьмого после авиационного парада.
— Нас еще вчера предупредили о вашем прилете, — радостно заговорил Домаха после объятий. — Обедать пошли ко мне. У Гали уже все готово.
— Галя здесь с тобой? — не без удивления спросил я, зная, что на жен офицеров не так легко получить заграничный пропуск.
— Она же врач, ей визу дали вместе со мной.
Мы дошли до красивого особняка, расположенного в большом саду с огородом.
— Вверху мы живем, а внизу мой командир полка, Семен Глушенков, — поднимаясь по крутой лестнице, пояснил Костя. — Имеем хороший подвал, где храним картошку, капусту, яблоки.
Галя уже накрыла на стол. Домов предложил с дороги помыться под душем.
— Что ты, Домаха! На это у меня сил не хватит. Если можно, только помою руки.
Свежие карпы, сосиски, котлеты. Утолив голод и съев яблоко, я почувствовал блаженство сытого человека и впервые внимательно оглядел комнату. Добротная немецкая мебель, несколько хороших картин, на подоконниках цветы. Галя заметила мое любопытство и предложила посмотреть другие две комнаты и открытую террасу. Мое внимание привлекла терраса; большая, с двумя топчанами и двухпудовой гирей, любимой «игрушкой» хозяина.
— Хорошее местечко, — отозвался я.
— Здесь мы с Костей любим загорать, — пояснила Галя и показала с террасы сад. — А когда он цветет, то тут стоит такой пьянящий аромат!..
Нашу беседу прервал громкий плач ребенка. Мать с террасы упорхнула на голос сына, а мы пошли в гостиную. Усаживаясь за стол, я спросил:
— С Шурой не встречался?
Костя от неожиданности вздрогнул и посуровел. Лицо его стало неприступным, правое ухо привычно дернулось.
— Умерла в этом году, — тихо выдавил из себя Домов и, овладев собой, спокойно сказал:—Умерла на другой день после Праздника Победы. Инфаркт. Помнишь, она в Монипо жаловалась на сердце?
Желая переменить разговор, я заметил:
— Галя, видать, заботливая хозяйка, — и обвел глазами гостиную. — Везде чистота, уют.
— Ты прав. А впрочем, женщины в большинстве своем прекрасные хозяйки. Шура тоже была заботливой и трудолюбивой.
— А ты, Домаха, не думаешь поступать в академию?
— Думаю, — сразу ответил он. — Боюсь только, примут ли? Возраст. А учиться надо. Если не попаду в академию, пойду на курсы.
Мы еще с полчаса посидели с Костей, потом я попросил его проводить меня.
2.
В гостинице, похожей на домик, в каком жили Домовы, Андрею Ткаченко, Саше Лаухину и мне была отведена комната на первом этаже. Меня встретила яркая, стройная блондинка.
— Вот ваше место, — любезно сказала она.
— Спасибо. А кровать на веранду можно будет вынести? — поинтересовался я. — Люблю спать на свежем воздухе.
Хозяйка ничего не ответила, но с каким-то непонятным любопытством смотрела на меня. Лицо ее побледнело.
— Что с вами? — испуганно спросил я.
Когда прошла вспышка непонятного для меня волнения, она спросила:
— Вы весной сорок четвертого года не стояли в Тернополе?
— Стояли.
— А трех монахинь помните?
…Погода в те дни была летная. В небе восточнее Ивано-Франковска с утра и до вечера шли бои. Летать приходилось много. Уставали. И однажды после утреннего тяжелого вылета, когда в эскадрилье осталось только два исправных самолета, командир полка дал мне с напарником Иваном Хохловым день отдыха. Так и сказал: «День отдыха», что прозвучало как-то непривычно, совсем по-мирному.
Мы вышло из землянки. Солнечно, тепло, тихо. Правда. летчики иногда боятся тишины. Все войны выползали из тишины и все крупные сражения тоже начинались с тишины. В тишине армии готовятся к сражениям. Но непривычный «день отдыха» заставил нас поверить в искренность спокойствия, воспринять его, как праздничную весеннюю музыку. Перед нами летное поле, позолоченное одуванчиками и лютиками. Зеленеют леса и рощи, зацветают сады. До этой минуты цветы и пение птиц мы как-то не замечали. Поступь весны давала о себе знать только боевым напряжением, а весенние запахи забивались пороховой гарью.
Внезапно тишину разорвал треск запускаемого мотора. Гулом и пылью наполнился воздух. Привычный аэродромный гомон, точно сигнал тревоги, погасил прилив радостного настроения. Беспокойство за улетевших друзей, думы о возможном бое овладели нами. И как бы мы ни внушали себе, что наши волнения не могут принести товарищам никакой пользы, все усилия оказались напрасными. Фронтовой труд так роднит людей, что ты становишься как бы частицей единого живого организма.
Смотрю на Ивана Андреевича. Тот не без грусти спросил:
— Что будем делать?.. — И после паузы ответил: — Пойдем куда-нибудь.
Недалеко от нас, за насыпью шоссейной дороги виднелся лесок. Я показал в его сторону:
— Там должны быть ландыши.
— И позагораем на опушке, — предложил Иван.
Перемахнув насыпь, мы очутились на небольшой поляне. Там, оживленно переговариваясь, стояли три женщины в черных платьях и белых чепцах. Откуда здесь появились монахини? Две пожилые, наверное лет под шестьдесят, подошли к нам.
— Здравствуйте, паны, — поздоровались они на русском языке с польским акцентом и поинтересовались летчиком, назвали его фамилию и имя.
— Он вам знаком? — спросил я таким тоном, будто знал этого человека.
Третья женщина рванулась ко мне:
— Это мой муж. Он жив? Вы его знаете?
Монахиня — и муж летчик? Это не укладывалось в моем сознании. Лицо женщины было бледным, испуганные светлые глаза как бы впились в меня.
Только тут я разглядел, что эта молодая монашенка из русских. Ее спутницы, словно опасаясь, что их подруга от волнения не удержится на ногах, легонько подхватили ее под руки, но она порывисто оттолкнула их. Глаза пылали каким-то странным огнем, губы были плотно сжаты. Сквозь монашеское одеяние угадывалась хрупкая, но складная фигурка. Лицо миловидное, нежное и какое-то безудержно-отчаянное. Что же заставило ее укрыться под этим черным одеянием? Заметив, что я пристально разглядываю ее, она потупилась.
Одна из пожилых монахинь обратилась ко мне:
— Поговорите с сестрой Елизаветой. Помогите ей в горе.
Немного успокоившись, но сбивчиво, торопливо, без конца путая время и события, Елизавета поведала нам о своем несчастье. Война застала ее с мужем и трехлетней дочкой под Белостоком. Муж по тревоге уехал на аэродром, и она его больше не видела. В оккупации работала под Брянском в детском доме. И дочка была с ней, и кормили хорошо. Но после трех-четырех месяцев детей отправляли в Германию. Дошла очередь и до ее ребенка. Сопротивление было бесполезным. Мать, чувствуя недоброе, попыталась на железнодорожной станции забрать дочь из вагона и скрыться. Но все дети были мертвыми. Она поняла, что фашисты откармливали их как разовых доноров для своих солдат. На станции гестаповцы арестовали Елизавету, но она сбежала. Оборванную, умирающую от голода, ее подобрали и приютили монашенки…
Вспомнив эту историю, я сел рядом с хозяйкой.
— Значит, вы та самая Елизавета?
— Да, та самая, — грустно улыбнувшись, ответила она. — Когда узнала, что муж погиб, опомнилась и пошла работать в летную столовую. Кончилась война, а я осталась здесь, в Германии. Вышла замуж. Дочку родила…
Нашу беседу прервали пришедшие Ткаченко и Лаухин. Лиза пожелала нам спокойной ночи и вышла.
Старший нашей группы Андрей Ткаченко предложил обсудить план работы. Дивизия, которую предстояло проверить, по отчетным данным ничем не отличается от других. Поэтому решили не проверять летную документацию. И проверку техники пилотирования на этот раз начали не с руководства, а с рядовых летчиков и командиров звеньев. Они дежурят, им первым придется взлетать на перехват вражеских самолетов. И если руководство бывает склонно к парадной показухе, рядовые летчики, командиры пар и звеньев сторонятся этого. Летая с ними, можно объективно оценить не только их подготовку к воздушным боям, но и уровень руководства, умение командиров эскадрилий, полков и дивизий.
3.
Первые два полета я сделал с командиром звена и его ведомым летчиком. Командир звена имел боевой опыт, хотя воевал только два последних месяца Великой Отечественной, участвовал всего в шести воздушных боях. Но и этого ему хватило, чтобы понять, чего требует от летчика фронтовое небо. За пилотаж я поставил ему отличную оценку.
Его ведомому, лейтенанту Василию Васину, двадцать три года. Совсем недавно он окончил школу летчиков и заметно волновался.
— Когда последний раз летали? — спросил я.
— Два дня назад летал по маршруту и провел воздушный бой с заместителем командира дивизии полковником Кутаховым.
— И кто из вас вышел победителем?
— Конечно полковник! Он опытен и хитер. Сначала показал мне хвост. Я бросился за ним. Но у него скорость была больше, он сразу ушел вверх и оттуда начал клевать меня.
Лейтенант в воздухе держался уверенно, управлял машиной грамотно и умело. Я с чистым сердцем поставил ему хорошую оценку.
Очередной полет я сделал с командиром полка майором Семеном Глушенковым. Молодой, энергичный, спортивно натренированный. Правда, без боевого опыта. Из пятнадцати элементов полета, подлежащих проверке, Глушенков выполнил девять на «отлично», пять с хорошей оценкой и только за посадку получил «удовлетворительно». Но именно это больше всего огорчило меня. Ведь он — командир полка, без его разрешения ни один летчик, только что прибывший в полк для прохождения службы, не поднимется в небо. Ему сам бог велел выполнять посадку безукоризненно…
Четвертый, заключительный полет предстояло совершить с заместителем командира дивизии Героем Советского Союза полковником Павлом Степановичем Кутаховым. Полковник Ткаченко просил меня проверить его особо внимательно и всесторонне, он был кандидатом на повышение в должности. А если человек поднимается по служебной лесенке, должно расти и его профессиональное мастерство. Накануне я познакомился с летной книжкой и личным делом Кутахова. Родился в 1914 году в семье крестьянина Ростовской области. Работал слесарем на авиационном заводе, учился на рабфаке. В авиацию пришел по комсомольской путевке. Всю войну находился в действующей армии. В воздушных боях лично сбил 14 самолетов и 28 в составе группы.
Я находился на командном пункте, когда туда прибыл Кутахов, чтобы доложить о готовности учебного самолета к проверочному полету. Я обратил внимание на его немногословность и отсутствие в докладе какой-либо риторики.
У каждого летчика свой характер, и каждый взлетает по-своему. Но при проверке техники пилотирования все стараются показать особое мастерство. Ведь оценка этого полета будет записана в летную книжку.
Кутахов начал взлет умело и спокойно. Как ни присматривался я к разбегу самолета, никаких отклонений не заметил. Даже отрыв от полосы и выдерживание на метровой высоте прошли без изменения положения машины. И только когда начала стремительно уходить вниз земля, я понял, что взлет произведен на «отлично».
Зона для пилотирования находилась километрах в пяти от аэродрома. Набрав 4000 метров, Павел Степанович взял ориентиром направления посадочное «Т», маячившее вдали белым крестиком. На мелких виражах допускается колебание скорости, но стрелка прибора словно застыла на нужной цифре. Я удивился: такого мастерства мне наблюдать не приходилось. Левый глубокий вираж летчик сделал тоже без малейшего колебания скорости. Это уже насторожило меня: не приспособлено ли на самолете какое-нибудь устройство для стопорения стрелки? Из своей кабины я незаметно для Кутахова увеличил скорость, и стрелка мгновенно среагировала. Больше в управление я не вмешивался. Все остальные фигуры высшего пилотажа были выполнены чисто, даже с каким-то артистическим изяществом. И что характерно, весь пилотаж был произведен без отклонения от направления на посадочное «Т» аэродрома. Приземление тоже прошло удивительно точно и так же мягко, как взлет.
Когда мы вышли из самолета, я пожал Кутахову руку:
— Полеты вы освоили в совершенстве.
Делая запись в летную книжку Кутахова, задумался. Он заслуживал отличной оценки, но его полет был выше установленных оценочных норм. Он был выполнен не просто мастером высокого класса, а мастером-художником. Поэтому я отказался от стандартной записи, написал короче и проще: «Полет выполнен замечательно! Так советую летать и впредь!»
4.
Истребитель МиГ-15, обладая сильным вооружением, мог использоваться как штурмовик для удара по наземным целям. Его 37-миллиметровая пушка способна была пробивать броню танков, что очень важно. Прославленные штурмовики Ильюшина, которые на фронте называли «летающими танками», сходили с вооружения, и МиГ-15 фактически стал реактивным штурмовиком. Летчики, по докладам командования, неплохо овладели искусством стрельбы по наземным целям, и мы решили посмотреть, насколько это соответствует действительности.
Аэродром, где мы производили проверку, служил своего рода полигоном для стрельб с воздуха по наземным целям. По сторонам взлетно-посадочной полосы около соснового пояса были размещены мишени и вышка для управления стрельбой.
Полковники Павел Кутахов, Андрей Ткаченко и я находились на вышке, с которой хорошо была видна белая мишень, изображающая силуэт самолета. Неподалеку от нее для контроля результатов стрельб расположился подполковник Александр Лаухин. Метрах в двадцати от нас был выложен полотняный крест, обозначающий, что стрельба запрещена, что идет подсчет попаданий только что закончившего работу летчика. Вскоре по телефону сообщили оценку и разрешили продолжать стрельбу. Кутахов приказал сменить крест на букву «Т», только после этого руководитель стрельбы разрешил выход на цель очередному истребителю. Летчик, уже находившийся в воздухе, выполнил маневр и перешел в пикирование, но не на меловую мишень, а почти на нашу вышку. Мы были уверены, что он исправит ошибку и отвернет, но он пикировал прямо на нас. Кутахов, видя это, пытался что-то крикнуть в микрофон, но его голос забила стрельба. Нас словно ветром сдуло с вышки, но огонь уже прекратился, а летчик спокойно вывел МиГ-15 из пикирования и стал делать разворот для повторного захода. Кутахов стрелой взлетел на вышку, схватил микрофон:
— Сорок пятый, я — «Земля». Как меня слышите?
— «Земля», я — Сорок пятый. Вас слышу хорошо. Разрешите, продолжить работу?
— Работу запрещаю. За-пре-щаю! Идите на посадку!
Летчик помолчал, потом с обидой спросил:
— Почему? У меня остались снаряды.
— Вы поняли? — крикнул в микрофон Кутахов. — Немедленно садитесь!
— Понял, — подавленно ответил летчик.
Я хотел посмотреть на плановую таблицу, лежащую на столе, узнать, кто стрелял, но руководитель стрельбы опередил меня:
— Лейтенант Василий Васин.
— Я у него проверял технику пилотирования. Хорошо, слетал. Что с ним случилось?
— Не могу понять, — все еще не успокоившись, ответил Кутахов. — Парень старательный, исполнительный.
В этот момент запросил разрешение на стрельбу очередной летчик. Кутахов, понимая, что произошло ЧП, глядя на нас, инспекторов, как бы советуясь, сказал:
— Я думаю, надо прекратить полеты и разобраться с Васиным.
— Решайте сами, — ответил Ткаченко. — А вот Васина, как только он сядет, немедленно доставьте сюда. Надо сделать так, чтобы он ни с кем словом не обмолвился.
— Слушаюсь, — сказал Кутахов, приказав выложить крест, являющийся своеобразным семафором запрета на стрельбу.
Поджидая лейтенанта Васина, мы спустились с вышки вниз. Тут же к нам подбежал солдат и сообщил, что в «Т» обнаружено семь попаданий снарядов. Видимо, Васин перепутал мишень с буквой «Т», обозначающей разрешение на стрельбу. Я пошутил:
— Парень заслужил две отличных оценки. Наглядно убедил инспекцию в своем мастерстве.
— Да-а, — подхватил Ткаченко. — Точность ювелирная. Но вот почему он перепутал? Загадка со многими неизвестными.
Виновника привезли на «Победе» комдива. Он быстро выскочил из машины и, как положено, представился Ткаченко, потом доложил Кутахову:
— Товарищ полковник! Лейтенант Васин прибыл по вашему приказанию.
— Вы почему стреляли не по мишени, а по знаку, разрешающему работу? — строго спросил тот.
— Как по знаку? — летчик испугался до онемения, заморгал глазами и тихо выдавил из себя: — Неужели убил кого?
— Этого еще не хватало, — с негодованием продолжал Кутахов. — Отвечайте прямо: почему стреляли не по мишени?
В народе говорят, что если разжечь страсти в человеке, то правды не найти, поэтому Ткаченко вмешался в разговор, а точнее, в допрос летчика:
— Вы, товарищ Васин, возьмите себя в руки, отвечайте четко и ясно.
Бледность отхлынула с лица летчика. Он внимательно осмотрел притихшее небо, взглянул на противоположную сторону аэродрома, где находилась мишень, по которой он должен был стрелять. Его глаза скользнули по вышке, откуда мы только сошли, остановились на белом кресте. Только после этого Васин сказал:
— Я, товарищ полковник, до этого стрелял два раза, — и показал на крест, — и оба раза по мишени, которая находилась здесь. Заходы были с той же стороны. Сейчас стрелял по привычке…
— Но здесь-то была не мишень-самолет, а «Т»!
— Да, «Т». Но солнце слепило.
— Молите бога, — сказал Ткаченко, — что обошлось благополучно и вы очередь дали удачно. Все снаряды легли кучно. Умение стрелять у вас есть, а вот осмотрительности и сообразительности при изменении обстановки не хватило.
Отпустив летчика, Ткаченко предложил Кутахову:
— Надо сейчас же собрать летчиков и объяснить, почему случилось происшествие.
Солнце было в зените, когда летчики в установившейся тишине покидали аэродром. Небо тоже притихло, как бы сочувствуя им. Жалко, что пропадает такая летная погода. Однако случившееся должны были прочувствовать все авиаторы, а для них запрет полетов — большое наказание.
Мы вместе с Кутаховым в столовую шли пешком. Ткаченко спросил Павла Степановича:
— А Васин после этого не скиснет?
— Не должен. Жизнь летчиков, бывает, жестоко бьет. Самолюбцы, эгоисты, случается, закисают, а Васин — общительный человек, нос повесить ему не дадут друзья.
Инспекция пришла к выводу, что дивизия неплохо подготовлена к боевым действиям днем в простых метеоусловиях. К ночным полетам на МиГ-15 и к дневным в сложных метеоусловиях полки фактически не приступали, хотя аэродромы были оборудованы для так называемых «слепых» полетов. В каждом полку имелись учебные Як-11, и нам было приказано проверить умение руководящего состава летать в закрытой кабине. С этих двухместных самолетов должна была начаться подготовка летчиков к полетам на боевых истребителях в сложных метеорологических условиях. Из инспекторов при такой погоде еще никто не летал, да и наши самолеты в тренировочном полку не имели нужного оборудования. Перед командировкой мы изучили теорию «слепого» полета, чтобы контролировать проверяемых, летящих в закрытой кабине по приборам.
Первый такой проверочный полет я сделал с инспектором по технике пилотирования дивизии подполковником Георгием Киселевым. Мы были хорошо знакомы по совместной службе в Белоруссии, где он служил на такой же должности. Летчик он хороший, но полет в закрытой кабине выполнил неважно.
— Жора, скажи откровенно, почему так слетал? Ты же инспектор и должен обучать летчиков, — по-товарищески спросил я Киселева.
— Я никогда в таких полетах не тренировался. Условий не было. Осваивали реактивный самолет. Торопились, чтобы суметь постоять за себя.
Подошел Костя Домов. Обычно на службе он строго соблюдал воинскую субординацию, но сейчас подошел ко мне и в радостном возбуждении вместо доклада, что он готов к полету, сообщил:
— Арсен! Я только что прочитал — у нас произведен атомный взрыв. У нас есть атомная бомба!
— Это здорово! — обрадовался я. — Догнали, значит, Америку.
— Догнали! А я, грешник, с недоверием отнесся к сообщению наших газет о том, что мы открыли секрет атомного оружия. Я тогда думал: раз открыли, почему не сделали бомбу? Теперь полный порядок. Вот, — протянул он мне газету, — почитай сообщение ТАСС.
Ко мне подошел техник Як-11 и доложил, что машина готова к полету. Я пошутил, обращаясь к Домову:
— А ты, товарищ пропагандист?
Он подумал и решительно заявил:
— Нет! Если инспектор дивизии по технике пилотирования слетал неважно, то и я провалюсь.
— Надо, Домаха, слетать хорошо.
— Ну, надо так надо. Попробую.
Взлетел Домаха великолепно, убрал шасси и на высоте пятидесяти метров надвинул на себя закрашенный черной краской фонарь и зашторил переднее стекло кабины. Теперь он не видит ни земли, ни неба и пилотировать может только по приборам. Самолет сразу же накренился вправо. Я понимал причину: при мгновенном переходе от света к темноте глазам нужно адаптироваться. Одному для этого достаточно нескольких секунд, другому полминуты. Летчику надо связать в единое целое показания пяти приборов — высотомера, указателя скорости, двух компасов и кренометра, называемого почему-то «пионером». В «слепом» полете летчик не должен доверять своему чутью. Оно, как правило, подводит. Домов, видимо, доверился иллюзиям и, еще не успев схватить показания всех необходимых приборов, хотел уменьшить крен самолета, но сделал наоборот: резко его увеличил. Я вмешался в управление и исправил крен.
До высоты 100 метров самолет шел неровно, кренясь то в одну, то в другую сторону. Первый разворот Домов начал делать с таким большим креном, что машина начала снижение. Я не стал вмешиваться, рассчитывая, что проверяемый сам исправит ошибку. Его глаза уже привыкли к приборам. И действительно, самолет на какую-то долю секунды застыл, как будто понял, что земля ему в таком положении ничего хорошего не сулит. Я даже подумал: глаза Домахи уже схватили нужные приборы и на их показания реагируют хотя медленно, но правильно, и убрал руку с рычага управления. Но неожиданно для меня возникла такая ситуация, о которой я всегда вспоминаю со страхом. «Як» словно обиделся на летчиков за неумелое управление и так стремительно нырнул левым крылом к земле, что я инстинктивно схватил управление и рывком предотвратил падение. Мысль, что из-за лишней доверчивости можно погибнуть, обожгла меня. Я даже взмок. Отгоняя испуг, закончил разворот и, резко покачав самолет с крыла на крыло, спросил:
— Домаха, хорошо видно приборы?
— Нормально.
— Управляй машиной спокойно и не делай больших кренов.
— Понял.
С моей помощью Домов, набрав высоту, сделал второй разворот. Теперь мы летели на высоте 400 метров, и я мог не вмешиваться в управление, и все же мои руки теперь постоянно находились на рычагах управления, чтобы можно было мгновенно прийти на помощь.
Последний расчетный разворот Домов делал, как и полагается, со снижением, выйдя из него на высоте 250 метров с курсом равным направлению посадочной полосы. Однако летчик тут же допустил ошибку, не сделал доворот на дальний привод и, естественно, не вышел на ближний. Открыв фонарь, Домов увидел, что полоса оказалась значительно правее, и резко крутанул машину. Я по переговорному устройству приказал:
— Отставить выход на полосу. Переключи радиокомпас на ближний привод и действуй по приборам.
Домов выполнил мою команду, но на полосу не вышел, дал полную силу мотору и пошел в набор высоты.
— Разрешите идти в зону?
— Не разрешаю. Сделай «слепой» полет по кругу с посадкой.
На этот раз Домов с моей помощью сел. А я мысленно спросил себя: смог бы сам на месте Домова приземлиться без помощи инструктора? Ведь я, как и Домаха, в закрытой кабине по системе «слепой» посадки не летал. И тут же возник другой вопрос: а имею ли я моральное право принимать зачет? Нет конечно, но мне приказано делать это… После полета в зону Домов по приборам вышел на дальний привод, выполнил заход, но на четвертом развороте попросил:
— Помоги мне сесть.
Это меня озадачило. Неужели Домова все заходы на посадку ничему не научили? Поняв его ошибку, спросил:
— А радиокомпас переключил с ближнего привода на дальний?
— Нет! Позабыл, раззява!..
— Тогда сделай еще один заход.
На земле летчик выключил мотор, но долго не выходил из кабины. Я не торопил. Мне хорошо было видно, как Домов снял с головы шлемофон, достал носовой платок и вытер голову и лицо. Потом раздался его усталый голос:
— Разрешите вылезти из клетки на волю?
На земле, доложив о выполнении задания, он пожаловался:
— Я в таких полетах оказался профаном, устал дико.
Мне стало ясно, почему он попросил помочь в приземлении самолета.
В этот момент ко мне подошел летчик и доложил о готовности к проверочному полету в закрытой кабине.
— Идите пока к себе и подождите, — сказал я ему. — Наверно, сегодня на этом закончим полеты в закрытой кабине.
Свое мнение я доложил старшему нашей группы полковнику Ткаченко.
— Я же предлагал: давайте сначала сами в совершенстве освоим полеты но системе, а потом начнем проверять. Но со мной не посчитались. Как же мы доложим в Москве?
— Так и доложим: честно и прямо. Проверка должна быть учебой, а разве мы можем учить? Надо отобрать лучших летчиков и организовать специальные курсы для подготовки инструкторов, которые будут обучать летчиков полетам в сложных метеоусловиях…
Мы собирались бороться, отстаивать свое мнение, но командование со всеми нашими предложениями согласилось.
Экзамены
1.
В конце октября группа инспекторов во главе с политработником генерал-лейтенантом Яковом Блоковым должна была принять зачеты от слушателей Высших офицерских летно-тактических курсов ВВС. Во время войны эти курсы находились в Подмосковье и назывались Высшей школой воздушного боя. Учились в ней только летчики-истребители. Позднее курсы были переведены в один из южных городов, а учиться там стали также экипажи бомбардировщиков и штурмовиков. Поэтому и в нашей группе имелись представители разных родов авиации. Иван Маурычев должен был проверять летчиков бомбардировщиков, Павел Дубинин — штурмовиков, а я — истребителей. Ивана Александрова командировало управление учебных заведений. Ему предстояло проверить документацию, беседовать с преподавателями и подводить итоги каждого дня нашей работы.
Разместились мы в гостинице при курсах, в первый же день ознакомились с бытом слушателей. Жили они тесновато, по-солдатски. Но не были в претензии, понимая, что не так просто отстроить город, в котором более полутора лет хозяйничали фашисты. Правда, в общежитии не было порядка и чистоты. Это мы решили отметить в акте.
Поздно вечером генерал Блоков дал указание перед началом зачетов выстроить слушателей перед входом в учебное заведение. Он собирался с ними побеседовать, но, к нашему удивлению, на встречу не явился. Ждали его около часа. Позвонили в гостиницу. Оттуда ответили, что генерал Блоков заходил в свой номер вместе с начальником курсов генерал-лейтенантом авиации Тимофеем Куцеваловым, а потом они оба куда-то уехали.
Куцевалова я знал еще по Халхин-Голу, где он командовал авиационным истребительным полком и считался хорошим командиром. За бои на Халхин-Голе, где он сбил лично четыре самолета и пять в группе, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны Тимофей Федорович командовал ВВС фронта и 12-й воздушной армией. Но верно и метко говорят в народе: «Хочешь познать человека, дай ему власть».
Став командующим, Куцевалов сильно изменился. Грубость и крики на подчиненных вошли в стиль его работы.
Один случай во время Великой Отечественной облетел всю авиацию. Самолет майора Свитнева в воздушном бою над аэродромом был подбит, летчик с трудом приземлился. На летном поле в это время находился Куцевалов. Он сразу же, как только пилот вышел из самолета, выхватил пистолет, подбежал к нему и закричал: «А ну, трус, немедленно взлетай! Иначе застрелю!» На войне летчики особенно чутки к несправедливости. И возмущенный Свитнев, мгновенно выхватив свой пистолет, спокойно сказал: «Давайте, товарищ генерал, посоревнуемся — кто кого?» После этого случая Куцевалова за глаза называли «генерал Застрелю». Хорошо помнил я его и по разговору в Монголии уже после боев. Я тогда был комиссаром истребительной эскадрильи на И-16, а меня решили перевести в полк, вооруженный новыми истребителями И-153. Во время беседы Куцевалов спросил меня:
— Как вам нравятся новые истребители?
Я без всякой дипломатии ответил:
— «Чайки» в авиации — шаг назад. И-шестнадцатый намного лучше этой «этажерки».
— Вы комиссар и так клевещете на новую советскую технику! — вскричал Куцевалов. — Да вас за такую клевету надо отдать под суд!
— За правду под суд не отдают…
Если бы не член Военного совета, присутствовавший при разговоре, мне бы несдобровать.
И вот новая встреча с Куцеваловым. Вернее, не состоявшаяся встреча. Генералы на построение не прибыли, и мы начали без них принимать зачеты у слушателей.
К первым двоим экзаменующимся у меня не было никаких претензий и дополнительных вопросов. Они показали глубокие знания, отвечали уверенно и четко, хорошо знали требования руководящих документов. Заинтересовал меня капитан Павел Окунев с двумя орденами Красного Знамени на груди. Внимание он привлек своим ответом на один из вопросов:
— Кто и когда совершил первый воздушный таран?
— Мой земляк штабс-капитан Петр Николаевич Нестеров в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года. Тараном он сбил вражеский самолет и погиб сам. К сожалению, похоронен не на родине, в Нижнем Новгороде, а в Киеве. У нас же, в Горьком, до сих пор память о нем ни местное начальство, ни московское не постарались ничем увековечить.
Ответ моего земляка был не только кратким и правильным, но и смелым. В то время надо было иметь мужество, чтобы так публично, да еще на экзаменах, упрекнуть местных и московских администраторов.
Воздушный таран Нестерова наши летчики взяли на вооружение и в последующих войнах совершили около 700 ударов по врагу своими самолетами. А таран — это не только особое средство борьбы с врагом, которое требует от летчика полного накала всех своих патриотических чувств и эмоций, но и умения рассчитать удар в огненном вихре боя. И я невольно подумал: а почему бы действительно не соорудить памятник погибшим при таране летчикам в Горьком или в Москве? Это был бы не просто памятник погибшим авиаторам, а символ высшего патриотизма, мужества и умения владеть собой.
Мы, инспекторы, привыкшие к подвижной работе на земле и в воздухе, в первый день зачетов от долгого сидения, душевного и умственного напряжения изрядно устали. Вернувшись в гостиницу, делая разминку, ходили по комнате и подводили первые итоги зачетов. Особое наше внимание привлек рассказ подполковника Дубинина. Вся его группа пришла на зачеты под хмельком. Он сначала хотел отставить экзаменовку, но задумался. Летчики-штурмовики явились в парадно-выходной форме, с орденами и медалями. Он сам воевал на штурмовиках, поэтому хорошо знал тяжелую работу этих ребят на войне и их крепкую боевую дружбу. Нет, такие летчики ни с того ни с сего не могут устроить «хмельную» демонстрацию. Почувствовав неладное, он спросил:
— Почему вы так дружно тяпнули именно перед экзаменами?
Слушатели ответили, что это их протест преподавателю, который с вызовом ставил им двойки и тройки. Дубинин зачеты принял и ни одному слушателю не поставил плохой отметки.
Нам было над чем задуматься. Работа комиссии началась с досадных огрехов. И эта вызывающая выходка слушателей, и исчезновение начальника курсов вместе с председателем экзаменационной комиссии. Мы не знали, что предпринять. На «помощь» пришел сам генерал Блоков. Он ввалился в нашу комнату и, не устояв на ногах, бухнулся на ближнюю от двери кровать. Мы с тревогой подбежали к нему. Но он был элементарно пьян. Подполковник Маурычев всполошился:
— Надо вызвать «скорую помощь».
— Не надо, — махнул рукой Александров, — сам проспится. Давайте перенесем его в генеральский номер. Там. ему будет уютнее да и нам спокойнее.
По пути на ужин Маурычев сердито заявил:
— С Блоковым я бы не полетел в бой.
— Так он же не авиатор: петлицы у него красные, — заметил Александров. — Хотя и в пехоте есть аналогичная поговорка: «С таким бы я не пошел в разведку».
— Но ведь и начальнику курсов надо быть безрассудным, чтобы перед началом экзаменов так «угостить» председателя комиссии, — вступил в разговор Александров.
— Куцевалов это сделал с целью. Хотел задобрить Блокова.
— Но экзамены будем принимать, ставить оценки и писать акт мы, а не он.
— Мы напишем, а он не подпишет…
2.
Как только мы вышли из столовой, ко мне подошел майор Афанасий Приставкин. Мы с ним вместе кончали Харьковскую школу летчиков, а в начале войны учились в академии. Весной 1944 года он был на фронте в нашем полку на стажировке.
— Арсен! Я узнал, что ты приехал…
— Афоня! Здравствуй, дорогой! Вот как неожиданно снова скрестились наши пути-дороги… Ты на курсах работаешь?
— Да.
Приставкин почему-то не любил, когда его называли Афанасием Ивановичем. Ему нравилось простое русское имя — Афоня.
Как часто бывает, встреча с фронтовым другом заставляет вспомнить самый памятный бой.
…Ужин. Между мной и командиром полка Владимиром Василякой сидит капитан, приехавший к нам на стажировку. Большинство стажеров за месяц, два врастали во фронтовую жизнь, становились иастоящими боевыми товарищами, и потом приходилось с сожалением расставаться с ними. Приставкин был хорошим летчиком, хотя в сложных боях ему еще не довелось участвовать. Но он изрядно надоел Василяке просьбами: летать, летать… Боялся, что война кончится и он не успеет уничтожить ни одного фашистского самолета. Василяка посоветовал:
— Афоня, ты только не спеши с полетами. В следующий раз кем думаешь пойти — ведомым или ведущим?
— Конечно, ведущим, — не задумываясь ответил стажер. Но, видимо спохватившись, что так заявлять опрометчиво, уточнил: — А впрочем, вам виднее.
По лицу Василяки пробежало чуть заметное недовольство, но он, как бы с полным безразличием, посоветовал:
— Подумай и реши сам…
Погода стояла солнечная, по-весеннему теплая. Летчики только что пообедали и, усевшись на бревнах, оставшихся от строительства землянки, отдыхали перед очередным вылетом. К нам подошел командир полка и, чтобы не тревожить всех, тихо отозвал меня, поставил задачу на вылет и определил состав группы.
— Возьми с собой капитана-стажера, а то он летает мало. Вторая пара — Лазарев с Коваленко. Третью назначу из другой эскадрильи. Сейчас, пока есть время, ознакомься с обстановкой.
В районе южнее Тернополя танковая армия противника вышла из окружения, поэтому там шли сильные наземные и воздушные бои. В небе часто появлялись фашистские бомбардировщики. Мы должны были перехватывать и сбивать их.
Летчики Лазарев и Коваленко уже пришли, а пары из соседней эскадрильи и стажера не было. И тут я увидел, что все они, пригревшись на солнце, сидят на бревнах и слушают пение Саши Сирадзе под аккомпанемент на фандыре. Командир полка тоже там и, видимо увлекшись, позабыл о вылете. Я понимал, что эти минуты, согретые песней и музыкой, для летчиков точно эликсир жизни, но мне было не до концерта. Подойдя к командиру и не скрывая своего неудовольствия, я напомнил, что минут через десять нужно вылетать.
— Не волнуйся, — сказал командир. — Все будет в порядке. С тобой полетит пара Сирадзе. Он об этом знает и попросил спеть последнюю, свою любимую.
Когда уже настроишь себя на бой, каждое слово воспринимается остро. Фраза «спеть последнюю» покоробила меня, и я тревожно взглянул на Сирадзе. Летчик пел задушевно и чуть заметно, как бы про себя, улыбался:
Ты постой, красавица, Рыжий, дарагой; Ты мне очень нравишься, Будь маим женой…Он жил песней, а я должен был вести его в огненное небо. От резкого изменения температуры и гранит рушится, не то что нервы человека. Но как может он перед самым вылетом, когда все должно жить подготовкой к бою, петь и беспечно улыбаться? Брать ли его?
Когда песня кончилась, Афанасий подошел ко мне и попросил, чтобы я назначил его ведущим группы.
— Надо же мне учиться командовать в бою. В случае чего — подскажешь.
Человек только начал воевать, еще не побывал в серьезных переплетах, но собирается вести в бой опытных летчиков. Он может так подставить всех под удар, что никакая подсказка не поможет. Нет, бой — не учебная игра.
— Еще рано. Пойдешь ведомым.
— Но я же стажируюсь в должности командира полка! — Афоня был явно недоволен моим решением.
Перед вылетом бессмысленная размолвка раздражает. Желая прекратить этот разговор, я строго сказал:
— Выбирай: или полетишь со мной в паре, или останешься на земле.
Афоня понял, что разговор окончен, и, видимо опасаясь остаться на аэродроме, поспешил примириться:
— Конечно, полечу с тобой.
— Только без моего разрешения от меня не отходить.
При подходе к Бучачу я связался с наземным командным пунктом. Боевой порядок мы построили из двух групп. Сирадзе с напарником выше нашей четверки на два километра, что обеспечивало ему свободу действий против вражеских истребителей. Правда, при таком большом разрыве по вертикали верхней паре не приходится рассчитывать на быструю помощь от нас, зато ей в трудный момент легко нырнуть под наши крылышки.
Ждем противника. Небо пустое, тревожное. Каждое пятнышко, каждый всплеск света на земле и в воздухе, каждое слово товарищей по радио настораживает. Все тело, глаза, мышцы от напряжения словно перегрелись. Смотрю на часы. Над полем боя мы находимся тридцать одну минуту. Летать на таком взводе мучительно тяжело. Наконец с запада, из густой синевы, «походкой» асов выскочили четыре «фоккера». Они, видимо, наводились с земли радиолокационной станцией: уж очень точно нацелились на нас. Но мы их тоже ждали, поэтому встретили дружно, не пожалев ничего, чем располагали.
Фашисты, пользуясь заранее запасенной скоростью, метнулись к солнцу и попали под удар Сирадзе. От неожиданности они шарахнулись вниз, снова к нам, но потеряли один самолет и бросились наутек. Сирадзе с кавказским темпераментом метнулся за ними.
Мне показалось странным, что ушли они на восток, в глубь нашей территории. Растерялись? Вряд ли. Не хотят ли фашисты, подставляя себя под удар, увлечь нас за собой, чтобы дать без помех отбомбиться своим бомбардировщикам?
— Сирадзе, прекратить погоню! — передаю по радио.
Когда мы снова собрались всей группой, с востока появились старые знакомые — три «фоккера». Не имея количественного преимущества, они обычно после первой неудачной атаки выходят из боя. Эти же, наоборот, вызывающе близко подошли к паре Сирадзе, как бы дразня: вот мы, давайте подеремся. Сирадзе, находясь на одной высоте с противником, запросил разрешение атаковать. Я запретил. А не зря ли? Старое солдатское правило гласит: когда не ясна обстановка — не спеши вступать в бой. В такие моменты колебания в решении неизбежны. Нужно подождать. «Фоккеры», точно длинные блестящие клинки, угрожающе нависли над нашей четверкой. Но если они снова пришли к нам, значит, им бой сейчас выгоден.
— Смотрите внимательно за «фоккерами»! — успел предупредить я летчиков, и в тог же момент на западе заблестели подозрительные штрихи, Они приблизились, выросли и вырисовались в четверку «мессершмиттов». Шли по маршруту «фоккеров» прямо на нас, видимо рассчитывая застать нас во время боя и ударить внезапно.
Замысел противника прояснился. Его истребители задумали проложить дорогу своим бомбардировщикам. Они где-то на подходе, но пока их не видно. До их появления нужно связать боем истребителей. Они летят на одной высоте с нашей четверкой. Нам нападать на нее невыгодно: бой получится затяжным. Сирадзе с высоты атаковать сподручнее, делая расчет на стремительность и точный огонь. Может, Сирадзе и не собьет врага, зато он увлечет за собой «фоккеры», и они, потеряв высоту, уже не будут угрожающе висеть над нами.
— Сирадзе! Немедленно атакуй «мессеры», — передаю я. — «Фоккеров» не бойся: мы их к тебе не допустим.
— Понятно! Понятно! — голос Саши отрывистый, с грузинским акцентом. Его нельзя спутать.
Сирадзе вместе с ведомым резко спикировал на «мессершмитты». «Фоккеры» хотя и с опозданием, но тоже перешли в нападение. Однако не на Сирадзе, как я предполагал, а на нашу четверку. Это показалось мне странным. Мы развернулись навстречу вражеской тройке. Но со стороны солнца появились еще два «фоккера» и стремительно пошли на пару Сирадзе. Вот она, каверза! Саша, увлеченный атакой, вряд ли видит новую опасность. Да если и заметит, то не сможет защититься от этой злосчастной пары. И мы помочь ему не успеем. Далеко, к тому же тройка «фоккеров», развив большую скорость, нацеливается на нас.
— Ворожейкин! Внимание! Группа бомбардировщиков противника на подходе, — раздалось предупреждение с земли.
Фашисты рассчитали все с немецкой пунктуальностью, умело используя при этом радиолокаторы.
— Саша! Саша! Вас догоняют «фоккеры», — закричал я, но, как назло, в шлемофон ворвалась буря шума и треска. Очевидно, враг, чтобы забить наше управление, включил радиопомехи. Сирадзе не мог меня услышать. Ему с ведомым выпало вести бой против шестерки противника. И мы скованы боем. Идем в лобовую атаку. Но гитлеровцы, не приняв вызов, начали резко отворачивать. Они поняли, что их внезапный кинжальный удар не удался, и решили снова уйти вверх. Этот прием нам давно знаком. Огонь! И «фоккер» с разваленным крылом скользнул вниз, а два других метнулись в сторону.
Наша четверка свободна. И мы спешим на помощь Сирадзе. Там, черня небо, уже тает в огне чей-то самолет, а рядом клубится рой истребителей. Торопимся. Но на нас с солнца снова бросились оставшиеся два «фоккера».
— Сергей! Возьми их с Коваленко на себя, — передаю Лазареву, а сам со стажером мчусь к рою истребителей. От него откалывается пара «фоккеров» и преграждает нам путь. Как ни старались отцепиться от назойливых «фоккеров», не сумели. А тут еще набатом раздался голос Лазарева:
— Загорелся мой «як»! Ухожу…
Голова сама повернулась назад. Самолет Лазарева с развевающимся красно-черным хвостом устремился к земле. Картина угнетающая. Черные полосы в огне — вспыхнул бензин. Когда горит масло — дым белый, и он не так опасен, как этот. От этого, траурного, жди взрыва баков с горючим. Но почему Сергей не прыгает и не делает попытки вывести самолет? Ранен? Перебито управление? Обстановка никому из нас не позволяла не только чем-нибудь помочь Лазареву, но и проследить его, быть может последний, путь.
В мертвой хватке крутимся с «фоккерами». Мой новый напарник Афоня держится хорошо. И все же нам трудно. Самолеты противника на вертикали лучше наших. Наши дальние «яки», перегруженные бензином, тяжелы на подъеме. Еще натиск! В глазах от перегрузки знакомые чертики. И враг не выдерживает, его самолеты проваливаются вниз.
Ликовать некогда. Вижу, как истребители противника берут в клещи одинокий «як», летчик которого, не имея высоты и скорости, никак не может вырваться из окружения. Используя свое единственное преимущество — виражи, он отчаянно кружится, от неимоверно больших перегрузок с крыла его самолета непрерывным потоком вьются белые шнуры. Во всем этом боевом пилотировании видно мастерство летчика.
— Держись! — кричу ему. — Выручим.
Бросаемся на помощь, но всему есть предел: летчик то ли от попадания снарядов, то ли поняв, что у него другого выхода для спасения нет, так рванул машину, что она надорвалась и штопором пошла к земле… Вражеские истребители, заметив, что мы сыплемся на них сверху, ушли вниз. Пусть уходят. Но почему «як» все еще штопорит? Что с летчиком? Убит? Наблюдать за падением некогда. Надо атаковать бомбардировщиков. Но где они? Не вижу. Запрашиваю командный пункт, слышу тревожный голос Лазарева:
— Выводи! Выводи!
Откуда взялся Сергей? Или я ослышался? Нет! Он рядом с нами. Вероятно, бывают чудеса. А «як» по-прежнему штопорит. Кричу, чтобы летчик выводил машину. Осталось совсем мало высоты. Потеряв надежду, мы смолкли и приготовились к худшему. Тишина. Кажется, все застыло от тишины. Мы только смотрим и ждем. И вдруг, словно испугавшись этой траурной тишины, «як» прекратил вращение и свечкой взмыл в небо. Только теперь по номеру самолета я определил, что это был Коваленко.
— Что с тобой? — спрашиваю его.
— Все в порядке! Уводил фрицев, вот и затянул штопор.
Лазарев пристроился к нам.
— Как чувствуешь себя? — спрашиваю его.
— Скольжением погасил пожар. Могу драться.
Нас четверо. Больше в небе никого не вижу. Запрашиваю КП о бомбардировщиках противника.
— Набирайте высоту и будьте внимательны! — отвечают с земли.
Странный ответ. Я же видел бомбардировщики своими глазами.
Бесконечное тревожное небо. Где же Сирадзе с напарником? «Спеть последнюю…» Эта фраза, сказанная перед вылетом, опять навеяла недобрые предчувствия.
— Саша! Где ты? Почему молчишь?
— Слышу, командир. Идом на Бучач. Высота восэм.
Сирадзе. Конечно он! Говорит бодро. Его и напарника Вартана Шахназарова, выросших на Кавказе и привыкших к разряженному воздуху, высота не утомила. Крепкие ребята!
Мы снова все вместе. Но где же немецкие бомбардировщики? Слышу голос с земли:
— Бомберы изменили курс.
Значит, наш бой сыграл свою роль. Вражеским истребителям не удалось пробить дорогу бомбардировщикам…
После посадки капитан-стажер был молчалив, а потом сказал:
— Ты уж, Арсен, извини, что рвался вести группу. Я еще слабак.
— Все в небе бывает. А как бой?
— Я понял только, что он был тяжелым. А вот почему мы его выиграли — не пойму.
— Повоюешь — поймешь.
— Мне осталось мало стажироваться. Арсен, помоги мне сбить хоть одного фашиста. Я же летчик-истребитель.
…И вот спустя пять лет мы снова встретились. Узнав, что он работает на курсах, я спросил, не знает ли он, куда возил Куцевалов Блокова?
— На охоту, — сразу ответил Афоня. — Это его хобби. А напоил он вашего председателя не от щедрот душевных…
— Но на этом Куцевалов может сгореть!
— Не сгорит. Он давнишний приятель маршала Жукова.
— А Куцевалов бывает на занятиях?
— Я ни разу не видел. Совещание с преподавателями он как-то проводил, но… — Афанасий махнул рукой. — Ему трудно наукой заниматься: он академии не кончал.
— Значит, Афоня, ты уже не летаешь? — решил я переменить тему. — Как это получилось?
— Придешь ко мне в гости — расскажу.
В его ответе я уловил оттенок грусти.
3.
Афоня с женой Ниной и девятилетней дочкой жили в одной комнате коммунальной квартиры. Стол уже был заставлен холодными закусками, но не видно было ни водки, ни вина. За ужином хозяин достал из холодильника бутылку шампанского, налил три небольших бокала и произнес тост. Когда закусили, он печально заговорил:
— Ты, наверно, удивился, что на столе нет водки? Не балуюсь. У меня похмелье чуть не кончилось катастрофой, — и он рассказал про свою аварию.
На фронте Афанасий получил хорошую характеристику. В ней указывалось, что он воевал смело и за короткий срок стажировки в воздушных боях лично сбил одного «фоккера» и одного подбил. На старом месте службы был представлен к воинскому званию майора и назначен на должность командира полка. На радостях устроил щедрую «обмывку». А утром полетел на истребителе, пря заходе на посадку задел за крышу дома, самолет перевернулся…
— Очнулся в госпитале, — сказал после паузы Афанасий Иванович и со злостью продолжал: — Ведь не хотел лететь: с похмелья голова болела, плохо себя чувствовал. Но гордость и самолюбие взяли верх. Как это я, фронтовик, не полечу?! И вот результат: сотрясение мозга, побито несколько поясничных позвонков. С летной работы списан.
Слушая исповедь товарища, я подумал, какую коварную роль сыграл наш хороший отзыв о его боевой работе. Он разжег самолюбие человека, что помешало ему принять разумное решение. Выходит, надо быть осторожным и в критике, и в похвале человека. У меня было такое чувство, что и я виноват в трагедии товарища.
Суровы законы воздушного боя. Чтобы познать их таинства, летчику-истребителю нужно провести много боев и сражений, познать горечь поражений и радость побед. Афоня уничтожил всего один самолет, и то под надежной опекой товарищей. Он не прочувствовал всеми фибрами души и тела страшную беспощадность неба, зато сполна хлебнул радость победы. Гордость и самолюбие — нужные черты характера, они заставляют человека расти умственно и физически. Однако они же и порождают такие несчастья, какое случилось с Афанасием Ивановичем. Мне стало жалко Афоню, и, чтобы смягчить грусть обоих, я продекламировал:
Кто живет без печали в гнева, Тот не любит Отчизны своей.Афоня порывисто взглянул на меня:
— Зорко подмечено. Прямо о нас сказано. Летчики и Отчизну любят всем сердцем, и печали им с лихвой отмерено.
— Но и радости немало, — я улыбнулся. — Вспомни, как ты ликовал, когда сбил «фоккера»! От твоих глаз даже вечерние сумерки испарились.
— Да, первая победа незабываема.
— А как ты мне подарил майорские погоны?
На фронте, когда присваивали очередное воинское звание, погоны было трудно приобрести. Но у капитана Приставкина они в загашнике имелись, и он вручил их мне. Я тогда спросил:
— Где достал?
Он многозначительно улыбнулся:
— Каждый командир в походном сидоре должен носить погоны на одну ступень выше своего звания. Если бы я имел право, узаконил бы это приказом.
— Зачем?
— Для пользы государству и армии. На первый взгляд погоны в запасе — мелочь, но как бы они подняли дисциплину! Эти погоны будут постоянно напоминать человеку: служи лучше, и мы скоро ляжем на твои плечи. Уразумел?
— В твоей логике есть рациональное зерно, — смеясь, отозвался тогда я.
— Не язви, — добродушно улыбнулся Афоня, — другу я готов отдать последнюю рубашку, — и с грустью добавил: — Завтра уезжаю к себе в часть: меня уже отзывают.
Последние слова были сказаны с сожалением, я решил, что ему не хочется с нами расставаться, посоветовал задержаться в полку. Комдив и командир полка могли это сделать. Стажер отмахнулся:
— Смысла нет. Не люблю быть последним, а мне за вами уже не угнаться. — Афоня заговорил доверительно и откровенно: — Посуди сам. Ну, я еще повоюю, собью с пяток самолетов. Только что мне это даст? Орден, ну два. Героя заработать все равно не успею. А для того, чтобы в моем личном деле было зафиксировано участие в Великой войне, достаточно и месячной стажировки.
— Ты что, воевал только для личного дела? — возмутился я.
— Не только. Но и о себе думать надо. Капитаном я хожу второй год. В нашем полку меня, как участника войны, досрочно аттестуют, а на фронте, в вашем полку, майора мне раньше срока все равно не дадут. На жизнь надо смотреть трезво.
— Но если ты только о себе заботишься, кому ты нужен?
Афоня улыбнулся:
— Давай при расставании не будем колоть друг друга…
При этой встрече Афанасий с увлечением рассказывал о своей исследовательской работе в архивах. Он был занят изучением воздушных боев.
— Отыскал более двухсот асов, которые из пятидесяти семи тысяч сбитых фашистских самолетов уничтожили около десяти процентов. Кстати, в воздушных боях первой мировой и гражданской войн тоже две трети самолетов сбиты асами. Во время войны наши курсы занимались подготовкой мастеров воздушного боя, но фронт показал, что готовили не так, как надо. Главная слабость курсов была в том, что мало уделяли внимания воздушной стрельбе.
— Ты прав, — согласился я с Афоней. — Летчик-истребитель, не умеющий стрелять, похож на кавалериста без шашки: противника догнал, а рубануть нечем.
— Друзья, вы, наверно, устали от разговоров? Отдохните, — предложила Нина и очень задушевно запела: — «Кто привык за победу бороться, — мы подхватили, — с нами вместе пускай запоет…»
В гостиницу я вернулся во втором часу ночи.
4.
А утром опять зачеты. Мы уже привыкли к ним. Перед нами майор Смольников. Он в парадно-выходной форме, на груди орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Суворова. На левой щеке от угла губ и до уха шрам с заметными поперечными штрихами от шва. Очевидный след войны. Однако этот след не портит его лица, а придает ему особую мужественность. Меня по-прежнему интересует, почему слушатели приходят на зачеты в разной форме? Что это, отсутствие порядка или, наоборот, какой-то особый порядок, утвержденный командованием?
— Скажите, — спрашиваю Смольникова, — почему вы на зачеты пришли в парадно-выходной форме, а не в повседневной, как другие?
— Официального указания насчет формы не было, — ответил майор, — А для меня эти зачеты очень важны. Школу летчиков я кончил сержантом в сороковом году. Больше нигде не учился. До академии не дорос. После сорокового года это мой первый экзамен, большой праздник.
Смольникову достался нелегкий, но интересный вопрос: «Развитие тактики истребительной авиации в первый период Великой Отечественной войны». В начале ответа он решил оценить воздушную обстановку в приграничных районах накануне войны.
— Без этого нельзя понять тактику фашистской и нашей авиации в первые дни войны, — убежденно сказал слушатель.
Майор Смольников на фактах доказывал, что Германия в 1940 году уже вела против нас разведывательную войду в воздухе. Ее одиночные самолеты и небольшие группы углублялись на советскую территорию до ста и более километров. Только с октября 1939 года и до начала войны над территорией западных военных округов было отмечено более 500 нарушений воздушных границ. Были случаи, немецкие летчики совершали посадки. Сбивать их было запрещено.
— Может, хватит слушать эту опасную болтовню, — шепнул мне Афоня, курирующий группу.
— Потом поговорим, — тихо ответил я ему.
Афоня нахмурился, но смолчал. Я невольно вспомнил Ереван, где служил перед войной. В конце 1940 года на партсобрании полка коммунисты слушали доклад о международном положении. Докладчик пытался убедить слушателей, что у нас с Германией хорошие отношения и войны в ближайшие годы не может быть. Зная обстановку на западной границе, я его спросил: «А чем объяснить, что фашистские самолеты почти каждый день „прогуливаются“ над нашей территорией?» «Это провокационный вопрос, — ответил докладчик. — За это вас надо привлечь к партийной ответственности».
Дело приняло крутой оборот. Только по настоянию замполита полка я отделался строгим выговором с предупреждением, а мог поплатиться партбилетом…
— Пусть продолжает, — шепнул я Афоне. — Он говорит правду.
— Мне два раза удалось перехватить фашистских разведчиков, — продолжал майор. — Раз вплотную пристроился к одному и увидел, что фашист смеется.
Смольников рассказал, что 22 июня 1941 года утром их подняли по тревоге, но фашистская авиация уже бомбила аэродром. Одновременно был нанесен удар по штабу и военному городку общевойсковой армии, находящимся вблизи аэродрома.
— Но мы на оставшихся и даже на поврежденных самолетах взлетели и дрались. Какая у нас была тактика? Мы о ней не думали. Старались быстрее уничтожить врага. Били огнем и тараном. Во время тарана погиб мой друг Петя Рябцев. Нам удалось к середине дня уничтожить около трех десятков фашистских самолетов. Но враг был на подходе к аэродрому, и мы на оставшихся десяти истребителях перелетели из Кобрина в Пинск…
Мне понравился ответ майора, хотелось назвать его по имени и отчеству, но в списке, лежавшем передо мной, были только инициалы.
— Товарищ Смольников, — сказал я, — вы ответили отлично. Но у меня есть дополнительный вопрос: что вы считаете главным в воздушном бою?
— Пример командира. Как он пойдет в атаку, так и все летчики пойдут за ним. Наш командир полка майор Борис Сурии — образец мужества. Он был ранен в неравном бою, но продолжал драться, сумел сесть на свой аэродром и умер в кабине, не выпустив из рук рычаги управления…
Заключительный акт мы готовили постепенно, к концу зачетов он фактически был готов. Мы отметили, что знания у слушателей хорошие, но дисциплина на низком уровне. Особо отметили, что командование курсов снисходительно относится к пьяницам. Председатель комиссии Яков Блоков не хотел, чтобы это было записано в акте, но мы дружно возразили ему. Чувствуя свою вину, он со вздохом поставил свою подпись. Набравшись смелости, я спросил Блокова:
— Почему на зачетах ни разу не присутствовал начальник курсов? Не заболел ли он?
— Нет. Просто не хотел стеснять вас.
— Да мы что, дети? — возмутился Маурычев. — Или мы слепые? Зачеты позволяют не только определить знания слушателей, но и оценить дисциплину, работу руководства курсов и преподавателей!
— Спокойно говорите, товарищ подполковник, — прервал Маурычева Блоков.
Я поддержал Маурычева, предложив собрать руководство курсов и преподавателей, зачитать наш акт и выслушать их мнение. Блоков вскипел:
— Все! Хватит! Можете быть свободными!
В Москве мы доложили свое мнение начальнику управления, но дело приняло неожиданный оборот. Почти одновременно поступило анонимное письмо, где сообщалось, что подполковники Александров И. Ф., Маурычев И. М. и Дубинин П. С. во время командировки организовали вечеринку с женщинами, которые во время войны работали в Германии на фашистов. Организатор этой вечеринки Иван Александров был отстранен от работы в управлении и направлен в распоряжение кадров ВВС.
5.
Из авиационной части, расположенной на территории ГДР, пришла тревожная телеграмма: «МиГ-15 по непонятной причине не выходил из пикирования. Летчик использовал все возможности. Самолет спасен, пилот травмирован. Причину происшествия выяснить не удалось. Просим прислать специалистов». Летчик-испытатель инженер-подполковник Григорий Седов и я срочно вылетели в Германию. Встретили нас командир дивизии и уже знакомый мне командир полка майор Семен Глушенков, у которого Костя Домов был заместителем.
— Кто пострадал? — спросил я.
— Капитан Домов.
Меня словно чем-то тяжелым ударили. Сдерживая волнение, я тихо спросил:
— Говорить он может?
— У него только ноги отнялись.
— Где он?
— В госпитале. Тридцать минут езды.
— Поехали.
— Может, сначала самолет посмотрим? — подал голос Седов.
Мне была понятна забота летчика-испытателя с инженерным образованием. Для него «первым делом самолеты», а уж человек потом. Из-за этого принципа он в сложные моменты испытаний не думает о жизни и погибает, пытаясь выяснить непонятное поведение самолета. Меня же волновал Домаха. Да и командир полка поддержал:
— С самолетом все в порядке. Домов сел нормально. Только вылезти из кабины уже не мог.
Погода стояла по-мартовски хмурая, сырая, а у меня на душе было хмуро и тоскливо. В госпитале сначала мы переговорили с лечащим врачом. Тот пожимал плечами и ничего определенного не мог сказать. Сообщил только:
— Появились пролежни. Ему пока нужно лежать на спине.
— А боли есть?
— Болей нет. И рентген никаких отклонений от нормы не показал. После всех анализов появилась мысль о симуляции.
— Какая глупость! — не удержался я. — Его лечить надо, а вы…
— Впрочем, больной начал самолечение. Сестра заглянула в палату, а он ползает по полу на руках. Пришлось перевести его в двухместную палату.
Как понятны мне эти действия Домахи! Смелый и хваткий, он не терпит неясностей в жизни, старается физическими упражнениями перехитрить болезнь.
Время приближалось к ужину, когда мы вошли в палату к Домахе, Он сидел в кресле и выжимался на руках. На висках русые волосы побелели, летное происшествие сильно его потрясло, отметил я. Увидев меня, Домов воскликнул:
— Арсен! Опять проверять меня будешь? — и расслабленно опустился в кресло. — Но теперь я стал размазней и летать не могу. — Однако, когда мы обнялись, Домаха так крепко стиснул меня, что я приподнял его и, опустив на ноги, сказал:
— Стой!
— Только держи.
Домаха начал приседать, ноги его подогнулись, и он расслабленно опустился на прежнее место. Несколько секунд посидев, он попросил:
— Еще раз подними.
После нескольких приседаний вмешался врач:
— Хватит, друзья, физкультуры. Давайте поговорим.
Рассказ Домова был коротким. Он в тот день летел по маршруту, но при подходе к аэродрому, чтобы быстрее потерять высоту, ввел МиГ-15 в переворот. На выводе машина неожиданно заартачилась. Он поднатужился, но она на усилия не реагировала, наоборот, стала еще больше опускать нос. Летчик почувствовал недоброе и так рванул ручку на вывод из пикирования, что у него будто чем-то обожгло ноги, глаза заволокла темень. Не видя ничего, он тянул и тянул самолет на вывод, пока не почувствовал, что самолет выходит из пикирования.
— Высота в этот момент у меня была около ста метров, — сказал Домов,
Некоторое время мы все молчали, обдумывая, что же случилось с машиной и почему у Домова отнялись ноги. Молчание нарушил летчик-испытатель Седов:
— Причина мне ясна. Реактивные самолеты отличаются от поршневых не только стреловидностью крыла, но и новыми аэродинамическими качествами. Слабо еще изучено такое явление, как засасывание. Оно возникает, когда летчик превышает допустимо максимальную скорость. Рули теряют эффективность. — И, взглянув на Домова, спросил: — Какую вы скорость держали на выводе из переворота?
— Мне уже было не до приборов, я боялся, что самолет не выйдет из пикирования.
— Летчик не должен создавать себе безвыходных положений, а вы создали. Истинная скорость перешагнула за допустимую. А почему? Как вы сами оцениваете свою ошибку? Ее причина?
— Причина одна: хотел побыстрее сесть.
— И только чудом вывели самолет, — уточнил испытатель. — И то лишь потому, что применили огромную силу.
— Больше, чем было в руках, — оживился Домов. — Я ногами уперся в педали и рванул ручку так, что в глазах потемнело…
Наступила пауза.
Я взглянул на Домова:
— В Москве, в Сокольниках, есть специальный медицинский научно-исследовательский институт. Врачи с учеными степенями. Надо тебя вызвать туда. Там — наука.
Все со мной согласились и, распрощавшись с больными, вышли. Я задержался:
— Домаха, ты сидеть в кресле не устал?
— Есть чуточку. Надо прилечь. — Держась за кресло руками, он спустился на пол и добрался до кровати. — Ну как, правильно я использую методику передвижения пресмыкающихся?
Я рассмеялся. Хотелось поговорить еще, но меня ждал Седов, чтобы съездить на аэродром и посмотреть самолет. Уходя из палаты, видел, как у Кости задергалось правое ухо. Значит, нервная система у него в порядке. Но почему же отнялись ноги?
6.
Не успел я доложить о результатах одного расследования, как назрела другая командировка. Вызвав меня, начальник управления сказал:
— В истребительной дивизии при воздушном хулиганстве на самолете По-втором разбился капитан Григорий Карпенко. Нужно немедленно вылететь на место и расследовать катастрофу.
— Слушаюсь, — ответил я. — Но для объективной оценки катастрофы со мной должен быть инженер.
— Зачем? Причина катастрофы ясна — воздушное хулиганство.
— Если ясна, зачем лететь мне?
— Расследовать катастрофу и сделать окончательный вывод может только командующий воздушной армией. В Румынии у нас такой армии нет. Ее функции должны взять на себя мы.
— А кто сообщил о катастрофе и сделал вывод, что она произошла из-за хулиганства?
— Шифровку подписал командующий механизированным объединением. А почему вы этим интересуетесь? Не верите, что могло быть воздушное хулиганство?
— Сомневаюсь в компетентности подписавших шифровку. Скорее всего, вывод сделал командир авиадивизии, а командарм сообщил.
— Может быть, — согласился генерал. — Поэтому расследование этого чрезвычайного происшествия надо произвести объективно.
В Бухаресте я представился командующему наземными войсками. Генерал-лейтенант говорил возмущенно:
— До коих пор в авиации не будет порядка? В этом случае все ясно — отчаянное хулиганство. Тут и копаться особенно нечего.
— А причина отчаянности? Летчик воевал. Имеет три боевых ордена. Познал, почем фунт лиха. Такой ни с того в и с сего хулиганить не будет.
— Зазнался. Такие о жизни мало думают, на людях любят покрасоваться. Шли как раз полеты, и он этот кордебалет устроил прямо над аэродромом.
— Над аэродромом?! — невольно вырвалось у меня.
— Вот именно! Я и говорю, что такие молодчики любят покрасоваться на людях.
Вспомнилось аналогичное происшествие в Белоруссии в 1946 году. Тогда на По-2 начал хулиганить боевой летчик-истребитель Георгий Банков. Он был здоровяком и по характеру непоседой. На истребителях пилотировал всегда с огоньком. А тут час летит, другой. Захотелось размяться. Взял у молодого летчика управление в свои руки, начал выделывать выкрутасы, не рассчитал, задел крылом за дерево. Но это было вдали от людских глаз. Здесь же летчик вздумал куролесить на виду у всех, создавая помеху летающим. Это настораживало меня.
Командиром дивизии был полковник Крюков. Заочно его величали просто Пал Палыч. Уже немолодой, небольшого росточка, коренастый, юркий. Наметившийся животик никак не гармонировал с его темпераментностью. Он сообщил уже известные мне факты, но уклонился от прямого ответа на вопрос: что побудило летчика к воздушному хулиганству?
— Я в тонкости этого происшествия не вникал, в тот момент был в командировке. А вообще, тут все ясно. Вам даже нет смысла лететь в полк. Отсюда далеко. Городок маленький. Люди живут тесновато. Переночуйте у нас в гостинице.
На другой день я был на аэродроме, где произошла катастрофа. Командир полка находился в отпуске, его обязанности исполнял начальник штаба майор Иван Белозеров. Во время Великой Отечественной войны он служил в моем родном полку начальником оперативного отделения. Человек честный, он не любил фальши и лицемерия. Когда я рассказал ему о встрече с вышестоящим командованием и о разговорах про хулиганство Григория Карпенко, Иван Петрович рывком поднялся. Суховатое его лицо вспыхнуло, поджарая фигура напружинилась.
— Удивительные люди! — с возмущением заговорил он. — Большие начальники, а боятся правды, дрожат за свою шкуру. — Подойдя к сейфу, оп вынул из него клочок бумаги и дал мне: — Прочитайте. Это предсмертная записка Гриши.
«Дорогие товарищи! В моей смерти виноват только я».
Записка была написана на клочке полетной карты. Почерк неровный, крупные буквы наползают одна на другую.
— Похоже, что записка написана в полете?
— Да.
— Вы видели гибель летчика?
— Видел. Он слетал на По-втором на полигон, где летчики стреляли по наземным мишеням, доставил документы начальнику полигонной команды и вернулся на аэродром. Полеты уже заканчивались. Гриша появился над центром аэродрома, помахал крыльями. Это, видимо, было прощание с жизнью, с друзьями… Потом он круто отвернулся, на окраине аэродрома выключил мотор, сделал переворот и врезался в землю.
— Какое же туг хулиганство? Скорее, самоубийство! — воскликнул я.
— Начальство назвало это хулиганством.
— Но почему?
— Чтобы снять с себя ответственность за невнимание к человеку.
…В 1941 году после окончания школы летчиков Григорий Карпенко сержантом прибыл на фронт под Москву. Далее Сталинград, Курская битва, потом Молдавия а Румыния, Четыре раза был ранен, но после каждого ранения возвращался в строй. В 1947 году ездил в отпуск к себе в Одессу, где безумно влюбился. Они договорились пожениться в следующий его приезд. В полк, где он служил, прибыли молодые летчики. Гриша был хорошим инструктором, старался, много летал. В 1948 году отпуск ему не дали. В интересах боеготовности. Он смирился: надо так надо. Потом история повторилась. Девушка ждала год, два… Не выдержав, вышла замуж.
Любовь каждый испытывает по-разному.
И как надо быть чуткими к людям, если они влюблены. Стоило бы дать Григорию Карпенко отпуск для свадьбы, и не было бы этого чрезвычайного происшествия, и, может быть, девушка из Одессы стала бы настоящей боевой подругой. Но как мне доказать, что не было хулиганства?
— Поговорите с летчиками эскадрильи, — посоветовал Белозеров. — Он парень был откровенный, они все о нем знают.
Летчика подтвердили слова Белозерова. Их и свое мнение я изложил в акте о причине катастрофы, который сдал в секретную часть. В Москве обо всем увиденном и услышавшем доложил начальнику управления. Тот был удивлен и приказал явиться к нему, как только мой акт придет в штаб ВВС. Но время шло, акта не было. Через месяц я снова явился к генералу. Встретил он меня сухо, даже не предложив сесть. Когда я доложил, что акт до сих пор не пришел, он не удивился, зато твердо заявил:
— Все решено. Было воздушное хулиганство.
— Но почему акт не поступил ни к нам, ни в Министерство обороны?
— Откуда вам известно, что в Министерство обороны акт не пришел? — настороженно спросил генерал.
— Я справлялся в канцелярии министра.
После некоторого раздумья генерал повторил, что причиной катастрофы стала недисциплинированность летчика, к виновным приняты строгие меры, и этот вопрос больше не подлежит обсуждению.
— Но ведь причиной катастрофы стало самоубийство летчика! — воскликнул я. — Вы же сами приказали, чтобы расследование было объективным.
— Давайте об этом больше не говорить. Вопрос решен. Все! — не без раздражения сказал генерал.
Мне стало ясно, что командование бежит от истины, как тень от солнца. Оно из всех причин катастрофы выбрало наиболее выгодную для себя, а мой акт, завизированный Белозеровым и подтвержденный летчиками, был аннулирован. Я повернулся, чтобы выйти из кабинета, но генерал задержал:
— С завтрашнего дня с полковником Храмовым начнете подготовку к полетам в сложных метеоусловиях днем и ночью. Потом поедете в Кубинку принимать зачеты на курсах подготовки инструкторов. И еще. Главком ваш рапорт об учебе в Академии Генштаба подписал.
7.
Полковник Николай Иванович Храмов звание Героя Советского Союза получил уже после Великой Отечественной войны, хотя заслужил его в воздушных боях. Я застал его за составлением плана учебно-тренировочных полетов.
— Посмотри, — протянул он мне план. — Может, что еще придумаешь?
Две недели мы с Храмовым тренировались в полетах по приборам, летали на реактивных «мигах», в закрытой кабине на универсальном учебном истребителе Як-11. И все же настоящей погоды для полетов в сложных условиях так и не дождались. Правда, когда облака появлялись на высотах, мы с ним «плавали» до изнурения. Но на зачетах это не пригодилось. Наступил май. Погода днем и ночью стояла ясная. Зачеты мы принимали только ночью при полетах в закрытой кабине на двухместном Як-11 и по маршруту на МиГ-15, летя за контролирующего рядом со слушателем. По результатам этих зачетов был издан приказ, 70 авиаторов получили классность. В этом приказе были Храмов и я. Оба мы стали летчиками первого класса. И еще одно событие. Вскоре я получил звание полковника.
8.
В нашей учебной группе было только шесть летчиков. Всего три летчика-истребителя — Яша Кутихин, Сергей Сардаров и я. Именно нам учиться было особенно трудно.Офицеры штабов и политработники теорию знали лучше, умели наглядно изобразить свой замысел на картах, грамотно составить приказ. Летчики в служебных буднях этой работой занимались редко. Многое пришлось осваивать заново. Однако небо приучило нас работать надежно, капитально, на «авось» не полагаться. И мы старались. Готовиться к занятиям приходилось много, часто мы вынуждены были засиживаться в классах до позднего вечера.
Летом 1951 года первый курс академии выехал на практику на Карельский перешеек. Мне вспомнилась такая же поездка из академии ВВС в 1942 году. И даже не сама практика, а человек интересной биографии генерал-лейтенант авиации Александр Александрович Самойло. Авиационного генерала, как он сам говорил, ему не стоило присваивать: он до мозга костей был сухопутным командиром. Еще в прошлом веке окончил Академию Генштаба, потом стал генерал-майором, работал в царской Ставке, на фронте был начальником штаба армии. После Великой Октябрьской социалистической революции Самойло без колебаний перешел на сторону Советской власти. «Я сын военного врача, труженика, сын русского народа, — заявил он. — Я против капиталистов и за народную власть». Ленин предлагал ему стать Верховным Главнокомандующим и наркомом по военным делам, но Александр Александрович отказался, считая, что на такую должность он политически не подготовлен.
Политикой генералу Самойло заниматься все же пришлось. Он возглавлял военную делегацию, которая вела переговоры о заключении мира в Бресте. Позже, во время гражданской войны, он был начальником штаба Беломорского военного округа, командующим 6-й Отдельной армией, возглавлял Восточный фронт, был помощником начальника Штаба РККА и членом Высшего военного совещания, начальником Управления военно-учебными заведениями. В 1926 году Самойло перешел на педагогическую работу в Военно-воздушную академию.
В 1942 году наша группа во главе с генералом Самойло ехала на практику поездом. Километрах в тридцати от города мы выгрузились, чтобы пройти пешком около пяти километров. Генерал шагал впереди. Невысокий, сухощавый, но шагал размашисто и четко. Мы задорно пели:
Взвейтесь, соколы, орлами, Бросьте горе горевать! То ли дело под шатрами В поле лагерем стоять…К полудню дошли до аэродрома. Палило знойное солнце. Все устали. Однако генерал передышки не позволил. Объяснив обстановку, он поставил учебную задачу: «Враг наступает с запада. Необходимо организовать оборону летного поля. В вашем распоряжении стрелковый полк и батальон аэродромного обслуживания. Изучите район обороны, нанесите на карту общую обстановку. Составьте кроки аэродрома, разместите свои подразделения, организуйте отражение атак противника».
На окраине аэродрома росло несколько лип. Остановившись возле копны свежего сена, генерал сказал:
— Кто закончит работу, подходите сюда. Я буду проверять чертежи и оценивать легенды.
Мы разошлись осматривать район аэродрома. А когда первые слушатели, закончив работу, подошли к генералу, он спал в тени дерева. И никто не сделал попытки разбудить его. Собрались все, тихо отошли в сторону, проверили друг у друга задание, сделали необходимые уточнения. Через некоторое время наш руководитель поднял голову и, взглянув на нас, быстро встал. Мы выстроились перед ним, старшина группы доложил, что задание выполнено.
— Молодцы… — в задумчивости сказал генерал. — И что, аэродром весь обошли?
В группе было два слушателя-орденоносца. Заметив у меня на груди орден Красного Знамени, Александр Александрович подошел ко мне.
— Старший политрук Ворожейкин, — представился я.
— Вот и начнем с вас. — Он проверил мою карту, посмотрел кроки аэродрома. — Нормально, нормально. Замечаний нет.
После меня подошел к самому младшему по званию:
— А у вас, товарищ лейтенант?
С ним задержался подольше, чем со мной, и обратился к строю:
— Я убедился, что у старшего политрука Ворожейкина и лейтенанта Козловского задание выполнено не хуже, чем академическая разработка.
Когда генералу исполнилось 75 лет, академия представила его к награждению орденом Красной Звезды. Но сам Сталин внес в наградной лист орден Ленина и прислал юбиляру поздравительную телеграмму. После этого Самойло подал заявление о вступлении в ВКП(б). На партсобрании его спросили, почему он не вступал в партию раньше? Для Александра Александровича этот вопрос не был неожиданным.
— Будучи на переговорах в Бресте, я считал себя одним из виновников наших неудач. Потом, правда, понял, что глава нашей делегации Троцкий специально делал все, чтобы Германия продолжала войну против нас. Позже, будучи командующим Восточным фронтом, я считал себя виновником в неудачных действиях против Колчака. Сейчас мне ясно, что в штабе было много агентов противника. И только теперь, когда награжден орденом Ленина, я могу стать коммунистом.
Александр Александрович Самойло был принят в партию. Меня он покорил своей простотой и доступностью. Он не признавал формальностей в оценках, видел в каждом слушателе товарища по работе и оценивал его работу с гуманных позиций.
…На Карельском перешейке мы жили в палатках, поставленных на берегу реки Вуоксы. Русло реки со множеством плесов, водопадов и порогов. На берегах — цветущее разнотравье и хвойные леса. Прекрасное место для лагеря.
Наше пребывание на Вуоксе напоминало экскурсию в прошлое, которая давала нам возможность понять современность. Там мы изучали оборонительную операцию. Особое впечатление произвела на нас бывшая линия Маннергейма. Сплошные долговременные огневые сооружения из камня, бетона, железа и броневых конструкций, соединенные ходами сообщения, взаимодействовали между собой всеми огневыми средствами. Некоторые огневые точки поверх бетона были покрыты толстым слоем резины. Бомбы и снаряды, амортизируя, отскакивали от них. Но в 1944 году советские войска прорвали эту линию всего за одиннадцать суток.
Оборонительную операцию мы изучали так тщательно, что нам даже пришлось самим копать окопы. Наши теоретические знания в той поездке проверял начальник академии генерал армии Владимир Васильевич Курасов. Из Заполярья мы переехали на юг, под Киев, на восточный берег Днепра, где изучали наступательную операцию. Работы было много. Нам довелось быть командирами дивизий, корпусов и армий, начальниками их штабов. Мы оценивали обстановку, писали приказы и распоряжения. И самым настойчивым образом изучали опыт Великой Отечественной войны, сопоставляя его с возможностями новой техники и современного оружия.
Во время Киевской операции в 1943 году после выхода наших войск к Днепру первый мост был построен только на восемнадцатые сутки. Теперь же, в учебной операции, которую наблюдали мы, два моста через Днепр были наведены через сорок минут после выхода войск к реке. По ним с ходу переправились войска стрелкового корпуса. Они соединились с подразделениями воздушного десанта на правом берегу Днепра. На восьмые сутки операция трех фронтов была завершена. Разбор показного полевого учения провел министр обороны Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Доклад о боевых действиях авиации сделал начальник Главного штаба ВВС генерал-лейтенант Павел Федорович Батицкий. Он был общевойсковым командиром. До Великой Отечественной войны командовал кавалерийским эскадроном, был начальником штаба стрелковой дивизии, во время войны возглавлял стрелковый корпус. Авиацию он знал плохо. Перед ним на трибуне лежал написанный доклад, а сзади на стойках висели схемы боевых действий трех воздушных армий. Требовалось не просто читать написанное, но и показывать это на картах, где наглядно отображались боевые действия всех родов авиации. И конечно, ему, общевойсковому командиру, это было не под силу. Батицкий запутался. Министр обороны посочувствовал ему:
— Товарищи, мы уже работаем давно, объявляю перерыв до утра.
По дороге на ужин полковник Яша Кутихин сказал:
— До каких пор у нас в авиации будут командовать «варяги»? Вначале из пехоты командиров брали вынужденно. А сейчас?
Видимо, такое положение удивляло не только нас. Вскоре Батицкий стал первым заместителем командующего войсками Московского военного округа, а на должность начальника Главного штаба ВВС был назначен генерал-полковник авиации Сергей Игнатьевич Руденко. Он окончил Академию Воздушного Флота, во время войны командовал авиадивизией и воздушной армией.
На другой день министр обороны маршал А. М. Василевский подвел итоги полевой поездки нашего первого курса.
9.
Лучшими преподавателями у нас считались генерал-майор инженерной службы Иван Андреевич Ануреев и маршал бронетанковых войск Павел Александрович Ротмистров. Лекции они не читали по конспектам, а доводили до слушателей методом живого рассказа. А рассказывать умели так, что слушатели как бы жили той обстановкой, которую они создавали, собственными глазами видели все, о чем они говорили. Инженер Ануреев вел курс теории полета на реактивных самолетах, заглядывая немного вперед. Он так умел рассказывать, что мы не просто понимали его, успевали и записывать и срисовывать с доски его чертежи, но испытывали такой внутренний заряд, что, кажется, готовы были сами прочитать такую же лекцию. Но это нам только казалось. На деле же требовалось углубленное осмысливание всех выводов и положений, как это бывает, когда соприкасаешься с настоящим творчеством. Таким же был стиль Ротмистрова. Когда эти преподаватели проводили собеседования, начиналась как бы увлеченная игра, хотя вопросы часто ставились не по материалам лекций.
Но на втором курсе мне пришлось на себе испытать совсем иной стиль и метод преподавания. Генерал-майор авиации Павел Ковалев лекций не читал, он проводил с группой занятия по оперативно-стратегическому искусству. В основном организовывались военные игры на картах, в ходе которых формулировались приказы, отдавались распоряжения, составлялись планы на боевые действия воздушных армий. На одном из первых занятий мы отрабатывали «Отражение массированного налета бомбардировщиков за облаками полком истребителей». Условия были жесткими. Нижний край облаков 200 метров, верхний слой — на семикилометровой высоте. Полк на МиГ-15 должен взлететь поодиночно, за облаками собраться и только потом лететь на перехват. Я был уверен, что никто из составителей этой разработки в таких сложных метеоусловиях не летал. Иначе они знали бы, что только на сбор полка за облаками в таких условиях требуется около 30 минут. Столько же нужно для того, чтобы осуществить посадку. А горючего на истребителях приблизительно на час полета. Когда же и за счет чего они будут вести бой? Я был уверен, что в изложенной преподавателем обстановке перехватчики могут действовать только парами, максимум звеньями, о чем и сказал во время занятия. Ковалев мягко, но решительно и едко сделал мне замечание: «Эта разработка утверждена начальником Генерального штаба, и нечего, товарищ Ворожейкин, мудрствовать. Критика приказов и указаний недопустима, это карается советским законодательством. Внимательно слушайте и не отвлекайте других своей недисциплинированностью».
Спокойный и мягкий голос напомнил мне восточную мудрость: «Остерегайся не тигра с тремя пастями, а людей с двумя лицами». Ковалев внешне был со мной приветливым, но за ответы и практические работы, как правило, ставил не выше тройки, нередко были у меня и плохие оценки. Сочувствие товарищей только раздражало меня. Правда, мой однокашник Яша Кутихин никогда на словах поддержку не выражал, но я видел, как он переживает за меня. Яша был хорошим летчиком-истребителем, и ему немало довелось воевать с фашистами в минувшей войне. Этот душевный, трудолюбивый и честный человек в академию прибыл с должности командира истребительной дивизии, был опытен, поэтому получал только отличные и хорошие оценки.
Однажды, когда мы отрабатывали стратегическую наступательную операцию трех фронтов, Ковалев дал нам задание составить последний зачетный документ — план боевых действий, отведя на это два дня. Я был уверен, что мой документ он «зарубит», что придется составлять другой план, а на это уйдет много времени. Родилась идея призвать на помощь Яшу Кутихина. Документы мы составили вместе.
— Как думаешь, какую оценку поставит мне Ковалев? — спросил я Кутихина.
— Двойку, — уверенно заявил он и посоветовал: — Сходи к начальнику факультета и все расскажи, ничего не скрывая. У совести вариантов нет. Если потребуется, я тебя поддержу. Многие видят, что Ковалев издевается над тобой.
— Это надо доказать. Знаешь что, — предложил я, — сделаем так: свой план боевых действий я напишу в другой книге, а ту, которую отдам на проверку Ковалеву, спишу с твоего.
— Правильно! — одобрил Яша. — Если потребуется, я о нашем сговоре расскажу.
На очередном занятии Ковалев принес проверенные работы, обвел нас лукаво-хитроватым взглядом и начал оглашать оценки. Когда очередь дошла до меня, Ковалев спокойно и вежливо сказал:
— К сожалению, Ворожейкин, вашу работу я не могу признать удовлетворительной. Придется вам составить новый план боевых действий воздушных армий.
От этих вежливо-холодных слов во мне все закипело, но, сдерживая себя, я подошел к столу, взял из рук Ковалева свою тетрадь, но в волнении так порывисто свернул ее в трубочку, что преподавателю, видимо, показалось, будто хочу ударить его по лицу. Он инстинктивно откинулся на стуле назад…
Начальник авиационного факультета генерал-полковник авиации Алексей Васильевич Никитин, бывший летчик, участник советско-финляндской войны, человек душевный, хотя и суровый на вид, принял меня тепло. Видимо, по бледности лица он заметил, что со мной случилось неладное, порывисто встал и, пожимая мою руку, сказал:
— Нам лучше походить, размяться: я насиделся, и вы, наверное, тоже. Согласны?
Я подробно рассказал историю отношения ко мне преподавателя, а также о курьезе с оценкой за последнюю работу. Генерал усмехнулся:
— Значит, Кутихину пятерку, а вам двойку? — и заверил: — Оценку мы исправим. Переделывать план не надо. С Ковалевым поговорю особо.
В тот день, придя домой, я был радостно удивлен. Жена, весело улыбаясь, вручила мне письмо, в котором сообщалось, что нашей семье решением Мосгорисполкома предоставлена отдельная двухкомнатная квартира.
После успешного окончания академии по командно-штабной и оперативно-авиационной специальности мне была предложена должность советника в Корее и пообещано, что приказ о назначении будет подписан после моего отпуска. Отдыхал в санатории. Возвратившись, сразу известил своего друга Лешу Пахомова. Он обрадовался встрече, с восторгом рассказывал о дочери Людочке, которая занималась в школе фигурного катания на льду и делала заметные успехи. Когда разговор незаметно перешел на служебные дела, Алексей огорошил меня сообщением о гибели полковника Николая Храмова. Сразу вспомнилось, как мы с ним принимали зачеты на курсах и как оба получили там звание летчика первого класса. На душе, как говорят порой, скребнули кошки. Мы с ним тогда хотя и получили классность, но в настоящих сложных погодных условиях практически не летали. Правда, в закрытой кабине и в облаках на большой высоте провели много времени, но вряд ли это можно приравнять к полетам при настоящем минимуме погоды.
Переживая трагическую гибель Храмова, я твердо решил пройти сначала всю программу обучения полетам в сложных погодных условиях, начиная с самых азов.
Я считал, что приказ о моем назначении издан, но в отделе кадров сказали, что война в Корее заканчивается, и туда нет смысла посылать советников. Мне предложили две должности: командира авиационной истребительной дивизии или заместителя командира истребительного корпуса. Я решил возглавить дивизию. Главнокомандующий ВВС маршал авиации Павел Федорович Жигарев одобрил мое решение.
— С отъездом надо поторопиться, — сказал он. — Дивизией командует старый генерал. Он давно не летает, а поэтому тормозит летную работу. Дивизия считается худшей в воздушной армии. Ваша задача исправить положение.
Конус… на блюдечке
1.
В Ленинграде на вокзале было великое множество людей и все вели себя необычно: разговаривали полушепотом, сидели отрешенно, многие плакали. Я испугался, что началась война, но тут же отбросил эту мысль. Война вызвала бы бурю негодования, а не всеобщую подавленность. Мое внимание привлекла старушка, вытиравшая платком слезы. Я подошел и тихо спросил:
— Бабуля, что случилось?
Она с удивлением посмотрела на меня:
— Ты, сыночек, разве не знаешь, что умер наш вождь и отец товарищ Сталин? Горе-то какое…
Я растерянно опустился рядом с ней. Сердце тревожно забилось. «Что же теперь будет? Как станем жить? Кто будет заботиться об армии, об авиации? Кто обеспечит мир и убережет нас от агрессоров? Ведь все это делал он…» Авторитет Сталина был тогда до того нечеловечески велик, что своим величием давил нас, простых смертных. И он казался нам вечным, определяющим наши задачи, думающим за нас, берущим на себя наши заботы.
Но совсем некстати вспомнилось вдруг одно событие. Когда я учился в Харьковской военной школе летчиков, нашу летную группу, состоящую из пяти курсантов, за дисциплинарный проступок хотели перевести с истребителей на бомбардировщики. Мы обратились с жалобой к начальнику училища старому коммунисту, бывшему латышскому стрелку, комбригу Заксу. Он внимательно выслушал нас и отменил перевод.
— Вы заслуживаете наказания, — сказал он. — За ваш проступок командир мог объявить вам по выговору или наложить другое взыскание, но лишать вас любимого дела нельзя. Я уверен, что вы все успешно закончите курс обучения и станете хорошими летчиками-истребителями.
А вскоре комбриг Закс был арестован как враг народа, не выдержал унижений и покончил с собой в тюрьме. Начальника училища любили за его душевность и простоту, а поэтому многие не верили, что такой человек стал врагом народа, считали это обвинение роковой ошибкой…
Прямо с вокзала я поехал в штаб ВВС округа. Генерал лейтенант авиации Иван Петрович Журавлев встретил меня в удрученном настроении.
— Да-а, приехали вы в тяжелый день, — после короткого раздумья сказал он и вздохнул. — Сталин принял Россию лапотную, а сделал атомную, — и перешел на деловой тон. — Дивизия вам досталась не из лучших. Плохая летная работа объясняется тем, что дивизия только получила реактивные самолеты, еще не закончила переучивание, к тому же вынуждена обживать новое место. А в общем, приедете на место, разберетесь. Прошу нажать на дневные и ночные полеты в сложных метеорологических условиях. Вы летчик первого класса, эти полеты освоили в совершенстве. Хотя… За время учебы летать не разучились?
— Отвык. Потренируюсь на спарке, а потом на боевом самолете восстановлю навыки.
— Разумно. Но комдив — сложная должность. Может затянуть руководство штабом и полками. Советую постоянно планировать себе полеты и обязательно этот план выполнять.
Ленинград. Яркое солнце. На улицах ручейки, а местами лужи. Нева еще покрыта льдом, однако уже чувствуется приближение тепла. Не зря говорят, что март открывает дорогу лету. Взяв билет на поезд, я зашел перекусить в ресторан. Официантка со скорбным лицом предложила:
— Выпейте с горя хоть сто грамм. Все легче станет.
2.
В Таллинне на Балтийском вокзале меня встретил начальник штаба дивизии полковник Мельников. По пути в гостиницу, а потом в столовую он знакомил меня с дивизией. Оказывается, в ней не три, а четыре полка. Два базируются на местном аэродроме, третий — южнее города, а четвертый — у самого берега залива на полуострове Порккала-Удд. Начальник штаба на ходу давал характеристики командирам полков. Особое внимание уделил подполковнику Кадомцеву Анатолию Леонидовичу. До войны тот закончил инженерную академию, работал на инженерно-технических должностях, но устно и письменно просил командование разрешить ему переучиться на летчика. Неизменно получая отказы, он понял, что законным путем своего не добьется, и однажды без всякого разрешения вылетел на боевом самолете-истребителе, переполошив весь аэродром. Посадку Кадомцев совершил, разбив при этом машину, за что был предан суду военного трибунала, разжалован и отправлен в штрафную роту. Выручил его оттуда генерал Е. Я. Савицкий. Уже в послевоенные годы, будучи летчиком первого класса, Кадомцев закончил заочно Военно-воздушную академию.
— Значит, командир полка во всех отношениях классный? А какие у него взаимоотношения со старшими? — поинтересовался я.
— Разные. Чаще — натянутые. Очень прямолинеен и упрям. Зато подчиненные его любят за справедливую требовательность, общительность и, конечно, за летное мастерство.
— А где заместитель командира дивизии?
— Полковник Захарьев уехал на курсы. Вернется в конце года.
Вместе с Мельниковым мы объехали аэродром. Хорошая металлическая полоса. Однако при посадке нужен очень точный расчет. С одной стороны близко расположена насыпь шоссейной дороги, с другой совсем рядом начинается крутой берег Финского залива. Ошибка при приземлении чревата тяжелыми последствиями.
— На днях молодой летчик слегка промазал, — прочитал мою мысль Мельников. — Остановился в двадцати трех сантиметрах от обрыва.
— А если на краю обрыва поставить отражатель?
— Думали об этом. С саперами советовались. Но нет ни материалов, ни инструмента.
На окраине аэродрома построен авиационный городок. Щитовые домики для семей летчиков и техников, барачные казармы для солдат и сержантов, две столовые, гарнизонный клуб.
— Много, — спрашиваю, — офицеров живет в городе?
— Мало. В основном на частных квартирах.
— А капитальное жилье собираются строить?
— Обещали прислать строительный батальон, по пока его нет. Небольшая группа строителей заканчивает строительство штаба дивизии, — и Мельников показал на стены двухэтажного дома. Рядом два ангара, построенных еще в буржуазной Эстонии. Потолки разрушены, окна выбиты, крыши и полы повреждены.
— А если в одном из ангаров оборудовать спортивный зал? — спросил я.
— Была такая мысль, — ответил Мельников, — но денег для спортзала дивизии не полагается.
После осмотра аэродрома поехали в штаб. Командир дивизии генерал-майор авиации Константин Гаврилович Баранчук встретил тепло. Невысокий, с морщинистым лицом и густыми седеющими волосами, он бодро поздоровался и с грустью сказал:
— Принимайте дивизию. Я отлетался: годы берут свое.
— Рановато мне принимать. Завтра еду в Гатчину на медкомиссию, потом пойду на прием к командующему. После возвращения вернемся к этому разговору.
Я понимал, что нелетающий командир был невольным перестраховщиком, поэтому дивизия оказалась в отстающих. Но Константин Гаврилович служил в авиации не один десяток лет, поэтому я попросил его посоветовать, что нужно сделать, чтобы дивизия работала с полной отдачей.
— Вот этого не ожидал, — удивился генерал и, пригласив сесть, после небольшого раздумья сказал: — Для того чтобы дивизия имела высокую боеготовность, нужно довооружить полки самолетами. Пока у нас на двух летчиков приходится одна машина. И летать надо больше. Командиры полков и сам комдив должны быть летчиками высшего класса.
3.
На другой день утром я приехал в госпиталь.
Первым мне предстояло посетить терапевта. Постучав в дверь, я вошел и обомлел от неожиданности: передо мной за столом сидела Маруся. Сразу, как в калейдоскопе, замелькали картины. Март 1945 года. Авария. Перевернувшийся самолет. Госпиталь. Первой, кого я увидел, придя в сознание, была медицинская сестра. И еще картина. 1948 год. Львов. Маруся училась в мединституте. Запомнился тонкий аромат ее духов. Словно лесной летний воздух, он волновал душу. И вот новая встреча. От неожиданности Маруся долго молча глядела на меня, потом бросилась навстречу:
— Арсен!
Она была такой же красивой, но что-то в ней изменилось: лицо осунулось и побледнело. Причину она высказала сама:
— Замужество не удалось. До свадьбы он мне нравился, а вскоре стало ясно, что и любовь, и семейное счастье он готов утопить в рюмке. Пришлось развестись и уехать.
Любовь! Как она сложна! Я вспомнил индийский эпос. «Влечение души порождает дружбу, влечение ума порождает уважение, а влечение тела порождает желание. Соединение трех влечений порождает любовь».
Врач есть врач. Сознавая свой долг, Маруся спросила: что привело меня в госпиталь? Услышав, что меня волнует, задумчиво проговорила:
— За один день вряд ли можно пройти комиссию. Но ускорить дело попробуем. Давайте ваше направление, я напишу, что вы здоровы. — Как бы оправдываясь, что не стала меня осматривать, она шутливо сказала: — У нас говорят так: «Терапевт все знает, но ничего не делает. Хирург — неважно разбирается в теории медицины, но много делает. Невропатолог — тот ничего не знает и ничего не делает». Обо мне верно сказано. Я о вас все знаю, а поэтому ничего делать не буду.
После терапевта меня принял врач-невропатолог, посадил перед собой, приказал положить правую ногу на левую, ударил молоточком чуть ниже колена. Нога не реагировала. Он ударил посильнее. Нога от боли судорожно вздрогнула. Левая нога вела себя иначе, была более чувствительной,
— Что это значит? — спросил врач. — Этого быть не должно.
— Не знаю, — ответил я, хотя и предполагал, что, видимо, поврежден нерв. В 1944 году в икроножную мышцу глубоко впился осколок фашистского снаряда. Он царапнул кость. Чтобы вынуть осколок, пришлось разрезать мышцу. На икроножной части остался девятисантиметровый рубец, но невропатолог пока не видел его, а мне не было резона напоминать об этом ранении. Не выяснив причины, врач только хмыкнул:
— Загадочное явление.
Покинув его кабинет, я подумал, что в Марусиной байке о врачах не совсем правильно говорится о нем. Врач продержал меня около часа, крутил во вращающемся кресле, заставлял проделывать манипуляции при закрытых глазах. Но так и не определил причину плохой реакции моей правой ноги.
Поездка закончилась удачно. Медицинской комиссией военного госпиталя я был допущен к полетам без ограничений. Визит к командующему воздушной армией тоже прошел успешно. Выслушав мои просьбы, он тут же распорядился, чтобы стройбат немедленно начал строить для дивизии жилье и штаб, пообещал доукомплектовать полки самолетами МиГ-17. Из поездки я возвращался в хорошем настроении.
4.
По опыту я знал, что мои командирские качества, в том числе здоровье и интеллект, будут оцениваться по качеству моих полетов. Но я долго не летал, почти два с половиной года не сидел в кабине и не чувствовал особого, настораживающего, мобилизующего и тревожного запаха истребителя. Это вызывало у меня не только тоску по небу, но и опасение: не растерял ли я навыки в пилотировании и не отвыкла ли от перегрузок моя поврежденная поясница? Чтобы не оттягивать ответы на эти вопросы, я поспешил подписать приказ о вступлении в должность, позанимался в кабинах учебного и боевого самолетов и, позвонив командиру корпуса, попросил прислать инспектора, чтобы он полетал со мной на учебном истребителе.
— Не торопитесь, — ответил тот. — Сначала надо сдать зачеты по материальной части и теории полетов. Готовьтесь. Даю три дня.
— Но я уже сдавал зачеты и летал на «мигах» еще в сорок девятом.
— Понятно, — ответил комкор. — Завтра поговорим. А пока о вступлении в должность приказ не издавайте.
— Но такой приказ уже разослан по частям, а у моего предшественника билет в кармане, он сегодня уезжает в Москву.
В трубке молчание. Потом резкий упрек:
— Зря поторопились. В спешке можно споткнуться. Но раз так получилось, командуйте. Завтра все обговорим.
Однако обещанный разговор не состоялся: из Москвы нагрянула инспекция, на рассвете корпусу, была объявлена боевая тревога. Меня приезд инспекции даже обрадовал. Она выявит все плюсы и минусы в делах дивизии, облегчат мою дальнейшую работу. Я же займусь личной тренировкой в полетах, не беспокоясь о результатах проверки:
На нашем аэродроме летную работу проверял мой старый друг подполковник Константин Домов.
— Костя, — обратился я к нему, — слетай со мной вместо моего корпусного начальства. Ты на это имеешь право. А мне это крайне необходимо.
— А как на это посмотрит комкор?
— Он сам уже не летает, может и не одобрить такой эксперимент.
— В плановой таблице ты есть?
— Конечно!
Летчики — тонкие психологи и друг друга в летном деле понимают без лишних слов. Домаха согласился:
— Давай полетим! Попутно проверю организацию полетов и сверху погляжу, как выглядит аэродром.
Хорошо зная, что для летчика каждый полет начинается с земли, я накануне более часа сидел в кабине самолета, изучая приборы и обдумывая полет по кругу, с которого всегда начинается проверка полета после длительного перерыва. Потом для ознакомления с районом базирования слетал на По-2. И вот сижу в кабине спарки. На учебном «миге» я еще не летал, но мои глаза привычно скользили по приборам, и я невольно отметил, что приборная доска на спарке такая же, как и на боевом истребителе. И я, как и раньше, чувствую запах горючего и металла. Значит, ничего не забыл? А почему? И тут я вспомнил, что часто тренировался во сне. «Летал» в простых и сложных погодных условиях днем и ночью. И «летал» так, что показания всех приборов отпечатывались в сознании. Вспомнились войны, где в боях я буквально сливался с машиной. Говорят, к прошлому возврата нет. Да, это так! Но человек живет во времени, а прошлое — в человеке, вот почему он мысленно легко возвращается в прошлое и использует опыт в решении текущих дел.
И вот мы на старте. Взлет разрешен. Решительно подаю сектор вперед и даже не чувствую, как ускорение прижимает меня к спинке сиденья. Самолет слегка покачивается, но бежит устойчиво. Только небольшой рывок, прекращение толчков и изменение гула турбины подсказали, что машина отделилась от земли. Теперь все внимание с горизонта на землю: надо набрать скорость и перевести самолет в набор высоты.
Внизу, чуть темнее неба, разворачивается Финский залив. Домов в задней кабине молчит. Значит, все в порядке. Лечу по кругу, замыкая его в той же точке, откуда начинал разбег. Турбина, словно радуясь, что земля приближается, рокочет умиротворенно и ровно. Впереди виднеется посадочная полоса, а чуть ближе путь к ней перечеркивает чернеющая лента шоссе. Оно напоминает об опасности, заставляя уменьшить скорость снижения и увеличить обороты турбины. Шоссе послушно уходит под крыло. Полностью сдвигаю назад сектор газа и поднимаю нос машины. Она, снижаясь, приближается к полосе и напротив «Т» шаркает о металл колесами. Я торможу. Самолет дергается, словно от боли, издает жалобный стон, постепенно опускает нос и, коснувшись металла носовым колесом, начинает замедлять бег.
Сделав три круга с Домовым, я приготовился выполнить такие же полеты самостоятельно. Существует большая психологическая разница в поведении обучаемого летчика. С инструктором он волей-неволей постоянно ожидает вмешательства в управление или указаний голосом по переговорному устройству. Знает он и то, что вмешательство обучающего может быть незаметным. Все это прибавляет смелости, но в то же время не дает целиком сосредоточиться на пилотировании. Лететь самому сложнее и ответственнее. К тому же я знал, что за моими полетами с земли будет следить не только московский инспектор Домов, но и почти вся дивизия. Люди будут оценивать, что представляет собой новый комдив. Не подкачать бы. Эти мысли тревожат меня. Перед вылетом летчик уже живет небом, но, пока он стоит на земле, не может не чувствовать и ее,
Два полета по кругу выполнены удачно. Предстоит сделать высший пилотаж. Чистое небо доверчиво, как душа товарища. Радует бескрайняя синева. В спокойной воде Финского залива, как в зеркале, отразилось небо, оно как бы растворило темноту залива и сделало его таким же синим. Это могло затруднять пилотаж, поэтому я выбрал ориентиром чернеющий столб дыма над заводским строением.
Выполняю мелкие и глубокие виражи, а затем фигуры высшего пилотажа. Делаю все увлеченно, но без отступлений от требований методики. Настроение прекрасное. Такого замечательного самочувствия я не испытывал более двух лет. Синева неба и залива, музыка работающего двигателя ласкали меня. Но пора было идти на посадку.
И вот я на земле. От радости, что снова стал летчиком, мне кажется, что в небе звучит музыка. Как изменился для меня мир после этого полета — он стал и выше и шире! В нем я снова чувствовал себя полным хозяином. Радость бурлила во мне. И то ли от счастья, то ли от напряжения в последнем полете мне стало жарко, хотя лицо пощипывал легкий морозец. Техник самолета лейтенант Василий Круглов подал меховую куртку:
— Наденьте, товарищ полковник, а то простынете, — и, немного стесняясь, поздравил меня с самостоятельными полетами.
Наш разговор прервали подошедшие Домов и Кадомцев. Я стал докладывать инспектору о выполнении задания, но он перебил:
— Я все видел. Молодец, слетал, как будто и не было перерыва.
Кадомцев сиросил:
— Завтра после обеда полк будет летать. Вас включить в плановую таблицу?
— Не надо. Привык летать с утра.
При подведении итогов и инспекторской проверки генерал, возглавлявший инспекцию, сказал:
— Во всех полках самую низкую оценку получила воздушная стрельба по конусу-мишени. Самую высокую — сбор по боевой тревоге. За это вас следовало бы похвалить. Но что толку от быстрого сбора и вылета, если летчики не умеют стрелять?
Инспекция определила перечень мероприятий, которые предстояло выполнить, чтобы поднять воздушно-стрелковую выучку в полках; намечалось провести повторное инспектирование.
— Успеете за это время выправить положение? — спросил генерал.
— Постараемся, — ответил я.
Он улыбнулся:
— Старайтесь, но без форсажа. У меня вот тут, — генерал похлопал по карману, — жалоба лежит. Вы не летали почти два с половиной года и ухитрились во время нашего инспектирования освоить полеты в простых условиях днем и ночью. Упорство похвальное.
— А при чем тут жалоба? — не сдержался я.
— Пишут, что вы во время инспектирования занимались личной летной подготовкой, а надо было наматывать себе на ус, что говорят инспекторы…
5.
Март по ночам был злым. От морозов трещала земля и блекли окна домов. Днем мороз словно уходил на отдых и все сияло солнцем. Зато в апреле и начале мая погода стояла капризная. Ясные дни и ночи сменялись пасмурными. Это позволило нам работать в разных погодных условиях. В середине мая, как предупреждал начальник группы инспекторов, в дивизию прибыли летчик Василий Карев, инженер Иван Сладков и специалист по вооружению Петр Хмуров, чтобы проверить уровень стрелковой подготовки.
Закончив работу с документами, Карев сказал:
— С завтрашнего дня начнем проверну воздушной стрельбы и состояния материальной части двух эскадрилий. Первой проверим эскадрилью из полка Кадомцева, потом Осмоловского. Сначала стреляют командиры полков и эскадрилий.
— А кого будете проверять из управления дивизии? — поинтересовался я.
— Если сами напрашиваетесь, то всех летчиков управления и проверим, — улыбнулся Карев.
— Прошу разрешить заряжать вместо двадцати снарядов десять. А мне — один.
— Это почему нее? — удивился Карев.
— Дело в том, что конуса рвутся после двух-трех попаданий снарядов. В марте, когда вы инспектировали нас, многие летчики вообще в конус не попадали, а если и попадали, то же более одного-двух раз. Теперь, когда летчики освоили стрельбу, при двадцати снарядах надо поднимать по конусу на каждого летчика.
— Но как же мы будем определять результаты? — спросил Карев.
— Летчикам каждое попадание за два. Лично мне — по вашему усмотрению.
— А если промахнетесь?
— Уверен, что нет. — По мыслишка все же мелькнула: «А вдруг перестараюсь?»
Хмуров, участвовавший в разговоре, заметил:
— Разрешив стрелять, как настаивает Ворожейкин, мы нарушим правила воздушной стрельбы.
— Но эти правила устарели! — воскликнул я. — Сейчас надо научиться уничтожать вражеский самолет с первой очереди, первым снарядом. И правила должны не препятствовать этому, а поощрять такую практику.
Инспекторы переглянулись. Карев спросил:
— Ну как, Петр Иванович, разрешим?
— А если плохо отстреляются?
— Не менее пятидесяти процентов отстреляются отлично, — заверил я.
Конус буксировал капитан Яков Мартьянов. Зоной стрельбы был Финский залив. Первыми в воздух поднялись старший инспектор дивизии майор Владимир Савенок и я. Пока Савенок выполнял атаку, я внимательно следил за стреляющим. У него были заряжены две пушки по пять снарядов. Как только конус распустился, летчик с большим креном развернулся и, не долетев до него метров сто — двести, резко накренил самолет в обратную сторону. Нос «мига», направленный в мишень, на мгновение застыл. Тут же блеснул огонь, конус вздрогнул, а истребитель поднырнул под него. Опыт подсказал, что несколько снарядов попали в цель, и, зная, что снаряды у Савенка остались и он готов произвести вторую атаку, я передал:
— Отставить стрельбу, порвете мишень!
Мне предстояло стрелять, когда буксировщик летел строго на восток, навстречу солнцу. Первую атаку пришлось сделать тренировочной. При повторной подобрался к конусу снизу и сбоку. В этом положении солнце не слепило, было ниже меня. Прицелился в передней обрез мишени, рассчитывая, что снаряд пробьет ее в центре. Когда нажал кнопку стрельбы, перед носом самолета блеснуло пламя, а за конусом рассыпались искры. Бронебойный снаряд пробил полотно. Конус, словно от боли, съежился. Опасаясь, что он сильно поврежден, я приказал Мартьянову:
— Уменьшите скорость, сбросьте конус на аэродром, — а сам, чтобы вместе с инспекторами проверить результаты стрельбы, круто нырнул вниз и приземлился.
Полковник Карев находился в курилке. После посадки я подошел к нему и доложил о выполнении задания.
Показав рукой на летящий самолет-буксировщик, он спросил:
— Что ему здесь надо?
Мартьянов должен был сбросить конус на нейтральную полосу, по летел прямо на курилку. Я не успел ничего ответить Кареву, как конус отсоединился от самолета и упал на землю в нескольких метрах от нас. Карев, нахмурившись, быстро зашагал к нему, туда же поспешили Савенок, инженер дивизии по вооружению и я. Остальные с нетерпением смотрели на нас. Им тоже хотелось поскорее узнать результаты стрельбы.
В конусе мы насчитали восемь пробоин. Мой снаряд, окрашенный в красный цвет, оставил большое пятно на входе. При выходе из конуса образовалась большая дыра. Снаряды, выпущенные Савенком, окрасили конус в зеленый цвет. Он попал в мишень тремя снарядами.
— Ловко отстрелялись, — оценил Карев. — Но руководству так и положено работать. А остальные летчики какие результаты покажут?
— Хорошие. Хотя не исключено, что кто-то и промахнется.
По пути к стоянке самолетов нас встретил капитан Мартьянов и доложил о выполнении задания но буксировке мишени. Карев спросил:
— Почему сбросили конус не на нейтральную полосу?
— Хотел как лучше. Преподнес вам конус на блюдечке.
— На блюдечке, — улыбнулся Карев и снисходительно махнул рукой: — Ладно! Пусть будет так!
На стоянке самолетов нас встретил подполковник Кадомцев, доложив, что эскадрилья готова к стрельбе.
— А лично вы готовы? — спросил его Карев.
Часто перед проверяющими заискивают, но Кадомцев явно удивился такому вопросу и не без упрека сказал:
— Я командир полка.
— Хорошо, хорошо! — поспешил исправить оплошность инспектор. — Раз готовы, то выполняйте.
Из двенадцати летчиков восемь выполнили упражнение на «отлично», один — на «удовлетворительно». Троим было поставлено: «выполнил».
— Нет такой оценки, — глядя на меня и Кадомцева, заявил Карев. — Чья это самодеятельность?
— А что же ставить летчику, если после первой очереди конус рассыпался? Сколько в нем попаданий? На какую оценку? — спросил я.
— Пожалуй, вы правы, — задумался Карев. — Но давайте последних трех летчиков не включим в число стреляющих. Мои начальники могут не понять нас, если вместо оценки будет стоять «выполнено».
На другой день воздушные стрельбы были проведены в другом полку. По итогам проверки дивизия получила хорошую оценку. Такого успеха не было все послевоенные годы. И он радовал меня. Война показала, что от качества стрельбы часто зависит и победа в бою, и жизнь летчика…
В середине апреля 1944 года в междуречье Днестра и Прута противник ввел мощные силы, пытаясь прорвать нашу оборону. На земле и в воздухе разгорелись ожесточенные бои. Получив приказ, я выбежал из землянки командного пункта, на ходу обдумывая, как лучше решить боевую задачу. Летчики эскадрильи, увидев меня, поняли, что предстоит срочный вылет, и, не дожидаясь команды, построились. Первым стоит Сергей Лазарев со своим ведомым Михаилом Руденко. Как всегда, Сергей, словно стесняясь своего высокого роста, чуть сутулится, руки в локтях согнуты. Вид спокойный, и в этом спокойствии и угловатой фигуре, точно высеченной из глыбы камня, угадывается огромная сила. Воюет он третий год. До дерзости смелый, но бои научили его выдержке и расчетливости. Его нет смысла назначать в ударную группу: здесь он будет ограничен в маневре. Зато на высоте, в группе прикрытия, сможет проявить больше инициативы, надежно прикроет нашу четверку. Вторая пара — Алексей Коваленко и Назиб Султанов. Эти тоже не новички, но, увлекаясь боем, иногда забывают, что сами могут быть атакованы, поэтому за ними еще нужен опытный глаз. Пятым стоит Иван Хохлов — мой ведомый.
Чтобы показать на карте район прикрытия наземных войск, вытаскиваю из планшета карту. Все подступают ближе. Понимая, что перед боевым стартом каждое лишнее слово как лишний груз в походе, стараюсь быть предельно кратким. Гляжу на Лазарева:
— Пойдешь парой выше нас.
Плечи Сергея раздвинулись. Высокая, мощная фигура напружинилась. По тонкой молодой коже обожженного лица пробежал румянец.
Обращаюсь к Коваленко:
— Вы с Султановым — со мной, в ударной группе.
Две фразы — и приказ отдан. Последний вопросительный взгляд на летчиков. Молчание. Я не спрашиваю, есть ли ко мне вопросы. По особой сосредоточенности на лицах и плотно сжатым губам понимаю: вопросов нет.
— По самолетам!
Наша шестерка в воздухе. Курс на юг. Над Днестром видимость резко ухудшилась. Земля под нами поплыла в белесой дымке. Впереди, в районе боев, куда мы идем, дымка высоко поднялась, и издали кажется, будто это снежные Карпаты, сместившиеся на север. В наушниках шлемофона просьба с земли, чтобы мы «нажали на все педали»: бомбардировщики противника на подходе. В голове роятся вопросы: «Какие бомбардировщики и сколько их, высота полета, курс, боевой порядок? Много ли истребителей прикрытия?..»
А вот и ответы. Впереди две группы «юнкерсов», самолетов по тридцать в каждой. За ними грузно плывут еще две группы. Всего в двух эшелонах больше сотни бомбардировщиков. Их сопровождает четверка «мессершмиттов», которые держатся кучно. Так летают не опытные, а молодые летчики. Впереди головных «юнкерсов» две пары «фоккеров», в разомкнутом боевом порядке как бы прокладывают путь своей армаде. А дальше в лучах солнца играют серебристые блики — еще несколько пар истребителей противника.
Гитлеровцы намереваются нанести массированный удар с воздуха по нашей обороне. Вражеских истребителей много, они легко могут сковать нас боем. Главную опасность представляют истребители, летящие выше. Но они ждут нас на встречных курсах, а мы ударим с тыла. Наше преимущество — внезапность и быстрота, но этого преимущества может хватить только для разгрома одной группы первого эшелона. А как быть с остальными?
Сближаясь с «юнкерсами», думаю: по какой из двух первых групп выгоднее нанести удар? И вдруг правее меня из сивой дымки, через которую еле-еле просматривалась земля, вынырнул вражеский корректировщик. Значит, в дыму можно спрятаться, а из него вынырнуть вверх. Нужно воспользоваться этим. Нам выгодно атаковать сверху вторую группу истребителей и, прикрываясь дымкой, внезапно ударить по первому эшелону бомбардировщиков. Наши «яки», окрашенные в темно-голубой цвет, сольются с сизой дымкой. А если нет? Тогда истребители противника могут нам отрезать все пути к бомбардировщикам. Успеют ли? Успеют. Только их атака будет спереди, в лоб нам. Что ж, этой атаки бояться нечего: она будет малоэффективной. Мы не свернем с курса и не вступим в бой с истребителями, пока они не нападут на нас сзади. Для этого им потребуется около минуты, в течение которой мы должны разбить первую группу «юнкерсов».
— Атакуем все сразу замыкающую группу! Лазарев — по правому флангу. Коваленко — по левому. Я бью по ведущему! — передаю ведомым.
Сверху у «юнкерсов» мощный бортовой огонь. Однако мы так внезапно свалились на них, что вражеские стрелки не успели опомниться, как мы, окатив «юнкерсов» огнем, скрылись в дымке. Ведущая группа бомбардировщиков и четверка «фоккеров» их непосредственного сопровождения летят в прежнем боевом порядке. Значит, они ничего не заметили. А что с атакованными «юнкерсами»? Оглянуться назад нет времени, нельзя терять ни секунды. Используя скорость, набранную на пикировании, мы снизу, из дымки, мгновенно устремляемся к головной группе «юнкерсов». Их истребители прикрытия нас еще не обнаружили, но уже тревожно засуетились.
— Атакуем в прежнем порядке! — командую по радио.
«Лапотники» в наших прицелах. Идут спокойно. Значит, не подозревают об опасности. Но вот трасса снарядов и пуль настигла ведущего «юнкерса». Из его чрева брызнул огонь. Зная, что от разрушающегося бомбардировщика могут полететь обломки и бомбы и накрыть меня, быстро отскакиваю вправо и вниз. К нам пристраиваются Коваленко с Султановым, приближается и пара Лазарева. И по-прежнему нас не обнаруживают вражеские истребители — в смятении кружатся в стороне.
Экипажи «юнкерсов» ошеломила атака. Потеряв строй, обе группы торопятся освободиться от бомб и разворачиваются назад. Три из них горят. В воздухе висят парашютисты. Видя эту картину, вторая группа первого эшелона тоже сбрасывает бомбы и разворачивается. Видимость по горизонту и вниз плохая. Пары Коваленко и Лазарева, чтобы не потерять меня с Хохловым, летят ниже. Мы все готовы к новой атаке, но не видно второго эшелона «юнкерсов», хотя они должны быть где-то рядом. Наугад разворачиваемся им навстречу. А если разойдемся? Этого нельзя допустить. Нужно подняться выше дымки и взглянуть, где они. Прыжок к синеве. «Юнкерсы» оказались совсем рядом, а неподалеку четверка «мессершмиттов». Теперь боя с истребителями не избежать.
— Сережа! Возьми на себя истребителей, а мы с Коваленко добьем «лапотников», — передаю Лазареву и снова ухожу в дымку.
Нелегко будет Лазареву с напарником отвлечь от нас истребителей. Да и нашей четверке теперь уже не так просто снова стать невидимками. Надежда — на сизую окраску наших «яков». Не поможет это — пробьемся к «юнкерсам» с помощью огня. Лазарев и Руденко с разворотом устремились вверх. «Не подкачай, Сережа! А от „мессершмиттов“ мы и сами отобьемся».
Летя в дымке, я уже вижу обе группы «юнкерсов» второго эшелона. Они хотя и идут нам навстречу, однако их строй не такой плотный и спокойный. Наверняка знают о судьбе своего головного эшелона и встревожены. Неожиданно четверка «мессершмиттов» отвернула от «юнкерсов» и помчалась туда, куда ушел Лазарев, чтобы помочь своим. Какое благородство! Теперь бомбардировщики совсем без охраны.
— Коваленко, бей заднюю группу «юнкерсов», а мы с Хохловым — переднюю, — передал я, разворачиваясь для удара.
На встречных курсах сближение происходит быстро. Разворачиваю машину, чтобы оказаться перед первой группой бомбардировщиков. От перегрузки меркнет солнце. Но медлить нельзя. Опасаясь столкновения с «юнкерсами», чуть проваливаюсь вниз и выхожу из разворота. В глазах свет. «Юнкерсы» передо мной.
Ловлю в прицел заднего «лапотника»: он ближе всех, но болтается, как бревно на воде при шторме. Хохлов уже бьет. Один «юнкерс» опрокидывается вниз. От моей очереди другой «лапотник» закоптил. «Сразить следующего? Нет, нужно поберечь боеприпасы для боя с истребителями». В этот момент вижу, как горящий бомбардировщик, очевидно из первого эшелона, точно комета с длинным огненным хвостом, мчится в лоб группе «юнкерсов». Они, уже потрепанные нами, опасаясь столкнуться со своим же самолетом, как испуганное стадо, шарахнулись врассыпную, сбрасывая бомбы по своим же войскам.
А как дела у Коваленко с Султановым? После их удара «юнкерсы» поворачивают назад. За какие-то две-три минуты мы сумели отразить налет армады бомбардировщиков. Сейчас надо бы помочь Коваленко. Однако «мессеры», поняв свой промах, спешат сюда. И мы с Хохловым, набирая высоту, идем навстречу врагу. Но обстановка усложняется.
— «Фоккеры»! — резанул тревожный крик Хохлова.
Я ни о чем не успел подумать, а ноги и руки, точно автоматы, уже швырнули «як». Откуда взялись «фоккеры»? И где они? Взгляд назад. Там противный черный лоб «Фокке-Вульфа-190» уперся в хвост моего «яка» и изрыгает огонь. Ледяной душ хлестнул тело. Страшно стало и зябко. Еще секунда, нет, доля секунды промедления — и для меня все бы кончилось. Вовремя предупредил Иван об опасности! «Спасибо, друг!» И все же злость закипела в душе. «Да, я жив и невредим. Я живу. Страх смерти отступил. Я радуюсь. Однако не рано ли?»
Мысль снова заработала четко и ясно. Перезаряжаю оружие. Оно не стреляет. Я понимаю, что для врага я уже безопасен, но он-то об этом не знает. И в этом моя сила. «Фоккеру» не хочется упускать жертву. Он все еще пытается поймать меня в прицел. Нет, теперь это напрасное усердие. Продолжая виражить, осматриваю воздушное пространство. Что же произошло? Последняя группа «юнкерсов» сбрасывает бомбы и, развернувшись, уходит на запад. Вскоре нас оставили и фашистские истребители. Мы снова все в сборе. В оперативной сводке Совинформбюро за 19 апреля 1944 года сообщалось: «Группа летчиков-истребителей под командованием Героя Советского Союза гвардии майора Ворожейкина прикрывала боевые порядки наших войск. В это время появилась большая группа немецких бомбардировщиков и истребителей. Гвардии майор Ворожейкин во главе ударной группы атаковал бомбардировщиков, а лейтенант Лазарев завязал бой с истребителями противника. Наши летчики сбили 6 немецких самолетов».
О страхе и бесстрашии
1.
В эту ночь мне пришлось много летать. Домой вернулся на рассвете, прилег на кровать. Но не успел заснуть, как резкий телефонный звонок заставил вскочить с постели. Телефон был связан только со штабом дивизии, а оттуда зря звонить не будут. «Неужели что-то случилась?» — подумал я, услышав в трубке голос начальника штаба Мельникова. Оказалось, что к нам на аэродром вылетел главнокомандующий ВВС маршал авиации П. Ф. Жигарев.
— Когда он будет?
— Через час.
— Маршал останется у нас или полетит дальше?
— Об этом ничего не сказано.
Павла Федоровича Жигарева я знал, бывал у него на приеме. Бывший кавалерист, он закончил школу летчиков и Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского, командовал группой летчиков-добровольцев в Китае, в начале Великой Отечественной войны был командующим ВВС страны…
Самолет остановился, маршал, небольшого роста, полноватый, неторопливо сошел на землю. Я и начальник штаба дивизии представились ему.
— Есть ко мне вопросы? — спросил он.
— Личных нет, есть служебные.
Я хотел сказать, что нашему аэродрому нужна металлическая рулежная дорожка, спросить, когда будет назначен замкомдива, когда мы получим истребители МиГ-17, которые он обещал при моем назначении на должность. Но Жигарев сказал неопределенно:
— Служебные дела пока отложим!
Но «пока» затянулось, о служебных делах поговорить с главкомом не пришлось. Однако на другой день после его отлета мне позвонил командующий ВВС Балтийского флота генерал-лейтенант авиации Петров и спросил, когда я могу приехать к нему для важного разговора. Мне не раз приходилось встречаться с Борисом Лаврентьевичем, но эти встречи были короткими. Он мне нравился своим спокойствием и рассудительностью.
— Прошу принять меня сейчас, — ответил я. — В сумерках и ночью у меня полеты.
— Хорошо. Жду.
В этот момент в мой кабинет не вошел, а ворвался командир соседней дивизии полковник Николай Щербаков:
— Здравствуй, море! Ура! Моя дивизия снова будет морской. Я зашел за тобой, чтобы вместе идти к Петрову.
— Расскажи толком, что произошло?
— Наши дивизии передаются морякам, штаб корпуса ликвидируется.
Я сразу вспомнил маршала Жигарева. Стало ясно, почему он не захотел разговаривать по служебным делам, оставив их на «потом». Видимо, он прилетал, чтобы уточнить порядок передачи дивизий.
— Чего молчишь? — прервал мои раздумья Николай Тимофеевич.
Взглянув на него, я подумал, что он внешне похож на Петрова. Оба небольшого роста, но по характеру разные; этот — порывисто-эмоциональный, а Борис Лаврентьевич — спокойный и вдумчивый.
— Ты меня ошарашил новостью. Тебе хорошо, ты даже форму морскую не успел сменить. А мне совсем не хочется к морякам. Всю жизнь был сухопутным летчиком. Но приказ есть приказ. Расскажи мне о нашем новом командующем.
Николай Тимофеевич сел напротив меня, положив обе руки на стол и, улыбнувшись, начал:
— Бориса Лаврентьевича я знаю лучше, чем себя. Мы одногодки, учились вместе. В тридцать втором нам повесили по два кубика. Между прочим, и полюбили мы одновременно одну девушку. Борис не умел танцевать, а я любил танцы и танцевал с ней. Боря ревновал меня…
— Ты говори о деле, — перебил я Щербакова.
— Летчик он сильный. Умный человек. Начитанный. Война застала нас на Черном море. Он уже был начальником штаба ВВС флота, когда с ним случилось несчастье. Севастополь только что освободили, и он полетел туда на «Бостоне», в роли пассажира. Из-за сильного тумана при посадке самолет разбился. Борис Лаврентьевич повредил ногу. Медкомиссия списала его с летной работы…
— Но ведь он летает?
— Летает. Даже самовольно вылетел на МиГ-пятнадцатом, за что получил взбучку от командующего ВВС флота. Ты обратил внимание, как он здорово хромает? Начальство делает вид, что этого не замечает…
Командующий принял нас радушно, беседовал тепло и долго. Я рассказал ему о наших задумках построить в пустующих ангарах спортзал, а затем плавательный бассейн.
— Так в чем же дело? — с одобрительной заинтересованностью спросил он.
— В финансах. В дивизии на эти цели денег нет.
— Я сейчас позвоню адмиралу Харламову. — После короткого разговора, не кладя трубку, он спросил меня: — Сколько денег нужно на спортзал?
— Приблизительно пятьдесят тысяч, — ответил я, хотя четкого представления о количестве денег, требующихся на строительство, не имел.
Петров назвал эту сумму и, закончив разговор с комфлотом, сообщил:
— Адмирал отпустил вам шестьдесят тысяч. Если будет мало, обещал добавить. Приступайте к строительству. Какие еще вопросы?
— В нашей дивизии не хватает самолетов. А МиГ-семнадцатых нет ни одного.
— Дадим. — Генерал выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда ключ: — Вам, Арсений Васильевич, выделена трехкомнатная квартира в новом доме. Можете заселять. И еще, хочу познакомиться с вашими командирами полков. В какое время и где лучше с ними встретиться?
— Завтра в двенадцать часов дня, — ответил я и пояснил, — Сегодня ночью летают на всех аэродромах дивизии. Собраться можно в моем кабинете. Прикажете пригласить и замполитов?
— Не надо! — твердо заявил Петров. — С ними проведет беседу начальник политотдела. Наш разговор с командирами полков должен быть доверительно-откровенным. — Он повернулся к Щербакову: — А с вами, Николай Тимофеевич, мы старые друзья, ваша дивизия мне хорошо знакома, если, конечно, за короткий срок пребывания у сухопутчиков летчики не изменились.
— Не изменились. Все рады снова стать моряками.
— Ну, голубчики, кажется, мы все обговорили, — и Петров, обведя нас дружелюбным взглядом, на прощание пожал нам руки.
Борис Лаврентьевич умело вел беседу. Наш разговор скорее напоминал не разговор начальника с подчиненными, а подчиненных с начальником. Он слушал нас же перебивая, на все просьбы тут же реагировал. Слова «голубчик», «голубчики» привлекли мое внимание. Когда мы вышла на улицу, я спросил Николая Тимофеевича, как часто командующий употребляет их в разговорах с подчиненными?
— Мне кажется, он делает это от души, сам того не замечая. После доверительного «голубчик» подчиненные невольно начинают с ним разговаривать без всякой натянутости, более откровенно.
Говорят, что солдатский вестник разносит новости быстрее любых приказов и распоряжений, но на этот раз командиры полков были удивлены неожиданному сообщению о переводе дивизии в подчинение к морякам. Солдатский вестник не сработал. Вопросов и вздохов было много. Привычка свыше нам дана. Разговоры смолкли, когда вошел генерал Петров. Он с каждым поздоровался за руку и сел в торце стола. По обеим сторонам от него расположились по два командира полка: Дмитрий Осмоловский с Анатолием Кадомцевым и Константин Моисеев с Павлом Климовым.
— Ну, товарищи командиры, давайте познакомимся, —командующий рассказал о себе, потом послушал командиров полков, оценивших боевую подготовку своих частей, и продолжил беседу. — На днях вы получите двадцать новых МиГ-семнадцатых. На некоторых из них установлены радиолокационные прицелы. К ним могут подвешиваться ракеты. Они способны летать со сверхзвуковой скоростью.
Раньше главным в воздушных боях было стремление ближе подойти к врагу. Теперь положение изменилось. Радиолокационные прицелы и ракеты позволяют вести огонь с дальности в несколько десятков километров. И уже есть «теоретики», утверждающие, что воздушных боев, какие были раньше, теперь не будет, поэтому надобность в высшем пилотаже отпадает.
— Неправильно! Чепуха какая-то, — послышались голоса.
— Давайте, голубчики, — продолжал командующий, — отбросим эту «теорию», не будем повторять допущенные ошибки. Перед Великой Отечественной нашлись руководители, запретившие истребителям полеты на высший пилотаж. Это стоило нам многих потерь.
Слушая командующего, я думал о событиях, отгремевших в Корее. Воздушные схватки, проходившие там, по маневрированию и накалу не уступали боям в ходе Великой Отечественной войны. Правда, тактика во многом изменилась, но атаки с разных направлений и под разными углами остались, использовались атаки на вертикалях. Все это требовало от летчиков виртуозности в пилотировании и умения выдерживать большие перегрузки «силовых приемов». А приучить себя к перегрузкам летчик может только в процессе высшего пилотажа. Пилотаж летчика-истребителя — это его душа, небесная поэзия, сопровождаемая музыкой мотора или турбины.
Беседа о технике пилотирования перешла в разговор о воздушных асах. Командующий предложил командирам полков дать свою оценку таким летчикам.
— Ас — это бесстрашный летчик-истребитель, умеющий отлично владеть самолетом, — сказал Кадомцев.
— Это человек риска, — поддержал его Осмоловский.
— А что думаете вы, Арсений Васильевич? — командующий с любопытством смотрел на меня.
Слова Кадомцева о бесстрашии заставили меня задуматься. Страх — это великий дар природы, своеобразный чувствительный прибор, своевременно сигнализирующий об опасности. Не только летчик, но любой здравомыслящий человек должен иметь силу воли и хорошо владеть собой. Иначе он не может быстро определить опасность и своевременно принять разумные меры защиты. Возможно, у Кадомцева притуплен инстинкт страха. Недаром он когда-то, нарушив все авиационные законы, самовольно вылетел на боевом одноместном истребителе. И сейчас летает хорошо. Видимо, он великолепно умеет владеть собой и знает, на что способен. Тут я впервые задумался о судьбе Кадомцева. Он не бывал в воздушных боях, страх в боевой действительности на себе не испытал. Возможно, его незаконный вылет на истребителе являлся просто бравадой, игрой в смелость?
— Известна народная мудрость, — сказал я, — дружба проверяется в беде, мудрость — в гневе, а смелость — в бою. Воздушный бой — это искусство. И в мирное время не надо специально готовить асов, надо учить летчиков мастерству, а также снайперской стрельбе, которая требует смелости, расчета, умения сосредоточиться. Я знал смелых и мужественных ребят, но она погибли в первых же боях из-за неопытности…
— Выходит, мужество — мужеством, а на земле нужно тщательно готовиться к каждому полету? — не то спросил, не то сделал заключение командующий.
Но опять свое особое мнение высказал Кадомцев:
— Считаю, что летчики оформляют много лишних бумаг. Главное для летчика-истребителя — небо.
Вроде бы он был прав, но сердце не принимало его слова без оговорок. Бумаги бывают разные, и отношение к ним тоже разное. Если летчик на земле обдумает и опишет свой полет на бумаге, в небе ему будет легче выполнить все положенные эволюции. Для молодого летчика такое описание является своеобразным зеркалом, отображение которого принял его мозг, что значительно облегчает ему выполнение полетного задания…
2.
Командир полка Дмитрий Николаевич Осмоловский руководил полетами. Ему сорок два года. Он старше других летчиков и по возрасту, и по опыту командования частью. Одержим в работе. Любит летать. Небольшого роста, кряжистый, напоминает борца-силача. Увидев меня, доложил о воздушной обстановке. Все шло своим чередом, и вдруг произошла заминка. Только что произвел посадку МиГ-15, а за ним в недозволенной близости к полосе приближается другой. Осмоловский передал:
— «Орел»-десять, посадку запрещаю!
Однако «Орел»-десять, словно не слыша команды и не видя впереди опасности, продолжал снижение. Руководитель полетов торопливо и с тревогой повторил команду:
— Немедленно уходите на второй круг!
У меня инстинктивно мелькнула мысль взять у Осмоловского микрофон и вмешаться в управление, но я тут же отказался от этого намерения. Командир полка в этом деле опытнее меня. А Осмоловский уже перешел на тревожный крик:
— Ты что, Мартьянов, с ума спятил? Не видишь, что на полосе самолет? Дай полный газ!
Мартьянов приземлился, его самолет побежал по полосе, догоняя катившийся впереди истребитель. Летчик тормозил так, что самолет клевал носом. Впереди Мартьянова был «миг» старшего инспектора дивизии майора Владимира Савенка. Услышав тревожный голос руководителя полетов, он энергично дал газ и начал быстро сворачивать с полосы. Успеет ли? И сумеет ли? От резкого разворота самолет может потерять управление. Так и получилось. Истребитель Савенка развернулся и побежал навстречу Мартьянову. Они вот-вот врежутся друг в друга. Мы понимали, что теперь никто не в силах им помочь. Но, к всеобщему облегчению, столкновения не произошло. Савенок успел притормозить наземный вираж своего «мига». Истребители разошлись по всем правилам уличного движения. Несколько секунд мы находились а шоковом состоянии. Не знаю, какое лицо в этот момент было у меня, но у Дмитрия Николаевича оно стало серым.
— Ну не сумасшедший? А еще инспектор дивизии, — вздохнул Осмоловский.
Я попросил его передать Савенку и Мартьянову, чтобы ждали меня у своих самолетов, а сам заторопился на стоянку. Издали было видно, как Савенок, размахивая руками, ругает Мартьянова. Моя машина остановилась около них. Оба доложили, что полетное задание выполнили. Я невольно обратил внимание на их внешний вид. Савенок пылал негодованием. Мартьянов был невозмутим. Прямой, высокий, он напоминал бездушного робота. На мой вопрос о возможных неисправностях самолета и мотора совершенно спокойно ответил:
— Я всегда летаю на исправной машине.
— А ты сам-то исправный? — возбужденно спросил Савенок.
Чтобы приостановить горячий разбор полета, я показал на машину:
— Поедем в штаб, там разберемся.
В машине Савенок снова перешел на крик:
— Товарищ полковник, я больше не могу работать с таким помощником! Он чуть было…
— Помолчите! — приказал я.
Оказывается, внешнее спокойствие виновника происшествия может вызывать глубокое раздражение у людей, чувствующих свою правоту. Я почувствовал, как от невозмутимого вида Мартьянова начинаю нервничать. А мне предстояло разобраться в нелегкой ситуации, понять, что там, где нет дружбы, не может ладиться и служба.
В штабе меня ждал только что назначенный начальник политического отдела дивизии полковник Николай Николаевич Астафьев. Я предложил ему начать работу в дивизии с разбора инцидента.
— Хорошо, — согласился он. — С удовольствием послушаю ваш разговор.
— Удовольствия при этом разговоре будет мало, — не выдержал Савенок.
Начальник политотдела с любопытством посмотрел на него и протянул руку:
— Давайте познакомимся,
Оба инспектора представились ему, и мне показалось, что это знакомство успокоило Савенка. Когда мы сели за стол, я предложил ему;
— А теперь дайте капитану Мартьянову подробную характеристику. Что он представляет собой как летчик и как человек?
— Хорошо, — в задумчивости ответил Савенок и, взглянув на Мартьянова, начал: — Перед войной мы с ним окончили Харьковское военное училище летчиков. Нас там оставили инструкторами. Только в сорок четвертом нам удалось вырваться на фронт. Он воевал хорошо. И после войны летал отлично. А в последнее время с ним что-то произошло. Появилась излишняя самоуверенность.
— А ты стал трусом, — заявил Мартьянов.
— В чем же проявилась его трусость?
— Да хотя, бы в сегодняшнем случае. Он струсил! Я хорошо видел его самолет и тормозил. А он с испугу начал крутиться на полосе.
— А вам не страшно было садиться?
— Нет!
— Но если бы на вашем самолете отказали тормоза? Не зря говорят, что высшая форма добродетели — осторожность, а высшая глупость — лезть напролом.
— Моя машина меня еще никогда не подводила.
— А если бы подвела?
— Я сбоку обогнал бы Савенка.
— Но ведь руководитель полетов запрещал вам посадку. Почему не выполнили его приказ?
— Я готов, если надо, отдать жизнь, но выполнять глупые указания не обязан. На второй круг у меня могло не хватить горючего. А говорить по радио не мог: был занят посадкой. Точной посадкой.
— «Жизнь Родине, а честь никому» — такой лозунг был у испанских анархистов, — сказал я и спросил: — Вы не анархист?
— Я советский летчик. Но что за жизнь без риска?
Из беседы мы поняли, что у Мартьянова что-то произошло с психикой. Чтобы смягчить наш резко откровенный разговор и не вызвать у человека еще большего возбуждения, я примирительно заговорил:
— Ну вот, мы как будто все и выяснили. Теперь, уважаемый Яков Савельевич, можете быть свободным.
«Уважаемый Яков Савельевич» порывисто встал, вытянулся в струнку и задиристо упрекнул:
— Вам, товарищ полковник, подчиненных не положено так называть. У меня есть воинское звание и фамилия.
Мне пришлось согласиться:
— Хорошо! Учту, капитан Мартьянов. — Глядя на его сильно поседевшую густую шевелюру, спросил: — Вам, кажется, всего тридцать два года? Скажите, когда вам так капитально побелило волосы?
— На фронте. В первом воздушном бою.
Память о войне не подвластна времени. Мне вспомнился первый бой на Халхин-Голе и захотелось сделать снисхождение Мартьянову за нарушение правил посадки. В первом своем воздушном бою я не испытывал страха. Он родился уже после посадки, когда я вылез из самолета, когда понял, что случайно уцелел в небе. Меня сковал леденящий страх, и я, обессилев, повалился на землю. Мартьянов от страха поседел, а у меня тогда неудержимым потоком хлынули слезы. Теперь у него возникло какое-то безрассудное бесстрашие.
В этот момент распахнулась дверь, вошел Осмоловский и доложил, что в самолете Мартьянова осталось полбака горючего.
— Видите, товарищ Мартьянов, оказывается, керосина у вас было достаточно, чтобы выполнить приказ руководителя полетов, — сказал я.
— Ясно, товарищ полковник. Но я не засек время взлета и счел, что безопасней сесть, чем выполнить команду руководителя полетов…
Когда Мартьянов вышел, начальник политотдела пожал плечами:
— Странный человек. У него какая-то мания вседозволенности. Нормальный военный человек так не должен вести себя.
— Вы правильно это заметили, — подхватил Савенок. — Раньше он был внимательным и корректным.
— Какое примем решение?
— Отстранить от полетов, — предложил Савенок, — направить в госпиталь на обследование.
— А может, дадим ему отпуск? — предложил я. — В последние месяцы мы много летали даже в выходные дни. Мартьянов отдыха не знал. Не исключена возможность, что человек устал.
— Не поможет, — заявил Савенок. — Он уже начал бить жену. Я на днях зашел к ним, она лежит на диване и плачет. Он говорит: «Все учит меня, воспитывает. Пришлось вправить ей мозги». Что касается отпуска — ему некуда ехать: фашисты уничтожили всех его родных.
— У них дети есть? — поинтересовался Николай Николаевич.
— В начале войны родился мальчик, но умер.
— Больше детей не хотят?
— Она не хочет. Говорит: «Если рожу и он снова умрет, то покончу с собой». Сейчас беременна, но собирается делать аборт. Он против. Вот из-за этого у них постоянные ссоры.
— Почему же вы, как непосредственный начальник Мартьянова, не вмешаетесь в их семейные дела?
— В эти дела я не имею морального права вмешиваться: у меня самого с женой разлад.
Эти слова заставили меня задуматься. Я только что упрекнул Савенка, но сам, его непосредственный начальник, не знал о неладах в семье подчиненного.
— А что у вас?
— Она была в оккупации. Не лежит у меня к ней сердце.
— Почти половина нашего населения оказалась в оккупация.
— Я получил письмо без подписи. В нем сообщается, что моя жена жила с фашистами.
— И вы поверили анонимке?
— Не поверил… Но что-то саднит душу.
«Как бы я поступил, оказавшись на его месте? — подумал я. — Все это, конечно, не может не влиять на службу. Недаром говорят: крепка семья — крепка и держава. Не так просто высветить моральные устои человека. Двуличие в жизни напоминает порой заросшую сверху травой трясину, которая ласкает своим видом. Но стоит вступить на нее — и она может засосать тебя. Ревность не всегда голос любви. Бывает, сказывается уязвленное самолюбие».
Беседа наша затянулась, а мне предстояло идти на ночные полеты. Мысль о послеобеденном отдыхе родила новую идею. Савенок и Мартьянов старые друзья, у обоих в семьях творится неладное. Надо послать их с женами в санаторий. Солнце, море, ласкающий теплый воздух — лучшее лекарство от всех душевных и психических расстройств. Великолепная природа смягчает характеры, настраивает на лирический лад, крепит людскую дружбу. Вот только как быть с полетами? Думаю, обойдемся без инспекторов.
3.
Тихая безоблачная ночь. Мы с Мартьяновым в зоне. Высота пять километров. В небе сияние звезд. На земле море огней. А иллюминация кораблей в Финском заливе до того ослепительна, что напоминает цирковое представление.
— Разрешите выполнять задание?
— Выполняйте! — ответил я Мартьянову и тут же услышал голос руководителя полетов подполковника Кадомцева:
— «Орел»-один! Вам посадка! Приказано закрыть полеты.
— Вас понял, — ответил я.
Что это значит? Такие распоряжения зря не отдают. Настроение сразу испортилось, сияние звезд и наземных огней мне уже казалось тревожным. Создалась экстремальная ситуация. Надо было проверить, как Мартьянов воспринял это сообщение. И я решил на время посадки других самолетов разрешить ему дальнейшее выполнение задания. Стало ясно, что он умеет владеть собой. Так же уверенно а четко он приземлил самолет и спокойно зарулил его на свое место. Я поспешил к руководителю полетов, который доложил, что полеты полк закончил без происшествий, но выполнению плана помешала тревога.
— А в чем дело? — спросил я Кадомцева.
— Боевая тревога объявлена всему гарнизону.
— Проверяющих нет?
— Нет.
Странно. Если сверху объявляют тревогу, на аэродром непременно прибывают контролеры. Отсутствие их озадачило меня. Прямо со стартового командного пункта позвонил генералу Петрову. Он ответил не без волнения:
— Немедленно рассредоточьте все самолеты. Десять истребителей держите в готовности номер один. Подберите лучших летчиков: возможно кому-то придется взлететь. Остальные пусть находятся около самолетов. Я выезжаю к вам в штаб.
Неизвестность всегда порождает догадки. Когда о разговоре с командующим я сказал Кадомцеву, он озадаченно вздохнул:
— Уж не война ли? И десяти летчиков-ночников у меня не наберется: многие в отпусках.
Наш разговор перебил Мартьянов. Доложив о полете, он спросил:
— Какие будут замечания?
— Замечаний нет. Летали хорошо, — и тут у меня возникла мысль назначить его на дежурство. Это придаст летчику разумную уверенность. Если даже будет боевой вылет, он справится с задачей, — Нет ли желания подежурить парой?
— Есть, дежурить! — с радостью согласился Мартьянов.
— Тогда идите к Савенку, займите готовность номер один, — распорядился я и, повернувшись к Кадомцеву, сказал: — Поеду в штаб, а вы оставайтесь руководителем полетов. В случае необходимости поднимите в небо пару Савенка.
Полковник Мельников привел штаб в боевую готовность, но что-то не давало ему покоя.
— Лучше было сделать командный пункт на аэродроме. Весь город знает, где находится наш штаб, — сокрушался он.
— Не все ли равно, где накроют, — отшучивался я. — Война-то будет атомная.
Прибыл генерал-лейтенант Петров и сразу спросил:
— Где дивизионный командный пункт?
— Здесь, в штабе, — я показал на телефоны, стоящие у меня на столе. — Есть прямая связь со всеми полками и вашим штабом. Такая же связь из кабинета начальника штаба.
— Да-а, — в раздумье протянул Петров. — Тревога-то объявлена, видать, боевая, а мы к войне не готовы.
— Надо строить пункты управления глубоко в земле, — заметил Мельников. — Это мы можем сделать сами.
— Нет, голубчик, — покачал головой командующий. — Своими силами современный командный пункт не построишь. Это весьма дорогостоящее сооружение. Большая глубина. Лифт. Проводная подземная связь. Герметизация помещений. — Он махнул рукой: — Пока это нам не под силу. А вот посмотреть, как ваши два полка заняли боеготовность, мы не только можем, но и обязаны.
Солнце еще полностью не поднялось из-за горизонта, но видно было, что аэродром преобразился. Рассредоточенные самолеты так разумно укрыты, что беглым взглядом их не заметишь. Только дежурные машины Мартьянова и Савенка, стоящие на взлетной полосе, были видны как на ладони. Я рассказал командующему, что произошло недавно у Мартьянова с Савенком на посадке, о нашем с ними разговоре, а также о решении послать летчиков в санаторий.
— Правильно решили, — одобрил он, — с путевками помогу.
Борис Лаврентьевич объехал весь аэродром, поговорил с летчиками, техниками и, по-видимому оставшись довольным, уехал. А мы весь этот день и всю ночь находились на аэродромах. Питание летчикам доставлялось прямо к самолетам. Для отдыха личного состава пришлось даже ставить палатки. На другой день были разрешены учебные полеты, но при полной готовности немедленно вступить в бой. С кем придется воевать — никто не знал.
На третьи сутки нашей «фронтовой» жизни в дивизию прибыл заместитель министра Вооруженных Сил СССР маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев. В кабинете он почему-то сел не на место комдива, а напротив меня. На мой вопрос, чем вызвана непонятная боевая тревога, прямого ответа не дал, сослался на сложную международную обстановку.
— Продолжайте обычную, нормальную боевую подготовку, но, как говорится, порох держите сухим.
Прежде чем выйти из штаба, он внимательно оглядел стены моего кабинета. Над моим столом висели портреты Ленина и Сталина, а над дверью —фотография Берия. Взгляд маршала, как мне показалось, задержался именно на нем. Тогда я и мысли не допускал, что боевая тревога связана с его арестом. В ожидании, что Берия и его приспешники могут привлечь для своего спасения внутренние войска и войска государственной безопасности, в некоторых городах и военных гарнизонах войска были приведены в боевую готовность.
4.
Ночью меня разбудил резкий телефонный звонок. Такой звонок — тревожный сигнал.
— Слушаю, — как можно спокойнее сказал я.
Говорил командир полка Климов. Он взволнованно сообщил, что произошла катастрофа, разбился его заместитель по летной подготовке майор Сомов. При планировании на посадку самолет зацепился за деревья и упал в лес. Летчик успел произнести «…зал. Буду…».
— При падении взрыва не было?
— Нет.
— Летчика извлечь из-под обломков и доставить в медицинскую часть на обследование. Разбитый самолет не трогать. Для охраны выставить часовых. Прилечу на рассвете. До выяснения причин катастрофы не летать.
— Ясно!
— Кто руководил полетами?
— Я.
Ясным и теплым утром мы с инженером дивизии вышли из штаба и направились к спарке. Пение жаворонков заливало весь аэродром. Это спокойное и жизнерадостное утро, предвещавшее установление хорошей погоды, никак не укладывалось в моем сознании, встревоженном катастрофой. Оно раздражало меня. Несчастье и радость несовместимы.
Через несколько минут полета впереди блеснул металлической полосой аэродром. Полоса, как бы разрезав гранитный берег, прошла между скалами, пролегла по равнине и почти уперлась в сосновый лес, куда упал истребитель во время катастрофы. Пролетая над этим местом, мы увидели срезанные верхушки деревьев и белевший контур самолета, уткнувшегося носом в комель высокой сосны. Трагедия случилась недалеко от опушки леса. Неужели летчик допустил ошибку в расчете на посадку? Но тогда как объяснить его последние слова: «…зал. Буду…» Скорее всего, это означало — «отказал двигатель, буду катапультироваться».
Мы подрулили к командному пункту полка, где нас встретила группа офицеров. Обращаясь к Климову, самому молодому командиру полка дивизии, рассудительному и спокойному до невозмутимости, я спросил:
— Что думаете о причине катастрофы?
— Сомов находился в воздухе всего двадцать одну минуту. Пилотировал в зоне. По последней фразе «…зал. Буду…» можно предположить, что он хотел передать: «Двигатель отказал. Буду катапультироваться». Но он уже опоздал. Самолет скользнул по верхушкам деревьев и упал.
— Что говорит техник?
— Машина была в полной исправности. Летчик расписался в книге приема и сдачи самолета.
— Не мог Сомов допустить ошибку в пилотировании?
— Это исключено. Он летчик осторожный и опытный.
— Каково заключение врачебной комиссии? — спросил я у полкового врача.
— Смерть наступила от травмы черепа. Имеются переломы шейных и спинных позвонков. Признаков спиртного не обнаружено.
Истребитель упал в тридцати шести метрах от опушки леса. Срезав несколько макушек деревьев, он верхней частью фюзеляжа скользнул по толстому стволу сосны. Сучья смягчили удар о землю, нос самолета почти не помяло, а верх фюзеляжа будто был приглажен гигантским утюгом, но в кабину вдавлена только неподвижная часть фонаря вместе с прицелом. Где же подвижная? Может, ее сняли, когда извлекали тело летчика из кабины? Нет, скорее всего, ее не было. Когда заглох двигатель, Сомов понял, что не сумеет дотянуть до аэродрома, решил катапультироваться и поэтому сбросил фонарь.
— Как думаете, где подвижная часть фонаря? — спросил я Климова.
— Как — где? — удивился Климов и внимательно осмотрел место, где она должна быть. — Странно…
Я приказал выделить людей, чтобы они развернутый строем прочесали местность на пути планирования самолета.
Часа через два Климов принес сброшенную Сомовым подвижную часть фонаря. Хозяин соседнего хутора нашел его неподалеку от своего дома. Наша догадка оправдалась. Летчик был сильным и волевым, в самый последний момент принял единственно правильное решение. Катапультирование давало ему небольшой шанс спастись. Только случай, удачный, счастливый случай, мог даровать ему жизнь, которая висела на волоске. Но волосок оборвался. Момент этого обрыва в борьбе за жизнь летчик не почувствовал.
Изуродованный самолет с трудом оторвали от сосны и поставили на шасси. К нашему удивлению, двигатель остался невредимым. Инженеры несколько раз пытались запустить его, но тщетно. При проверке фильтра оказалось, что он закупорен слоями серы. Откуда она взялась — никто не знал. Катастрофой заинтересовалась Москва. Полеты на данном типе самолета были запрещены. Требовалось немало времени для выяснения причин появления серы в керосине.
Перед отъездом из дивизии командующий подозвал меня:
— Арсений Васильевич, на тебя и жену есть путевки в Хосту.
Меня поразило, что в такой обстановке командующий счел возможным предоставить мне отпуск.
— Езжай в Москву, забирай жену — и к морю, — продолжал он. — Детей есть с кем оставить?
— Девочек возьмем с собой, малышку оставим с бабушкой.
— Ну и договорились. Кого за себя оставишь?
— Начальника штаба полковника Мельникова.
— Хорошо, — одобрил командующий. — Я попрошу нашего инспектора помочь вашей дивизии. Летать теперь, видимо, начнем не скоро. Катастрофа раскрыла серьезное дело. Распутать его будет не так-то просто…
Москва встретила теплым, солнечным днем. Не чувствуя усталости с дороги, я поднялся по лестнице на четвертый этаж, от волнения позабыв воспользоваться лифтом. Дверь открыла Валя. Встреча была восторженной. «Папочка, милый, родной!..» Верочка, Оленька и сын Сережа повисли на мне «Папка приехал! Милый, родной, как мы по тебе скучали!» Сколько в этих нежных объятиях ласки, доверия, преданности Я не мог произнести ни слова. Слезы навернулись на глаза.
Заноза… в душе
1.
Возвратившись из отпуска, позвонил начальнику штаба. Голос бодрый, о служебных делах ни слова. Поинтересовался, как отдохнули, спросил, надо ли включать меня в плановую таблицу полетов. Утром шофер спросил: — Куда поедем?
— В штаб дивизии, — сказал я, но, к моему удивлению, машина у здания штаба не остановилась.
Шофер, заметив мое недоумение, улыбнулся:
— Штаб переехал в новое здание. Закончили строить спортивный зал. Теперь мы богачи!
— Молодцы!
Сообщение о спортзале особенно обрадовало меня, и я решил в первую очередь осмотреть его. Встретил меня капитан Гриша Дивинец:
— Товарищ полковник, полюбуйтесь на наши хоромы!
За счет цветового решения зал делился как бы на две половины. Радовали глаз умело расставленные турники и брусья, подвешенные к потолку кольца и веревки, площадки для игр в волейбол и теннис. В зале занимались две эскадрильи из полка Осмоловского.
— Денег на снаряды хватило?
— Десять тысяч осталось.
— И душ есть?
— А как же! — с гордостью ответил Дивинец. — Четыре кабины.
После спортивного комплекса осмотрел штаб дивизии. Комнаты были уже распределены по отделам, выделены кабинеты для командования. Полковник Мельников рассказал о состоянии боевой готовности в полках. Дела шли неплохо. Командующий следил за работой дивизии. Все это радовало. Надо было быстрее входить в строй, чтобы без всяких скидок на перерыв взять на себя командование.
Когда я в приподнятом настроении подошел к своему самолету, рядом оказался инспектор ВВС флота подполковник Решетилов. Это меня встревожило: «Уж не получил ли он приказ дать мне провозные полеты на учебном истребителе?» Александр Степанович, обычно улыбчивый, на этот раз официально, с нотками недовольства сообщил:
— У меня есть приказ проверить вашу технику пилотирования на учебной машине.
— Почему же вы пришла не в штаб, а прямо к самолету?
— Помощник командующего по летной подготовке опасался, что я не успею вас перехватить на земле.
— Спасибо за заботу, хотя по всем существующим авиационным правилам я могу вылететь и без контрольно-провозных полетов. Или он мне не доверяет?
Летчику, как в музыканту, нужна постоянная практика. Перерывы в их работе сказываются на мастерстве. Некоторые летчики-истребители так свыкаются с управлением самолетом, что полет для них становится привычкой. А привычка, как говорится, вторая натура. Однако во всем нужна мера, она для каждого летчика разная и зависит от уровня его подготовки. Я могу летать без проверки, если перерыв не превышает трех месяцев. У меня он полтора месяца. Значит, я законно вполне могу обойтись без контрольного полета.
Нового помощника командующего я не знал и не мог понять, что движет им. Или он хочет показать свою власть, или попросту перестраховщик. Сколько вреда принесли она авиации! Известно, что в каждом полете есть риск, готовность к нему приучает летчика к осторожности, а излишнее опекунство расхолаживает и делает его неуверенным в себе.
— А вы лично считаете, что должны лететь со мной? — спросил я Решетилова.
— Вы имеете право на полет без провозных. Я могу доложить, что прибыл, когда вы уже запустили двигатель, и не решился наложить запрет.
Полет я сделал, но на следующий день помощник командующего по летной подготовке Михаил Васильевич Авдеев все же проверил мою технику пилотирования днем в сложных метеоусловиях. После посадки сказал:
— Летаете отлично, — и, как бы извиняясь, добавил: — По правилам я мог бы и не проверять вашу технику пилотирования, но знаю, что комдивы, увлеченные руководством, мало летают, пилотируют неважно.
Он показался мне откровенным, душевным человеком, знающим свое дело. Никакого властолюбия я не усмотрел. На вид спокойный, рассудительный. Лицо доброе. А может, очень хотел показать себя человечным, доброжелательным?
2.
В сентябре 1953 года меня пригласили в Городец иа открытие бронзового бюста. По положению бюст дважды Героя Советского Союза устанавливается на его родине. Я родился в деревне Прокофьево, расположенной в пятнадцати километрах от Городца. Но деревенька попала в разряд неперспективных, в ней осталось всего пять домов. И районные власти решили установить бюст на берегу Волги в Городце, где я учился в школе, жил в детдоме и, работая на брандвахте, получал первую в своей жизни зарплату.
Волжский пароход неторопливо причаливает к деревянной пристани самого древнего города Горьковской области. Городец был построен в 1152 году как военная крепость князем Юрием Долгоруким на почти отвесном, крутом берегу. Городец испытал нашествие хана Батыя, был разрушен, но возрожден на прежнем месте. Затем он был снова сожжен татарским ханом, и в третий раз подвергся нападению казанских татар. Город много раз исчезал с лица земли и каждый раз возрождался.
Автором бюста стала Вера Игнатьевна Мухина. Мне хорошо запомнилась последняя встреча с ней. В октябре 1945 года она заканчивала лепку. Настроение у нее в у меня было хорошее. Работая, она старалась разговорить собеседника, считая, что в мимике часто раскрывается характер человека. На этот раз она поведала мне историю строительства великолепного дома, в котором жила и где находилась ее творческая мастерская. Во время войны она была приглашена на ужин в Кремль. Там к ней подсел американский посол Гарриман. В разговоре он проявил осведомленность о ее творчестве, выразил восхищение многими ее работами. Зная, что у нее нет хорошей мастерской, он предложил построить отдельный коттедж с мастерской. «Вера Игнатьевна, поверьте, вы этого заслуживаете», — уверял он. Она отказалась. А на другой день к ней прибыл человек, представившийся строителем-специалистом, и сказал, что Сталин распорядился построить для нее дом с учетом всех ее пожеланий.
— Все! Я закончила лепить, Арсений Васильевич, — с довольной улыбкой сказала Мухина. — Теперь осталось отлить бюст в бронзе.
— Спасибо, Вера Игнатьевна, — я встал.
Но при прощании Вера Игнатьевна вдруг нахмурилась. Лицо ее посуровело.
Я застыл от удивления и неожиданности. Она разочарованно сказала:
— Арсений Васильевич, я ошиблась. У вас характер на такой. Стойте, стойте, — она, словно впервые увидев, изучающе всмотрелась в мое лицо. — Да, только сейчас я это поняла. Вы душевный человек, добрый, а я вас и суровым и каким-то казенным. Пожалуйста, прошу вас, еще раз придите ко мне.
— С удовольствием бы, Вера Игнатьевна, но завтра улетаю к новому месту службы — в Белоруссию.
— Вот досадно! Но я постараюсь исправить. Сейчас я вас провожу до метро, все обдумаю.
Вера Игнатьевна много говорила, задавала вопросы, не спуская с меня цепкого, пристального взгляда. И теперь мне было интересно, исправила ли она характер? Это я узнаю завтра, когда с бюста снимут чехол. Впрочем, свой подлинный характер и самому не так просто определить: часто человек считает себя лучше, чем он есть на самом деле.
Секретаря райкома партии Василия Андреевича Бросалова я застал в его кабинете. Говорили и об открытии бюста, и о судьбе моей родной деревеньки, и о многом другом. Под конец беседы он вдруг спросил:
— А с Никитой Сергеевичем Хрущевым встречаться не приходилось?
Сразу вспомнился май 1944 года. Наш полк стоял на аэродроме близ Тернополя. Член Военного совета 1-го Украинского фронта генерал Хрущев прилетел, чтобы провести совещание с политработниками. Командующий воздушной армией генерал-полковник Красовский приказал мне:
— Свои истребители поставьте метрах в двухстах от командного пункта, а сами находитесь поблизости. Как только кончится совещание, доложите Никите Сергеевичу, что вам приказано сопровождать его в полете до штаба фронта.
Когда кончилось совещание, я представился Хрущеву. Он спросил:
— Где ваши истребители?
— Там, — я показал рукой.
— Почему не рядом с моим? — Он пренебрежительно махнул рукой: — Ждать не буду, полечу без вас.
Мы, четверо летчиков, бросились бегом к своим машинам. Но пока запускали двигатели, По-2 успел взлететь. И тут я, к своему ужасу, увидел появившихся над селом Великие Гаи двух «фоккеров». Фашистские истребители заметили По-2 и начали делать разворот. Чудом нам удалось взлететь и подоспеть в тот момент, когда истребители противника находились в исходном положении для атаки. Оказавшись позади фашистов, мы открыла огонь. Один «фоккер» удалось подбить, другой ушел восвояси. Хрущева мы проводили до штаба фронта.
— Да-а, — вздохнул Бросалов. — Тяжелый момент был. Интересно, почему Хрущев не стал вас ждать?
— Видимо, очень торопился. И характер такой: ждать не любит.
Стояло бабье лето. Воскресенье выдалось на редкость теплым и солнечным. На митинг собралось много людей. Говорили обо мне, о моем детстве, а я глядел вдаль. С высокой кручи просматривался противоположный берег реки, низменный и заболоченный. Но там уже вырастали пятиэтажные дома для строителей Горьковской ГЭС. Хорошо были видны сооружаемая водосливная плотина и строящееся здание электростанции. Словно издалека до меня донеслось:
— Открыть бюст!
Распахнулся чехол, упал на землю. Суровой надменности, о которой говорила Мухина, не было. Было строгое, но доброе лицо с задумчивым взглядом, устремленным вдаль.
На другой день на райисполкомовском газике вместе с матерью и братом Степаном мы поехали в деревню Прокофьево. Добирались почти час: дороги в российской глубинке не для машин. Родной дом встретил печальной ласковостью. Здесь все до мелочей знакомо, мило и дорого душе. До тридцатых годов в нашей деревне насчитывалось шестнадцать изб. В половине из них жила староверы Сиденины, предки которых переселились из глухих лесов. Теперь в деревне осталось всего шесть изб. Когда я бегал еще подростком, четыре семьи были раскулачены. Из раскулаченных мне хорошо запомнился Ефим Сиденин. Этот крепкий и здоровый мужик имел жену, двух сыновей и трех дочек. Он сам построил двухэтажный дом с небольшой молельней, где мои сверстники, в том числе и я, начинали учиться грамоте по Евангелию. Учил нас приезжий старец, прозванный Палкиным. Однажды на уроке я отвлекся от чтения книги, и «учитель» ударил меня по спине палкой. Хозяину молельни Ефиму пришлось вступиться за меня. Но тот сказал: «Есть божий закон — не противиться злу. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Ефиму не понравилось такое учение, и он поспешил рассчитать Палкина.
В 1942 году, уезжая на фронт, я заехал в Прокофьево попрощаться с мамой, женой и дочкой. Встретился и с Ефимом Сидениным. Он рассказал мне интересную притчу: «Шел человек в рубищах и весь обвешанный тяжелыми цепями. Повстречался ему дородный мужик и спрашивает: „Почему ты себя так мучаешь?“ — „Я великий грешник: нечаянно убил своего брата“. — „Разве ты грешник? Вот я так грешник: людей своими наговорами порчу и убиваю, натравливаю друг на друга, у коров молоко отнимаю, женщин делаю бесплодными. И ничего не боюсь“. После этого они разошлись. Человек в рубище долго думал и решил, что этот изверг не должен жить на свете. Сколько горя и страданий он принес людям! Надо убить его. „Все равно я уже грешник“, — решил он и выполнил свое решение. Вскоре к нему явился ангел и сказал: „Ты народу великое добро сделал: избавил его от злодея. Бог тебе все грехи отпускает…“
Ефим посоветовал мне без всякой жалости уничтожать фашистов, заверив, что бог за это не будет на меня в обиде.
Деревня выглядела пожухлой. Раньше были ограды у передних усадов. В огородах росли картошка и капуста, огурцы и помидоры. Теперь оград не было и дома выглядели беспризорными. Избы захирели, резные карнизы и наличники у окон, расписанные резными узорами, потеряли свой прежний вид.
Мой родной дом осел и покосился. Нижние бревна сгнили и как бы растворились в заросшей травой завалинке. Окна от пыли казались заклеенными серой бумагой. Ворота во двор были распахнуты, издали виднелся пустой хлев. Тополь и ветла, посаженные мной в детстве, вымахали выше дома, и он, словно прося их о помощи, накренился в сторону деревьев.
Мама упала на землю и, рыдая, заговорила:
— Вы, сынки, виноваты, что я здесь не живу и дом отживает свой век.
Год назад она заболела, и брат Степан взял ее к себе в Городец. Но она постоянно тосковала по своему дому и теперь высказывала в плаче эту тоску:
— Ой, детки мои, детки! Это же отчий дом! Его строил и недостроил ваш отец, взяли его на войну… Как же я на том свете отчитаюсь перед мужем и перед богом?
Слезы текли ручьем по морщинистому лицу матера, на добрых, натруженных руках вспухли вены. Сейчас вся она выглядела такой же старой, как и наш дом.
Мы вошли в пустой двор. Под ногами сухая земля, над головой сеновал. В детстве летом мы с братом часто спали там. Аромат сена действовал сильнее снотворного. А утром, разбуженные пением петуха, мы вместо зарядки бежали купаться в прудик, который находился позади огорода. Из любопытства мы поднялись на сеновал. Он пуст. Через фасадное окно смотрится голубое небо.
А вот и дом. Над входной дверью висит подкова. По старинному народному поверью она не пропустит несчастья в дом, а счастью не даст выйти. Миновали сени, заглянула в чулан. В избе все по-прежнему: деревянная кровать, сделанная еще отцом, полати у потолка, русская печь, самодельный пустой шкаф для посуды.
Из дома пошли в огород. Он зарос лебедой и чертополохом, Сорняки плотно окаймили развалившуюся баню. Как мы со Степаном любили париться! Отхлещемся, бывало, березовыми вениками, все тело горит огнем — и скорей в прудик с холодной водой, вырытый еще отцом. Вынырнешь, а над тобой голубое небо, а в душе и в теле непередаваемое блаженство. Возможно, с тех пор я и полюбил купание. Увидев заросший травой прудик, я испытал глубокую грусть. Исчезла частичка природы, а значит, исчез уголок родины, так любимый мной в детстве.
Родина! Она для меня началась с этой прокофьевской земли, с этого когда-то родного дома. Прокофьево вошло в меня, впиталось с молоком матери. Но время многое изменило. Я уже не могу чувствовать этот дом, как чувствует его моя мать. Где бы я ни находился и что бы ни делал, для меня главное — полеты и люди, окружающие меня. К тому же я видел жизнь многих народов в разных странах и на Прокофьево смотрел уже другими глазами.
Прокофьево памятно мне и первой любовью. В то незабываемое лето мы с ней одновременно появились в деревне. Я приехал на каникулы из летного училища, она была назначена в наш колхоз агрономом. Встретившись первый раз на улице, я поздоровался и не мог оторвать от нее глаз. Она смущенно улыбнулась в ответ. И вот уже много лет мы счастливы, поэтому я верю в любовь с первого взгляда.
Мне часто вспоминаются стихи:
Нас не учили, как под танк бросаться, И вражью амбразуру грудью как закрыть, И на врага живым тараном мчаться… Но нас учили Родину любить!Родина живет в наших сердцах. И когда ей угрожает опасность, мы физически ощущаем это. У вас порой пишут, что подвиг не жертва, а продолжение жизни, ее логический итог. Думаю, это не так. Жизнь дорога каждому, но Родина дороже жизни. Часто приходится слышать, что мужество воспитывается всей жизнью, но реже говорят, что источник его зарождения — в детстве, где нет лжи, где главенствует любовь. С годами эти чувства крепнут, человек взрослеет и, когда приходит пора с оружием в руках защищать Родину, эта битва становится продолжением его жизни. Лжец и лицемер мужественно воевать не может. Такой под разными предлогами уклонится от участия в войне. Если это не удастся, он в трудную минуту предпочтет добровольную сдачу в плен, пойдет на измену Родине.
Над нашими головами пролетела большая стая диких гусей. Вдали маячила другая. Наши разговоры смолкли. Все глядели на птиц. Мать нарушила молчание:
— Вот и гуси. Они зиму за собой тянут. Скоро холода начнутся.
3.
Такое в моей жизни повторялось часто. Только что вернулся домой, встретился с женой и детьми, сел за ужин. И тут же раздался властный, требовательный телефонный звонок. Я торопливо взял трубку.
— Докладывает Белозеров… — Начальника оперативного отделения дивизии я знал с войны. Спокойный, всегда корректный и уравновешенный. Сейчас его голос дрожал. После небольшой паузы он проговорил: — У нас несчастье, Иван Иванович… его смертельно ранило… слово.
Слово может парализовать, ранить и даже убить человека, часто оно порождает горе. Белозеров не может говорить: у него спазмы в горле, он плачет, переживает за Ивана Ивановича. Я тоже встревожился, желая скорее уточнить, что произошло и почему. Но вскоре понял, что по телефону я ничего не добьюсь, и сказал:
— Высылайте за мной машину.
— Она уже… выехала.
Положив трубку, глянул на своих. Все с тревогой вопросительно смотрят на меня. Пришлось пояснить:
— Наш начальник штаба полковник Мельников тяжело заболел…
В машине шофер спросил:
— Куда поедем, товарищ полковник, в штаб дивизии или в госпиталь?
Я задумался. В госпиталь могут не пустить. Надо ехать в штаб. Белозерова застал в моем кабинете. Он заменял и командира дивизии, и начальника штаба, оставаясь начальником оперативного отделения. Вид у него был настолько удрученный, что я едва удержался, чтобы не сказать: «Ну, чего скис? Этим только себе навредишь, а Мельникову не поможешь», но сдержался и, пожав ему руку, сел напротив. Он тут же встал:
— Товарищ полковник, садитесь на свое месте «На свое место». В жизни каждый человек занимает свое рабочее место. В армии у командиров — кабинеты, техника, командные пункты, люди. У рядовых — казарма и оружие. У каждого своя служба, и в этом заключается их жизнь. Мельников любил работу, он как бы растворялся в ней, она стала его натурой. Ивана Ивановича любили в дивизии за душевность и справедливую требовательность. Я вспомнил разговор с командующим. Он интересовался Мельниковым, и я подумал тогда: не предложили ли ему уволиться из армии по возрасту? Эту мою догадку подтвердил Белозеров:
— Он вернулся в штаб дивизии бледным, сел на ваше место со словами «Увольняют на пенсию» и сразу потерял сознание. Я отвез его в госпиталь, где определили тяжелейший инфаркт.
— Спрашивали врачей: есть надежда?
— Ничего определенного не сказали.
— Случай тяжелый. Прав ты, Иван Петрович, его смертельно ранило одно только слово.
— Возможно и убило: вид у него был страшный. Говорят, бьют не по годам, а по ребрам.
Я вспомнил слова грузинского поэта Карло Каладзе:
У сердца на бессмертье нет расчета. Его земная оболочка — Я. Без отдыха идет его работа В моей груди. А отдых — смерть моя.Да, так уж устроен человек. С ним постоянно живут радость и горе. Радость, улыбка и искренний смех бодрят, а горе может убить, поэтому я попросил Белозерова:
— Позвони в госпиталь, может, пришел в чувство?
В сознание Иван Иванович еще не пришел, но сердце еще живет. Узнав, что посетителей к нему сейчас не допустят, я поехал к начальнику отдела кадров ВВС флота. Он встретил меня приветливо. Об инфаркте Мельникова знал и посочувствовал:
— Жалко. Может, поправится?
Это было сказано так равнодушно и казенно, что я невольно сравнил эту фарисейскую жалость с реакцией Белозерова на несчастье Ивана Ивановича. Впрочем, начальник отдела кадров выполнял приказ о соблюдении сроков службы офицеров в зависимости от воинских званий.
— У вас есть кандидатура на место Мельникова? — поинтересовался я.
— Есть. Командир полка. Полковник. По состоянию здоровья списан с летной работы. Возраст — сорок один год.
— Может, доложим командующему?
Борис Лаврентьевич принял нас сразу. По нашему виду догадавшись о причине прихода, он заговорил первым:
— Да-а, голубчики. С Иваном Ивановичем мы допустили большой просчет. И моя вина есть. Надо бы сначала, Арсений Васильевич, все с вами обговорить, только потом беседовать с Мельниковым. Я надеялся, что кадровики свое дело знают и проделают все это тонко, но они поторопились, — и, глядя на моего соседа, упрекнул: — А вы, Петр Сергеевич, так сообщили Мельникову, словно кинжал воткнули ему в сердце.
— Главное — не было в этом необходимости, — сказал я, — Мельников грамотный офицер, чуткий к подчиненным, таких надо ценить.
— Правильно. К сожалению, мы только после смерти не совершаем ошибок. При жизни нам часто не хватает сердечности. А теперь вот и помочь Ивану Ивановичу ничем не можем. Квартира у него хорошая?
— Две комнаты со всеми удобствами.
— Вот что, голубчики, давайте втроем съездим к его жене, — предложил Петров. — Может, немного облегчим ее горе.
Командующий хороший дипломат — мирно, без единого лишнего слова уладил наши дела и даже часть вины принял на себя.
Через неделю меня допустили к Ивану Ивановичу. Ожидая увидеть сломленного жизнью, хмурого, раздраженного человека, я с радостью удостоверился, что внешне Иван Иванович не изменился: был бодр и разговорчив, хотя вставать ему было категорически запрещено. Первым делом он поинтересовался, как идут дела в дивизии, затем спросил:
— Новый начальник штаба приступил к работе?
— Нет еще, на днях явится.
— Это хорошо, — отозвался Иван Иванович. — Я здесь все обдумал и пришел к выводу, что зря взорвался из-за увольнения. Работу везде можно найти. Буду писать мемуары, ведь я начал войну 22 июня 1941 года и был бессменным начальником штаба дивизии до Дня Победы. Напишу книжечку — и в отставке от меня будет польза. А ты, Арсений Васильевич, к новому начальнику штаба отнесись дружелюбно: он к моей трагедии непричастен. Здесь я сам виноват: не сумел взять себя в руки.
Правильно говорится: чтобы оценить человека, нужно представить его без должности. Сейчас Иван Иванович мечтает о будущей новой работе. Он уже живет ею и поэтому так взбодрился. Истинному труженику никакая работа не страшна. Страшно безделье.
— Врачи здесь хорошие, свое дело знают, да и жена мне помогла, — больной улыбнулся и продолжал: — Хочу до восьмидесяти лет прожить. Заключу договор со смертью. Пусть она меня до коммунизма не беспокоит, а там я проживу, сколько захочу, потому что к тому времени все будет по потребности.
Иван Иванович смолк. На лице появилась спокойная усталость. Я понял, что он выговорился и теперь ему нужен отдых, поэтому поспешил распрощаться, пожелав ему скорейшего выздоровления.
4.
Прохладная декабрьская ночь оказалась на редкость подходящей для полетов в сложных метеоусловиях. Высота нижней кромки облаков и видимости соответствовали установленному минимуму погоды. К тому же ночь была самой длинной в году. Летал полк Анатолия Кадомцева. Еще в сумерках я полетел на двухместном истребителе МиГ-15, чтобы проверить технику пилотирования командира. Сложнее этого полета не бывает. Проверяемый должен показать технику пилотирования в облаках, а затем выполнить пилотаж над облаками, ориентируясь по звездному небу и используя магнитный компас и наземный радиомаяк.
Анатолий Леонидович рулил на старт быстро. Мне вспомнились его слова на одном из совещаний: «Ас — это бесстрашный истребитель». Возможно, он рулит с такой большой скоростью, не предвидя никакой опасности? Но ведь она возможна: северная окраина аэродрома не огорожена… Перед взлетом Кадомцев не осмотрелся, решительно дав двигателю полные обороты. Машина побежала легко и устойчиво, незаметно оторвалась от земли и стала набирать скорость. Прошло нужное время, но Кадомцев почему-то летел на минимальной высоте. А впереди было шоссе с высокой насыпью, где к тому же могла оказаться грузовая машина. Говорить об опасности уже не было времени, и я, выхватив управление, резко перевел истребитель в набор высоты.
— Поняли, почему я взял ручку на себя? — спросил Кадомцева.
— Нет!
— Продолжайте выполнять задание, на земле объясню. Высоту Кадомцев набирал в облаках по всем правилам, но со значительным колебанием скорости. Видимо, сказывалась напряженность. И вот наконец из сплошного мрака мы вынырнули в звездное небо. Планеты, как мне казалось, радостно сияли, приветствуя наше появление. Кадомцев набрал нужную высоту, прошел радиомаяк, установленный вблизи аэродрома, занял зону и, выполнив положенные фигуры, спросил:
— Разрешите повторить задание? Уж очень красиво сияют звезды.
Меня эта просьба удивила. Кадомцев не учитывал, что обстоятельства могут измениться, а ошибка в расчете на посадку может создать аварийную ситуацию. На пробивание облаков и построение большой коробочки уходит немало времени, а топливо и без того на исходе. К тому же кроме нас в воздухе находились другие экипажи.
— Не забывайте, что в этой красоте мы не одни, — предупредил я и приказал: — Идите на аэродром.
Из-за неисправности двигателя один из истребителей заходил на посадку раньше нас, поэтому мы сели только со второго захода. На земле я поинтересовался у Кадомцева:
— Поняли, почему я вам запретил повторить комплекс пилотажных фигур?
— Извините, я кое-что не учел.
— Почему не выдерживали скорости в наборе высоты?
— Я этого не заметил. Да и надо ли так следить за ней?
Что это — бравада своим бесстрашием или что-то другое?
Говорю истину, ставшую банальной:
— В авиации мелочей нет! А если бы вы летели с напарником на боевых истребителях? Ему было бы трудно держаться с вами крыло в крыло.
— Об этом я как-то не подумал.
— И главное. Догадались, почему мне пришлось взять управление на взлете?
— Понял. Про шоссейку я совсем забыл.
— Плохо, если у командира полка не сработал коэффициент безопасности.
Я проявлял особую требовательность к Кадомцеву не случайно. Он был аттестован на должность командира дивизии и уже ожидал приказ о назначении. А на этой должности он меньше будет контролироваться в летном мастерстве. Но последний полет укрепил мое подозрение, что у него притуплен инстинкт страха, он бравирует своей смелостью.
После полета с Кадомцевым я собирался перелететь на другой аэродром и проверить технику пилотирования у командира полка Павла Климова. Но на стоянке меня поджидали два незнакомых полковника, прибывших из Москвы, из управления тыла и из финансового управления. Они объяснили, что имеют срочное задание проверить факты злоупотреблений при строительстве спортивного зала. В анонимном письме сообщалось, что по моему приказанию незаконно использовались грузовые машины аэродромной базы, а также солдаты полков. Желание летать у меня отпало, и я не без раздражения спросил:
— А что, это «приятное» сообщение вы не могли отложить до утра?
— Дело в том, что командировка у нас краткая, а дело срочное и важное. Начальник тыла флота посоветовал начать расследование сегодня.
— У Харламова были?
— Нет. Его тревожить еще рано.
Слово «тревожить» насторожило меня. Да, грузовые машины нами действительно использовались не по назначению: они перевозили бревна из леса на лесозавод. И грузчиками были солдаты тыловой базы. Формально люди и машины использовались не по назначению. Командующий флотом отпустил деньги на строительство спортивного зала, а о людях и машинах ничего не говорил. Да и я не особенно вникал в детали строительства.
— Извините, — обратился я к приезжим. — По плану мне надо лететь на другой аэродром. О делах, связанных со строительством спортзала, расскажет капитан Дивинец: он был проектировщиком и организатором его строительства.
На соседнем аэродроме меня встретил подполковник Павел Дмитриевич Климов, четко и спокойно доложивший обстановку на земле и в воздухе.
— Когда мы должны лететь? — спросил я.
— По плановой таблице через пятнадцать минут. Спарка нас ждет.
Климов рулил на старт неторопливо, а прежде чем спросить разрешение на взлет, внимательно осмотрелся. Взлет и выдерживание машины на малой высоте он проделал до того аккуратно, что, если бы я закрыл глаза, трудно было бы почувствовать момент отрыва самолета от земли. Чувствовалось, что он знает возможности машины и умело использует их. Грамотная техника пилотирования необходима не только в таких полетах, но и в воздушном бою.
На память мне пришла воздушная схватка под Киевом, в которой мне пришлось драться с фашистским истребителем один на один. Высота была почти такая же, как и сейчас. Дрались мы упорно. Поняв, что одной акробатикой меня не собьешь, противник решил взять хитростью. Он внезапно отвесно кинул свой самолет к земле, видимо рассчитывая, что при выводе я не выдержу перегрузки и врежусь в землю или мой «як» рассыплется от больших скоростей. «Фоккер» бешено мчится вниз. Я иду за ним, но чувствую, что настало время выводить машину из пикирования. Чтобы истребитель не разрушился от большой перегрузки, осторожно стараюсь поднять его нос, но ручка управления застыла на месте. Поняв, что только силой можно избежать смерти, обеими руками рывком дернул ручку управления на себя. «Як» нехотя послушался. Чувствуя, что машина выходит из пикирования, ослабил усилие. Земля была совсем близко. Смотрю на врага. Он тоже выходит из пикирования, но высоты не хватает, и он животом самолета пашет землю, а потом, перевернувшись, разлетается вдребезги…
— Задание выполнено. Разрешите идти на посадку? — спросил проверяемый.
Я был уверен, что мы сядем нормально, поэтому похвалил Климова. На стоянке техник подал нам шапки. Климов снял шлемофон, и я заметил на лбу у него капельки пота. Контрольный полет ему достался нелегко.
В эту ночь я проверил летное мастерство двух командиров полков. Они были летчиками первого класса, обоим я поставил отличные оценки. Но разница в технике пилотирования была немалая. И это понятно. Климову довелось много воевать. Воздушные бои научили его быть осмотрительным на земле и в воздухе. Они заставили его при учебном высшем пилотаже тренировать свой организм. Кадомцев в воздушных боях не участвовал, поэтому недооценивал осмотрительность и воздушную обстановку. Переучившись с инженера на летчика, он стал летать хорошо, но не всегда может владеть собой: часто эмоции, переходящие в упрямство, берут верх над здравым смыслом. Байрон верно писал, что лучший пролог будущего — прошлое.
5.
С утра я занимался в спортзале: покрутился на турнике, попрыгал на батуте и повертелся на рейнском колесе. После тренировки и холодного душа пошел в столовую. Но на пути меня остановил капитан Григорий Дивинец. Вид у него был понурый, говорил он нервно, с негодованием:
— Проверяющие провели ревизию. Вывод грозный: пахнет трибуналом…
Наш разговор прервал дежурный по штабу дивизии, доложивший, что к нам выехал командующий флотом адмирал Харламов.
Выйдя из машины, командующий приветливо пожал мне руку, улыбнулся и спросил:
— Что загрустил, незаконный строитель?
— Загрустишь, если дело табаком пахнет.
— Да, дело серьезное. Пойдем посмотрим, что вы натворили.
Харламов беглым взглядом окинул спортзал:
— Где душевые установки? Пошли поглядим. В спортзале командующий неожиданно спросил:
— Хотите побегать и поработать на снарядах?
— С удовольствием, — слукавил я, потому что после часовой тренировки и хорошего душа такого желания не было.
Раздевшись по пояс, мы проделали почти все то, что полчаса назад выполнил я. Правда, Николай Михайлович был старше меня почти на десять лет и у него, естественно, не так чисто все получалось. После занятий он с большим удовольствием помылся под душем и, ни словом не обмолвившись о московских полковниках, пошел к машине. Прежде чем уехать, сказал:
— Сегодня в семнадцать часов прибыть ко мне. Будет серьезный разговор о спортзале.
Это меня еще больше встревожило. Неизвестность всегда волнует, но она же делает человека собранным, готовым к борьбе. И я, взяв себя в руки, уверенно зашагал в столовую. За нашим столом сидел Анатолий Кадомцев. Весть о посещении Харламовым спортзала уже разлетелась по гарнизону, и командир полка спросил:
— Не хочет ли командование флота присвоить спортзал?
— Нет. Но дело пахнет керосином, — и я расказал о предстоящем серьезном разговоре.
— Почему же Харламов не сказал ничего определенного? Выходит, он сам не уверен в законности строительства? — задумчиво сказал Кадомцев.
— Дипломат, — ответил я. — Не зря во время войны находился в Англии на дипломатической работе. Видимо, хочет выслушать все стороны и только после этого скажет свое мнение.
— Почему проверяющие считают, что спортзал построен незаконно? — продолжал Кадомцев. — Ведь закон как дышло, а мы сделали нужное, полезное для всего гарнизона дело.
— Вот что, Анатолий Леонидович, — решил я. — На совещание пойдешь вместе со мной и, если потребуется, скажешь свое мнение.
Адмирал удивился, когда я представил ему Кадомцева и пояснил, с какой целью он прибыл.
— Значит вы, товарищ Кадомцев, будете в качестве защитника? — с улыбкой спросил он. — Тогда оставайтесь.
Проверяющие подсчитали, что стоимость сооруженного спортивного зала превышает полмиллиона рублей, а официальные расходы составили менее 60 тысяч, что при этом был нарушен приказ, запрещающий использовать военнослужащих и технику не по назначению. Более 200 рейсов сделали машины аэродромной базы, чтобы доставить бревна из леса на лесопильный завод.
— А вы выяснили, — спросил адмирал, — что люди и машины работали только в выходные дни, что бревна уже второй год лежали в лесу и начали гнить? А это народное добро. Авиаторы и себе принесли пользу, и заводу, который дал столько брусьев, досок и других стройматериалов, сколько потребовалось на сооружение спортзала.
— Это нам известно, — ответил один из ревизоров. — Но военнослужащих и машины не положено использовать не по назначению. Это нарушение армейского порядка и приказов. К тому же работающие в лесу авиаторы лишались выходных дней. А это квалифицируется как насилие над военнослужащими. И горючее у нас на учете, а командир дивизии использовал его не по назначению.
— Скажите, товарищ Кадомцев, — обратился к командиру полка Харламов. — Ворожейкин принуждал людей работать?
— Нет, все с удовольствием работали в лесу. Это был своего рода отдых от грохота турбин. К тому же директор лесопилки снабжал нас бензином. И у меня вопрос: почему у нас до сих пор верят анонимщикам? Пора их разоблачать и привлекать к уголовной ответственности за клевету.
— Верно, товарищ Кадомцев, — согласился адмирал. — Построен великолепный спортзал. Люди довольны. А анонимщик задумал опорочить хорошее дело. Желаю вам, товарищ Ворожейкин, быть и впредь инициативным. За строительство спортзала выношу благодарность вам и капитану Дивинцу, который очень по-хозяйски руководил работами. И прошу вас, Арсений Васильевич, выделить время для занятий в спортзале флотских штабных офицеров.
Тяжелая потеря
1.
В начале 1954 года к нам прибыл заместитель командира дивизии полковник Василий Георгиевич Захарьев. По значку военного летчика второго класса было видно, что он летает днем при минимуме погоды, а ночью в простых метеоусловиях. Но он фронтовик: на груди три ордена Красного Знамени и несколько медалей. Во время знакомства офицеры обычно серьезны и настороженны. На красивом лице Захарьева не виделось даже тени озабоченности, казалось, оно вот-вот вспыхнет улыбкой. По всему было видно, человек он открытый и добрый. На поздравление с назначением Василий Георгиевич ответил радостно искрящейся улыбкой, от которой у меня на душе стало теплее и сам Захарьев сделался мне ближе. Высокая эмоциональность человека указывает, что в жизни он редко бывает равнодушным. Такие люди всегда честны, работают с огоньком, творчески, а не по шаблону, они с первого взгляда располагают к себе окружающих.
— Представляете, я едва отбоярился от назначения в инспекцию. Не нравится мне эта служба — куда пошлют. Такое не по мне.
— Правильно поступили, — одобрил я. — Кто хочет по-настоящему служить, тот должен работать в войсках.
А сам подумал, что он, видимо, любит самостоятельность, умеет взять на себя ответственность. Однако должность заместителя командира дивизии, говоря его же словами, такая же — «куда пошлют». Но об этом я ему ничего не сказал, только спросил:
— Сколько вам потребуется времени, чтобы изучить район полетов и самолет?
— Когда-то я служил здесь, район полетов помню, а вот на МиГ-семнадцатом еще не летал, — ответил Захарьев. — Думаю, двух летных дней хватит.
Мы попрощались, и он направился к двери, но остановился, повернулся ко мне. Красивое лицо посуровело.
— Товарищ полковник, вот, полюбуйтесь! — с хрипотой в голосе произнес он и, вынув из кармана кителя орден Красного Знамени, протянул мне:
— Купил на вокзале в Москве.
— Какая дикость! — вырвалось у меня.
— Парень продает. Спросил чей, отвечает, что от умершего отца остался. А в ордене, мол, золота и серебра на полторы тысячи. Я ему сунул полторы тысячи, чтобы спасти орден. Надо куда-то сдать его.
Некоторое время мы оба стояли молча. Раньше за ордена платили ежемесячно деньги, награжденным полагались льготы; потом отменили и то и другое. И вот уже начали ими торговать. Не сказав больше ни слова, мы расстались. Проводив Василия Георгиевича, я подумал, что он душевно богатый человек, если ему любви и ненависти не надо занимать.
На следующий день мы с Захарьевым слетали на двухместном реактивном истребителе по кругу, потом в зону. Пилотировал он хорошо и надежно. Освоив дневные полеты в простых и сложных метеоусловиях, он вылетел ночью и был допущен к инструкторской работе. Работал много и увлеченно, я никогда не видел его уставшим, всегда он был бодрым и улыбчивым. Той трижды проклятой ночью мне предстояло слетать с Захарьевым в паре. Но, как назло, двухместный МиГ-15 вышел из строя. Ночь стояла темная, очень морозная и какая-то необычайно тихая. Мы оба были одеты в меховые летные костюмы. Холод пощипывал лица. Когда техник доложил, что обнаружена неисправность и придется менять двигатель, настроение у нас упало.
— Может, сходим поужинать? — спросил я.
— Что-то не хочется, — отозвался Захарьев и предложил: — Давайте слетаем в паре без провозных? Все будет нормально. До убытия на курсы я летал в паре ночью. Для меня это не новинка.
— После перерыва лишний полет не помеха.
— Ну смотрите, вам видней, — он пожал плечами, и я уловил в его голосе нотки недовольства. Хотя торопливость в учебных полетах не мое правило, я был уверен, что он в паре на боевом самолете слетает хорошо. К тому же формально он имеет право выполнять такое упражнение без провозных полетов.
— Ладно, — согласился я. — Только ты взлетай первым, я пойду ведомым, а в воздухе перестроимся.
Захарьев держался ведомым так, словно у него не было никакого перерыва.
Набрали высоту пять тысяч метров. Для тренировки Захарьев перешел справа налево. Зеленый огонек на правом крыле его самолета горел ярко и был похож на небесную звезду.
Мы сделали большой круг над аэродромом, Захарьев снова перестроился направо. В небе по-прежнему сияли звезды, внизу пятнышками света маячили города и села. Прежде чем взять курс на аэродром, я взглянул на приборы: высота — шесть километров, скорость — пятьсот. Взгляд в небо. Все нормально. Красный огонек устойчиво плывет рядом с правым крылом моего самолета, на конце которого сияет зеленый. И только я хотел передать ведомому, чтобы приготовился сделать разворот влево, как красный огонек метнулся на меня. Даже быстрая профессиональная реакция на внешние факторы не помогла мне среагировать на это. Подо мной раздался скрежет, а над головой что-то блеснуло. Сознание успело только отметить, что это похоже на разрыв зенитного снаряда…
Очнулся, почувствовав что-то густое и холодное. Такое со мной уже было в воздушном бою над Берлином, когда я атаковал фашистский реактивный истребитель-бомбардировщик. Волна взрыва оглушила меня. Но почему обдало холодом, а не жаром? Я мыслю, чувствую, — значит, жив? Я вижу «Араду». Из нее валит густой дым. Но почему меня обдувает холодом? Оказывается, взрывом сорвало фонарь. И сейчас такое же положение. Только теперь перед собой я вижу не фашистскую «Араду», а огни большого города, который тут же исчезает, и вместо него появляются сияющие звезды. Что же случилось? Бессилие напугало меня. Я весь напружинился, и мысль воскресла. «Захарьев…»
Сознание четко отметило, что он летел правее меня. Упругий холодный воздух, обдувающий голову, вернул меня к действительности. Вижу, что мой истребитель неуправляем и крутится в ночном небе. Двигатель работает на полных оборотах. Быстро беру управление, вывожу самолет в горизонтальный полет.
Хорошо, что резинка, приделанная мною к сектору газа, не дала турбине захлебнуться. Резинка не раз спасала мне жизнь. Смотрю на часы. В воздухе я нахожусь сорок три минуты. Скорей к себе, на аэродром. Но Захарьев! Где он? Что с ним? Запрашиваю по радио. Молчание.
Я над аэродромом. Посадка разрешена. Ставлю кран управления шасси на выпуск, но знакомого стука не слышу, зеленые сигнальные лампочки не горят. Предстоит посадка на металлическую полосу, приземление на живот, как говорят авиаторы. Это опасно. От трения металла об металл образуются искры, керосин может вспыхнуть. Пробую еще раз выпустить шасси. Безрезультатно. Призываю на помощь силу инерции. Увеличив скорость, резко беру ручку управления на себя. Загорелась зеленая лампочка. Левое колесо шасси вышло. А правое? Делаю вторую попытку силой снять стойку с замка, потом третью. Вторая зеленая лампочка так и не загорелась. Надо бы пройти над стартом, чтобы с земли сообщили, в каком положении находится шасси, но в баках мало горючего. А плюхаться на живот не хотелось. Ой как не хотелось!
А если сесть на одно левое колесо? Во время минувшей войны мне довелось делать это, самолет остался цел и невредим. Но это было летом. И садился я не на металл, а на грунтовый аэродром. И самолет был не реактивный. Сегодня безопаснее приземлиться правее полосы на снег с убранным шасси. Такая посадка не должна вызвать больших повреждений.
Каждый полет — риск. Хочет или не хочет этого летчик, но такова его профессия. Риск укрепляет его любовь к своему делу и закаляет волю. Опыт и интуиция — вот мои помощники и подсказчики, а колебание приносит вред, обессиливает человека, делает его безвольным и даже трусом. Я решительно убираю левую стойку и передаю на землю:
— Приземляюсь на живот правее металлической полосы. Освободите место посадки!
Несколько секунд руководитель полетов молчал, потом торопливо ответил:
— Вас понял. Полосу освобождаю.
Топливомер показывает, что керосин на исходе. Беру в расчет и посадку с остановленным двигателем. Ночью с неработающим мотором я садился в Монгольской степи во время боев на Халхин-Голе. И сейчас должен сесть. Будто прочитав эти мысли и проверяя мою ночную выучку, двигатель остановился, и тишина на какой-то миг оглушила меня.
— Срочно освободите правую сторону полосы, остановился двигатель! — передал я.
Аэродром внизу. Высота быстро падает. Левее огни посадочного «Т». Чтобы приземлиться рядом, мне нужно сделать два левых разворота. Ошибиться нельзя. Аэродром расположен на крутом берегу залива. Стоит немного не долететь до него — самолет врежется в каменную скалу, а при перелете — в насыпь шоссейной дороги. Надо иметь запас высоты. На последней прямой ее легко потерять скольжением.
На аэродроме полное молчание. Прожекторы погашены, бледными огоньками маячат фонари, обозначающие взлетно-посадочную полосу. По ним буду определять расстояние до земли.
Делаю последний разворот и, видя, что будет небольшой перелет, перевожу самолет в скольжение. Сейчас мы с машиной — единое целое. Я как бы растворился в ней, а она во мне.
На посадке у летчика чутье опережает мысль, его действия от длительной тренировки становятся рефлекторными. Я рывком накренил машину влево и одновременно, чтобы она не повернулась в сторону крена, резко задержал ее нажатием на правую педаль. Встречный поток воздуха уменьшил скорость, и самолет, как бы испугавшись, что может врезаться в насыпь шоссе, скользнул вниз. В этот момент вспыхнули огни двух прожекторов, осветив металлическую полосу. Она совсем близко, и я до предела возможного удерживаю машину в прежнем положении. Это очень опасно. Задержись скольжение — врежешься в землю, выведешь рано — сделаешь перелет. Я впился глазами в землю. В ней сейчас моя жизнь и смерть. Стоило мне прекратить скольжение — и машина понеслась над землей. И несется мучительно долго.
Машина коснулась снега, раздался шелест, а потом скрежет. Я вгонял, что самолет зарывается в снег, что он может перевернуться. И уже не в силах чем-либо помочь ему, опускаю голову в кабину и обеими руками хватаюсь за сиденье, а левым плечом подпираю ручку управления, чтобы она не ударила меня по голове. В таком положении, если машина и перевернется, я могу избежать удара о землю. Но скрежет оборвался, наступила полная тишина. Я приподнял голову: лучи прожекторов все вокруг затопили светом. И на душе у меня просветлело: посадка на фюзеляж закончилась нормально.
Говорят, перед смертью не надышишься. Я готов был к смерти и сейчас как бы застыл от радости. На миг мне даже показалось, что я не дышу. «Жив ли я? Уж не бред ли все это?» Делаю глубокий вдох. Сразу стало легче. «Я жив!» Мысль заработала четко. Удачная посадка. Что это — случайность или везение? Ни то, ни другое. Помог опыт и профессионализм, который необходим в любом деле, а в летном без него ставится под угрозу жизнь. Сколько было волнения перед посадкой! Теперь оно сменилось радостным спокойствием. Несколько секунд сижу неподвижно, наслаждаясь тишиной. И тут словно током по телу проходит мысль о Захарьеве. Что с ним? Если погиб, в этом есть и моя вина. Ведь я пошел с ним в паре без провозных полетов. Если бы сделал тренировочный полет, несчастья могло не случиться. Не поторопились ли мы оба, ведь лучше идти шагом и дойти, чем бежать и споткнуться? Но летчику-истребителю быстрота и решительность необходимы, его часто торопят погода, учебные тревоги, боевая обстановка. У Захарьева и у меня все это живет в душе и часто душа, а не разум управляет нами. Захарьев сам просил слетать с ним, а я не воспротивился этому, что усилило теперь мое душевное смятение.
От ярко-жгучего света прожекторов и от пережитого мне жарко. А снег выше головы. В таком положении мне еще бывать не приходилось. Всегда земля была ниже меня. И я, отбросив остатки разбитого фонаря, левой рукой беру снег и протираю им лицо. Холод возвратил к действительности. В свете прожекторов я вижу, как на металлическую полосу сел истребитель. «Не Захарьев ли?» — с надеждой подумал я и заметил, что ко мне подбегают люди. Я поспешил отстегнуться от сиденья и вылезти из кабины. А точнее, просто перешагнул через борт «мига» и сразу увяз в снегу. Самолет без колес лежал на животе, окутанный снегом. Когда машина ползла по земле, то носом, как клином, разгребла снег по сторонам, обволакивая им фюзеляж и крылья. Командир полка и врач тоже стояли в снегу, растерянно смотрели на меня. Я спросил:
— Что известно о Захарьеве?
— Ничего, — в один голос ответили оба.
В этот момент погасли прожекторы. Темная ночь накрыла нас. Несколько секунд мы стояли молча. Я подумал, что Захарьев мог выпрыгнуть с парашютом или же где-нибудь вынужденно сесть. О гибели его не хотелось думать.
Молчание нарушил Антонов:
— Товарищ полковник, как быть с полетами?
— Сколько экипажей в воздухе?
— Два. Оба на маршруте.
— Как только они возвратятся, закрывайте полеты.
— А что произошло с вами? — спросил Антонов.
— Столкнулись с Захарьевым. Причину нужно выяснить.
Мне так хотелось осмотреть свой побитый «миг», но нельзя. Мой осмотр может осложнить расследование. Кто-то может подумать, что в столкновении есть и моя вина. Чтобы дать объективную оценку происшествию, приказал командиру полка:
— Немедленно поставьте часового, к самолету никого не допускайте. Я поеду в штаб дивизии и до приезда командующего буду там.
2.
В кабинете у меня стоял диван, и я, не снимая зимнего обмундирования, лег. В ушах гудело, и впервые после того, как ко мне вернулось сознание, я почувствовал сильную боль в голове и тошноту. Такое уже со мной случалось: сотрясение мозга. Мне нужен покой, но волнует тревога за Захарьева. Теперь мне стала понятна картина столкновения. Первый удар по моему самолету был крылом снизу по фюзеляжу. Машина Захарьева перевернулась и, ударив сверху по фонарю кабины, скользнула по левому крылу моего «мига». Почему так случилось? Как объяснить двойной удар? Чем самолет ведомого ударился по моей кабине? Скорее всего, тоже кабиной. И летчик, как и я, мог остаться живым. А что, если Захарьев был убит в момент столкновения? Это затруднит расследование, а то и совсем лишит возможности найти истинную причину катастрофы. Как бы ни были убедительны мои слова, а тень вины на меня все равно ляжет.
В кабинет вошел дежурный по штабу дивизии:
— О полковнике Захарьеве на флоте пока ничего не известно.
— Передайте, чтобы командир аэродромной базы подготовил аварийную поисковую команду. Как только она будет готова, пусть подъезжает к штабу дивизии на грузовой машине и ожидает распоряжения на отъезд.
Я хотел позвонить на квартиру командующему ВВС флота генерал-лейтенанту Петрову, но раздумал: он спит, и пока нет необходимости его тревожить. После моего доклада он тоже потеряет покой. Зачем раньше времени волновать человека? Доложу, когда будет готова команда к отъезду на поиски Захарьева.
Снова прилег на диван. Возбуждение не проходило. Память унесла в прошлое. У меня это третье сотрясение мозга. Два первых с повреждением поясничных позвонков. Вспоминая прежние трагедии и сравнивая их с теперешней, заснул. Проснулся, когда начало светать. Сразу же вспомнил о Захарьеве и удивился, почему дежурный по штабу не доложил мне о готовности аварийной команды к отъезду. От догадки, что Захарьев объявился, вскочил и побежал к дежурному по штабу. Увидев меня, тот хотел что-то сказать, но я перебил:
— Что известно о Захарьеве?
— Ничего.
— Почему не доложили о готовности аварийной команды?
— Вы так спали, что я не решился вас будить. И обстановка прояснилась. Дежурному по штабу Балтийского флота сообщили из колхоза, что обнаружен упавший самолет. Летчика нет, но найдены отдельные предметы…
Я не стал больше ни о чем спрашивать, только уточнил место падения. Дежурный указал район, над которым я хотел подать Захарьеву команду на разворот. Теперь надо было сообщить о происшествии генерал-лейтенанту Петрову. После моего звонка он приехал на аэродром, внимательно выслушал мою информацию о катастрофе и, не задав ни единого вопроса, распорядился:
— Надо произвести осмотр обоих самолетов. В состав комиссии войдут главный инженер, инспектор-летчик, дивизионный врач. Думаю, мы сумеем дать объективную оценку.
— Можно включить в комиссию начальника политотдела дивизии полковника Астафьева, — сказал я.
— Правильно, — одобрил Борис Лаврентьевич. — Кроме того, там должны быть техники самолетов и мотористы.
Когда мы подошли к лежавшему в снегу моему «мигу», командующий приказал поднять его. Аварийная команда была наготове, машину быстро поставили на козлы. Правое крыло сверху невредимо. Снизу заметна небольшая вмятина в месте соединения с фюзеляжем. Справа в фюзеляже, куда убирается шасси, видна вмятина побольше. По концу левого крыла протянулись рваные продольные полосы. Это след от фонаря самолета Захарьева.
Командующий дольше всего задержал внимание на неподвижной металлической части фонаря кабины и остатках стекла. Потом посмотрел на валявшуюся на снегу подвижную его часть и, взглянув на меня, посочувствовал:
— Как ты уцелел? Не понимаю.
— Я тоже.
Наверное, мне следовало сказать, что я был оглушен самолетом Захарьева и потерял сознание, но об этом я умолчал. Мне еще хотелось летать, а если бы я об этом сказал, медицинская комиссия наверняка сделала бы рентгенснимки поясничных позвонков, из-за которых я был списан с летной работы еще в 1939 году. Борис Лаврентьевич внимательно разглядывая меня. Не знаю, что он подумал, но спросил:
— Ты что такой бледный?
— Не верится, что нет Василия Георгиевича: уж очень он был хорошим человеком и летчиком. А бледный, наверное, потому, что не завтракал.
— Сейчас закончим осмотр самолета и позавтракаешь.
Командующий приказал инспектору Решетилову опробовать выпуск и уборку шасси. Осмотрев кабину, тот подал команду:
— От шасси!
Вышла только одна стойка. Причиной невыхода второй была вмятина в гнезде, куда она убиралась. Техник самолета с мотористом быстро устранили повреждение. Стойка вышла, убрали козлы, «миг» встал на колеса.
— Сколько времени потребуется, чтобы машина была готова к полету?
— Дня через два можно будет летать, — уверенно заявил техник. — Если даже и двигатель поврежден, то заменим или устраним поломку.
Командующий взглянул на меня:
— Значит, здесь просто поломка, — и решительно распорядился: — Едем на место катастрофы.
В этот момент к нам подошел главный инженер и доложил, что зеленая лампочка на правом крыле моего самолета перегорела в полете.
Все смолкли, обдумывая это сообщение. И только теперь мне стала понятна причина столкновения. Когда погас на крыле моего самолета зеленый огонек, Захарьев решил, что он отклонился вправо, и начал сближение. А моя машина была чуть выше его истребителя…
После осмотра самолета и проверки специалистами перегоревшей лампочки комиссия пришла к выводу, что Захарьев из-за отсутствия сигнализации в темноте сблизился с ведущим, что привело к столкновению самолетов.
Но мне предстояло выдержать еще одно испытание: побывать на месте катастрофы. Небольшое поле располагалось между кустарником и маленькой сосновой рощицей. Самолет врезался в песчаную землю у самого сосняка. Останков самолета не было. Была глубокая воронка и оплавленные небольшие кусочки металла. От летчика тоже ничего не осталось. При ударе самолета о землю на сверхзвуковой скорости образовалась высокая температура, металл и стекло расплавились, человек и обмундирование сгорели. Летчик закончил полет подобно падающей звезде.
Председатель местного колхоза с грустью вынул из кармана полушубка предмет, завернутый в газету, и передал мне:
— Вот, мальчишки нашли.
Это был сплющенный при ударе орден Красного Знамени. Я догадался, что у меня в руке тот самый орден, который Захарьев купил в Москве на вокзале и собирался сдать в военкомат. Мне вспомнились стихи философа и ученого Авиценны:
От праха черного и до небесных тел Я тайны разглядел мудрейших слов и дел. Коварства я избег, распутал все узлы, Лишь узел смерти я распутать не сумел.3.
Провожать Василия Георгиевича в последний путь пришел весь гарнизон. Траурная музыка больно щемила душу. Жена Захарьева Нина сначала не плакала. Но как только заиграл оркестр, не выдержала и осела на землю у могилы: силы ее покинули. Хоронят только стоя, поэтому подруги подняли Нину и держали на руках. Накануне она сказала мне, что теперь ей нет смысла жить и ее сердце, словно слабенький бесчувственный моторчик, вот-вот остановится.
На крышке гроба портрет, окруженный цветами. «Василий Георгиевич! Мы оба хотели жить и работать как можно лучше. Но смерть поджидала нас обоих. Я каким-то чудом уцелел. Прости!» Эх, если бы мы могли заглянуть вперед и узнать, что нас ожидает? Говорят, тогда жизнь потеряла бы интерес, превратив нас в заведенные часики. Каждый нормальный человек живет не только чувствами, сердцем, но и разумом. Для нас, летчиков, есть закон: чем больше мы летаем, тем профессионально полноценнее становимся, что дает нам больше безопасности в нашей сложной работе. Василий Георгиевич погиб на боевом посту.
Снова мыслями обращаюсь к погибшему товарищу. Душевная твердость необходима, как и страх, предупреждающий об опасности. Захарьев не успел почувствовать страха, смерть мгновенно поглотила его. Если бы он успел почувствовать столкновение с моим самолетом, он принял бы меры и мог избежать смерти. Захарьев был настоящим солдатом, а погиб от простой случайности.
Говорят, чужая рана не болит. Но в авиации катастрофа всех ранит. Эта душевные раны авиаторы не любят показывать, поэтому все молча медленно расходятся, как бы опасаясь выплеснуть наружу свое горе. И все же некоторые с трудом сдерживают слезы.
У могилы остается одна жена Захарьева. Подруги хотят увести ее домой, но она отказывается:
— Оставьте меня одну… Хочу подышать свежим запахом земли на могиле мужа.
Она навсегда прощалась с любимым человеком. Каждый в тяжком горе ищет уединения.
Кругом стояла удивительная тишина. Слышно было, как с опушенных инеем деревьев ссыпались снежные хлопья. Природа в лучах солнца блестела своей вечной красотой. Жизнь продолжалась.
4.
На пороге кабинета меня встретил новый начальник штаба полковник Диамид Иннокентьевич Синев. После ухода его предшественника Ивана Мельникова я относился к нему с некоторым предубеждением. Конечно, к болезни Ивана Ивановича Синев не имел никакого отношения, но он невольно напоминал мне о несчастье уважаемого мной человека. Диамид Иннокентьевич доложил, что есть приказ министра обороны о назначении Кадомцева командиром дивизии:
— Кто будет вместо него?
— Его заместитель Антонов Георгий Николаевич. Прошу сегодня же отдать приказом.
— А вашим заместителем назначен полковник Решетилов.
Александр Степанович по характеру во многом схож о Захарьевым. Такой же веселый, жизнерадостный, эмоциональный и честный. Мысленно я поблагодарил командующего за такое решение.
Прежде чем выйти, Синев чуть заметно улыбнулся я сообщил:
— У меня в кабинете вас ждет молодая женщина. Очень, печальная… Говорит, что познакомилась с вами во время войны, в Румынии, когда работала медсестрой в нашей военной комендатуре.
— Неужели Маруся? — вырвалось у меня, и я подумал: «Значит, у нее опять неприятности, иначе не приехала бы». Чтобы смягчить свое удивление, заметил: — Вот уж действительно, гора с горой не сходится, а человек о человеком… Попросите ее ко мне.
Вид у Маруси был не просто печальный, а измученный и растерянный. Она стала почти такой же тоненькой, какой была при нашей первой встрече. Волнуясь, она рассказала, что бывший муж отыскал ее и не дает спокойно жить.
— Я сказала ему, что между нами все кончено, — продолжала Маруся, — но он твердит: «Нет! Ты моя жена. Никуда от меня не скроешься!» — Немного помолчав, она горестно спросила: — Ну почему у нас такие мытарства с разводом? Если я подам в суд, он убьет меня,
— Чем же тебе помочь? — спросил я. Маруся подняла голову, тяжело вздохнула:
— Теперь у меня одна надежда на вас — устройте меня работать в вашем гарнизоне… И, если можно, пока без прописки, чтобы он не нашел меня.
Я позвонил командиру нашего полка аэродромного обслуживания. Он сказал, что в лазарет нужен врач-терапевт. Маруся согласилась.
— Вот только с жильем у нас неважно, — предупредил я.
— Устроюсь в городе, в гостинице.
— С гостиницей тоже не просто. — И я предложил:— Может, пока поживешь у нас? Жена о вас знает. Еще в сорок пятом, прилетев из Румынии, я все ей рассказал.
— Спасибо, Арсений Васильевич. Я думаю, в городе удастся скоро найти комнатку.
— Возможно, найдется комнатка в щитовом домике на аэродроме, где живут летчики и техники. Там должно освободиться несколько квартир.
Время испытаний
1.
Холодная война властно ломала в уклад нашей жизни, и представления о мире, и психику людей. Ночами нам еще снились воздушные бои Великой Отечественной, а на пороге дома уже маячила новая, еще более жестокая война. Все чаще незваные гости вторгались в наше воздушное пространство, напоминая о событиях трагического сорок первого…
Поднявшись на боевом истребителе в ночное небо, я вскоре услышал тревожный голос руководителя полетов:
— Внимание! Всем посадка! Первыми садятся те, кто находится севернее аэродрома.
— Что случилось? — не без тревоги спросил я руководителя полетов.
— Цель в воздухе.
Я находился севернее аэродрома и сел первым. Руководил полетами подполковник Георгий Николаевич Антонов. Когда я прибыл на стартовый командный пункт, он доложил, что появился самолет-разведчик. На перехват подняты два МиГ-15. Приказано быть готовыми к взлету двум нашим дежурным истребителям. И тут же раздался телефонный звонок. Говорил командующий ПВО флота:
— Арсений Васильевич, поднимите пару дежурных истребителей. Пусть они набирают высоту над аэродромом. Разведчик подлетает к острову Сааремаа. А Щербаков мне сообщил, что летчики его дивазии не могут сбить разведчика, у них нет радиолокационных прицелов. Вся надежда на ваших асов.
На востоке, на севере и в Прибалтике наши государственные границы не раз нарушались иностранными самолетами. По их полету было видно, что это не просто блуждающие машины, а настоящие разведчики. Один такой шпион Б-29 был сбит над Балтийским морем. Высота полета у него была небольшая, поэтому истребители легко достали его. После этого стали появляться специальные самолеты-разведчики, летающие на больших высотах в любых погодных условиях. Мы оказались бессильными. На наших истребителях не было нужной аппаратуры. Только в последнее время к нам в дивизию прибыли два МиГ-17 с радиолокационными прицелами и с установками для ракет, позволяющими поражать самолеты ночью и в облаках. Однако сами ракеты пока не поступили. Четыре летчика быстро освоили новые машины и поочередно несли дежурство. Сейчас командир пары майор Кузьмин и его ведомый взлетели на перехват воздушной цели.
— Следите за «ленточкой». Пересекать запрещаю! — предупредили летчиков с командного пункта.
— Я земли не вижу, ищу противника. Прошу предупредить о подлете к границе.
На какое-то время установилось радиомолчание. Потом раздался голос командира пары перехватчиков соседней дивизии:
— Вижу разведчика. Он выше. Догнать не сможем. Кончается горючее.
— Вас понял. Идите на посадку. — С командного пункта звучит позывной ведущего нашей пары: — Разворот вправо на курс… Разведчик над вами, выше…
— Понял, разворот вправо… — снова молчание, а минуты через две тревожный голос майора Кузьмина: — У меня предельная высота. Надо мной бортовые огни разведчика. Достать его не могу. Что делать?
Молчание. На командном пункте растерянность. И снова, уже раздраженный, голос Кузьмина:
— Сколько можно сопровождать цель?
Пара Кузьмина села, Иван Кузьмин — участник Великой Отечественной войны, имеет два ордена Красного Знамени. Прибыв на командный пункт, он с возмущением доложил:
— Боевое задание не выполнил. Не мы, а они хозяева нашего неба.
— Устали? — спросил я.
— Не от полета устал, а от бессилия. Наш МиГ-17 считается лучшим истребителем, а на деле он слабее разведчика. И тот прекрасно знает это, летит с зажженными огнями: нате, мол, слабаки, полюбуйтесь, какой я недосягаемый.
— А какая у него была высота?
— Километров двадцать. Я мог взять его в прицел, но нужны ракеты, а они у нас пока только на картинках.
Аналогичная ситуация наблюдалась перед войной. Тогда на некоторых истребителях тоже стояли пусковые установки для реактивных снарядов, но самих снарядов не было, хотя они прошли боевые испытания в тридцать девятом году на Халхин-Голе.
— До каких пор шпионы будут диктовать свою волю? — горячился Кузьмин.
На этот вопрос мы с Антоновым не могли дать ответа. Оставалось надеяться, что конструкторы сумеют создать нужное нам оружие, а заводы быстро изготовят серийные образцы,
Резкий телефонный звонок поднял меня с постели. «Неужели катастрофа?» Один прыжок с кровати — я трубка в руках.
— Тревога!
— Кто объявил? — как можно тише, чтобы не разбудить жену и детей, спросил я. Это важно потому, что тревоги бывают разные, и кто объявляет их, говорит о многом.
— Москва!
Не дожидаясь машины, побежал на аэродром. Городок проснулся. В домах загорались огни, из подъездов выбегали люди. И только деревья спали. Казалось, они застыли от неожиданности. «Уж не война ли?» — подумал я, убыстряя бег.
Почти у самого аэродрома около меня взвизгнула тормозами дивизионная легковушка. Когда я сел в кабину, шофер растерянно спросил:
— Не война ли?
— Сейчас узнаем, — ответил я как можно спокойнее, и тут огнем обожгла мысль, что у меня нет ведомого летчика, с кем бы я мог полететь в бой. Увлекшись личными полетами и проверкой техники пилотирования руководящего состава дивизии, я забыл о ведомом.
«Кого взять? Савенка? И летчик хороший, и человек надежный. А если он не захочет?»
Аэродром гудел турбинами. Мигали разноцветные лампочки, перекликались с разгорающейся зарей. Летчики, жившие в домиках при аэродроме, уже рассредоточивали истребители. Открыв дверь кабинета, я подбежал к непрерывно звонившему телефону и тут же услышал голос командующего:
— С добрым утром. Все идет по плану?
— Так точно. Минут через пять все самолеты рассредоточатся и будут готовы к боевой работе, — ответил я и, не сдержавшись, спросил: — Тревога настоящая или учебная?
Командующий помолчал, потом сказала
— К тебе выезжают проверяющие. Предупреди часового, чтобы не задерживал их.
Волнение сразу спало. Значит, учение. В кабинет вошел инспектор дивизии по технике пилотирования майор Савенок.
— Мой самолет готов. Какие будут указания?
— Началось большое учение. Может, полетим в паре?
— Хорошо. Но я ведомым давно не летал.
— Вот и потренируешься. Наши самолеты рядом. Взлетать будем прямо со стоянки.
Прибыли проверяющие. Генерал-лейтенант Сорокин, небольшого роста, коренастый, подвижный. Мое внимание привлекли его усы, похожие на крылья. Один из помощников Сорокина направился к инженеру дивизии, другой ушел в полк аэродромного обслуживания. Сам генерал остался со мной, упрекнул:
— Почему не укрыли часть самолетов в роще?
— Это не роща, а кустарник. Там заболоченное место.
— Сделали бы дорожки. У вас ни один самолет не замаскирован.
— Маскировать нечем, трава еще не выросла, а кустарник рубить жалко. При атомной войне самолеты надо укрывать землей и бетоном, а не ветками.
— Какая война будет — пока неизвестно. Нам приказано проверить, как выполняется инструкция о маскировке. А теперь пригласите начальника штаба и начальника оперативного отделения.
Мы помогли генералу развесить карты, и он начал объяснять обстановку начавшегося учения. «Синие» перешли в наступление. «Красные» пока обороняются. Дивизия поставлена задача отражать налеты авиации над Финским заливом. Результаты атак фиксировать фотокинопулеметами и проявлять немедленно. Учением руководит министр обороны Маршал Советского Союза Булганин.
Генерал еще не закончил постановку задач, а со стартового командного пункта уже раздался телефонный звонок. Руководитель полетов сообщил, что приказано поднять пару истребителей на перехват разведчика. В моем кабинете были установлены два динамика и два микрофона, связанных с командным пунктом ПВО и руководителем полетов.
— Восемьдесят первый! Вам взлет! — передал я дежурной паре.
Я обратил внимание, что разведчик летел по тому же маршруту, каким накануне шел шпион. Но высота у этой цели была небольшая. Перехватчики быстро обнаружили и атаковали ее. Результаты «стрельбы», по данным фотоконтроля, оказались высокими. Генерал-лейтенант Сорокин был удивлен:
— Почему же истребители, взлетевшие раньше ваших, опоздали перехватить разведчика?
— Все очень просто. Сначала он летел у земли, и локаторы обнаружили его поздно. К нам цель подходила на большой высоте, за ней проще было следить.
Учение длилось несколько дней. Сначала погода стояла солнечная, потом резко ухудшилась. Шестерку истребителей, предназначенную для перехвата «противника» за облаками, возглавил я сам. В воздух мы поднялись сразу же, как только над стартовым командным пунктом взвились две зеленые ракеты. Получив направление на цель, я решил пробивать облака с курсом перехвата и в целях безопасности подал команду:
— Правой паре отвернуться на десять градусов вправо, левой — влево.
За облаками прекрасная видимость. «Противник» летит ниже нас, отпечатываясь на белом фоне. Истребителей прикрытия нет. Решаю атаковать четверкой, оставив пару для прикрытия, хотя по последней инструкции мы должны строить свой боевой порядок в три эшелона, имея ударную группу, группу прикрытия и резерв. Но в этом нет необходимости. «Противник» летит без сопровождения.
Рассчитываю так, чтобы окончание нашего разворота стало началом атаки. Мне хорошо видна девятка реактивных бомбардировщиков Ил-28. Набрав со снижением скорость, ударили снизу и с набором высоты вышли из атаки. Выполнив три атаки, возвратились на аэродром, где нас поджидали генералы Петров и Сорокин. Инспектор говорил с негодованием:
— Безобразие! Вы построили боевой порядок не в три, а в два эшелона, но потом и от этого отказались. Так воевать нельзя. — Он, словно боксируя, так работал руками, что от него невольно пришлось отступить. Его усы-крылья топорщились. Я спросил:
— Так кто хозяин неба: летчик или инструкция?
— Вы не выкручивайтесь!
Я знал, что генерал во время Великой Отечественной войны командовал истребительным корпусом. Сам не летал, воздушные бои видел только с наземного командного пункта. Он привык оценивать действия летчиков буквой инструкций и наставлений, а не жестокой мерой воздушного боя, не укладывающегося в определенные бумагами рамки. Генерал Савицкий тоже во время войны командовал истребительным корпусом, и он тоже довольно эмоционален. Но Евгений Яковлевич редко давал летчикам категоричные оценки с таким неуважением и злостью. Если кто допускал промах в бою, то с опущенной головой извинялся перед комкором и клялся, что больше никогда такого не допустит. Я сознавал, что в этом вылете у нас был недостаток — мы атаковали цель под большими углами, что мешало хорошо прицеливаться. И я мог бы для пользы дела объективно доложить о своих ошибках. Но тон инспектора исключал диалог. И мне оставалось предложить:
— Для объективности хотелось бы сравнять пленки стрельбы, снятые с истребителей и бомбардировщиков.
— Вы опять уклоняетесь от моего прямого вопроса. Какое вы имели право нарушать требования инструкции?
— Но, товарищ генерал, инструкция — это не приказ, а рекомендация. Каждый воздушный бой неповторим, он ведется не только оружием и маневром, но и характером летчика, — вмешался Савенок.
— А вы кто такой? — строго, но более спокойно спросил Сорокин.
— Я инспектор дивизия, ведомый командира, участник войны. Я по опыту хорошо знаю, что не шаблон, а быстрота атаки приносит победу.
— Инструкции уважать надо, но не молиться на них, — поддержал а Савенка. — В свое время инструкция рекомендовала на И-16 летать час двадцать минут, а на нем можно было летать только час. Кто придерживался инструкции, тот садился в поле.
— А ведь они правы, — вмешался в наш бурный разговор командующий генерал Петров. — И сейчас группа Ворожейкина вела бой при отличной видимости. Зачем же было дробить шестерку на три яруса? Воздушный бой шаблона не терпит. История учит, что у великих полководцев был свой главный принцип боевых действий: у Суворова, например, внезапность, у Кутузова — маневр, а у Румянцева — главный удар. У Ворожейкина — глазомер, оценка обстановки и огонь с близкого расстояния.
После вмешательства Бориса Лаврентьевича генерал-инспектор остыл, в его голосе уже не было злости, послышались даже нотки одобрения:
— Хорошо. Все проверим.
Итог этому спору подвел фотоконтроль. Оказалось, что бомбардировщики не «сбили» ни одного нашего истребителя. Мы атаковали под большими углами, стрелкам-радистам трудно было поймать нас в прицел. Зато на пленках наших фотокинопулеметов были хорошо зафиксированы все девять бомбардировщиков.
— Молодцы! — похвалил Петров. — Не тем слава, кого сбивают, а тем, которые бьют, хотя и не по инструкции.
В памяти воскрес воздушный бой, проведенный в 1943 году в день освобождения Киева. Тогда мы семеркой летели тоже в два яруса. Высота была большая. За линией фронта встретили три группы фашистских бомбардировщиков, по пятнадцать — двадцать самолетов в каждой. Их сопровождало не менее двух десятков истребителей. Вражеская армада шла курсом на Киев невозмутимо, чувствуя себя в тылу, как дома.
В честь освобождения Киева и Великого Октября мы покрасили коки наших истребителей в красный цвет. Это ко многому обязывало нас. Мы не могли позволить врагу ударить по городу. Но как это сделать? Сковать боем истребителей мы не можем: нас мало. Вряд ли удастся этими силами прорваться к бомбардировщикам. И тут созрело решение. У нас преимущество в высоте, враг нас пока не видит. Ударим всей семеркой по «мессершмиттам» и «фоккерам». На пикировании набрали большую скорость, подошли сзади и снизу к истребителям и почти в упор открыли огонь. Два самолета врага вспыхнули факелами, остальные шарахнулись вниз, оставив бомбардировщиков без охраны. В растерянности «юнкерсы» сбросили груз на свои войска и повернули назад. Только после этого фашистские истребители опомнились, но было уже поздно: мы свою задачу выполнили.
В этом бою, по докладам летчиков, было уничтожено девять вражеских машин, три подбито. Но скоро результаты нашей работы уточнили танкисты Третьей гвардейской армии. Оказалось, мы сбили одиннадцать фашистских самолетов. Но самое интересное мы узнали позже. Немецкое командование издало специальный приказ, в котором говорилось о появлении новых советских истребителей с красными коками, на которых летают лучшие советские асы. Предписывалось их немедленно сбивать…
— Где пленки? — прервал мои воспоминания инспектор.
— В штабе дивизии.
— Пошли. Проверю.
В кабинете на столе лежали проявленные пленки. На стенах были развешены снимки результатов нашей стрельбы. Начальник фотослужбы старший лейтенант-инженер Георгий Смеляков дал пояснения:
— По объективному контролю получается, что вся девятка бомбардировщиков оказалась под огнем истребителей.
— Сколько Ил-двадцать восьмых могло быть сбито? — спросил его генерал-инспектор.
— Я, товарищ генерал-лейтенант, на этот вопрос ответить не могу: не воевал. А в училище нас этому не учили.
Глядя на Сорокина, в разговор вмешался Петров:
— Плохо, что у нас до сих пор не изучают опыт войны в Корее. Все держится в секрете. Мы до сих пор не знаем живучесть в боях наших реактивных истребителей и бомбардировщиков. Может, вы в Москве этот вопрос поставите?
После небольшого раздумья генерал Сорокин заявил:
— Верховному командованию лучше знать, что надо изучать, а о чем положено молчать. Готовьтесь вместе с командирами дивизий к отлету в Москву на разбор учения.
В этот момент Петров подошел ко мне и, улыбнувшись, торжественно сообщил:
— У меня, Арсений Васильевич, есть для вас приятная новость: Совет Министров СССР присвоил вам звание генерал-майора авиации. Поздравляю!
Поздравил меня и генерал-инспектор. С ним мы расстались дружелюбно, как будто не было у нас никаких разногласий при оценке воздушного боя.
3.
После разбора учения, который проводил министр обороны Маршал Советского Союза Н. А. Булганин, меня вызвал командующий ПВО генерал-полковник М. И. Самохин и предложил стать командующим ПВО Военно-Морского Флота в Калининграде или в Севастополе.
— Нет. Моя профессия — летчик, — не задумываясь отказался я.
— Зря. Вам уже сорок два года, а это почти предел для летчика, летающего на современных истребителях. Может, передумаете, а завтра позвоните мне? Если решите, то отсюда и поедете прямо к новому месту службы. Лучше всего в Севастополь. Черное море, природа курортная, город закрытый.
— Хорошо. Когда вам позвонить?
— Завтра в полдень…
На другой день возле метро меня остановил щупленький человек с бледным, изможденным лицом.
— Арсен! — радостно воскликнул он. На глаза у него навернулись слезы.
Я не узнал его, но слезы меня насторожили, и я сочувственно спросил:
— Извините, я вас что-то не припомню.
— Я Щиров, Арсен!
— Сережа! — я обнял товарища, и мы долго стояли так и молчали. А потом был у нас неторопливый невеселый разговор. Сергей рассказал о своей семейной трагедии.
Его красавицу-жену Софью лакеи Берия схватили на улице, посадили в машину и увезли. Берия силой сделал ее своей любовницей, вызвал к себе Щирова, предупредил: «О жене никому ни слова. Пикнешь — в порошок сотру». Но Сергей был не из робкого десятка, задумал раскрыть злодейство. С этой целью он решил демонстрировать переход границы, чтобы, как он полагал, попасть под суд, рассчитывая на суде все раскрыть и разоблачить беззаконие. Но суда не было. В зале, куда привели Щирова, находился сам Берия и двое его подручных. Берия объявил приговор: 25 лет заключения. При этом он цинично напомнил: «Я тебя предупреждал. Вот и получай за свое „благоразумие“ награду».
Сергей расплакался. Передо мной был совершенно больной и сломленный человек. Исповедь его потрясла меня, и я окончательно понял, почему он пускался в загулы и частенько обращался к зеленому змию. Этим он пытался заглушить свое душевное смятение. Я проводил его до дома, дав свой адрес, попросил написать мне, как будет складываться его жизнь. Но писем от него не получил. Герой Советского Союза Сергей Сергеевич Щиров скончался в 1956 году в Казани, в психиатрической больнице.
Но верно говорят, что природа стремится к равновесию. Сразу после встречи с Сергеем судьба подарила мне еще одну, но уже счастливую встречу, которая на всю жизнь осталась в памяти…
Собираясь в очередной отпуск, я выехал в один из подмосковных городков. Был довольно прохладный день. Поеживаясь, я шагал по тихой, немноголюдной улочке, когда услышал такой знакомый голос!
— Арсен, дорогой!
Оглянулся: передо мной стоял улыбающийся, цветущий мужчина, очень похожий на Амет-Хана Султана. Но это был не тот Аметха, каким я видел и запомнил его при последней встрече. Тот был исхудавшим, с впалыми щеками, с резко выступающими скулами, с растерянным, бегающим взглядом. Этот — розовощекий, глядящий весело, одетый с иголочки, только общими чертами лица напоминал того бедолагу. Я растерянно смотрел на него.
— Не узнаешь? — рассмеялся Амет-Хан. — Я и сам не узнаю себя!
Он метнулся ко мне, порывисто и крепко обнял, заставив этим окончательно поверить, что передо мной он сам, а не его дальний родственник.
— Как живешь, Аметха? — я наконец поборол растерянность.
— О! Дарагой Арсен! Я обрел новую жизнь! Я поднялся на огромную гору! Я учу самолета летать!
— Постой, родной мой, не торопись, — рассмеялся я, — говори по порядку, не включай форсаж.
— По порядку? А ты видел в авиации порядок? Так вот, Арсений, сними свою кепку и слушай. Такие новости положено слушать с почтением, как речь аксакала. Запоминай, дарагой! Я нашел прекрасных друзей. Один из них знаменитый летчик-испытатель Сергей Анохин. Второй друг — жена Сергея Маргарита Карловна. Она обучила меня полетам на планере. Я получил от нее свидетельство парителя. Понимаешь, я не летаю, я парю в воздухе. Мне недавно вручена Государственная премия. Я — лауреат! Ты веришь этому? Домом для меня стало небо!
Я слушал своего старого друга, а сам чувствовал, как волна радостного душевного тепла захлестывает меня. Мне казалось, что это не Амет-Хан изливает душу, а каждое сказанное им слово рождается в моем сердце, и говорит он не столько о себе, сколько обо мне и о тысячах тех счастливых людей, для кого небо стало настоящим домом и неповторимой судьбой.


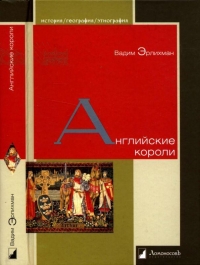

Комментарии к книге «Небо истребителя», Арсений Васильевич Ворожейкин
Всего 0 комментариев