Предисловие ко II изданию
Настоящее издание «Очерков» отличается от первого по существу главным образом в одном пункте. Объясняя причины возникновения русско-японской войны 1904 г. и расценивая эту войну, как империалистскую, автор — отчасти следуя устаревшей, после Ленина, концепции Гильфердинга — искал национальных корней этого империализма. Между тем, признать войну империалистской, это и значило искать ей объяснения в плоскости мировых отношений и мирового хозяйства — национальный момент в империалистской войне может играть лишь привходящую, второстепенную роль. По сути дела, дальневосточный конфликт начала XX века был, как я выразился в другом месте, форпостной стычкой германского империализма, с одной стороны, английского и американского — с другой. Россия и Япония сыграли роль орудий, при чем приманкой для первой послужила ее старинная вражда с Англией из-за Ближнего Востока, для второй — стремление Японии утвердиться на азиатском континенте, чему помешали в 1895 г. Россия и Германия. Интересы собственно русского империализма имели во всем этом второстепенное значение, — как второстепенную роль играли они даже и в конфликте 1914 года. Поскольку же русский капитализм был здесь активен, это был старый торговый капитализм, а не новый финансовый или хотя бы промышленный.
Понятие «торгового капитализма», или «торгового капитала», казалось мне совершенно четким и не вызывающим никаких недоумений. Но дурная привычка изучать теорию политической экономии вне связи с конкретной действительностью, вне исторической перспективы, дала свои плоды, и люди начинают «недоумевать»: как это торговый капитал может быть выделен из капиталистической системы вообще и что сие может значить? Люди же, совсем не знающие истории — но оную преподающие — начинают говорить, что такой исторической категории, как «торговый капитализм», никогда не существовало. Приходится, конечно, сожалеть о таком регрессе исторических знаний. Лет двадцать назад всякий гимназист отлично знал, что была эпоха, когда обмен был уже централизован — технической базой здесь послужила морская торговля, которую иначе, как в «крупном» виде, представить себе нельзя, всякий даже средневековый корабль строился для сотен и тысяч пудов груза, — производство же было мелкое. Для эксплоатации мелкого производителя, воплощавшегося главным образом в крестьянине, купеческой капитал входил в союз с крупным землевладением, создавая систему сословного самодержавного государства, — систему, продержавшуюся в России дольше, нежели где бы то ни было, до начала XX века. Смешивать эту систему с торговым капиталом нашего времени такая же, примерно, ошибка, как смешивать государственную власть с абсолютизмом. В наше время в капиталистических странах торговому капиталу не нужно ни абсолютизма, ни крепостного права — он действует через рынок, обычным экономическим путем, не применяя «внеэкономического принуждения»: но там, где еще крепки докапиталистические отношения, где он имеет дело с полунатуральным хозяйством, торговый капитал, и теперь не чурается прямого насилия, со всем его аппаратом, куда входят и абсолютизм, и бюрократизм, и помещик, и все, что мы видим в русской истории до 1917 года. В таком положении находятся колониальные страны.
Это главное пояснение по существу, которое приходится сделать к новому изданию. Второе крупное изменение носит более редакционный характер. В первом издании, характеризуя историческую роль русского крестьянства и его борьбу с помещиками, автор излагал мысли Ленина своими словами. К стыду автора, Ленина в его изложении некоторые товарищи не узнали и обрушились на соответствующие места книги, как на совершенно не-марксистскую ересь. Во избежание повторения такого пассажа автор дает теперь подлинные ленинские цитаты.
Остальные поправки касаются мелочей или носят чисто стилистический характер.
М.П.
15/VIII — 26
Предисловие к I изданию
Никогда еще история, которая пишется, не отставала так от истории, которая делается. III часть «Сжатого очерка», писавшаяся урывками от 1921 по 1923 год и вышедшая полгода назад, нуждается уже в ряде поправок и дополнений, — кое-что читатели найдут ниже. В еще худшем положении «четырехтомник».
Я не имею оснований стыдиться этой книги как целого. Все же это — первый марксистский курс русской истории, какой появился, и неизвестно, когда появится новый с тем же хронологическим захватом. Но если для XVI—XVIII столетий, где у меня был под руками вполне откристаллизовавшийся материал, хотя и не полный, пришлось бы делать только частичные дополнения и изменения, для XIX устарела вся конструкция такого важнейшего отдела, как революционное движение.
Скованная тройной цензурой — автора (ни минуты не забывавшего о «статьях» в процессе писания!), издательства и царского цензора (ни для кого не секрет, что сии последние не отказывались просмотреть книгу в «частном» порядке, во избежание («официальных» затруднений, — это входило в калькуляцию тогдашних издательств), — книжка попала «под суд» уже в сильно исковерканном виде. Восстановление уничтоженного сенатом текста не могло восстановить замысла автора, ибо оный замысел был полузадушен раньше всяких сенатов. А и замысел-то был весьма несовершенный: соотношения, теперь представляющиеся автору вполне четкими и ясными, тогда грезились ему еще в тумане. Вдобавок, и уже не по вине своего эмигрантского положения, он не имел перед собою и половины того фактического материала, какой мы имеем теперь, в 1924 году.
Соответствующие главы IV тома нужно бы просто переписать. Но автору некогда писать и новые книжки, — где же тут переделывать старое! Остается прибегнуть к суррогату и издать те лекции, которые читались нынешнею зимою 1923/24 г.; они учли если далеко не весь, то большую часть накопившегося материала и отражают точку зрения автора «четырехтомника» в ее теперешнем виде.
Я издаю весь курс, включая и часть, относящуюся к XX веку. Тут читатель найдет отчасти повторение, — но в сжатом виде и в новой комбинации, — того, что дает III часть «Сжатого очерка», отчасти продолжение последнего.
По внешности стенограмма представляется настолько удачной, что по удобочитаемости книжка мало отличается от «четырехтомника». Преподавателей, лекторов и вообще изучающих и просят ее иметь в виду как необходимое дополнение к сему последнему. А так как основной фактический грунт там — и в «Сжатом очерке», ч. III — все же имеется, то это до некоторой степени искупает и беглость предлагаемого теперь изложения.
М. П.
Лекция первая
План курса. Современность и история. Материалистический метод и современность. Успехи исторического материализма в наши дни; основной стержень русского революционного движения; как возникло у нас крепостное право. Борьба крестьянина за самостоятельное хозяйство. Значение этой борьбы для нашего времени. Как буржуазия понимает русское революционное движение. Действительный смысл этого движения как отражения борьбы торгового и промышленного капитала. Крепостное хозяйство и самодержавие как явление эпохи торгового капитализма; когда и почему они стали не нужны. Действительный смысл «освобождения крестьян». Революция декабристов как первый эпизод борьбы. Хлебный вывоз и крепостное право. Проект Якушкина.
Мне придется прочитать курс русской истории по плану, который теперь кажется мне самому несколько устаревшим. Это — план того курса истории революционного движения в России, который я читал когда-то в старой Свердловии, в 1919—1920, кончая 1921 годом, — план, который начинался с первой половины XIX века, с декабристов, и заканчивался, не доходя до Октябрьской революции. В последнее время, как вы, может быть, слышали, я в Свердловском университете читал именно курс истории Октябрьской революции с обширным введением. Здесь этот курс будет читать другой лектор, но тем не менее мне придется все-таки отправным пунктом и для своего курса сделать все ту же Октябрьскую революцию.
Нас в последнее время пробовали учить, что мы должны в своих исторических курсах главное внимание уделять современности. В попытках открыть тут что-то новое — не без недоразумения. Ибо никакой марксист, о чем бы он ни говорил и ни писал, хотя бы о каменном веке, не может не отправляться от современности. За это именно мы терпим постоянные нападки от буржуазной профессуры. Мы не можем уходить от современности впечатлений и, мало того, мы, нимало не хвалясь, можем утверждать, что этого и не нужно делать, и что, только отправляясь от современности, можно оценить прошлое. Последнее, конечно, приводит буржуазных профессоров уже в совершенный транс, и они утверждают, что мы являемся вовсе не учеными, а публицистами, да еще скучными публицистами, и потому никакого значения все наши писания не имеют. Это — совершенный вздор, и если когда-нибудь был в общественной науке метод действительно научный, то это только метод исторического материализма. Другого нет.
Я не хочу терять времени; но стоило бы указать — вы можете найти об этом в «Очерке истории русской культуры» — ряд ярких примеров того, как наиболее умные и толковые из буржуазных историков невольно переходят на почву исторического материализма каждый раз, когда они искренно хотят понять события. Возьмите последний всемирный конгресс историков, происходивший в Брюсселе года три назад, весной 1923 года. Там были, конечно, исключительно буржуазные профессора. Вы догадываетесь, что в теперешний Брюссель, под столицу Антанты (первая столица Антанты на континенте — Париж, вторая — Брюссель), коммунистов просто-напросто не пустили бы; там никаких коммунистов не было, но тем не менее университетские профессора там делали доклады совершенно в историко-материалистическом духе. Так, один профессор, который докладывал о так называемом возрождении наук и искусств, возрождении классической древности в конце средних веков, объяснил это влиянием торгового капитала. Объяснение для меня, человека, открывшего, можно сказать, роль торгового капитала в истории России, особенно, конечно, приятное. Он говорил не о России, а о Западной Европе.
Другой пример того, как они ломятся в открытую нами дверь, — это на том же конгрессе развивавшаяся идея, что жирондисты (о которых вы, конечно, знаете) времен французской революции были классовой партией. Для нас это не новость, конечно, — это давно установлено Куновым и Каутским в их хорошие годы, — но любопытно, что буржуазный профессор нашел нужным преподнести всемирному конгрессу эту, для нас с вами весьма старую, но для них совершенно свежую истину, именно, что это была партия, представлявшая интересы определенного класса, как он определяет, интересы буржуазии (это было нечто вроде наших кадетов, как вы знаете.
Все эти примеры, которые множатся с каждым днем, показывают, что другого пути к пониманию истории не существует, кроме нашего старого материалистического и диалектического метода, и что против воли это усвоивается в настоящее время широкими кругами буржуазной профессуры. И вот с этой точки зрения, я повторю, надо рассматривать прошлое, отправляясь от современности. Это одновременно и успокаивает наших читателей, так боящихся, что мы академизируемся и оторвемся от современности, и в то же время дает некоторое оправдание тому, несколько устаревшему плану моего курса, о котором я говорил.
Прежде всего относительно современности. Что является основным стержнем русского революционного движения до начала XX в.? Наша рабочая революция — это, как все мы прекрасно понимаем, и как вам объяснит ваш преподаватель по курсу Октябрьской революции, есть явление мировое. Это не есть только национальная, революция, объяснимая в узких рамках, вытекшая исключительно из русских условий, местных и временных условий России. Империалистическая война определила момент взрыва. Благодаря этому у нас в России взорвалось и вспыхнуло раньше, нежели в других странах, мы раньше перешли к социализму, чем другие страны, — но сама по себе рабочая революция России была началом мировой рабочей революции, эпизодом интернационального рабочего движения. Таким образом если мы будем отыскивать местные и национальные корни русской революции, то нам придется взять, конечно, не революцию рабочую, а придется взять революцию крестьянскую, придется взять переход земли в руки крестьян. Этот переход земли в руки крестьян — единственный результат революции, с которым уже примирилась буржуазия. Как раз вчера я читал статью Изгоева, где он говорит, что какая ни будь реакция в России, но с переходом земли в руки крестьян примириться придется. Это то, что уже вошло в железный инвентарь русского общества: земли обратно у крестьян не отберешь. С этим Изгоев соглашается примириться, и затем еще с тем гражданским равенством, которое ввела революция, с упразднением всякого рода сословий, — этого не выкрутишь, не выжжешь никаким фашистским железом, с этим придется примириться. Этот факт, который согласна признать и наша буржуазия, — факт перехода земли в руки крестьян, — является стержнем досоциалистической национальной русской революции, не эпизодом мирового движения, а специально русским явлением. «Аграрный вопрос составляет основу буржуазной революции в России, — говорит Ленин, — и обусловливает собою рациональную особенность этой революции». (Заключение к «Аграрной программе с.-д.-тии в русской революции 1905—1907 г. г.», Сочинения, т. IX, стр. 614.)
Ленин же совершенно определенно установил и то, в чем заключается смысл этого перехода. «Основой развития капитализма, — читаем мы дальше в той же цитированной сейчас статье, — может стать свободная масса фермеров без всякого помещичьего хозяйства, ибо это хозяйство в целом экономически реакционно, а элементы фермерства созданы в крестьянстве предшествующей хозяйственной историей страны. При таком пути развития капитализма оно должно итти неизмеримо шире, свободнее, быстрее, вследствие громадного роста внутреннего рынка, подъема жизненного уровня, энергии, инициативы и культуры всего населения».
Так ставил он дело в 1905—1907 г. г. Теперь, через 10 лет, мы уже по другую сторону капитализма, и нам приходится вести крестьянское хозяйство по совсем другому руслу. Но на этом русле в виде подводного камня мы встречаем тот же «мужицкий капитализм». Я не буду распространяться об этом, но вы со мной согласитесь, — это тоже есть величайшая реальность, реальность, которой мы окружены, которая на нас со всех сторон давит.
Но вот этот факт — стремление русского крестьянина стать мелким самостоятельным производителем, — что это такое? Это есть стержень всей русской аграрной истории, начиная, по крайней мере, с XVI века до начала XX. В течение 300 лет боролось мелкое крестьянское хозяйство с крупным помещичьим, — боролось за право своего существования.
Самое крепостное право XVI века возникло вовсе не из прикрепления к земле бродячих крестьян, как вы можете прочесть на страницах курса Ключевского. Эта легенда, созданная давно, довольно давно уже разрушена не только марксистами, но и буржуазными историками. Ее разоблачил Н. А. Рожков, а по следам Рожкова пошел чисто буржуазный историк, кадет Павлов-Сильванский, который на страницах своей книги «Феодализм в древней России» опровергает легенду, будто русские крестьяне XVI века были какими-то бродячими безземельными арендаторами барской земли. Легенда сочинена была, очевидно, в середине XIX века, чтобы оправдать исторически то ограбление крестьян помещиками, которое долго носило название «великой реформы 19 февраля».
Чтобы объяснить, почему помещик имел право отнять у крестьян жалкие остатки их земель, нужно было выставить теорию, что земля-то искони была барской, а крестьяне только арендовали эту землю.. Тогда понятно, что у арендатора можно уменьшить его участок земли. На самом деле, как доказал еще Рожков лет примерно 20 назад, наше крупное и среднее помещичье землевладение XVI века возникло на развалинах мелкой свободной крестьянской земельной собственности, следов которой в тогдашних писцовых книгах мы найдем сколько угодно, — найдем уже в состоянии вымирания, но не совсем естественной смертью. Целый ряд произвольных, в порядке крепостнического правосознания, действий помещиков вел к тому, что эта крестьянская собственность уменьшалась, и уменьшалась, помещик отнимал землю у крестьянина и мешал ему хозяйничать, а крестьянин хотел хозяйничать. На фоне этого развертывается перед нами длинный ряд крестьянских революций: Смутное время, революция Хмельницкого на Украине, восстание Стеньки Разина и, наконец, Пугачевский бунт к концу XVIII века.
Все это было отчаянной борьбой крестьянина за право быть самостоятельным мелким хозяином, а помещик все его загонял и загонял из этого положения самостоятельного мелкого хозяина в положение батрака с наделом, загонял крестьянское хозяйство на чисто продовольственную позицию, которая казалась такой естественной нашим эсерам и вместе с ними добрейшему П. П. Маслову, находившим, что это есть факт самодовлеющий и не нуждающийся в дальнейших объяснениях, — между тем как это был результат длительной колоссальной борьбы. Только после «великой реформы» окончательно удалось помещику сбить крестьянина на эту самую продовольственную позицию, когда крестьянин из мелкого производителя хлеба для рынка вынужден был превратиться в человека, который производил хлеб для рынка только на помещичьей земле. Там только производит он прибавочный продукт, а у себя он не имеет этого продукта. Это было совершенно неестественное явление, и крестьяне никогда с этим не мирились. 1905 год напомнил, что инстинкты мелкого Производителя глубоко сидят в крестьянине. В начале XX века опять в крестьянине вспыхнула та же жадность земли, опять он полез на помещика, и на этот раз, пользуясь тем, что в стране начало происходить рабочее движение, полез с большим успехом, чем раньше. В 1917 году он добился своего: помещик-паразит был разбит, помещичьи земли перешли в руки крестьян, и те могли, наконец, развернуть на этих землях то, к чему стремились веками — свое собственное, независимое от барина хозяйство.
Вот вам образчик того, что для понимания современности нам приходится и придется уходить глубоко в прошлое. Если мы ограничиваемся в настоящем курсе XIX столетием, то это объясняется просто тем, что времени у нас мало, и что, повторяю, нам, партработникам, важно познакомиться с фактами нашего ближайшего прошлого, с фактами конца XIX и начала XX столетия, а на это нужно время: временем приходится дорожить. Поэтому за исходную точку мы возьмем революцию декабристов, т.е. тот момент, когда этот стержень, о котором я вам говорил, выходит наружу. И декабристы не могли уйти от этой современности, и для них крестьянский и земельный вопрос стоял в центре всей картины. И мало того: чем тревожнее была эта современность, тем большую роль в их программах и планах играл аграрный вопрос; чем она была спокойнее, тем больше этот вопрос отступал на задний план. Самые основные идеологи декабристов больше всего внимания отдавали именно крестьянскому вопросу, вопросу о земле и крепостном праве. Тургенев в «Северном обществе» и Пестель в «Южном обществе», самые серьезные и глубокие люди движения, занимались главным образом и почти исключительно этим, и, поскольку этот стержень отражался в их программах и планах, он уже доходил до сознания и выходил наружу. В этом — значение революционного движения первой четверти XIX века.
Для того, чтобы понять это революционное движение, как опять-таки всякую революционную борьбу, которая происходила в XIX веке, нам придется сделать некоторое усилие фантазии. Я думаю, что для того, чтобы связать XVI век с 1917 годом, закрепощение крестьян с декретом Совета народных комиссаров о земле, вам усилие фантазии, вероятно, понадобилось. Теперь понадобится еще большее. Дело в том, что по истории революционного движения XIX века мы имеем довольно обширную литературу, оставшуюся нам в наследство от буржуазных историков. Эти буржуазные или интеллигентские историки (конечно, они буржуазные, потому что интеллигенции как особого класса не существует, но тем не менее, как вы увидите, особенности интеллигенции как группы отражались на этом процессе), разумеется, смотрели на исторический процесс, как вообще смотрят на него интеллигенты, — с индивидуалистической точки зрения.
Им это революционное движение XIX века казалось борьбой за свободу. Тот факт, который нам с вами совершенно понятен и ясен, что свобода не есть самоцель, а что она есть средство для реализации высших целей, для перехода к социализму, — этот факт, хотя буржуазия второй половины XIX века и знала о социализме, и много, довольно много, даже слишком много говорила о нем, этот факт ускользал от буржуазии. Ей борьба с самодержавием за свободу казалась самоцелью. Чем определялась эта самоцель? Естественно, человеку врождено чувство стремления к свободе. Что же тут говорить? Это — известный, если хотите, биологический корень исторического понимания буржуазии. Человек хочет освободиться. Что это стремление к свободе есть не что иное, как отраженное через десять зеркал стремление к самостоятельности вот этого самого мелкого производителя, о котором я говорил применительно к России, как о производителе сельскохозяйственном, как о крестьянине, но таким мелким производителем в области обрабатывающей промышленности будет и ремесленник, — что стремление к самостоятельности мелкого производителя, которого душит крупный собственник в деревне, крупный капитал в городе, что оно лежало в основе этого благородного стремления к свободе, — с этим, конечно, буржуазия и от ее имени говорившая интеллигенция не соглашались. Не так просто это, говорили они. Их объяснение казалось им более сложным, более научным. И вот, на этой почве творится настоящая легенда истории русской революции. Происходит борьба, борьба людей, сознавших, что такое свобода, и стремящихся к свободе, с тем, кто их угнетает, кто у них свободу отнимает, значит, с самодержавием прежде всего. Так как свобода в то время отсутствовала не только для буржуазии и буржуазной интеллигенции в политической плоскости, но и для крестьян в гражданской плоскости (крестьянин был крепостной), то совершенно естественно было связать самодержавие, политическую верхушку, с крепостничеством, с крепостным правом. Отсюда термин, который вы у меня и вообще в нашей литературе встретите, — крепостническое государство. Это тот зверь, с которым боролись люди, стремившиеся к свободе, — этим зверем было крепостное право, увенчанное самодержавием. В середине XIX века борцы за свободу сломили часть этого чудовища, ноги ему, так сказать, перешибли, добились освобождения крестьян 19 февраля 1861 года, а затем постарались ударом в голову окончательно добить чудовище. Этому посвящена вторая половина XIX и начало XX века. Наконец, самодержавие было низвергнуто в феврале 1917 года. Буржуазия и в особенности говорившая от ее лица интеллигенция, надеявшиеся вступить в царство божье свободы, налетели со всего маху на пролетарскую диктатуру. Это до такой степени не входило во все их расчеты, до такой степени было странно, нелепо и дико для них, что они взвыли, как вы знаете, возопили, отреклись от этой революции, заявили, что она «не настоящая». И только теперь соглашаются признать, как я сказал, некоторые ее результаты: переход земли в руки крестьян и гражданское равенство. Дальше этого они не идут. Что касается свободы, то тут они впали в столь глубокое отчаяние, в столь глубокий, по немецкому выражению, «катцен’яммер», что готовы примириться даже на режиме Александра III. Один из них написал, что самое лучшее, чего можно ожидать, — это восстановления режима Александра III.
Но оставим их с их мудрствованиями. Этот эпизод 1917 года, тогда интеллигенция, стремившаяся к свободе, вдруг попала в пролетарскую диктатуру, этот эпизод — очень жестокий эпизод не только для самой интеллигенции, но и для той исторической концепции, о которой я говорил. Боролись за свободу десятилетиями, а в конце концов — вовсе не та свобода, о которой они мечтали, а нечто другое. Но для всякого беспристрастного историка в свете событий 1917 года начинают очень отчетливо виднеться те белые нитки, которыми сшита была вся эта концепция. В самом деле, царь есть царь помещиков, коронованная верхушка крепостнического государства, которая только при крепостном праве и возможна. Чем же буржуазные историки объясняют тот факт, что царь не всегда действовал в пользу помещиков? Ведь все-таки царь освободил крестьян: как ни изображали это событие как уступку, вырванную у царизма благородными борцами за свободу, борцы как-то очень мало обнаружили себя именно в это время, и пришлось построить довольно искусственную теорию государственных и экономических соображений, которые вынудили царизм в 1861 году пойти на эту уступку. Это сделано было для того, говорили, что государству нужно было построить сеть железных дорог в России. Почему, однако, государство не могло построить эту сеть железных дорог при крепостном праве? Есть другой подход: говорят, нужно было освободить крестьян потому, что Крымская война, поражение, нанесенное России итальянцами, французами и англичанами, показала, как слаба крепостная Россия, — нужно было усилить Россию в ее международной борьбе.
Такого рода объяснениями, более или менее искусственными, старались объяснить этот факт, не замечая самого главного, — например того, что весь XIX век самодержавие держалось так называемой покровительственной системы, упорно облагало высокими пошлинами заграничные товары. Выгодно это было для помещика или нет? Крайне невыгодно. Помещику приходилось за все, чем он пользовался, — а он и его семья привыкли одеваться в заграничные сукна и шелка, носить заграничное белье, покупать заграничную мебель и т. д., — за все это платить втридорога, потому что на границе высокие пошлины. И помещики постоянно против этого вопили. В первые десятилетия XIX века помещики все время протестовали против этой покровительственной системы. Однако на всем протяжении XIX века, за исключением короткого промежутка с конца 50-х до конца 70-х годов, — т.е. как раз того периода, когда помещик получил, по-видимому, смертельный удар, ибо у него был отнят крепостной мужик, ликвидировано крепостное право, — пошлины остаются высокими.
Приходилось придумывать какие-нибудь искусственные объяснения, — приходилось, но нельзя было ничего придумать. Индивидуалистическое объяснение русской истории XIX века как борьбы за свободу против самодержавия и самое объяснение самодержавия просто как верхушки крепостнического государства и больше ничего, — это объяснение недостаточно глубоко, оно оставляет нас в недоумении перед целым рядом вопросов, на которые, однако, нужно же как-нибудь отвечать. И повторяю, нужно некоторое усилие фантазии, чтобы представить себе, что в образе этой борьбы за свободу против самодержавия, в сущности, шла ожесточенная борьба двух форм капитализма, борьба торгового капитала с промышленным капиталом, борьба происходившая всюду. Это явление мировое, а вовсе не специально русское. Французская революция была одним из эпизодов этой борьбы, германская революция 1848 года была одним из эпизодов этой борьбы. И только в Англии эта борьба не принимала такого острого характера благодаря тому, что там промышленный и торговый капиталы необыкновенно счастливо для них размежевались, — торговый переместился в колонии и там до наших дней держался той системы, которая ему свойственна, а промышленный капитал оставался в Англии и там господствовал, — благодаря этому разделению труда, лишь изредка разражались там более или менее острые конфликты. Одним из таких конфликтов была американская революция XVIII века, а другой развивается на наших глазах. Если исключить эти конфликты, в общем и целом в Англии и промышленный и торговый капитализм уживались мирно на всем протяжении, но это только английское своеобразие, как и многие другие английские своеобразия. На континенте эти столкновения были почти во всех странах, а наиболее острыми они были в России, потому что оба капитализма, и торговый и промышленный, явились в Россию очень поздно и спешили догнать своих западно-европейских родоначальников и прототипов, и в этой спешке они топтали друг друга, мяли друг друга, сталкивались друг с другом более бесцеремонно, чем в Западной Европе.
Те из вас, кто читал «Русскую историю в сжатом очерке», те, конечно, помнят эту историю борьбы промышленного и торгового капитала на русской почве, потому что она у меня является тоже стержнем, — употребляя недавно очень ходкое, теперь выходящее из моды выражение, — стержнем русской истории. Мне поэтому не приходится много говорить относительно этого. Я нарисую картину только в самых общих чертах. Торговый капитал, эксплоатирующий самостоятельного мелкого производителя, не вмешивающийся в производство и не создающий производства, не организующий его, оперирует при помощи внеэкономического принуждения. Его особенностью, его наиболее типичным созданием, которое на русской почве не развивалось и не расцвело, является, плантация, плантация, скажем, южных штатов Северной Америки; хлопчатобумажные или табачные плантации с неграми-невольниками, которые представляют собой часть живого инвентаря этих предприятий. Эта плантация представляет собой типичное произведение торгового капитала. Плантация есть явление капиталистического хозяйства, не феодального. Это нечто искусственно созданное капитализмом, но это есть нечто до такой степени противоположное промышленному капитализму и фабрике, на которой работает свободный пролетарий, настолько противоположное, как только можно себе представить.
У нас, в России, некоторые побеги плантационного хозяйства мы встречаем в конце XVIII и в начале XIX века. Некоторые наши помещики переводили своих крестьян на так называемую месячину, т.е. давали им ежемесячно известное количество хлеба, обыкновенно весьма малое, отбирали у них всю землю и ликвидировали всякое крестьянское хозяйство. Тогда помещик превращался в некоторое подобие владельца плантации, а крепостной крестьянин превращался в некоторое подобие негра. Это отразилось и в русской литературе, во-первых, эпизодами, описывавшими, как расправлялись крестьяне, доведенные до отчаяния, с таким помещиком (первый эпизод такого рода мы встречаем в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева), во-вторых, своеобразными названиями и именами, встречающимися в русской литературе, как, например, генерал «Негров» герценовского романа «Кто виноват?». Это — любопытные черточки, штрихи, намечающие этот процесс, но самый процесс в России едва наметился. Плантация для России всегда оставалась известной предельной возможностью, к которой тяготело помещичье хозяйство, и которой оно никогда не достигало. Фактически довольствовались тем, что переводили крестьянина на продовольственное хозяйство, о котором в вам уже говорил, и превращали его в батрака с наделом, — сначала не в батрака, а в крепостного с наделом, и лишь позднее уже в батрака. Тем не менее и для этой операции приходилось оказывать на крестьян колоссальное давление внеэкономического характера. И вот, торговый капитал, чтобы иметь возможность отнять у мелкого самостоятельного производителя надельную землю, а прибавочный продукт его труда заполучить в свои руки, вынужден был создать эту громадную машину полицейского бюрократического государства, увенчанную Мономаховой шапкой. В Мономаховой шапке ходил по русской земле именно торговый капитал, для которого помещики и дворянство были только агентами, были его аппаратом. Вот чем и объясняется иногда бесцеремонное отношение «хозяина русской земли» к русскому дворянству, — хотя этот хозяин и напоминал последнему подчас, что он тоже дворянин и тоже помещик, но это был больше комплимент. На самом деле он был воплощением силы, гораздо более могущественной и общей, нежели собственность помещичья, потому он и смотрел на эту последнюю сверху вниз и обращался со своим аппаратом так же бесцеремонно, как мы обращаемся со своим советским аппаратом: производим всякое сокращение штатов, переброски и всякие другие вещи. Так же самодержавие обращалось с помещиками, с дворянством, поскольку это был его аппарат. Нужно было торговому капиталу, — и при Петре помещика гнали на войну и держали под ружьем в течение 20 лет подряд, не давая ему вернуться домой. Нужно было торговому капиталу — и он вводил огромные ввозные пошлины, опустошавшие карман помещика. Нужно было капитализму, уже не только торговому, а вообще капитализму, освободить крестьян, — освобождали крестьян, хотя помещики кряхтели, и, несомненно, не все помещики при этом выигрывали.
Если мы, став на эту точку зрения, будем рассматривать самодержавие как политически организованный торговый капитализм, мы поймем всю трагедию истории революционного движения. Промышленный капитал, который развивался из торгового капитала стихийно и неизбежно, — как превращается торговый капитал в промышленный, это вы знаете из Маркса и из ваших лекций по политической экономии, мне нечего об этом говорить, — этот стихийно, с железной необходимостью вырастающий промышленный капитал требовал совершенно других условий. Поскольку промышленный капитал организует производство, ему не нужно внеэкономическое принуждение. Будучи хозяином самого процесса производства, он не нуждается во всякого рода искусственных подпорках, чтобы мобилизовать массы закабаленных им людей. Он, как я выразился в одном месте своего учебника, действует на закабаленных людей не через спину, как действовал торговый капитал, а через желудок. Способ действия более тонкий, если хотите, но во всяком случае столь же физиологический.
И вот то, что внеэкономическое принуждение не нужно для промышленного капитала, делало его великим, смертельным врагом самодержавия не только в России, но и во всех странах. История — вещь очень жестокая. Все, что не нужно в историческом процессе, сейчас же становится вредным и нетерпимым, и должно быть выброшено. Это русское самодержавие испытало, можно сказать, на себе лично. Ведь чем, в сущности говоря, объективно рассуждая, Николай II был хуже иных своих предшественников? Несомненно, что как человек он был менее сумасброден, чем Павел, менее жесток, чем Николай I, — во всяком случае, не хуже их. Тем не менее, однако, Павла I постигла неприятность, но самодержавие от этого не пало, а Николая I никакая неприятность не постигала в течение 30 лет, а если в конце концов он отравился, то по условиям внешней политики, а не внутренней: и не подданные его отравили, а он сам себя отравил, потерпев поражение во внешней войне. Так что Николай II был не хуже своих предшественников, но тем не менее история жестоко обошлась с ним именно, а не с его предшественниками, потому что Николай I и Павел I были, очевидно, зачем-тo этой истории нужны, потому что во время господства торгового капитала, во время его расцвета капитализм нуждался в этой коронованной верхушке, а в начале XX века она ему не нужна была совершенно, а поскольку она не нужна, постольку ее история совершенно безжалостно, как из машины винт негодный, вышвырнула вон. Система промышленного капитализма, система промышленно-капиталистического государства не нуждалась во внеэкономическом принуждении, но зато, она нуждается в другой вещи, которой крепостное право самым решительным образом мешало. Эта другая вещь — свободный, открепленный от земли рабочий, рабочий текучий, постоянно передвигающийся по стране, представляющий собой постоянно мобилизованную резервную армию труда. Здесь поперек дороги промышленного капитализма стояло крепостное право, и вот почему в первую половину XIX века промышленный капитализм бьет главным образом по этой линии — против крепостного права. В 1861 году он тут пробивает брешь. Крепостное право ликвидировано в тех размерах, как это минимально нужно было промышленному капитализму. Он получил резервную армию труда и получил возможность таким образом дальнейшего развития.
В начале XX века оказалась ненужной промышленному капитализму и политическая организация торгового капитала. Она стала для него крайне стеснительной: он восстал против нее; и, опираясь на начавшуюся рабочую революцию, он ликвидирует самодержавие с 1905 по 1917 год, но что, ликвидируя самодержавие при помощи рабочей революции, он в то же время предпринимает ликвидацию самого себя, — этого русскому промышленному капиталу в голову не пришло. Вообще правильно сказал какой-то старый мудрец (не могу привести его фамилии), что если бы люди точно знали свое будущее, то это, вероятно, лишило бы их всяких побуждений к действию. Только потому, что это будущее для них закрыто, они имеют возможность активно действовать. Поэтому совершенно естественно, что промышленный капитализм, пролагая дорогу, в сущности, социализму, не только у нас, но и во всех странах, не подозревал, - для кого он работает и чье дело он делает.
Вот если мы с этой точки зрения подойдем к революционной борьбе XIX века, тут перед нами все те проблемы, которые стояли перед нашими буржуазными предшественниками, моментально исчезнут и разрешатся сами собой. В самом деле, почему были освобождены крестьяне в 1861 году? Потому, что это понадобилось промышленному капитализму в связи с постройкой железных дорог и т. д.; потому, что как раз постройка железных дорог в России была самым крупным толчком к развитию промышленного капитализма, какой Россия получала в течение всего XIX века.
Русская металлургия выросла именно благодаря созданию русской железнодорожной сети, а металлургия, тяжелая индустрия, есть база всей промышленности. Эта база создалась у нас именно в то время в связи с постройкой железных дорог, но связь была, конечно, не такая, которую представлял например Струве. Для него постройка железных дорог была фактом государственной необходимости, — государству нужно было создать железнодорожную сеть; на самом деле это нужно было для дальнейшего развития капитализма. Постройка железнодорожной сети — это был компромисс между торговым капиталом, который делал уступку, ликвидируя крепостное право, и промышленным капиталом. Два капитала между собою столковались. Хорошо, говорил торговый капитал, я тебе дам свободного рабочего в тех размерах, в которых он тебе нужен, я ликвидирую крепостное право, но зато я так начну качать хлеб из оставшихся в моем распоряжении мелких производителей, как раньше никому качать не удавалось. Прекрасно, говорил промышленный капитал, мы тебе железнодорожную сеть построим: это такая помпа, такой насос, которого ты раньше никогда не имел. Что у тебя раньше было? Были реки да каналы, мужичок возил на телегах возил хлеб, а теперь поезда будут катать по всей России, и хлеб будет вывозиться в колоссальных размерах, в миллионах пудов будет извлекаться из амбаров крестьян.
Просто, чтобы у вас в памяти осталось нечто конкретное, позвольте вам привести цифры: в 1850 г., за 10 лет до реформы, из России вывозили 376 тысяч тонн пшеницы, а в 1870 году, через 10 лет после реформы, — 1 573 тысячи тонн. Ржи в 1850 году вывозили 900 тысяч тонн, а в 1870 году — 442 тысячи тонн.
Вывоз хлеба благодаря постройке железнодорожной сети колоссально увеличился. Мы с вами увидим в дальнейшем, насколько от этого выигрывал помещик. Вы увидите, что он выигрывал не везде, и выигрывал условно. Но что торговый капитал выигрывал от этого, — это нетрудно понять. Уже если оборот у него увеличился в 5, 6, 10 раз, то, конечно, и барыш увеличился в 5, 6, 10 раз, и торговый капитал, в лице Колупаевых, Разуваевых, увековеченных Щедриным, так расцвел на русской почве, как никогда до тех пор. Промышленный капитал, создавший торговому капиталу возможность качать прибавочный продукт так, как он раньше никогда не качал, сам зато получил свободного рабочего, — история совершенно понятная и простая. Помещик в своей дворянской шинели и в фуражке с красным околышем топтался на одном месте, бил себя в грудь и заявлял свои права благородного сословия, а деловые люди, купцы, крепко становились на ноги, кланялись ему в пояс, а про себя думали: «а и дурак же ты, батюшка барин».
С этой точки зрения становится нам понятна: и та первая революция, к изображению которой я сейчас перехожу, именно революция декабристов. Я имею возможность нарисовать ее только в самых общих чертах. Излагать подробно историю этого заговора я не стану. Во-первых, в минимальных размерах она мной изложена даже в «Сжатом очерке», а в более обширных размерах вы найдете ее в моем «четырехтомнике». Я опять в порядке напоминания скажу только два слова в общей схеме.
В первую четверть XIX века, тотчас после того, как Россия вышла из наполеоновских войн, на русской почве начинают возникать одно за другим тайные общества: сначала общество «Русских рыцарей» в 1814 году, затем «Союз спасения» в 1817 году, «Союз благоденствия» в 1818 году и, наконец, то, что называется «Тайные общества декабристов», настоящий заговор, — около 1821 года. Эти тайные общества выступили в момент кризиса, чисто личного кризиса власти наверху, когда царь Александр I внезапно умер 19 ноября 1825 года, умер за тридевять земель от столицы, в Таганроге, на берегу Азовского моря, и когда у России не оказалось царя, потому что Константин, следующий за ним брат (детей у Александра не было), как оказалось, давно отрекся от престола, о чем никто не знал, а следующего брата, Николая Павловича, вследствие того, что не знали об отречении Константина, не хотели признать царем. Эта заваруха наверху дала повод к выступлению давно зревшего в тайных обществах заговора. Восстание произошло в Петербурге[1-1] 14 декабря ст. ст. 1825 года, затем произошло восстание на юге в конце декабря. Однако восстание было разгромлено, члены тайного общества арестованы, преданы суду, лидеры заговора были повешены, остальные были сосланы на каторгу, и началась длинная эпопея декабристов. Первое в России выступление борцов за свободу против самодержавия, первая легенда, которая затем идет через весь XIX век, вдохновляя следующих борцов. Субъективного психологического значения этой легенды я нисколько не думаю оспаривать: оно было колоссально, и действительно она вдохновляла последующих борцов.
Но какие были объективные корни всей этой истории? Тут нам приходится с этих высот — высот, как вы видите, весьма относительных — спуститься довольно глубоко к факту чрезвычайно тривиальному. Этим тривиальным фактом, который лежит в основе первой сознательной революции против самодержавия, какая была в России, первой попытки низвергнуть самодержавие, — этим тривиальным фактом был русский хлебный вывоз. В XVIII веке, в связи с известным вам промышленным переворотом в Англии, с которого, если не ошибаюсь, начался ваш курс истории Запада, Англия стала поглощать большое количество ввозного хлеба, и главным поставщиком хлеба на английский рынок являлась Россия. Промышленный переворот в Англии явился, таким образом, исходной точкой своеобразного переворота в русском помещичьем имении. Оно начало превращаться в фабрику для производства хлеба. Этот перелом уже наметился в конце XVIII века, но с особенной силой дал себя почувствовать тотчас после наполеоновских войн, значит, в середине второго десятилетия XIX века.
Вывоз пшеницы, — и то же самое с рожью и со всеми другими хлебами, — рос с катастрофической быстротой. Он в пять раз вырос на протяжении 4 лет[1-2]. Вы чувствуете, что это выкачивание хлеба из России должно было произвести настоящее революционное действие. Это же была настоящая революция, когда помещичье имение сразу в пять раз должно было производить больше хлеба для экспорта на мировой рынок, нежели оно производило перед этим. И как раз в эти самые годы начинают расти, как грибы, тайные общества, два факта, которые нельзя не сблизить между собой.
Какую цель ставят себе эти тайные общества? Несомненно, что если мы попробуем начертать равнодействующую всех декабристских обществ (я называю их декабристскими просто в ретроспективном порядке, потому что закончилось движение восстанием 14 декабря 1825 года), если, я повторяю, мы попробуем провести равнодействующую всех этих тайных обществ, то этой равнодействующей будет ликвидация крепостного права. Недаром это была центральная идея как самой сильной головы Северного общества (петербургского) Николая Ивановича Тургенева, для которого ликвидация крепостного права была стержнем всей его литературной и политической деятельности, так и Южного общества — полковника Пестеля, мысли которого также вертелись около аграрного переворота и около крестьянского вопроса. Спрашивается: что вынудило помещиков в это время поставить вопрос о ликвидации крепостного права? Да тот факт, хорошо, конечно, вам известный опять-таки из общего курса политической экономии, что крепостной труд является одной из наиболее экстенсивных форм приложения труда вообще. Крепостное хозяйство есть чрезвычайно экстенсивное хозяйство. Труд крепостной — труд чрезвычайно непроизводительный. Тут уж позвольте мне не приводить цифровых данных, а просто сослаться на выдержку из статьи Заблоцкого-Десятовского, которая имеется в хрестоматии Коваленского. Крепостной труд был чрезвычайно мало производителен. Это отчетливо было сознано еще в XVIII веке, и если придерживались до сих пор его, то только потому, что, будучи чрезвычайно мало производительной формой труда, это была в то же самое время самая дешевая форма труда. Поскольку крепостному мужику за его барщинную работу ничего не платили, постольку он, конечно, был самым дешевым работником, ибо всякому другому приходилось что-нибудь платить. И вот, пока вывоз хлеба из России рос сравнительно медленно, и пока цены на хлеб поднимались тоже сравнительно медленно, до тех пор помещик мог, приспособляя к условиям рыночного хозяйства свое имение, довольствоваться малопроизводительным барщинным трудом.
Но как раз на эти годы, о которых я говорю, падает бурный подъем хлебных цен. Во второй половине XVIII века хлеб стоил на лондонском рынке в среднем около 50 шиллингов за квартер (приблизительно 12 пудов), в первое десятилетие XIX века он стоил уже 74 шиллинга за квартер, и в следующее десятилетие цена поднялась почти до 90 шиллингов за квартер. В течение этих десяти лет цены на хлеб росли необыкновенно бурно. Они росли так же революционно, как рос вывоз хлеба из России. И вот это неожиданное увеличение хлебных цен, в связи с необходимостью выкидывать на рынок все большее и большее количество продукта, и поставило помещика перед задачей, которая им плохо сознавалась даже еще в 1809 году. В 1809 году в трудах «Вольного экономического общества» вы встретите еще панегирики барщинному хозяйству, т.е. эксплоатации крепостного труда в его старом виде. А уже в течение второй половины второго десятилетия, т.е. через 7 — 8 лет, вопрос об освобождении крестьян становится так остро, что проникает в художественную литературу. Знаменитое пушкинское стихотворение «Деревня», направленное против крепостного права, стяжало Пушкину благосклонный отзыв императора Александра I. Это происходило около 1819 года. На протяжении 10 лет произошел крутой поворот. Любимец и временщик Александра I, Аракчеев, составляет проект освобождения крестьян. До такой степени конъюнктура переломилась. Подкладка для вас совершенно ясна. Нужно было интенсифицировать труд крестьян в имении. Как это сделать? Это был коренной вопрос, повторяю, около которого все вертелось.
Помещики начинают находить, что крестьянин ужасно ленив, что крестьянин очень мало работает, и, между прочим, это находит декабрист Якушкин. Он находит, что крестьянин чрезвычайно мало работает; необходимо что-то такое сделать, чтобы побудить его к труду. Вот что рассказывает Якушкин о своих наблюдениях, когда он приехал в смоленское имение, где у него плохо шло хозяйство: «С этими средствами они (крестьяне), конечно, не ходили по миру, но нельзя было надеяться этими средствами, т.е. старыми приемами хозяйства, улучшить их состояние. Тем более, что, привыкнув терпеть нужду и не имея надежды когда-нибудь с ней расстаться, они говорили, что всей работы никогда не переработаешь, и потому трудились и на себя и на барина, никогда не напрягая сил своих. Надо было придумать способ пробудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться». Это слова Якушкина, одного из видных членов тайного общества и, нужно сказать, одного из самых благородных декабристов. Якушкин был одним из немногих, которые с большим достоинством держали себя на допросах перед Николаем I и, несмотря на то, что Николай I подверг его форменным пыткам (ему заковали руки и ноги в кандалы и держали в таком виде целые месяцы), он все-таки остался при своем, и его ответы, которые записаны в следственном деле, необыкновенно благородны. Он держался гораздо лучше, чем, например, Рылеев, без всякого сравнения лучше, хотя Рылеев — это был поэт декабристов, их певец, одна из поэтических фигур, как вы увидите в следующий раз, Рылеев держался куда хуже на допросе, чем Якушкин. Якушкин показал себя настоящим революционером. И вы видите, что этот настоящий революционер открыто говорит, что его заставило хлопотать о крестьянской реформе. Он прямо говорит: поставить их (крестьян) в «необходимость прилежно трудиться». Он в своих записках был таким же искренним и правдивым человеком, как на допросе. Он не скрывал своих аргументов.
И вот Якушкин придумал систему, чрезвычайно простую, и которая, как мы увидим из других цитат, приходила в голову не одному Якушкину, а и целому ряду других тогдашних помещиков. Как заставить крестьян прилежно трудиться? Да очень просто. Дать им свободу, отобрав у них всю землю. Тогда, поставленные в необходимость добывать себе хлеб трудом рук своих, они будут или арендовать свою землю, и тогда они будут стараться выработать арендную плату и работать больше, чем работали до сих пор, или они в качестве батраков будут применяться на этой земле. Это идея настолько общая, что она пришла в голову не только Якушкину, но и другим помещикам Смоленской губернии. «Как можно согласить выгоды помещика со свободой крестьянина? Мне кажется, очень легко. Вот как бы я предлагал. Я уступил бы поселянам дворы их с землей под поселение и с общим выгоном, оставив у себя всю прочую землю, т.е. всю пахоту. Остальную же оставшуюся от крестьян землю, отдавать крестьянам на стороне», — писал один такой помещик. И нужно прибавить что такая крестьянская реформа и была проведена в этом самом году, в 1819, наиболее передовыми помещиками в России, помещиками Остзейского края, Лифляндской и Эстляндской губерний, остзейскими баронами, которые во многом показывали путь своим более отсталым русским собратьям. Они ввели, например, в обиход крепостного имения розгу. Раньше били палками, это было вредно для здоровья и не столь действительно, — розга оказалась более действительным средством и оказывала свое действие, как доказывали тогдашние гигиенисты, не вредя здоровью. Они показали путь винокурения, — первые винокуренные заводы завелись в остзейских губерниях. Они показали путь и тут, освободив своих крестьян без земли и подготовив в будущем великолепнейшую латышскую социал-демократию, так что в конце концев, может быть, марксисты и выиграли от их способа освобождения крестьян. Но когда Якушкин предложил этот способ, то не пролетариат и не марксисты, а сами крестьяне ответили ему классической фразой. Они его спросили, как бы не поняв: «А земля-то, батюшка, чья же будет?»— «Земля, конечно, моя, а вы вольны ее арендовать». На это последовал классический ответ: «Ну, так, батюшка, оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша». Когда крестьянам сказали, что земли у них никакой не будет, они заявили: «Нет, на это мы не согласны». И когда Якушкин со своим проектом отправился к тогдашнему министру внутренних дел Кочубею, то Кочубей, очень умный и тонкий старик, дал ответ, что, конечно, рефорту произвести можно, но это вызовет такой бунт, от которого не поздоровится ни Кочубею, ни Якушкину. Поэтому лучше этот план интенсификации крестьянского труда оставить и перейти к другому. В следующий раз, когда мы будем разбирать подробно проекты декабристов, мы увидим, что декабристы с этим посчитались, что они все-таки оставляли крестьянам мелкое, чистопродовольственное хозяйство.
Лекция вторая
Тов. М. С. Ольминский и юбилей декабристов. Исчерпывается ли «декабризм» тем, что происходило 14 декабря 1825 г.. Южные группы декабристов; «Соединенные славяне», их демократизм, их атеизм, их значение в вооруженном восстании. Пестель и национализация земли. Пестель и капитализм. Пестель и дворянство. Интересы какого класса представлял Пестель. Его политическая программа. Северное общество; его программа; конституция Муравьева. Его тактика; план Трубецкого. Манифестация 14 декабря и народная масса; действительный смысл 14 декабря.
Тов. Ольминский в своей статье, которую вы, вероятно, читали[2-1], так ставит дело: собираются, — говорит он, — праздновать 100-летний юбилей декабристов, собираются ставить им памятник и т. д. За что? Кто такие были декабристы? Это были, говорит он, помещики, которые обманом увлекли солдат на Сенатскую площадь и постыдно бросили их, когда царь начал этих солдат расстреливать. Это были представители чисто помещичьих интересов, которые заботились только о помещичьей выгоде. В доказательство он приводит одну, как вы сейчас увидите, довольно загадочную цитату из «Русской Правды» Пестеля. И вот, задает вопрос т. Ольминский, что же мы будем праздновать в декабре 1925 года: 20-летие нашей первой пролетарской революции или же столетие обмана помещиками солдат?
Что касается празднования того или другого юбилея, то я тут, если хотите, согласен с т. Ольминским, что вообще нам юбилеев праздновать не следует. Юбилей это есть буржуазный обычай, состоит он в том, что подгоняют те или другие торжества к известным срокам, прежде всего срокам человеческой жизни, индивидуальной жизни. Поэтому юбилей есть вещь чрезвычайно индивидуалистическая. Мы должны вспоминать нашу первую пролетарскую революцию каждый декабрь, независимо от того, 20-й это декабрь, 18-й или 23-й, — каждый раз не мешает ее вспоминать, посвящать ей статьи, говорить о ней, устраивать по этому поводу вечера воспоминаний и т. д. Все это будет очень хорошо. По поводу декабристов никто не предлагает их вспоминать каждый декабрь, но отметить их 100-летнюю годовщину все-таки следует. Почему следует,. — это я скажу в заключение, а пока должен сказать, что декабристы, вопреки мнению т. Ольминского, отнюдь не все были помещиками, обманно увлекшими солдат на Сенатскую площадь, а были в своей известной части, в той части, которая на Сенатской площади почти не была представлена, но в стране была представлена довольно хорошо, настоящими революционерами, и на одном, по крайней мере, своем крыле революционерами-демократами. Они не были только одним: они не были социалистами и не были революционерами-пролетариями. Это совершенно верно, но никакого пролетариата в России вообще в то время не было и не могло быть, поскольку существовало крепостное право, и совершенно ясно, что требовать от декабристов, чтобы они, кроме того, были еще и пролетарской партией, — это все равно совершенно, что требовать, чтобы яблоки на яблонях поспевали в мае, когда яблоки поспевают только к августу или сентябрю. В этом декабристы неповинны, а во всем прочем они, как увидите, дошли до такой крайней грани революционности, которая возможна для непролетарских классов, которая возможна для буржуазии крупной и мелкой; аграрная же программа декабристов, как вы увидите и как я говорил в прошлый раз, является стержнем, проходящим через всю историю нашего революционного движения, вплоть до 1917 г., когда был опубликован декрет Совета Народных Комиссаров о земле; мы все идем от аграрной программы Пестеля, как я постараюсь сегодня показать. Правда, это зародыш, но с чего-нибудь все зачинается, и нам любопытно проследить нашу собственную революцию до этих первых ее зародышей.
Прежде всего: не только декабристское выступление не исчерпывается тем, что происходило на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года, но самое серьезное происходило не там. Если к Петербургу были прикованы все взоры, и до сих пор остаются прикованными взгляды историков, то это потому, что в Петербурге решалась судьба всего движения, она решалась там несомненно. Но ведь т. Ольминский подходит с субъективной стороны, с той точки зрения, что декабристы, это были помещики, обманувшие солдат. Подходя с субъективной стороны, приходится расценивать декабристов по этой субъективной линии, значит по яркости их программ и по решительности их выступления. И вот, самые яркие программы и самые решительные выступления мы встречаем не в Петербурге, а далеко от Петербурга, на территории нынешней Киевской, Волынской, Подольской губерний, где были сосредоточены тогда главные силы русской армии, — там мы встречаем самую левую декабристскую организацию, так называемое «Общество соединенных славян». Это «Общество соединенных славян» состояло из совершенных голышей, из бедных, нищих армейских офицеров, по преимуществу артиллерийских офицеров, которые и тогда были наиболее интеллигентной частью офицерства, и программа их не имела, конечно, ничего общего с интересами помещиков как таковых. Самое название «соединенных славян» показывает, что эти люди собирались производить революцию не в национально-русском, а в общеславянском масштабе. Вам приходилось слыхать о славянофилах, о легальном помещичьем литературном течении 40-х, 50-х годов XIX века, и полезно вспоминать, что как у наших легальных народников 90-х годов, с которыми боролись Плеханов и Ленин, были революционные предшественники, в лице народников 70-х годов, так и у легальных славянофилов были революционные предшественники в лице этого «Общества соединенных славян». «Общество соединенных славян» ставило своею задачей объединить в одну федеративную республику все славянские племена и образовать громадное свободное славянское государство, которое упиралось бы одним углом в Адриатическое море, другим — в Балтийское, третьим — в Белое и четвертым — в Черное море. Вот какие громадные размеры проектировали они для этой федерации. Это была так сказать, теоретическая часть их программы. Для осуществления этой теоретической программы, как вы догадываетесь, им не удалось сделать ни шагу, потому что первое, что нужно было сделать для образования такой славянской федерации, это овладеть государственной властью хотя бы в России, а так как декабристам этого не удалось сделать, то тем самым рушился весь план. В. более практическом отношении эти «соединенные славяне» любопытны тем, что только у них одних, поскольку я знаю, мы встречаем в словоупотреблении термин «демократия». Другие говорили о республике, о народоправстве, о чем угодно, даже у Пестеля я не помню термина «демократия», а у «соединенных славян» он есть: они — демократы. Другая любопытная черта в области мировоззрения, — они были очень свободными мыслителями, доходившими в лице некоторых до атеизма, последовательного и решительного. Буржуазная литература, конечно, находит этому индивидуалистическое объяснение в том, что основатель «Общества соединенных славян» Борисов долго стоял со своей батареей в имении одного польского помещика, где была богатая французская библиотека, и там перечитал всех французских атеистов и материалистов XVIII века. Как вы догадываетесь, нам гораздо интереснее это соединение, — соединение демократизма и атеизма, — нежели тот случайный факт, что Борисов имел случай прочесть Дидро, Гельвеция, Гольбаха и других.
Как раз эти «соединенные славяне» и являются инициаторами, зачинщиками единственного решительного выступления, связанного с заговорами декабристов, именно восстания Черниговского полка в конце декабря 1825 года. Вопреки распространенному мнению о том, что центр военных действий декабристов был в Петербурге, как вы сейчас увидите, на самом деле единственным настоящим вооруженным восстанием, и притом восстанием, окруженным ореолом трагического величия, где люди шли прямо на гибель, эпизодом, оправдывающим известную характеристику Плеханова, что декабристы были людьми, решившимися пожертвовать собой, чтобы показать дорогу грядущим поколениям, — единственными эпизодом такого рода является восстание Черниговского полка. Во-первых, это было вооруженное восстание. Люди шли с заряженными ружьями для того, чтобы стрелять, для того, чтобы драться. Во-вторых, это было восстание без всяких шансов на успех, потому что поднимался один полк против целой армии, и не было никаких разумных, как говорится на обывательском жаргоне, оснований ожидать, что армия примкнет к нему. Армия и не примкнула к нему, и кавалерия генерала Гейсмара без большого труда подавила это восстание прежде всего потому, что у Гейсмара были пушки, а у черниговцев пушек не было. И недаром целый ряд выступавших в этом восстании офицеров — Кузьмин, Ипполит Муравьев-Апостол — покончили с собой тут же, на поле битвы. Это был действительно самый трагический момент декабристского восстания, и этот трагический момент был подготовлен, был возможен только благодаря «соединенным славянам». Связь с солдатами имели только они, пропаганду среди солдат вели только они, правда, при содействии солдат прежнего Семеновского полка, раскассированного после восстания 1820 года; но так или иначе они были той связью, тем, выражаясь по-теперешнему, аппаратом, который связывал вождей Южного общества с солдатской массой, и без них, как это констатируют и ближайшие к «славянам» участники Южного общества, без них само выступление было бы невозможно.
Таким образом крайняя левая группа декабристов, демократическая и атеистическая группа, в которой чрезвычайно трудно найти какие-нибудь помещичьи интересы, эта крайняя левая группа как раз была самой серьезной группой в том смысле, что она единственная устроила настоящее вооруженное восстание, и, конечно, эта группа характеристикой т. Ольминского не покрывается. Но пойдем дальше. «Соединенные славяне» мало известны. Чрезвычайно характерно, что буржуазно-либеральные историки декабристов их почти замалчивали. Вот почему стоит справлять этот 100-летний юбилей, потому что это дает повод кстати издать книжку об этих «соединенных славянах». В программу издания Центроархива, посвященного 100-летнему юбилею, как раз книжка о «соединенных славянах» и входит.
Но если мы пойдем к географически ближайшему от «соединенных славян» обществу декабристов, то мы тут встретим Южное общество во главе с Пестелем. Что это такое? У Пестеля из его «Русской Правды» т. Ольминский взял свою цитату о том, что крепостное право должно быть ликвидировано с соблюдением интересов помещиков, так, чтобы помещики не лишились своих доходов, как говорится в этом отрывке. Этим он иллюстрирует свою мысль, что интересы, вдохновлявшие декабристов, были узко-классовыми, помещичьими интересами. Прошлый раз я объяснил уже, какую роль играло помещичье хозяйство и его положение в начале XIX века в общественных движениях эпохи Александра I, так что я не буду отрицать, что тут в основе лежали помещичьи интересы, несомненно. Но опять-таки сводить Пестеля к человеку, который хлопотал только о том, чтобы освободить крестьян повыгоднее для помещиков, и для этого устраивал революцию, не приходится. Прежде всего, цитата эта (совершенно подлинная, спешу оговорить) стоит в резком контрасте со всем смыслом и духом того документа, откуда она взята, — «Русской Правды». Какая, основная мысль социальной и экономической программы Пестеля, изложенной в «Русской Правде»? Эта мысль ближе всего может быть охарактеризована как национализация земли. Пестель был один из немногих декабристов, которые понимали, что переворот может быть только тогда прочен, когда в нем будет заинтересована широкая народная масса, когда в нем будет заинтересовано крестьянство, и он предполагал заинтересовать крестьян таким образом. Все земли государства в момент революции, или тотчас после этого, собирались в один общий фонд; этот фонд затем делился пополам, и половина его шла в раздел между населением, но не в собственность, а только в пользование. Из этой половины каждый получал свой надел.
Если вы вспомните, что к 1825 году крестьянские наделы составляли только 1/3 всей площади пахотной земли (в XVIII веке они составляли 1/2, но вы помните, что помещики оттягали значительное количество земли у крестьян), то вы догадаетесь, что проект Пестеля заключал в себе крупную прирезку земли крестьянам. Эта половина земли поступала в распоряжение волостей, и волости распределяли ее между населением, так что каждый гражданин России, говорил Пестель, будет обладателем земли, и не будет ни одного человека в России, который не владел бы землей. Эта земля должна была служить, по мнению Пестеля, для произведения необходимого, т. е., другими словами, с этой земли получался необходимый продукт. Другая половина земли, оставшаяся в распоряжении государства, должна была служить для произведения «изобилия», т.е., другими словами, с этой второй половины должен был получаться прибавочный продукт; для того чтобы интенсифицировать получение этого прибавочного продукта, эти земли казна могла сдавать в аренду крупными участками и даже продавать в частные руки. Программа Пестеля не исключала таким образом образования в России буржуазного землевладения, при чем только оставался неясным вопрос: откуда же будут наши буржуазные землевладельцы доставать рабочие руки, поскольку все крестьяне будут наделены землей, притом в количестве, увеличенном по сравнению с тем, что у них было раньше? Что тогда может побудить этих крестьян работать на землях этих частных землевладельцев, в этих буржуазных имениях. Этот вопрос, — характерно для Пестеля, — оставался невыясненным, характерно потому, что, как вы знаете, или как узнаете потом, он оставался невыясненным и для всего народнического движения. В конце концов Пестель и его последователи должны были бы притти к положению о социализации земли, т.е. всей земли, а не только этой половины; деля национализированную фактически землю на две части, на землю волостную и на землю государственную, Пестель явно шел навстречу тем капиталистическим тенденциям русского землевладения начала XIX века, о которых я вам говорил в прошлый раз. Это был компромисс. Пестель не был отвлеченными теоретиком, как «соединенные славяне» с их планом славянской федерации между четырех морей. Пестель был практик.
Пестель, приспособляясь к тогдашним условиям, выдвинул эту программу деления земли на две части, не проводя национализации до конца. Но само собой разумеется, что даже эта полунационализация предполагала ликвидацию помещиков как класса. Иначе и представить себе нельзя. Если вы возьмете главу Пестеля о дворянстве (она имеется в «Хрестоматии» Коваленского[2-2]), то увидите, что Пестель чрезвычайно логически приходит к мысли о необходимости ликвидировать все сословия вообще, и дворянство в частности. А в том отрывке, который цитирует т. Ольминский, говорится о дворянских грамотных собраниях — явная невязка, которая, к сожалению, до сих пор объяснена еще не была, но ее довольно легко поймет всякий, кто видел подлинник «Русской Правды». Эта самая «Русская Правда» Пестеля, этот проект есть недоконченный черновик, — черновик, обрывающийся на полуслове, черновик, где написана одна строчка — вымарана, сверху другая строчка — вымарана, написана третья строчка — вымарана, сбоку написана четвертая строчка. Таким образом мы имеем, по крайней мере, три, а местами и четыре редакции. Какой из этих четырех редакций принадлежит этот отрывок? И это первый вопрос, с которым приходится подходить к Пестелю: к какой редакции его документа относится та или другая цитата, ибо редакций таких несколько, и когда мы их восстановим, тогда, вероятно, внутренняя связь получится. Но пока приходится констатировать наличие только двух фактов: с одной стороны, национализация, хотя и половинчатая, допускающая буржуазное землевладение, а с другой стороны, охрана интересов помещика. Соединить эти две вещи логически нельзя. И мы знаем из одного наброска Пестеля, не вошедшего в «Русскую Правду», что Пестель предполагал, — первый в России, — конфискацию латифундий. Он предполагал, правда, только крупнейшие имения, размерами более 5462 гектара (5000 десятин) отчуждать в пользу государства безвозмездно, т.е. конфисковать; за земли меньше этих размеров владельцы получали известное денежное вознаграждение. Это опять-таки противоречит той цитате, которую указал т. Ольминский, и которая предполагает помещиков сохранившимися.
Цитата, таким образом, сама по себе еще не доказывает, что нужно, то-есть, что Пестель был представителем помещичьих интересов. Представителем помещичьих интересов он не был, но то обстоятельство, что он сам был безземельный дворянин, — точнее говоря, «бескрестьянный» дворянин, ибо земля у него была, но не населенная, — это, конечно, для вас, как для хороших марксистов, не служит аргументом. Такими аргументами оперирует Рожков. Как вы знаете, он делит всех декабристов по размерам их земельных владений на известные группы. Деление в высокой степени странное, потому что то или другое положение человека в движении не определяется его личным достоянием. Иначе мы не поймем, как такой человек, как Энгельс, который был богатым человеком, был фабрикантом, в то же самое время был одним из основоположников революционного рабочего движения в Европе. Очевидно, этот подход не годится. Я потому его отмечаю, что в литературе вы можете встретить указания, что Пестель был безземельный дворянин, и из этого делаются выводы, но дело не в этом, а в том, что он отражал интересы какого-то другого класса, не дворянства.
И тут мы встречаем парадоксальный факт, который я уже отмечал в печати. Кто читал мою статью в «Молодой Гвардии», тот помнит, что этот бывший кавалергардский офицер, блестящий полковник, адъютант главнокомандующего Витгенштейна, был, несомненно, первым у нас выразителем в политике интересов мелкой буржуазии. Это — парадоксальный факт. Программа Пестеля, отчетливо мелкобуржуазная, конечно, она не пролетарская — об этом смешно и говорить, — но это отчетливо мелкобуржуазная программа. Прежде всего, типичнейший мелкий буржуа Сисмонди был учителем Пестеля в области политической экономии; Пестель был первым «нашим отечественным сисмондистом», за шестьдесят лет до тех, кому Ленин дал это имя. И эта мелкобуржуазность отражается на всех гранях его политической и социальной программы.
Во-первых, свирепая, можно сказать, ненависть Пестеля к капиталу, «аристокрации богатств» (декабристы, так как они думали про себя и говорили между собой больше по-французски, произносили «аристокраси», «демокраси» и т. д.). Аристокрация богатств для Пестеля — главный жупел, она гораздо хуже феодальной аристокрации в его глазах, и он воюет с ней с первых же страниц своей «Русской Правды». Главное для него, — чтобы не допустить этой «аристокрации богатств», чтобы установить в России совершенное равенство. В этом отношении Пестель — типичный якобинец, в этом стремлении к равенству. Его раздел земли, половины земли волостной на совершенно равные участки, — это как раз и есть типично якобинская черта. Во всех якобинских программах, — вы знаете их, потому что изучали историю французской революции, — во всех якобинских программах проходит эта черта раздела имущества поровну, и это вошло через гражданский кодекс в законодательство современной Франции. Нет наследственного права, менее благоприятствующего накоплению больших богатств, чем французское наследственное право, чем Code Civil. Это одна сторона, чисто мелкобуржуазная сторона программы Пестеля. Затем еще любопытно, что этот полковник, бывший кавалергард, адъютант главнокомандующего, очень заботился о мещанах, о такого рода группе населения, на которую тогда никто не обращал внимания в России и которая была совершенно на заднем плане. Он очень заботился о мещанах, он очень заботился о весьма немногочисленных в тогдашней России мелких свободных землевладельцах — однодворцах и т. д. Он заботливо оговаривает, что их земли ни в коем случае не национализируются. Лишнее доказательство, в скобках сказать, что остальные земли предполагалось национализировать. И, наконец, чтобы охарактеризовать эту (мелкобуржуазную) его черту не только с фронта, но и с тыла, он был несомненным, хотя и не ярым, антисемитом. Он предполагал собрать всех евреев в России, дать им некоторую вооруженную силу и отправить их завоевывать Палестину, чтобы освободить от них Россию.
С какой стороны ни подойти, это — типичный мелкий буржуа первый мелкий буржуа, который выступает перед нами в политике. Как видите, и этот ближайший сосед «соединенных славян», практически, вероятно, не менее революционный, чем они (истории не пришлось этого проверить, потому что Пестель был арестован раньше своего выступления и не сумел показать, что он сделал бы, если бы был на свободе), — этот человек тоже был довольно далек от классовых помещичьих интересов. У него классовая подкладка была, но совсем другого класса, не помещичьего. Сообразно с этим и в своей политической программе, и в своей тактике Пестель был большим радикалом. В своей политической программе он был последователем французского республиканца Детю-де-Траси, одного из деятелей революции 1789 г., эмигрировавшего при Наполеоне I в Америку и там написавшего книгу «Комментарий на «Дух законов» Монтескье», где он особенно яростно выступает против единоличной власти, какой бы то ни было. Для Детю-де-Траси власть только тогда совместима со свободой населения, когда это — власть коллективная, коллегиальная. Отсюда и во главе государства, по Детю-де-Траси, должна стоять директория в несколько человек, а не один человек. Совершенно так же смотрит и Пестель. В просторечии эти его высшие учреждения, все эти «державные веча», «державные думы», «верховные думы», и т. д., — их масса, запомнить их нет возможности, и нужно просто составить таблицу и вызубрить, у меня на это не хватило терпения, но я утешал себя тем, что сами декабристы не употребляли этих нелепых терминов, изобретенных под влиянием тогдашнего национализма после 1812 года, — просто и означают «директорию», и в их переписке и показаниях это именно слово и стоит. Во главе должна стоять директория, а с нею народное собрание, выбранное, конечно, демократически. У Пестеля никаким Избирательным цензом и не пахнет, и вся эта машина построена чисто республикански-демократическим путем.
Значит, в политической области Пестель был весьма последовательным, республиканцем-демократом, который предоставлял политические права всему населению без изъятия. Это, как увидите, приходится подчеркивать потому, что другие декабристы отнюдь не были демократами. И, наконец, тактика Пестеля, — тактика, которую мы можем оценить только в его проектах, потому что Пестелю не пришлось выступить самому, — эта тактика была чисто революционной, это была тактика вооруженного восстания. Пестель надеялся увлечь за собой весь тот корпус, к которому он принадлежал, арестовать с этим корпусом Александра I, пойти на Москву, поднять восстание в петербургской гвардии и во флоте и, таким образом, вооруженной рукой совершить переворот. При чем чрезвычайно любопытна черта, которую мы потом встретим, которая тоже стержнем проходит через все революционное движение: необходимым условием победы революции Пестель считал истребление всей династии Романовых. Это был чрезвычайно последовательный цареубийца, если можно так выразиться, который находил, что недостаточно будет, если уничтожить одного Александра I, а необходимо истребить всех. Таким образом, та Немезида, которая постигла Романовых на Урале летом 1918 г., она появилась впервые на горизонте в проектах этого блестящего кавалергарда и адъютанта русского главнокомандующего, выражавшего собою интересы русской мелкой буржуазии. Бывают, товарищи, всякого рода случаи в диалектическом историческом процессе. Южному обществу не пришлось выступить, повторяю. Единственное восстание, которое было устроено «соединенными славянами», правда, возглавлялось одним из ближайших товарищей Пестеля С. И. Муравьевым-Апостолом. Это был один из немногих декабристов-пропагандистов; он вел пропаганду среди солдат, но этим все дело и ограничилось. Сам Пестель был арестован, благодаря провокации, раньше выступления, раньше, чем даже в Петербурге произошло 14 декабря, и об этом Южном обществе можно судить только по его проектам. Теперь придется обратиться к крайней правой группе декабристов — к Северному обществу.
* * *
Итак, мы с вами разобрали две группы — так называемых «соединенных славян» и Южное общество, возглавляемое Пестелем, Несмотря на то, что состав Южного общества был весьма аристократический, — сюда входили князь Волконский, Муравьев-Апостол, представитель одной из самых видных дворянских фамилий на Украине, — тем не менее, это Южное общество, так же, как и состоявшее из офицеров-голышей общество «соединенных славян», одинаково были двумя мелкобуржуазными группировками: одна была левая, радикальная и туманная по своей идеологии, другая — более четкая и определенная, но более правая, с явным компромиссом в сторону «аристокрации богатств», как ее ни ненавидел глава этой группы. Правые и левые эсеры, — так их можно, товарищи, характеризовать. Правые эсеры, это — группа Пестеля, левые эсеры, это — группа «соединенных славян». Вы скажете, что несправедливо сравнивать «соединенных славян» с эсерами. Да, конечно, теперешние эсеры есть нечто весьма гнусное, но нельзя же теперешних эсеров, — продукт, действительно, величайшего в природе длительного вырождения, — рассматривать, как нечто характерное для всего движения. Когда подойдет 50-летний юбилей 1 марта, мы, вероятно, как-нибудь вспомним народовольцев. Не может быть, чтобы мы прошли мимо этой даты совершенно. Мы не можем пройти и мимо столетия декабристов уже хотя бы потому, что ведь наши ближайшие противники, буржуазные историки, недаром выпячивали на первый план третью группу, к рассказу о которой я теперь перехожу, так называемое Северное общество, которое действительно, как вы теперь увидите, было типичной буржуазно-помещичьей группировкой. Это не подлежит никакому сомнению.
Эта третья группа выразила свою идеологию в конституции, найденной в бумагах князя Трубецкого и составленной Н. Муравьевым. В этой конституции прежде всего мы встречаем избирательный ценз. Я беру текст не хрестоматии Коваленского, а текст подлинный, который нами публикуется теперь:
«Чтобы быть гражданином, необходимо следующее: лета — не менее 21 года возраста, местопребывание — известное постоянное жительство (ценз оседлости), здравый ум, личная и по имению независимость (весь пролетариат исключается из состава граждан!), исправность платежа общественных повинностей; непорочность перед лицом закона; собственность личная на свое имя, а именно: 1) недвижимое на 500 рублей серебром и 2) движимое — на 1000 рублей серебром».
Совершенно определенно подчеркивается, что всякий природный житель государства Российского, который не был гражданином (значит можно быть жителем и не быть гражданином!), но достиг трудами своими до того, что составил себе требуемое состояние, если в других отношениях отвечает вышеозначенным условиям, поступает немедленно в граждане. Французская конституция 1791 года, вероятно, вам известна: «pays legal» — «легальная страна», цензовые граждане, имеющие не менее, чем на 500 рублей в земли или на 1000 рублей в движимом капитале, то-есть, попросту говоря, не ниже хорошего кулака. Они составляют корпус граждан Российской республики или империи, потому что тут два варианта: по одному — республика, по другому — монархия. Все остальные, это — жители, не граждане.
Этого мало. Если мы перейдем к тем главам этой конституции, которые характеризуют самую организацию управления, то мы найдем еще более выразительные вещи.
«В каждом уезде граждане (мы уже привыкли к тому, что это не все жители), имеющие движимую собственность такую-то и недвижимую такую-то, избирают тысяцкого на один год». Во главе уезда, значит, стоит тысяцкий. Кто такой этот тысяцкий? Чтобы быть тысяцким, надо иметь: по крайней мере, 21 год от рождения, непорочное поведение и недвижимого имения в собственном своем владении ценой не менее 30000 рублей серебром, или движимого не менее 60000 рублей.
Это ценз настолько высокий, что в подлинном тексте тут стоит примечание, сделанное кем-то из декабристов, читавших этот проект: «Почти все общественные владения будут без тысяцких». Не было даже у них самих надежды, что они на каждый уезд найдут человека, имеющего на 30000 серебром земли, или на 60 тысяч движимого имущества. Ценз был ясно, до смешного высок. Вы догадываетесь, что этот тысяцкий в девятнадцати случаях из двадцати был, конечно, помещик, и так как это был помещик, то к выборам нельзя было никоим образом допустить его бывших крепостных крестьян.
Тут сказано:
«Те, которые пользуются землями в общественном владении, не суть владельцы» и, следовательно, не принадлежат к числу избирателей, а так как у крестьян земля в общественном владении, как вы знаете, то, значит, крестьяне не суть граждане, не суть владельцы земли, и потому в выборах они не участвуют. Это — великолепнейшее место.
Совершенно естественно, что, проектируя освобождение крестьян, конституция говорит: «Земли помещиков остаются за ними», «дома поселян с огородами оных признаются их собственностью со всеми земледельческими орудиями и скотом, им принадлежащим». Освобождение с одной усадьбой и огородом без земли. Это уже показалось настолько неудачным самим товарищам Н. Муравьева и Трубецкого, что потом добавили две десятины на двор, то-есть, кошачий надел, с вашего позволения. Две десятины не на душу, а на двор. Надел совершенно недостаточный. Это совершенно четкая помещичья программа, которая собиралась оставить Россию в распоряжении помещика.
Этим характеризуется питерская группа. В ней были два извода: один монархистский извод, другой — республиканский. Вождем республиканцев Северного общества был Рылеев.
Этой программой характеризуется и тактика декабристов. Южные декабристы, как в лице «соединенных славян», так и Южного общества, были одновременно и демократами, и революционерами, выдвинули теорию вооруженного восстания и осуществили ее на практике восстанием Черниговского полка. Северные — восстания вовсе не имели в виду. Вот, если хотите, почему нужно справлять не 14 декабря, а 28-е — день восстания Черниговского полка. 14 декабря, как рассказывает Трубецкой в своих записках, — а записки мы имеем возможность проверить подлинными его показаниями, данными в первый день после ареста, — 14 декабря никакого восстания не предполагалось.
Что, собственно, предполагал делать Трубецкой и его товарищи 14 декабря? Они предполагали, заметив в солдатах известную наклонность не присягать Николаю Павловичу и остаться верными данной ими уже присяге Константину Павловичу, об отречении которого никто не знал, собрать известное количество неприсягнувших полков, вывести их на площадь или в какое-нибудь другое место и, так сказать, с ружьем у ноги ждать, как на это будет реагировать, с одной стороны, правительство, а с другой стороны — общество. Расчет Трубецкого, как он рассказал подробно, был таков: увидев солдат вооруженных и держащихся дружно, правительство, по всей вероятности, пойдет на уступки и согласится удовлетворить минимальные требования северных декабристов, заключавшиеся в том, чтобы созвать в Петербурге собрание от всех губерний по сословиям: двое дворян, двое купцов и двое не крепостных, а казенных крестьян. Это собрание по сословиям должно было явиться учредительным собранием. Оно должно было выработать конституцию, на основе которой должна была впоследствии управляться Россия. Крепостные крестьяне из этого, конечно, исключались, — об этом не приходится и говорить: у них земля в общественном владении, они не собственники и пр.
Так вот Трубецкой говорит, что они готовы были пойти на какие угодно уступки, за исключением собрания выборных по сословиям. Это была их программа-минимум, на которой они стояли. С другой стороны, — рассказывал Трубецкой, — увидевши, что собранные солдаты не производят никакого беспорядка (это непроизведение беспорядка было одним из кардинальных условий для Трубецкого и его общества), те люди, которые сочувствуют конституции, начнут понемногу приставать к ним.
Таким образом, с одной стороны, правительство, увидя эту вооруженную массу и не решаясь в нее стрелять, пойдет на уступки, а с другой стороны, и общество, увидев, что солдаты действуют благонамеренно, слушаются своего начальства, не грабят, не бесчинствуют, а смирно дожидаются собрания по сословиям, где будут преобладать помещики и буржуа, тоже проникнется сочувствием к этому движению и пристанет к нему. Вот какая картина рисовалась Трубецкому. Самым опасным при этом, с точки зрения Трубецкого, было бы, если бы началась пальба. Пальба — это кошмар Трубецкого. Вокруг этой пальбы вертятся все его опасения перед этим днем, и он тщательно выпытывает, будут палить или нет, и его совещание с его ближайшими помощниками, с другими офицерами, накануне 14 декабря, кончается фразой: «Что, господа, ведь пехота-то стрелять не будет, а артиллерия-то палить будет». «И, — добавляет Трубецкой в своем показании, — с этой минуты я решил не принимать никакого участия в движении». И он исполнил данное самому себе слово, потому что утром того дня, когда происходила демонстрация (так приходится ее назвать) на Сенатской площади, он на эту Сенатскую площадь не ходил. Хотя он был во главе северного заговора и накануне был избран диктатором, он ходил по своим знакомым и читал манифест о восшествии на престол Николая Павловича. Он сам рассказывал, что ходил к такому-то и читал манифест, затем ходил к такому-то и читал манифест.
Эта картина диктатора, читающего манифест Николая в то время, как на Сенатской площади происходит трагедия, конечно, любопытна. Праздновать столетие Трубецкого было бы, конечно, в высокой степени странно, но, тем не менее, даже и столетие 14 декабря, несмотря на эту обстановку, вспоминать приходится.
Совершенно ясно, что руководители движения не были революционерами. Они революции не желали. Они до такой степени болезненно боялись пальбы, что хотя они имели возможность дважды получить в свое распоряжение пушки, они воздержались от этого. К Рылееву приходили артиллерийские офицеры, которые говорили: хотите, дадим вам орудия, мы имеем возможность. Но их спросили: а солдаты ваши будут с вами или нет? Они сказали: нет. Тогда они от орудий отказались. Для демонстрации нужно было, чтобы вышла артиллерия в полном составе, с запряженными орудиями, с солдатами на передках и т. д. Это произвело бы эффект. Но пушки сами по себе, это — технические орудия, из чего стреляют, а пальбы боялись больше всего на свете, и поэтому не нужно было этих пушек, от них воздержались. Поручик Панов со своей частью шел мимо пушек и мог их захватить, но он этого не сделал, так как пушки не входили в программу декабристов. Это была программа демонстрации, оказания давления на правительство, чтобы оно созвало это знаменитое собрание по сословиям, — больше ничего не требовалось.
Таким образом они, вожди заговора, конечно, не были революционерами, и, как вы знаете, они и вели себя не как революционеры. Трубецкой, как только его арестовали, рассказал буквально целый том, часть которого я сюда принес, и на основании этого тома следователи Николая I составили основной список участников заговора. Трубецкой пускался в такие подробности, что, позабыв точно имя не заговорщика даже, а какого-то автора одного пасквильного стихотворения, в следующем показании себя поправляет: «извините, я не сказал имени; это был такой-то»,! — до такой степени далеко заходил Трубецкой в своей «искренности», желании ничего не скрывать.
Гораздо более грустное впечатление производят аналогичные показания Рылеева, который с первого же допроса выдал Пестеля. Он не знал, что Пестель уже арестован. Пестель был арестован 13-го, а Рылеева допрашивали 16-го, и в три дня, при отсутствии телеграфа, даже правительство не могло знать об этом. Рылеев о нем рассказал: есть вот на юге такой полковник Пестель, он организует заговор и т. д.
Грустно становится от таких показаний, но, тем не менее, даже 14 декабря вспоминать все-таки стоит, ибо если вожди движения вели себя в то время ультра-позорно, — этого не приходится скрывать, — если они не были революционерами, то помимо их, без них в Петербурге, несомненно, в этот день началась революция. Это мы знаем из столь мало подозрительного источника, как Николай Павлович и его записки. Николай Павлович, объясняя, почему он пустил в ход картечь, прямо говорит:
«Так как день клонился к вечеру, и явилось опасение что волнение передастся собравшейся черни (в глазах Николая народ был чернью) и произойдет смятение (я приблизительно передаю его слова), то нужны были решительные меры».
И сам Николай надеялся долгие часы, что эта демонстрация декабристов рассосется мирно. Палить долго не хотел и он, потому что он опасался, что это будет сигналом к военным действиям, и чорт знает, чем бы эти военные действия окончились, и он начал палить лишь после того, как в него самого, Николая, начали палить поленьями рабочие строившегося тогда Исаакиевского собора. Когда он подвергся этой поленной бомбардировке, тогда он понял, что уже начали выступать народные массы,
Я в «четырехтомнике» привожу другую цитату из записок другого высокопоставленного, лица, принца Евгения Вюртембергского, который чрезвычайно живо описывал эту толпу, от которой чернели все улицы, выходившие на Сенатскую площадь, и которая густела с каждой минутой. Эта толпа принимала самое деятельное участие в военных действиях. Не только Николая бомбардировали поленьями, но поленьями и камнями, в сущности, прогнаны были конногвардейцы, которые шли в атаку на декабристов, потому что солдаты под впечатлением наставлений своих офицеров стреляли преимущественно в воздух.
Народ начал принимать участие в восстании. Покойный К. А. Тимирязев рассказывал очень любопытную подробность, иллюстрирующую эту сторону дела. Дворовое его отца ему рассказывали о 14 декабря лет через двадцать после события, и, говорил К. А., нужно было видеть, с каким огромным сочувствием эти крепостные люди рассказывали об этом, будто бы, дворянском восстании. Видно было, что масса глубоко была заинтересована. Масса не знала, кто такой был Трубецкой, масса не имела понятия о вождях заговора, об их политике. Масса видела только одно, что против проклятого самодержавия, что против проклятого крепостного права началось, наконец, восстание, что вышли вооруженные люди. Она не знала, что эти люди вышли с заранее обдуманным намерением ружья в ход не пускать. Этого масса не понимала, но она видела, что движение против царизма началось, и несомненно, что если бы питерские декабристы имели намерение вызвать в Петербурге народный бунт, они могли бы великолепнейшим образом его вызвать, — это совершенно ясно. Питер мог бы 14 декабря стать ареной настоящего народного восстания, восстания в духе декабря 1905 года. Но они этого не хотели. Несомненно, это не входило в их план. Они стояли с ружьем у «сии, и колебавшиеся вожди думали, палить или нет, до тех пор, пока Николай не разрешил свои колебания в сторону пальбы, и когда пушки начали палить, то произошло то, чего опасался Трубецкой, потому что пальба и вооруженное восстание не входили в план этих северных декабристов.
Как видите, характеристика т. Ольминского целиком и полностью приложима только к одной группе декабристов — к их правому крылу. Но и об этом правом крыле было бы несправедливо сказать, что эти люди обманом увлекли солдат на Сенатскую площадь. Об этом все-таки говорить нельзя. Они никакого восстания не собирались устраивать, они собирались просто демонстрировать и больше ничего, так что тут обмана особенного тоже не было. Трусости, правда, было очень много, нереволюционности было еще больше. Но поскольку даже это половинчатое выступление было зачатком известного революционного движения, зачатком, не развившимся, не развернувшимся только исключительно по вине руководителей движения, а вовсе не потому, что объективно это было невозможно, и поскольку мы вспоминаем даже то движение,, во главе которого шел провокатор поп Гапон, вспоминаем ради крови тех рабочих, которые ее пролили 9 января 1905 года, — не вспоминать. 14 декабря, когда проливали кровь солдаты, когда проливали кровь рабочие, нельзя. Картечь била, конечно, и в тех рабочих, которые бомбардировали Николая поленьями и камнями, и первый залп был дан по крыше сената, на которой сидели наиболее предприимчивые из этой «черни», и откуда они бомбардировали и Николая, и конногвардейцев. Первый залп был по крыше сената и только лишь второй залп по каре декабристов. Поскольку тогда была пролита народная кровь во имя народного дела, постольку у нас есть все основания вспоминать 14 декабря 1825 года.
Лекция третья
Революционное движение после декабристов; террор и пропаганда, зародыши этих форм в «декабризме». Обычное представление о ходе социально-экономического развития России в XIX веке; что было в действительности?. Рабочий вопрос и Николай I; социализм и «освобождение крестьян». Рабочий вопрос и революционное движение; корни «русского социализма и его первоначальный характер. Что было объективной основой революционного движения и как себе представляли его тогдашние революционеры. Чернышевский и прокламация к «барским крестьянам»; экономическая проницательность Чернышевского и осторожность его тактики; Чернышевский, «Великоросс» и зачатки меньшевизма. Зародыши большевистских настроений: «Молодая Россия». Зачатки марксизма; Ткачев, бакунинцы. Нечаев и первый план назначенной революции. Лозунг движения в народ, его действительное происхождение и действительное значение этого движения; воспоминания В. Н. Фигнер и Дейча; «большевики» и «меньшевики» 70-х годов.
Первые две лекции у нас ушли на характеристику первого революционного движения, с которым столкнулась старая крепостническая, самодержавная Россия. С тех пор попыток массового выступления, сознательного и планомерного, каким было выступление декабристов, мы не имели до 1905 года, т.е. на Протяжении 80 лет. Тем не менее все это время происходила не только подготовка революционного движения, но и само это революционное движение, только в других формах, которые, правда, имелись в зародыше уже и у декабристов, но ими реализованы не были. У декабристов мы встречаем уже в зародыше террор. 14 декабря Рылеев, при помощи Каховского, надеялся устранить Николая и этим дезорганизовать противную сторону, — это одна черта декабристов. С другой стороны, как я вам вскользь упоминал, у декабристов была попытка повлиять на массы, распропагандировать и разагитировать эти массы. Этой цели служили еще прокламации, выпущенные по случаю восстания Семеновского полка в 1829 году, о чем я не упоминал для краткости; этой цели служил катехизис Муравьева-Апостола, о котором я вскользь упоминал, где цитатами из ветхого завета доказывалось, что цари не угодны богу, и что тот, кто слушается царей, есть противник богу. Все эти две второстепенные черточки декабристов: террор — с одной стороны, и попытка распропагандировать и разагитировать народные массы, подходя к ним на почве их нужд, с другой, — они и наполняют собой все революционное движение до последней четверти XIX века. Массовое выступление, повторяю, начинается только в 1905 году.
Теперь относительно тех условий, которые питали и создали это революционное движение. Тут нам приходится расставаться с очень многими предрассудками и до некоторой степени выворачивать историю наизнанку, как выразился недавно один из моих корреспондентов по поводу моего «четырехтомника». Вас, — говорит он, — очень трудно читать, не потому чтобы вы писали каким-нибудь очень трудным и мудреным языком, а потому, что вы выворачиваете историю наизнанку, излагаете дело совершенно шиворот-навыворот сравнительно с тем, как мы привыкли. Благодаря этому вас трудно даже с первого раза понять, — говорит мой корреспондент, — и я должен был прочесть вашу книжку три раза, чтобы ее, наконец, понять. Я думаю, что мы с вами сговоримся с первого раза, тем не менее, некоторый заворот мозгов, как вы сейчас увидите, сделать придется. У нас обычно дело рассматривают так: первая половина XIX века, царствование Николая, это — период глухой реакции; вся Россия обращена в казарму, все в ней посвящено шагистике, жизни и движения вперед никакого, мертвое стоячее болото. В половине века, под впечатлением главным образом Крымской кампании, ее неудачи, этого громового удара, который нарушил тишину, и спокойствие мертвого болота, начинается оживление; 60-е годы — «эпоха великих реформ», люди шевелятся, все движется вперед. Наконец попытка увенчания здания, попытка революционного прорыва 70-х годов, — и на этой неудаче новое погружение в стоячее болото, на этот раз на гораздо более короткий промежуток времени всего-навсего на какие-нибудь 13 лет, тогда как раньше этот мертвый штиль длился более четверти столетия, около 30 лет. Так изображают обыкновенно дело. Но если вы, в качестве добрых марксистов, подойдете к этому сюжету со стороны экономического базиса, то вы увидите картину диаметрально противоположную: чрезвычайно бурное и быстрое движение в первое 30-летие и все усиливающийся застой в течение как раз той самой эпохи, которая до сих пор составляет утешение, отраду и гордость наших буржуазных либералов. В течение николаевского царствования наша крупная промышленность развивалась так бурно, как она второй раз двинулась вперед только в так называемую эпоху Витте, в 90-х годах XIX века. Тут движение приняло еще более бурный, усиленный темп, и это понятно, почему. Потому, что двигающаяся масса страшно увеличилась. Все-таки николаевская промышленность — это было нечто довольно скудненькое, маленькое, но, тем не менее, эта небольшая масса двигалась вперед с максимальной скоростью.
Я возьму базу всякой промышленности — металлургию. Вот данные по 1825 году, году декабристов: у нас было 170 металлургических заводов и фабрик с 22 1/2 тысячами рабочих и с общей продукцией на 49 тысяч тонн (3 миллиона пудов); а в 1850 году, через 25 лет, у нас было 299 металлургических фабрик и заводов с 88 1/2 тысячами рабочих и с общим производством в 245 тысяч тонн (15 миллионов пудов). Таким образом количество рабочих увеличилось вчетверо, а продукция увеличилась впятеро. Что количество фабрик и заводов увеличилось даже не вдвое, это вам, как добрым марксистам, факт, разумеется, понятный и говорящий за прогресс промышленного капитализма, а не против него, ибо это показывает, что новые фабрики и заводы были крупнее старых: произошла новая концентрация капитала в этой области, были сделаны дальнейшие шаги вперед. То же самое мы получаем и в текстильной промышленности, в особенности, если возьмем конец этого периода. В 1843 г. в России считалось 40 прядильных фабрик, на которых работало до 350000 веретен, а в 1853 г. был уже 1 миллион веретен в ходу, при чем каждое веретено 1843 г. вырабатывало приблизительно 16 кг (пуд) пряжи в год, а каждое веретено во втором случае вырабатывало уже 19 кг (48 фунтов). Таким образом продукция этого увеличившегося на протяжении 10 лет втрое количества веретен увеличилась на 20% по отношению к каждому отдельному веретену. Итак, наша промышленность при Николае I росла чрезвычайно бурно, — так, повторяю, бурно, как она не росла после никогда до 90-х годов XIX века. Я не привожу других примеров, более свежих, по сю сторону первой революции, подъема 1909 г. и следующих годов, — этот подъем был тоже грандиозен, — но я остаюсь в пределах XIX столетия.
Если вы от этого перейдете к темпу развития нашей промышленности в конце эпохи великих реформ, в 60 — 70-х годах, то тут получатся цифры совсем другие, совсем на эти не похожие. В 1867 г. было переработано всеми русскими фабриками хлопка 3298 тыс. пуд. (54 тыс. тонн); в 1868 г. — 2556 тыс. пуд. (41,8 тыс. тонн); в 1869 г. — 3208 тыс. пуд. (52,5 тыс. тонн); в 1870 г. — 2801 тыс. пуд. (45,8 тыс. тонн); в 1871 г. — 4165 тыс. пуд. (68,2 тыс. тонн); в 1872 г. — опять 3606 тыс. пуд. (59 тыс. тонн); в 1873 г. — 3530 тыс. пуд. (57,8 тыс. тонн). Таким образом вы видите, что мы все время танцуем около 3 миллионов и до 4 миллионов долезаем только однажды, для того чтобы опять-таки скатиться к этим роковым 3 миллионам, — картина форменного застоя. В металлургии дело обстоит немножко иначе, несколько лучше. Это объясняется тем, что, как вы знаете, в 60-х и начале 70-х годов очень быстрым темпом шло железнодорожное строительство, были нужны рельсы, и это именно подгоняло русскую металлургию, но все-таки и тут мы имеем темп роста очень «спокойный». В 1867 г. — 17 1/2 милл. пуд. (288,4 тыс. тонн) чугуна; в 1868 г. — 19,8 милл. пуд. (311,3 тыс. тонн); в 1869 г. — 20 милл. пуд. (327,6 тыс. тонн); в 1870 г. — 22 милл. пуд. (360,3 тыс. тонн); в 1871 г. тоже 22 милл. пуд. (360,3 тыс. тонн); в 1872 г. — 24 милл. пуд. (393,1 тыс. тонн); в 1873 г. — 23 милл. пуд. (376,7 тыс. тонн). Словом, тут, конечно, не топтанье на месте, как с текстильной промышленностью, а движение вперед, но движение очень медленное и «спокойное». Обыкновенно на это отвечают, — я сам на это отвечал в прошлом году в Свердловском университете, — главным образом, условиями освобождения крестьян. Вы знаете, что крестьяне были освобождены в результате компромисса между торговым и промышленным капиталом, при чем львиная доля добычи досталась именно торговому капиталу. Крестьяне были освобождены так, что торговый капитал получил возможность выкачивать из страны гораздо больше прибавочного продукта, нежели он выкачивал раньше. И вот для того, чтобы удобнее было торговому капиталу оперировать, были пущены в ход два средства. Во-первых, от крепостного права было оставлено как можно больше, и, в частности, крестьяне были оставлены на положении полусвободных мелких производителей, к которым торговый капитал, в силу их полузакрепощенности, мог легко подойти. Для этого крестьянин был прикреплен к деревне, как вы знаете, не мог уйти от мира, был связан круговой порукой и т. д. Это одна сторона дела; а другая сторона дела: был пущен в ход налоговый пресс, были увеличены налоги, которые и без того уже сильно увеличились благодаря выкупным платежам. Местами они превосходили 100% чистого дохода крестьянина с земли, и этот налоговый пресс заставлял крестьянина возможно большее количество своего прибавочного продукта реализовать, а во многих случаях заставлял выпускать на рынок и долю продукта необходимого; не доедать, не допивать, а тем не менее все-таки продавать и продавать во что бы то ни стало. В этом выразился примат, перевес торгового капитала при освобождении крестьян. И вот отвечают на это, — и я сам отвечал на это, и, конечно, этот ответ, в общем и целом, правильный: при таких условиях внутренний рынок не мог расти сколько-нибудь быстро, и интенсивно; рост его очень замедлялся, а благодаря этому медленно росла и наша промышленность. Как медленно, — позвольте привести вам очень выразительные цифры относительно капиталов, вложенных в нашу промышленность в первые 12 лет после крестьянской реформы. Из всех тогдашних капиталов акционерных предприятий, приблизительно 1 200 милл. рублей, только 130 милл. было вложено в промышленность, при чем на ткацкие фабрики (нет надобности говорить, что текстильная индустрия наиболее характерна для внутреннего рынка) пришлось только 6 милл. руб.
Таким образом, наша ткацкая промышленность почти не росла. И вот, чрезвычайно характерно, что даже с внутренним рынком, столь узким, какой был создан в результате реформы 1861 года, туземная промышленность не справлялась. Это неопровержимо, доказывается цифрами английского ввоза в Россию в это же самое время. В 1867 г. англичане ввезли в Россию менее чем на 4 милл. ф. стерлингов, в 1868 г. — на 4 1/2 милл. фунта ст., в 1869 г. — на 6 1/2 милл. ф. ст., в 1870 г. — почти на 7 милл, ф. ст. и т. д., до 1873-г: — это был максимум, когда они ввезли почти на 9 милл. ф. стерлингов. Другими, словами, ввоз 1873 года был слишком вдвое больше ввоза 1867 г.. — тут застоя не было: тут дело шло очень бодрым темпом, и англичане с каждым годом ввозили товаров в Россию все больше и больше. Это, повторяю, неопровержимо доказывает, что русская промышленность развивалась туго даже в отношении к суженному «освобождением» крестьян, или, вернее сказать, недостаточно расширенному освобождением крестьян внутреннему рынку; даже этого тесного внутреннего рынка она обслужить не могла.
Мы таким образом видим, как вы замечаете, картину, резко противоположную в. экономической области тому, что обыкновенно изображают. Эпоха застоя, это, наоборот, — эпоха чрезвычайно быстрого роста русского капитализма и русской промышленности. Эпоха великих реформ, наоборот, дает чрезвычайно медленный рост русской промышленности и русского капитализма. Совершенно естественно, что это должно было как-то отражаться на общественных движениях, и уже давным-давно замечено, — но, конечно, буржуазные историки не смущались этим противоречием, — что как раз на мертвую, казарменную эпоху Николая I приходятся знаменитые 40-е годы, выступление Белинского, выступление Герцена, расцвет русской литературы, расцвет московского университета, эра Грановского и т. д., и т. д.; а на 70-е годы приходится отчаянная борьба небольших групп революционеров и несомненно тусклый и тоскливый застой наверху, в широких буржуазных слоях. Но для того, чтобы подойти к нашей теме, к революционному движению, нам нет надобности заниматься этими широкими культурными картинами, а достаточно подойти к непосредственно ожидаемым нами последствиям охарактеризованных экономических фактов.
Что должно было быть результатом бурного развития промышленности при Николае I? Я думаю, вы сами ответите: появление на сцену рабочего вопроса. И тут, конечно, старые буржуазные историографы совершенно уже вытаращат глаза: как, рабочий вопрос при Николае? Да, рабочий вопрос у нас зародился при Николае I, авторе первого в истории России фабричного закона, положения 1835 года, положения, с одним из остатков которого мы с вами, в качестве совработников, а, вероятно, добрая часть из вас и в качестве рабочих фабрик и заводов, встречались совсем недавно. Теперь при увольнении выдается заработная плата за 2 недели вперед, — это закон 1835 г. постановил предупреждать рабочего об увольнении за две недели. Соблюдался он плохо до 80-х годов прошлого века, до появления фабричной инспекции, потому что некому было следить, но самое обязательство платить два раза в месяц заработную плату содержится уже там, так что, как видите, этот закон сохранил до известной степени свой эффект до наших дней. Это было в 1835 г., в самый разгар царствования Николая, и в то же самое время министр финансов Николая Канкрин, который был как раз главным опекуном тогдашней русской промышленности, потому что тогда не было особого министерства промышленности, а был департамент торговли и мануфактур министерства финансов (издававший, между прочим, в то время великолепнейший «Журнал департамента торговли и мануфактур», настоящий рудник экономических сведений об эпохе Николая), — Канкрин, видя такой бурный рост русской промышленности, находил нужным успокоить Николая, что у нас это не создаст рабочего вопроса в той острой форме, в какой этот вопрос уже существовал тогда в Западной Европе. Канкрин указывал на то, что на Западе рабочий — пролетарий, и потому в случае кризиса ему деваться некуда. Начинается безработица, он голодает, — естественно, он идет на улицу и бунтует. А у нас рабочий кто такой? Это — крестьянин, у него в деревне есть землица. Нет работы на фабрике, он уйдет в деревню и там найдет работу, так что если у нас и случится кризис, то таких последствий, какие проистекают из него на Западе, быть ни в коем случае не может. Это очень характерно, что Николая приходилось успокаивать по части возможности развития у нас рабочего вопроса в его западно-европейской форме. И не даром Николай великолепно знал слово «коммунизм», и не даром он так горячо и искренно поздравлял генерала Кавеньяка, когда тот расстрелял восстание парижских рабочих в июне 1848 года. Николай это великолепно понимал, хотя и не был марксистом, великолепно понимал, как практический человек, — а Николай между прочим, несмотря на то, что теоретически был совершенным идиотом, практически был человеком неглупым, — он отлично чувствовал, к чему это ведет, и какой это может иметь результат.
И если мы присмотримся с этого, несколько неожиданного, конца к знаменитой великой реформе 19-го февраля — к «освобождению» крестьян, мы увидим и тут совершенно неожиданный аспект. Почему крестьян освободили с землей? Объективно это было нужно торговому капиталу для того, чтобы крестьянин остался тем мелким производителем, которого привык торговый капитал эксплоатировать, но субъективно с этим связывались и другие ожидания, гораздо более интересные. Вот что писал один из лидеров освобождения крестьян, из-за кулис вдохновлявший и Редакционные комиссии, и широкие круги прогрессивного дворянства, К. Д. Кавелин. Прежде всего, хорошо выяснить социологию Кавелина, — это отнимет ровно две минуты. Вот как объясняет Кавелин возникновение собственности: «То, что человек творит во внешнем мире, становится его собственностью, которую он оставляет после себя детям или завещает близким. Отсюда новый источник неравенства. Одни, создавая много, имеют большую собственность; другие, творя мало, имеют мало принадлежащих им вещей или вовсе не имеют собственности (1). Отчего почти у всех народов рано или поздно создаются необузданные теории равенства, наполняющие историю слезами и кровью и безусловно отрицающие всякое неравенство, которое, однако, как вы видели, есть основной закон человеческого общества»... Дворяне, по изложению Кавелина, сетуют на то, что крестьяне освобождены с землей... Это не беда, это даже очень хорошо. «Этим (т.е. освобождением с землей) мы заранее навсегда избавимся от голодного пролетариата и неразрывно с ним связанных мечтательных теорий имущественного равенства, от непримиримой зависти и ненависти к высшим классам и от последнего результата — социальной революции». Крестьян освободили с землей в феврале 1861 года, между прочим, для того, чтобы предупредить октябрь 1917 года. Вы видите, что это не удалось на практике, — тем не менее намерение такое субъективное было, и это намерение было не только субъективно Кавелина, но и Редакционных комиссий. Редакционные комиссии вот как мотивировали освобождение крестьян с землей: «Как бы ни был мал наименьший размер надела, быт безземельных крестьян сравнительно с настоящим тяжелым их положением сделается лучше». Не в том дело, чтобы всем дать достаточно земли, — это даже очень вредно с точки зрения торгового капитала: тогда не заставишь мужика работать, — а в том дело, чтобы не было человека совсем без земли, и чтобы всякий был привязан за ногу к своему наделу. В другом месте комиссии подробно развивают, почему надо сохранить сельскую общину (поземельную общину с ее круговой порукой). А вот почему: «Коалиции работников, коллективная оппозиция против капиталистов и властей, со всеми их последствиями, развилась почти исключительно в тех сословиях, в которых распущенные личности, не связанные никаким общим поземельным интересом и предоставленные самим себе, сознали свою единичную слабость и сложились в искусственные союзы, враждебные правительству, собственности и общественным порядкам».
Вы видите, для чего нужно было сохранить в России поземельную общину. Наивные социалисты думали, что это есть зачаток будущего социализма, но гораздо более умные чиновники самодержавия и помещики, сидевшие в Редакционных комиссиях, прекрасно понимали, что как раз наоборот, — лиши крестьянина земли, и он рабочий союз устроит, а потом, пожалуй, и партию создаст; а прикрепи его к земельной общине, к маленькой такой кучке, — и он, связанный «естественными узами» этой самой круговой поруки (насколько круговая порука — «естественные» узы, — предоставляю судить вам), он будет сидеть у себя и ни о какой партии помышлять не станет, и даже до профессионального союза не дойдет. Таким образом не только рабочий вопрос у нас существовал в первой половине XIX века, — думаю, нет надобности вам напоминать, что Редакционные комиссии работали в конце 50-х годов, а Кавелин писал свои строки еще несколько раньше, в середине 50-х годов, — но и принимались практические правительственные меры, чтобы предотвратить развитие у нас рабочего класса в нежелательном направлении. Уже говорили о социализме, говорили о социальной революции (кстати сказать, и мы сами еще недавно вместо «социалистической» употребляли термин «социальная» революция), и принимались меры к тому, чтобы это несчастие предупредить.
И вот когда вы к этому комплексу явлений присмотритесь, вас перестанет удивлять появление на этой почве русского социализма. Это совершенно неизбежное, только с оппозиционным знаком, отражение тех же самых явлений, которые мы сейчас наблюдали, в другой плоскости. Бурное развитие, промышленности было связано с нарождающимся рабочим вопросом: в связи с этим борьба правительства против пролетаризации, в связи с этим настроенные оппозиционные элементы интеллигенции естественно шли по социалистической линии. Все это чрезвычайно между собой тесно связано и не представляет собой ровно ничего загадочного и таинственного. Так именно и должно было быть. Загадочно и таинственно другое. Как вы видите, вся эта музыка и у нас, как во всем мире, шла от фабрики и от фабрично-заводского пролетариата, а наши первые социалисты, как вы знаете, выводили свой социализм от этой самой сельской общины, которую Редакционные комиссии правильно считали гарантией против социализма в России. Вот это требует некоторого объяснения.
Объяснение это само по себе довольно простое. Ведь всякого рода объективные влияния, идущие от экономического процесса, происходящего в действительности, отражаются в мозгах того или другого общественного класса или общественной группы сквозь призму интересов этого класса или этой группы. Что представляла собой русская интеллигенция в первую половину XIX века, среди которой появились первые социалистические кружки, так называемый «заговор Петрашевского», ликвидированный в 1849 году, к которому, несомненно, принадлежал Белинский, к которому принадлежал в то время Достоевский, к которому принадлежал бы Герцен, если бы он не был в то время в эмиграции, и т. д., — словом, заговор, охватывавший сливки и верхушки тогдашней интеллигенции? Чрезвычайно характерно, что эти сливки и верхушки увлекались не коммунизмом, среди петрашевцев был только один коммунист — Спешнев, который как раз и проводил идею вооруженного восстания, (от него осталась знаменитая присяга, где члены общества обязывались «принять участие в драке», как чрезвычайно конкретно указано в этой присяге: «Я обязуюсь по первому требованию принять участие в драке», т.е. вооруженном восстании). Это был единственный коммунист среди петрашевцев, остальные были фурьеристы, т.е. последователи мелкобуржуазного утопического социализма. Так вот почему в эту сторону склонялась тогдашняя русская интеллигенция, и почему она в конце концов уперлась в наивную веру в социализм той самой общины, которую чиновники царского правительства правильно считали гарантией от социализма? Для этого нужно посмотреть, что такое представляла собою тогдашняя интеллигенция.
Было бы ошибочно думать, что интеллигенция уже тогда была аппаратом, обслуживающим ту крупную индустрию, о росте которой я говорил. Крупная, индустрия даже в 70-х, 80-х годах XIX века обслуживалась главным образом иностранным персоналом. Даже в 70-х и 80-х годах наши директора фабрик, виднейшие инженеры, и т. д., вплоть до мастеров, были обыкновенно иностранцами; туземный элемент был представлен очень слабо. Наша интеллигенция первой половины и даже второй половины XIX века, это — главным образом представители так называемых свободных профессий. Правда, при Николае не было налицо довольно-таки политически видного разряда этих свободных профессий, — не было адвокатов, но уже врачи были, учителя были, литераторы были. Представители свободных профессий, это — по роду своего труда типичные ремесленники, типичные работники-одиночки. Это как раз наиболее мелкобуржуазный разряд нашей интеллигенции. Это, между прочим, очень рельефно выразилось и в настоящее время, выражается на настроениях нашей литературной братии, которая воспринимает Октябрьскую революцию с величайшим трудом, как некоторую чрезвычайно горькую пилюлю. Другая часть этой интеллигенции, хорошо знакомая мне по моей старой работе еще в начале века, это — мелкобуржуазное учительство. Ведь, мы, социал-демократы, в учительском союзе 1905 и последующих годов были необычайно слабы. Там царили эсеры. Эсеры и командовали этой массой, а мы, марксисты, имели очень маленький, тесненький кружок без большого влияния, так что у нас нередко опускались руки. Мне приходилось вести работу в этой, среде, и я нередко начинал тянуть пессимистическую ноту, что с учителями возиться не стоит, что это — гиблое дело, а нам нужно заняться более производительной работой. Конечно, это было неверно, но это мое настроение очень характерно, и я его очень хорошо помню. Это как раз наиболее мелкобуржуазная группа, и вот почему у нас родился этот странный социализм с его культом общины. Он родился на совершенно определенной почве, потому что рабочее движение толкало к мысли о социализме. Оно толкало к мысли о социализме даже министра Канкрина, даже императора Николая Павловича, тем более должно было толкать к этим мыслям тогдашнюю интеллигенцию. Но поскольку тогдашняя интеллигенция была типичными ремесленниками-одиночками, она не могла воспринять пролетарского социализма. Герцен, попав в атмосферу парижского 48-го года, на минуту им заразился, но только на одну минуту, чтобы потом вернуться к общинному мелкобуржуазному социализму, а люди, которые не вступали в атмосферу 48-го года (западно-европейского) совсем, не могли проникнуться этим социализмом и в России искали того социализма, который им понятен. В области литературы они находили его у Фурье и Прудона, — Прудона, который буквально царствует над идеологией всего русского социализма в течение всей середины XIX века. В сущности, это все были прудонисты разнородного калибра, вплоть до Михайловского. Это были люди, видевшие воображаемый социализм, мелкобуржуазный социализм в русской общине крестьянской, в поземельной общине. Вот откуда родилось это мировоззрение наших социалистов-народников 40-х — 70-х годов.
Перейду к характеристике самого движения, при чем остановлюсь главным образом на тех моментах, которые являются пророческими, с каковой точки зрения они нам более всего и интересны.
Совершенно естественно, что для той интеллигенции, которую я охарактеризовал, революционной массой, на которую она возлагала все свои надежды, было крестьянство. Тут опять мы имеем очень любопытный факт. Несомненно, что фактором, толкавшим вперед революционное движение, было развитие промышленности, поступательное движение рабочего вопроса. Это нетрудно доказать хронологическим сопоставлением: петрашевцы — это 1848 —1849 г. г., как раз период бурного движения русской текстильной промышленности; начало 60-х годов связано с первой победой промышленного капитала, с освобождением крестьянства. Хотя это и было компромиссом между торговым и промышленным капиталом, но, тем не менее, самый факт открепления крестьянина от помещика был, несомненно, успехом промышленного капитала, которому был необходим свободный рабочий. Движение 70-х годов идет непосредственно за стачечным движением, движением второй половины 60-х годов. Первая большая стачка на Морозовской фабрике была в 1865 году, а в 1870 году прошла волна больших стачек в Петербурге, вызвавшая известный циркуляр министра внутренних дел; наконец, обострение революционного движения, «Народная Воля», идет вслед за второй волной стачечного движения в Петербурге, за стачками 1878 г., которые всем хорошо известны по Плеханову. Таким образом связь этих волн революционного движения с волнами рабочего движения, по-моему, устанавливается достаточно определенно. Но, несмотря на это явление, не замечавшееся и не сознававшееся тогдашней интеллигенцией, эта последняя главную свою надежду видела, повторяю, в крестьянстве. С этим связана и ее социалистическая идеология, ее культ общины, о котором я уже упоминал. Позвольте в литературной плоскости не разбирать этой общинной литературы, как таковой, не касаться ее, поскольку времени у нас мало, и литература эта не так интересна. Мы пробавлялись этой народнической литературой долгое время потому, что с настоящим проявлением революционной стихии, прокламациями того времени, по конспиративным условиям мы отчасти были незнакомы просто, отчасти было неудобно цитировать их, ибо царские прокуроры относились с необычайной яростью ко всем цитатам из пропагандистско-агитационной литературы, хотя бы и очень старой. Достаточно указать, что Семевский прокламации декабристов к Семеновскому полку должен был печатать с многоточиями. Настоящей литературы нельзя было цитировать, а она, как вы сейчас увидите, много интереснее, нежели те журнальные статьи и книжки, которыми мы обыкновенно оперировали. Эти книги отражали движение примерно так, как отражается предмет в десятом зеркале. Наиболее поучительную картину мы получим, если будем присматриваться к самому этому движению. Вот почему в моем изложении и Чернышевскому приходится фигурировать не как автору знаменитых статей об общине и «Примечаний к Миллю» и т. д., а как автору прокламации к барским крестьянам, принадлежность которой Чернышевскому воспоминаниями Шелгунова установлена окончательно. Это действительно им написанная прокламация, великолепная сама по себе и интересная, между прочим, потому, что Чернышевский предсказал знаменитые отрезки с их экономическим значением в самый момент появления их на свет. Вот почему на этой прокламации и стоит остановиться. Вот что он пишет:
«Что с вашей землей будет? — спрашивает он крестьян. — А вот что с ней будет. Когда отмежевывать станут, обрезывать ее велено против того, что у вас прежде было: в иных селах четвертую долю отрежут от прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще без плутовства от помещиков, да без потачки им от межевщиков по самому царскому указу. А без потачки помещикам межевщики делать не станут, — ведь им за то помещики станут деньги давать; оно и выйдет, что оставят вам земли меньше, чем наполовину против прежней: где было на тягло по две десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину либо меньше мужик справляй барщину почти такую же, как прежде за две десятины, либо оброк плати почти такой же, как прежде за две десятины. Ну, а как мужику обойтись половинной землей? Значит, должен будет притти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне на хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за «ее прибавочную барщину справляй, либо прибавочный оброк отдай. Да и заломит с мужика, сколько хочет. Ну, мужик на все и будет согласен, чего барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на него барин барщину более нонешней, либо оброк тяжелее нонешнего.
Да за одну ли лишь пашню надбавка будет? Нет, ты барину и луга подавай, — ведь сенокос-то почитай что весь отнимут у мужика по царскому указу. И за лес барин с мужика возьмет, — ведь лес-то почитай что во всех селах отнимут; сказано в указе, что лес — барское добро, а мужик и валежнику подобрать не смей, коли барину за то не заплатит. Где в озере али в речке рыбу ловили, и за то барин станет брать. Да за все, чего ты ни коснись, да за все станет с мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать. Все до последней нитки будет барин брать с мужика. Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу».
Вы видите, как долго нужно было выворачивать мозги русской интеллигенции, чтобы такие вещи, которые Чернышевский писал еще в 1861 году, приходилось растолковывать еще в конце девяностых родов, чем пришлось заняться т. Ленину в своем знаменитом «Капитализме в России». А, между тем, все это было великолепно понято, правда, гениальнейшим русским экономистом, но в самый момент освобождения крестьян: значение отрезков, неизбежность огромной арендной платы — нового вида оброка, и неизбежности отработки — нового вида барщины, все это было совершенно ясно в 1861 г. Прокламация Чернышевского не распространилась, как вы знаете, ее захватили в рукописи, она не была напечатана, и поэтому она агитационного влияния не имела; она осталась только как памятник чрезвычайно, талантливой, чрезвычайно умной и глубокой агитации среди крестьянства, которая велась уже в самый момент освобождения крестьян.
Я не буду вам приводить образчиков других прокламаций, — их много, а отмечу только, что тот же Чернышевский, который, как вы видите, в экономической области обнаружил такую изумительную проницательность, в политической области держался довольно наивной точки зрения, воображая, что «образованные классы», т.е. интеллигенция, имеют какую-то самостоятельную силу и значение, и что ее движение может добиться известных политических результатов. Несмотря на то, что Лемке это оспаривал, я держусь все-таки той точки зрения, что «Великорусс» если не прямо написан Чернышевским, — ибо стиль на него похож, — то во всяком случае лицом вышедшим из кружка, к которому принадлежал Чернышевский, и который Чернышевским вдохновлялся. А средства действия «Великорусса», как вы знаете, были такие: подать адрес, подать петицию, требовать, опираясь на свой моральный авторитет. «Великорусе» прямо говорит: «Мы — не мужики и не поляки, в нас стрелять нельзя». Почему стрелять нельзя? 9 января и последующие показали, что в кого угодно стрелять можно, царское правительство не постеснялось, но интеллигенты воображали, что, увидя интеллигентов во фраке и цилиндре (так одевалась интеллигенция в то время), в них не будут стрелять. Интеллигенты должны требовать от правительства, чтобы оно созвало нечто вроде учредительного собрания. Вчитываясь в прокламацию Чернышевского к крестьянам, вы увидите, что и тут он, собственно говоря, очень осторожен относительно методов действия. Вот что он говорит:
«Надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь... себя напрасно в беду не вводить, значит, спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толку, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, — ну, тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал».
Характерно, что это осталось в тексте прокламации, а раньше было вот что, и это вычеркнуто:
«А еще вот что, братцы: солдат просите, чтобы они вас учили, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там в ногу итти по-солдатски да носок вытягивать, — без этого обойтись можно; а тому надо учиться вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться да команды слушаться, пустого страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле, да рассудок спокойный, значит, хладнокровие», и т. д.
Маленький рецепт военной подготовки. Это было в прокламации Чернышевского и вычеркнуто им, как вещь опасная, а вот эти строки: «надо спокойствие сохранять и вида никакого не показывать» — остались. Это другая характерная пророческая черта, но уже с другого конца. Чернышевский был не только родоначальником нашей аграрной программы теми строками, которые я прочел, но он, несомненно, был родоначальником и меньшевистской тактики, которая в том и состояла: «зачем булгу поднимать, и что из этого выйдет, нужно спокойствие сохранять», и потихоньку, да полегоньку, опираясь на буржуазию («образованные классы» у Чернышевского), постепенно, путем мирного давления этих «образованных классов», в которых царское правительство не может стрелять, постепенно добиваться от царя всяких уступок.
Это относительно Чернышевского. Но, чтобы вы не подумали, что около 1861 г. господствовали у нас исключительно настроения меньшевистские, позвольте привести образчик настроения большевистского. Это — знаменитая прокламация «Молодой России», прокламация, вызвавшая среди тогдашних меньшевиков страшный шум и гвалт, удостоившаяся резкой критики со стороны Герцена, даже Бакунина, в этом случае подчинившегося интеллигентской стихии. И тут опять-таки чрезвычайно интересен целый ряд пророческих моментов. Любопытно, что эта прокламация, как теперь доказано, была написана в тюрьме человеком, которого уже посадили в тюрьму за революционную деятельность, и который благодаря простоватости тогдашних жандармов написал эту прокламацию и распространил ее. В противоположность прокламации Чернышевского, которая осталась в рукописи, «Молодая Россия» была напечатана и распространена, и, кстати сказать, благодаря тому, что она была напечатана, мы ее имеем с невероятным количеством опечаток, потому что, как вы догадываетесь, тогдашние подпольные типографии в смысле техническом стояли очень невысоко.
Прежде всего характерна социология «Молодой России». Она все общество русское делит на две группы — партия императорская и партия народная. Что же лежит в основе этой императорской партии?
«К этой безурядице, к этому антагонизму партий, — антагонизму, который не может прекратиться, пока будет существовать современный экономический порядок, при котором немногие, владеющие капиталами, являются распорядителями участи остальных, — присоединяется в невыносимый общественный гнет, убивающий лучшие способности современного человека».
Таким образом в основе императорской партии лежит капитализм. Это понятно. Дальше характеризуется нелепость существующего общественного строя. Я перехожу опять-таки к пророческим чертам. Первое: что они сделают с императорской партией, когда победят сторонники «Молодой России»?
«О Романовых — с теми расчет другой. Своею кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва, сложит голову весь дом Романовых».
Как видите, это, как у Пестеля, носилось в воздухе. Каким способом будет произведен переворот?
«Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром: мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48-го года, но и великих террористов 92-го года; мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах».
Дальше идет критика «Великорусса». Идеалом «Молодой России» является республиканский федеративный союз областей, при чем власть народа перейдет в руки национальных и областных собраний. Но они не были упрямыми и тупыми федералистами, как некоторые их наследники следующего десятилетия.
«Мы твердо убеждены, — писала «Молодая Россия», — что революционная партия, которая станет во главе правительства, если только движение будет удачно, должна сохранить теперешнюю централизацию, без сомнения, политическую, а не административную, чтобы при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени. Она должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем. Выборы в национальное собрание должны происходить под влиянием правительства, которое тотчас же позаботится, чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка, если только они останутся живы».
Как видите, черта опять чрезвычайно пророческая: диктатура революционной партии, которая фактически держит в руках все управление, но вовсе не проводит свой федерализм немедленно, как это следовало из программы.
Я напомню еще некоторые пророческие черты, которые, правда, теперь кажутся несколько наивными — мы знаем теперь, что социалистическое хозяйство на деле гораздо сложнее, — но исторически тем не менее сохраняют все свое значение.
«Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества, обязанные по истечении известного срока давать ему отчет, требуем заведения общественных лавок, в которых продавались бы товары по той цене, которой они действительно стоят, а не по той, которую заблагорассудится назначить торговцу для своего скорейшего обогащения».
А вот вам черты, которые до сих пор всецело сохранили значение:
«Мы требуем полного освобождения женщины, дарования ей всех тех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины».
«Имущества всех церквей должны быть отобраны в пользу государства и употреблены на уплату долга внутреннего и внешнего».
Тут они немножко отступают от социализма, поскольку они говорят об уплате долгов, но этот долг они хотят уплатить монастырским и церковным имуществами, и это антицерковное настроение тоже очень характерно.
Как вы видите, этот первый памятник русского революционного социализма, — поскольку Чернышевский не был в области тактики революционером, а был революционером только теоретически, — этот первый памятник нашего революционного социализма содержит в себе целый ряд пророческих черт, несмотря на то, что вышел, несомненно, из мелкобуржуазных и студенческих слоев и как будто никакой связи с пролетариатом не имеет. Многие черты будущей пролетарской революции были в нем уже налицо. С этой точки зрения главным образом для нас и интересно это революционное движение 60-х и 70-х годов. С точки зрения эмбриологии его собственно и стоит изучать. Для нас чрезвычайно важно проследить наши лозунги до самых последних корней. Вы видите, что эти последние корни лежали чрезвычайно глубоко, свидетельствуя, что объективная сила исторического движения дает известный результат, совершенно независимо от того, как это движение представляют себе люди. Те мелкие буржуа, которые создали литературу русской революции в 60-х и 70-х годах, невольно предвосхищали известные черты будущей пролетарской революции, поскольку они находились под непреодолимым давлением того стихийного объективного процесса, каким они были захвачены. Совершенно ясно, что это должно было дать и сильный толчок в сторону коммунизма. В рядах петрашевцев был один Спешнев, да и тот ничего нам не оставил, кроме той присяги насчет драки, о которой я говорил. В рядах революционеров 60-х годов был Ткачев, который, несомненно, был первым русским марксистом. Этот первый русский марксист впоследствии являлся лидером так называемых якобинцев, т.е. того течения, которое требовало образования строго конспиративной организации и — как результата — захвата власти, правда, осуществляемого в старых, мелкобуржуазных, бланкистских формах. Это также чрезвычайно характерно, но характерно и то, что имя Маркса начинает звучать в 60-х годах, и что у Ткачева мы встречаем целый ряд отрывков, на которых я не буду останавливаться, чрезвычайно любопытных с этой точки зрения. Один отрывок позвольте, однако, прочесть. Это характеристика буржуазной политической экономии. Вот что говорит Ткачев о буржуазной политической экономии:
«В их учениях и теориях, как в зеркале, отражались малейшие изменения настроения духа того класса, который поил их и кормил, покупал их сочинения, давал им пенсии и лавровые венки, т.е. ордена и тепленькие места... Вопросы, по существу своему совершенно тождественные, они решают диаметрально противоположным образом, смотря по тому, какое решение требуется лавочникам и барышникам. Когда, например, зайдет речь о стачках рабочих, у экономистов появляется на губах пена; когда же, напротив, заговорят о стачках фабрикантов, губы их складываются в самую сладенькую одобрительную улыбку. Сила, содержащая их на своих плечах, есть сила живая, подвижная, растущая не по дням, а по часам. Не прошло еще и века, как она с апломбом дебютировала на театре человеческого прогресса, а уже теперь она является полной госпожей всего образованного мира. Теперь она все себе поработила, все поглотила, всему дает свой указ, везде распоряжается и повелевает. Эта сила — буржуазия, а орудие ее — капитал. Разумеется, и наука, живущая у нее на содержании, должна была разделять судьбы своей кормилицы: когда кормилица еще не успела вполне отрешиться от средневековых представлений, высвободиться от феодального гнета, когда она еще чувствовала на себе некоторое тяготение прошедшего, — тогда и наука экономистов на каждом шагу представляла пример робости, нерешительности и какой-то сдержанной осторожности. Но со времен Адама Смита, со времен даже Рикардо и Сэя, положение буржуазии изменилось, она заняла аванпосты, она пустила глубокие корни в организм народной жизни, вместе с этим и наука экономистов становилась все буржуазнее и буржуазнее, все с большей беззастенчивостью начала проповедывать свои мещанские доктрины».
Это я привожу просто как маленькую иллюстрацию того, несомненно, марксистского понимания истории, какое впервые в русской литературе представлено Ткачевым. И вот, в этой атмосфере уже в конце 60-х годов складывается в русских революционных кружках план, который впоследствии столько осмеивался меньшевиками и который реализовался почти буква в букву 25 октября старого стиля 1917 г., — план назначенной революции. Этот план назначенной революции, правда, в очень наивных формах, появляется у нас впервые в нечаевских кружках 68-го года. В настоящее время никакой грамотный человек не рассматривает Нечаева, как какого-то полоумного бандита, который устраивал какие-то совершенно сумасшедшие подпольные кружки для проведения при помощи этих кружков какой-то полуразбойничьей революции. Нечаев — это можно считать доказанным — был в России агентом Бакунина, и нечаевская попытка была первой попыткой бакунистской революции в России. Отрицательные черты этой первой бакунистской революции вы сейчас увидите, я их покажу. А что касается этой черты, тоже пророческой, хотя и в весьма наивных тонах, — ею стоит заняться.
Вот как распланировывали тогдашние бакунисты свою революцию:
«До мая 1869 года деятельность лучших людей должна быть сосредоточена в Питере и в Москве, а также частью и в других университетских городах. В это время должен быть подготовлен и совершен протест студентов различных учебных заведений за право сходок, и должно быть положено начало пропаганде среди голытьбы людьми этой же голытьбы, т.е. образована организация из самой голытьбы. Самая деятельность должна быть перенесена в губернские и уездные города и сосредоточена главным образом в среде разночинцев, семинаристов и провинциальной голытьбы. С октября общими силами провинциальных и столичных деятелей пропаганда переносится в народные массы; поэтому по крайней мере три четверти деятелей отправляются из столицы в провинцию, по направлению западной границы до Динабурга, — путь, важный для эмиграции; поэтому подготовка провинции по этому пути имеет особое значение».
Наконец, весной семидесятого года начинается массовое движение, начинается массовая революция..
Но это смешно, скажете вы. Конечно, это смешно, — смешно, как первый детский набросок назначенной революции. Но этот набросок восстания, планомерно подготовленного, появляется у нас в конце 60-х годов из-под пера бакуниста. И так как за бакунистами упрочилась репутация людей способных только на вспышкопускательство, только на взрыв бомбы, то очень любопытно ввести эту поправку в обычное представление. Как раз из бакунистской организации вышел первый план революции, — а что это план чисто мелкобуржуазный, это, я думаю, вы уже не раз слышали в тех отрывках, которые я прочел. Тут, конечно, коммунизмом даже Ткачева и не пахнет. Революция представляется как революция голытьбы. Товарищи, не будем и над этим очень смеяться: у нас разве не звучал лозунг революции «бедноты» в 1918 г., несмотря на протесты старых марксистов, вроде т. Степанова, который посвятил этому фельетон в «Правде»? На этот фельетон никто тогда не обратил внимания. Степанов писал, что беднота и пролетариат — не одно и то же, что мы должны опираться на пролетариат и на полупролетарские элементы деревни, а вовсе не на бедноту в буквальном смысле этого слова, к которой принадлежат и «лумпены», босяки, оборванцы, являющиеся, обыкновенно, одной из опор реакции, — армия погромщиков 1905 г. и следующих годов. Несмотря на это, все-таки лозунг революции бедноты у нас звучал. Поэтому не будем бросать слишком много и слишком тяжелых камней в бакунинцев 60-х годов, которые говорили о революции голытьбы. Еще более курьезно обращение к специфическим разбойникам, на которых Бакунин возлагал большие надежды. Он говорил, что разбойники, это — тот элемент в народе, к которому революционеры должны, в первую голову обращаться. Конечно, это устарело для эпохи 60-х годов, — эпохи железных дорог, ибо разбойники как профессия существовали у нас главным образом до железных дорог, когда транспорт был гужевой. На железной дороге грабить было очень трудно. Так что обращение к разбойникам даже технически устарело.
Несомненно, это было по существу дела мелкобуржуазное движение, но это движение объективно наталкивалось на известный план, который впоследствии так или иначе реализовался. Некоторые черты будущей революционной организации, отлившейся в партию большевиков, в сущности говоря, имеются налицо уже в 60-х годах. Требование конспиративности, известная планомерность и вооруженная сила, восстание как метод действия, — все это имелось уже тогда, и вы видите, до какой степени опять-таки были вывихнуты наши мозги, когда мы представляли себе движение того времени как мирное пропагандистское хождение в народ. В книге Богучарского вы найдете такое изображение. И это хождение в народ характерно связывалось с появлением книжки Лаврова «Исторические письма», — мне самому, приходилось говорить об этой связи. Между тем Козьмин в своем «Ткачеве» доказал с убедительностью, что лозунг «в народ» опять-таки был брошен бакунинцами за два года до появления лавровской книжки. И тут дело шло не от книжки, а от революционеров-практиков, от людей, которые готовили это несколько смешноватое, но планомерное восстание.
Нужно сказать, однако, что это хождение в народ было наименее серьезной частью революции 60-х и 70-х годов. В. Н. Фигнер в своем «Запечатленном труде» — одном из самых замечательных документов эпохи — рассказывает:
«Я, жившая в провинции в 1877 —1879 г. г. и отлично знающая положение дел в Самарской, Саратовской, Тамбовской и Воронежской губерниях, могу удостоверить без всякой натяжки, что тяга к хождению в народ, эта тяга в начале 70-х годов была очень кратковременной и практически для отдельных лиц продолжалась неделями, много-много месяц, два, к концу 1875 года остановилась и ограничилась лишь повторением попыток со стороны тех, кто счастливо ускользнул от происшедших разгромов, — я, прожившая в Петровском уезде 10 месяцев (и мои товарищи, прожившие в Вольском уезде несколько больше), утверждаю, что за все время к нам не присоединился ни один человек, хотя устроиться на местах при уже заведенных связях было чрезвычайно легко».
Вот вам авторитетное свидетельство одного из самых крупных революционеров 70-х годов. К этому прибавляют любопытные черты последние воспоминания Дейча «За полвека». Там Дейч рассказывает курьезную историю о своем хождении в народ, и так как он не понимает сам всей курьезности того, что он рассказывает, то этим он еще усугубляет эту курьезность. Он рассказывает, что они готовились к хождению в народ, как к любительскому спектаклю, всячески подражая внешности мужика в костюме, в манере говорить и т. д., и были в восторге, когда где-нибудь на железной дороге их принимали за настоящих мужиков. Но, приходя в такой восторг, они забывали маленькую штучку, — забывали научиться сельским работам. И вот этот великолепно загримированный мужик приезжал на место, ему давали косу; а что с ней делать? Он начинал косить так, что хозяин, в первую минуту принявший его за настоящего мужика, говорил ему: «Э, парень, этак ты бабе ногу отхватишь или мне. Посмотри, как девчонка впереди тебя косит, так и делай». А на другой день, разумеется, спрашивал: «А кто ты такой? Мужик по обличию, а косить не умеешь?». Разумеется, нельзя себе представить мужика, который косить не умеет. То же было и со всеми другими сельскими работами.
Этот интеллигентский подход чрезвычайно характерен: усваивали только наружность мужика, а что суть-то мужика заключается в его трудовой деятельности, — это немножко забывали. Таким образом хождение в народ является как раз наименее серьезным эпизодом всего движения 60-х и 70-х годов, и как ни наивны те проекты, отрывки которых я читал, они все-таки в тысячу раз серьезнее. И недаром тогдашние меньшевики так озлобленно шипели на нечаевцев, и не только шипели. Аптекман, со слов Натансона, рассказал в своих воспоминаниях (Аптекман не такой человек, который мог бы налгать, и Натансон сам человек искренний, — ему не зачем было лгать на себя), как Натансон, будучи крайне возмущен тем, что Нечаев осмелился направить к нему своих эмиссаров и тем провалить его, на допросах всыпал, что называется, «по первое число» Нечаеву, т.е. попросту, откровенно рассказал все, что о Нечаеве и о нечаевцах знает. Любопытный эпизод тогдашней фракционной борьбы, засвидетельствованный таким авторитетным человеком, как Аптекман.
Таким образом, уже в то время большевистское и меньшевистское крыло движения разошлись между собой чрезвычайно далеко. И впоследствии это меньшевистское крыло, лучше уцелев, потому что представители большевистского крыла или были безнадежно замурованы за границей и не имели доступа в Россию, или просто погибли в крепостях и на виселицах, — это меньшевистское крыло воспользовалось своей монополией, чтобы изобразить все это движение в виде мирного, чуть не экономического пропагандизма. А на самом деле это было чисто революционное движение, но оно осталось в потенции, и перейти в действие ему не удалось.
Следующий переход к действию тесно связан с рабочим движением второй половины 80-х годов, и поэтому позвольте мне «Народную Волю» вплести в это рабочее движение. Вы увидите, что и там окажутся тоже очень интересные, «пророческие» черты.
Лекция четвертая
Обманутые надежды на бунт обманутых крестьян; почему крестьянство было равнодушно к социалистической пропаганде. Кулак, его экономическое положение после реформы, его политическая физиономия по Энгельгардту. Деревенская беднота в изображении В. Н. Фигнер; психология пролетария и психология паупера. Рабочее движение 70-х годов и революционные организации. Северный союз русских рабочих; Степан Халтурин; задачи Союза. Заславский и Южно-русский союз рабочих; живая связь двух союзов. Зачатки марксистского миросозерцания в 70-х годах; Плеханов и его статья «Закон экономического развития общества». Террористическое крыло движения; ориентация на буржуазию. В чем действительный смысл и действительное значение террора. Как он в действительности развивался. «Земля и Воля» и «Народная Воля». Террор и буржуазия: «единственная задача» народовольцев по Желябову.
Итак, революционное движение 60-х и первой половины 70-х годов, которое можно рассматривать как одно целое, если его резюмировать кратко, было построено на ожидание восстания обманутых крестьян. Что 19 февраля крестьяне были обмануты, — это понимал не только Чернышевский, это, как известно вам, понимал сам Александр II и высказал это весьма недвусмысленно. Когда обсуждался проект введения временных генерал-губернаторов для проведения реформы, министерство внутренних дел, ревнивое к своей власти, не желало ее отчуждать на местах царским посланцам. Александр II написал в своей резолюции там, где министерство внутренних дел доказывало, что в деревне все спокойно: «Теперь это так, — но когда крестьяне увидят, что их ожидания, т.е. свобода по их разумению, не сбылись, то...», и т. д. и т. д. Сам Александр II великолепно понимал, что он дает крестьянам не ту свободу, о которой они мечтают. И, повторяю, все это революционное движение, весь его смысл можно резюмировать фразой, которую сказал Каракозов тому же Александру II тотчас после своего покушения. Когда Каракозов был схвачен, царь подошел к нему и спросил: «За что ты в меня стрелял?». «За то, что ты обещал крестьянам волю и землю, и обманул», — ответил Каракозов. Вот это ожидание бунта обманутых крестьян, оно и составляет, так сказать, основу, в самой грубой и элементарной форме, — основу всех надежд, которые связывались с революционным движением 60-х и начала 70-х годов. Надежды не оправдались. Обманутые крестьяне немножко поволновались, довольно, впрочем, энергично: первые годы после 19 февраля насчитывают до 2 000 волнений, иногда довольно крупных, с расстрелами, как знаменитое волнение в селе Бездне, Казанской губернии, которое послужило поводом к ссылке Щапова, крупнейшего русского историка того времени, но в общем большого крестьянского движения не получилось, революции не вышло. Почему так было? На этом все же нужно остановиться.
Нужно остановиться хотя бы потому, что то разочарование в крестьянском движении, которое, несомненно, наступило в революционных кругах в середине 70-х годов, дало повод к двум новым ориентировкам, — ориентировкам, о которых опять-таки стоит говорить, хотя бы в виду их пророческого значения. Одна ориентировка была на буржуазию, другая на пролетариат. Почему так стали ориентироваться люди, которые раньше ориентировались исключительно на крестьянство? Да вот именно потому, что крестьянство не оправдало надежд и оказалось состоящим не только не из прирожденных социалистов, но даже не из прирожденных революционеров, — оказалось весьма мало революционным. Тут мы имеем довольно сложный результат влияния не столько крестьянской реформы, сколько всей экономической политики правительства 60-х и следующих годов. С одной стороны, по отношению к верхнему слою крестьянства — зажиточному крепкому мужичку реформа, несомненно, дала некоторый плюс; этот плюс заключался не столько в самой реформе, сколько в постройке железнодорожной сети. С этой железнодорожной сетью, любопытным образом, помещики просто не справились; помещичье сознание не справилось с результатами постройки этой сети. Эта сеть упраздняла привилегию помещика, может быть более важную, чем было само крепостное право в последнее десятилетие своего существования. Вы знаете, что само-то крепостное право до известной степени даже тяготило помещика в это время, но у него была неоцененная привилегия — первому являться на рынок. Крестьянин мог продавать свой хлеб только после того, как он отвез на пристань или на рынок, местный или центральный, барский хлеб. Барин являлся на рынок первым и поэтому брал лучшую цену, брал с рынка сливки, а мужик всегда был должен отставать. С ликвидацией крепостного права подводная обязанность отпала. Крестьянин не обязан был отвозить барский хлеб на рынок и дожидаться, пока барин продаст свой хлеб, и в то же самое время с проведением железнодорожной сети, где станция, там и рынок, и кто первый попадет на станцию — барин или мужик — это зависит от ловкости и бойкости того и другого. И зажиточный мужик, мужик крепкий, оказывался в этом случае бойчее барина; он привозил хлеб к этому новому рынку, к железнодорожной сети, быстрее, чем барин, и брал первые цены.
В результате, этот слой крепкого крестьянства, в особенности в поволжских губерниях, несомненно, выиграл от реформы. И вот почему архинаивны были революционеры, отправлявшиеся именно в Поволжье и на Дон. Дон тоже район крепкого, крупного крестьянства, потому что и казачество принадлежало к этому слою. Революционеры отправлялись в Поволжье или на Дон в надежде, по воспоминаниям о Разине или Пугачеве, найти там революционное настроение. Там его всего труднее было найти.
Там его всего труднее было найти как раз в том слое, который политически, несомненно, был наиболее передовым в то время. Этот факт необходимо вообще заметить себе, потому что мы с ним встретимся на всем дальнейшем протяжении русской крестьянской революции, с этим, как я говорю в своей последней книжке, штабом нашей крестьянской революции до 1905 года. Позвольте вам прочесть характеристику, взятую из писем чрезвычайно тонкого и умного наблюдателя деревни 70-х годов, проф. Энгельгардта, — писем из деревни, которые до сих пор только по странной случайности не попали в качестве одного из основных пособий ни в один из наших семинариев, просто потому, что мы начинаем семинарии немножко позднее, не затрагивая середины XIX столетия. Деревню средней полосы России (Энгельгардт был смоленский помещик) в 70-х годах можно изучать по его письмам великолепным образом. Вот что пишет Энгельгардт: «В моих письмах я не раз указывал на то, что хотя крестьянин и не имеет еще понятия о наследственном праве собственности на землю, — земля ничья, земля царская, — но относительно движимости понятие о собственности у него очень твердое. Я не раз указывал, что у крестьян крайне развиты индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплоатации, зависеть, недоверие друг к другу, подкалывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству, — все это сильно развито в крестьянской среде. Кулацкие идеалы царят в ней, каждый мечтает быть щукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянин, если обстоятельства тому благоприятствуют, будет самым отличным образом эксплоатировать всякого другого, все равно — крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплоатировать его нужду».
Краски, несомненно, сгущены, хотя нужно сказать, что пролетарского влияния среди крестьянства Энгельгардт просто еще не мог застать. Это написано ведь в 70-х годах, когда это пролетарское влияние далеко еще не проникло в деревню, деревня отстала. Позже, конечно, среди деревенской бедноты появились иные настроения, но это было не в 70-х годах, а позднее. Итак, если так можно выразиться, идейно в деревне в 70-х годах царил кулак. Каково же было настроение самого кулака? «Богачи-кулаки, это — самые крайние либералы в деревне, самые яростные противники господ, которых они мало того что ненавидят, но и презирают как людей, по их мнению, ни к чему не способных и ни на что не годных», — говорит Энгельгардт. «Богачей-кулаков хотя иногда и ненавидят в деревне, но как либералов всегда слушают, а потому значение их в деревне в этом смысле громадное. При всех толках о земле, переделах, поравнении кулаки-богачи более всех говорят о том, что, вот-де, у господ земля пустует, а мужикам затеснение, что будь земля в мужицких руках, она не пустовала бы, и хлеб не был бы так дорог».
Таким образом кулаки представляли собою уже в 70-х годах, несомненно, слой, наиболее демократический в деревне, и могли бы быть опорой политической революции. Но поскольку наши тогдашние революционеры подходили к деревне с социалистической программой, со своей наивной верой в сельскую общину, как зародыш будущего социалистического строя, — они, конечно, должны были встретить у этого единственно политически восприимчивого слоя деревни глухое ухо. Иначе и быть не могло. Кулаку проповедывать социализм было совершенно невозможно, а проповедывать ему политическую революцию, может быть, не совсем бесполезно. Во всяком случае в этой политической революции впоследствии кулак принял участие и был на ее стороне, но только до того момента, когда социализм, в лице комитетов бедноты, прямо не свалился к нему в деревню; тогда он стал контр-революционным. Повторяю, это был командующий слой в деревне, и то, что говорил недавно т. Калинин, — вы, вероятно, это сами помните, — показывает, что этот слой сохранил некоторое значение и до сих пор; вы помните его рассказ, как кулаки сидят на передних скамьях в деревне и т. п. Как видите, это был слой весьма влиятельный, и, конечно, он относительно революционеров-социалистов, относительно народников-пропагандистов 60-х и 70-х годов, уже тогда был контр-революционным и иным быть, само собой разумеется, не мог. В этом слое деревни народническая революция не могла встретить поддержки. Но ведь не все же стояло за кулаков, была и деревенская беднота? Позвольте в параллель тому, что я читал из Энгельгардта, прочесть отрывок из воспоминаний другого обитателя тогдашней деревни, отрывок из «Запечатленного труда» В. Н. Фигнер. Вот как она описывает ту крестьянскую массу, уже не кулацкую, конечно, с которой ей пришлось столкнуться. Она приехала в деревню в качестве фельдшерицы:
«Я принялась прежде всего за свои официальные обязанности. Восемнадцать дней из тридцати мне приходилось быть вне дома, в разъездах по деревням и селам; эти дни давали мне возможность окунуться в бездну голодной нищеты и горя. Я останавливалась обыкновенно в избе, называемой въезжей, куда тотчас же стекались больные, оповещенные подворно десятским или старостой. 30—40 пациентов моментально наполняли избу; тут были старые и молодые, большое число женщин, еще больше детей всякого возраста, которые оглашали воздух всевозможными криками и писком. Грязные и истощенные, — на больных нельзя было смотреть равнодушно; болезни все застарелые: у взрослых на каждом шагу ревматизмы, головные боли, тянущиеся 10—15 лет, почти все страдали накожными болезнями; в редкой деревне были бани; в громадном большинстве случаев они заменялись мытьем в русской печке; неисправимые катары желудка и кишок, грудные хрипы, слышные на много шагов, сифилис, не щадящий никакой возраст, струпья, язвы без конца, и все это при такой невообразимой грязи жилища и одежды, при пище столь нездоровой и скудной, что останавливаешься в отупении над вопросом, есть ли это жизнь животного или человека!?.. Часто слезы текли у меня градом в микстуры и капли, которые я приготовляла для этих несчастных; их жизнь, казалось мне, немногим отличается от жизни 40 миллионов париев Индии, так мастерски описанной Жакольо». «И, — резюмирует В. Фигнер, — эти три месяца были для меня тяжелым испытанием по тем ужасным впечатлениям, которые я вынесла из знакомства с материальной стороной народного быта; в душу же народа мне не удалось заглянуть, для пропаганды я рта не раскрывала».
Действительно, перед этой массой деревенских пауперов смешно было вести какую бы то ни было пропаганду, ибо, очевидно, этим людям приходилось еще бороться за условия самого элементарного физического существования. Паупер был совершенно невосприимчив к социалистической пропаганде, потому что он был ниже всякой политики, кулак — потому что он был вне социалистической политики, он был демократом, зародышем буржуазной демократии в чистом виде. Ни в том, ни в другом деревенском слое, поэтому, социалистическая революция не могла найти никакой поддержки.
Я немного подробнее остановился на этом, потому что в своем четырехтомнике я даю слишком суммарное объяснение этому факту, говоря, что положение крестьян вообще после реформы улучшилось. Это верно, как вы видите, только по отношению к кулацкому слою; он действительно выиграл, и не столько от реформы, сколько от проведения железнодорожной сети, — он стал успешнее конкурировать с барином. Что касается массы, то причина была другая, та, на которую я указывал в своих свердловских лекциях, но они не напечатаны, поэтому я и повторяю этз здесь. Причина заключается в том, что масса была пауперизована, что эту массу составляли не пролетарии, а именно пауперы, а, вопреки наивной ошибке Бакунина, между паупером и пролетарием целая пропасть. Между ними общего только тот физиологический факт, что желудок того и другого часта бывает пуст, но только на этом физиологическом базисе строить какие-нибудь социологические выводы, на основании того, что и тот и другой часто бывают голодны, делать вывод, что у них одинаковы психология и идеология, — нельзя. Психология пролетария была всегда психологией наступления, психологией революционного борца, даже, как вы увидите, в этот еще очень ранний период развития, а психология паупера была психологией существа, которое, вообще говоря, дальше потребности наполнить свой желудок ничего почти не видело. Крестьянская революция, таким образом провалилась не вследствие какой-нибудь случайности, а потому, что в деревне или были революционные элементы, да не те, которые были нужны тогдашним революционерам, или же не было революционных элементов вовсе. К какому слою деревни ни обращайся, всюду революционеры должны были встретить глухое ухо.
И вот, в то самое время, когда в деревне был мертвый штиль, в городе, наоборот, происходило движение. Об этом движении я вскользь уже упоминал, об этом движении много говорится даже в моем «сжатом очерке», но все-таки не могу не напомнить основных моментов этого движения. Я, рискуя пасть в ваших глазах, все-таки процитирую один документ, в «сжатом очерке» приведенный, ибо вы, конечно, не знаете этого «сжатого очерка» наизусть, а документ чрезвычайно любопытный. Это — циркуляр министра внутренних дел, изданный в 1870 году по случаю забастовки в Питере на Невской бумагопрядильне. Здесь говорится: «Стачка рабочих на Невской бумагопрядильной фабрике как явление совершенно новое, до сего времени совершенно не появляющееся в среде нашего рабочего населения, обратила на себя высочайшее внимание, и государю императору благоугодно было повелеть поручить г. г. губернаторам, чтобы они имели самое строгое и неослабное наблюдение за фабрично-заводским населением». Вот этот факт, что стачка на Невской бумагопрядильне, которой не заметила тогдашняя наша народническая революционная литература, была замечена Александром II, который вовсе не был гениальным человеком, но, как вы видели из цитаты по поводу освобождения крестьян, был человеком элементарно неглупым и разбиравшимся более или менее в основных явлениях, — этот факт чрезвычайно знаменателен, и, к слову сказать, министр внутренних дел, конечно, врет, заявляя, что это явление совершенно новое. Другой циркуляр, московского губернатора, за год раньше, в 1869 году, отмечал забастовки на фабрике Коншина в Серпухове, затем, мы знаем, были большие забастовки на Морозовских фабриках в 1865 году. Потому-то царь и обратил внимание на это, что явление стало постоянным, что оно стало учащаться, и учащающееся явление фабричных забастовок обеспокоило верхушку старой царской России.
Если мы подойдем к нашему революционному движению с этого конца, то увидим, что единственные серьезные и прочные революционные организации, какие попадаются нам в 70-х годах, как раз группировались около рабочего населения. Знаменитые чайковцы, имя которых известно всем, как родоначальников пропагандистского движения в 70-х годах, оперировали главным образом среди питерских ткачей, которым читал лекции Крапоткин, и среди питерских металлистов, т.е. ютились около рабочих, не сидели в деревне, где им даже рта не приходилось раскрывать для пропаганды, а рабочих распропагандировали, и весьма недурно, в Питере. Московский кружок Бардиной, одно из самых ярких и эффектных явлений 70-х годов, группировался около московских текстильных фабрик. Бардина и ее подруги поступили работницами на московские мануфактуры, они опять-таки оперировали среди рабочих, среди пролетариата. В то время, когда в деревне был мертвый штиль, здесь, наоборот, начали завывать раскаты приближающейся бури, и во второй половине 70-х годов, к 1878 году, в Питере эта буря зашумела так сильно, - что на нее обратили внимание даже и среди интеллигенции, вообще очень тупой к явлениям этого рода. Как вы знаете из Плеханова, этой забастовкой заинтересовался даже Суворин, будущий редактор «Нового Времени», пожертвовавший на рабочее движение 3 рубля.
В конце 70-х годов рабочее, движение в Питере достигло большого размаха. Правда, переоценивать революционность этого движения никоим образом не приходится. Эти питерские ткачи, которые устраивали забастовки,, были настолько примитивны политически, что, как известно, самым ярким политическим моментом движения было шествие ткачей к наследнику, будущему Александру III. Плеханов рассказывает об этом шествии в своем «Русском рабочем революционном движении» в третьем лице. Лев Тихомиров в своей автобиографии сообщает, что Плеханов был одним из организаторов этого движения, что Плеханов, сознательно воспользовался в данном случае монархическими тенденциями рабочих, чтобы столкнуть их с монархией нос к носу и показать: ну, что же, вот сходили вы к наследнику, что же из этого вышло? — ничего не вышло. Я не знаю, кто прав, но думаю, что в данном случае особенно обвинять Тихомирова во лжи не приходится. Тихомиров — нет надобности говорить, кто это такой, это знаменитый предатель, один из лидеров «Народной Воли», перешедший к царизму и за это пощаженный, сделавшийся редактором реакционных «Московских Ведомостей» на место Каткова и благополучно скончавшийся в Советской России несколько лет назад, — в своей автобиографии, по моему мнению, является более или менее достоверным свидетелем. Она написана в очень объективных тонах; она и писалась не для печати, а для себя, это его интимные заметки. Там мы найдем прямо восторженную характеристику Александра Михайлова, одного из главнейших землевольцев и народовольцев, про которото Тихомиров говорит, что он был бы, конечно, великолепным министром во всякой другой обстановке; очень объективную характеристику Перовской, хотя и не воссторженную, но очень объективную, без всяких гадостей и сплетен, так что, я думаю на Тихомирова можно ссылаться. Я говорю это потому, что мне придется ссылаться на него по другому, поводу, и я объясняю, почему это можно делать.
Итак, повторяю, уровень политического сознания рабочих питерских, которые забастовали в 70-х годах, был не очень высок. Если мы вспомним, что даже питерские металлисты 9 января 1905 года ходили к царю, то мы не бросим камнем в этих ткачей 1878 года, которые ходили к наследнику. Но тем не менее даже и это движение все-таки послужило базой для первой политической организации русских рабочих, для Северного союза русских рабочих, возглавлявшегося Халтуриным.
В Северно-русском рабочем союзе, возникшем на почве питерской забастовки 78-го года, сосредоточившем в себе человек 200 и довольно быстро провалившемся (в числе этих 200 оказался провокатор, который его и предал), — в этом союзе гораздо более интересен основатель этого союза, чем сам союз. На Степане Халтурине, безусловно крупнейшем из русских рабочих XIX столетия, я останавливаюсь довольно подробно в своем «сжатом очерке», но что там написано, успело уже устареть. Степан Халтурин оказывается личностью гораздо более сложной и интересной, чем казалось тогда. Там я исхожу из того, что Халтурин был настоящим рабочим от станка (как известно, и взорвать-то Зимний дворец он мог только потому, что работал во дворце в качестве столяра) — и больше ничего. На самом деле, Халтурин, как оказывается, является первой, очень интересной спайкой пролетарского движения с тем демократическим слоем деревни, о которой я говорил в прошлый час. Он — сын зажиточного крестьянина Вятской губернии, настолько зажиточного, что каждому из сыновей,. — а их было несколько, — по смерти отца досталось около полуторы тысячи рублей; для крестьянина это весьма порядочный достаток. Таким образом он отнюдь не был из деревенской бедноты, он вышел из среды тех людей, которые были «первыми либералами в деревне». По семейным воспоминаниям, отец Халтурина был человек очень богомольный, ездил в Иерусалим и т. д., но холопским духом отнюдь не отличался. Кстати, он не был и крепостным. Это — одна сторона дела. Другая сторона, еще более для нас с вами любопытная — это то, что Степан был типичным рабфаковцем. Он, оказывается, окончил, или почти окончил среднее техническое училище в Вятке, основанное вятским земством, приблизительно с курсом теперешнего рабфака, с механикой, физикой и т. д.; он почти кончил ero, и благодаря этому по своему умственному развитию, он был далеко выше среднего уровня не только тех текстилей, которых он организовал, но даже выше питерских заводских металлистов. Вот это-то сочетание очень большой интеллигентности и принадлежности к наиболее сознательному политически слою деревни, повторяю, делает его очень сложной и интересной «смычной» фигурой, на которой сходится целый ряд течений низовых, демократических, в известном смысле пролетарских, но не совсем обычных.
Что касается союза и его программы, то она довольно подробно изложена в «сжатом очерке», я на ней останавливаться не буду, а обращу ваше внимание «на одну ее сторону, — это на то, что она была чрезвычайно мало революционной. В сущности задача, которую ставило себе политическое общество, основанное Халтуриным, — Северный союз русских рабочих можно назвать скорее всего политическим обществом, это не был ни в коем случае профессиональный союз, — это общество ставило своей задачей в первую очередь пропаганду и организацию. И характерно, что в политической области оно не шло дальше требования гарантий, необходимых для успешной пропаганды; программа этого союза требовала свободы печати, собраний, сходок и т. д., но не требовала созыва народного представительства.
Можно пожалуй, видеть тут уступку интеллигентскому течению той поры, поскольку тогдашние интеллигенты в своем социалистическом рвении решительно отрицали всякий парламентаризм, и Степан не умел эмансипироваться от этого. По словам Плеханова, он внимательно изучал западно-европейские конституции, но характерно, что из этих конституций он перенес к себе только то, что гарантировало, повторяю, успех пропаганды. Вопроса о захвате власти как непосредственной задаче Северный союз русских рабочих еще совершенно не ставил; в этом отношении Халтурин, несомненно, приспособлялся к среднему уровню тех текстильных рабочих, которых он организовал, — а сам он был определенно политическим человеком; это он запечатлел своей деятельностью в «Народной Воле», а впоследствии и своей гибелью, и он-то, разумеется, ставил вопросы гораздо шире. Но когда приходилось организовывать людей, еще вчера ходивших с челобитной к наследнику, то приходилось приноравливаться к их уровню. И Халтурин в своей программе распространяется даже насчет Христа и его апостолов, очевидно ища образов, которые были бы понятны его публике.
Долгое время Северный союз русских рабочих считался единственной политической рабочей организацией России, возникшей в 70-х годах. В настоящее время мы знаем, что это не только не единственная, но далеко и не самая интересная из таких организаций, и что за три года до него на юге России, — в Одессе, Ростове, — уже существовала другая организация: Южно-русский союз рабочих, с программой несравненно более революционной, чем программа Северного союза русских рабочих. В первом пункте устава этого Южно-русского союза говорится:
«Сознавая, что установившийся ныне порядок не соответствует истинным требованиям справедливости относительно рабочих, что рабочие могут достигнуть признания своих прав только посредством насильственного переворота, который уничтожит всякие привилегии и преимущества и поставит труд основой личного и общественного благосостояния; что этот переворот может произойти только при полном сознании всеми рабочими своего безвыходного положения и при полном их объединении, — мы, рабочие Южно-русского края, соединяемся в один союз, под названием Южно-русского союза рабочих, поставляя себе целью»...
Дальше идет программа уже самого союза. Я останавливаю ваше внимание на этом введении. Тут нет ни Христа, ни апостолов и никаких других фиоритур, которые нужны были для уловления питерских простых духом текстилей, a просто ставится как цель насильственный переворот, т.е. захват власти рабочим классом. В этом отношении возникший в 1875 году, за три года до халтуринского союза, Южно-русский союз, конечно, стоит на гораздо более высокой ступени революционного развития. Вдобавок, он оказался при ближайшем исследовании и гораздо многолюднее Северного (он охватывал человек до 700), и долговечнее, ибо просуществовал много месяцев, если не лет (Северный продержался менее года).
Что (было, причиной этого? Конечно, не личность вождя. Вождь Южно-русского союза не пролетарий, а интеллигент, дворянин Заславский. Он, правда, был человеком довольно оригинальным по своей методе действия. А именно, одной из его задач было на версту не подпускать к рабочим революционеров-пропагандистов 70-х годов. Он тщательно оберегал рабочий класс от влияния этой мелкобуржуазной публики. У него поэтому и отношения с этими пропагандистами были сквернейшие, чем и объясняется его почти полная неизвестность. Хотя это был человек, несомненно, выдающейся революционной энергии и заплативший очень дорого за свои революционные выступления (он был сослан на каторгу за основание этого союза), несмотря на то, что им создан был, повторяю, крупный союз, его так замалчивали в то время, что Плеханов о нем ничего не знал. Плеханов не знал о существовании Южно-русского рабочего союза, — хотя Плеханов мог о нем знать, как вы сейчас увидите, — но очевидно так сильно было молчание вокруг этого союза, что ни звука, не достигло о нем до Ленинграда. Но я не думаю относить особенности Южно-русского союза за счет Заславского, — к этому нет никаких оснований. Конечно, то, что он не подпускал мелкую буржуазию к своим рабочим, — это черта довольно похвальная и показывающая, что человек довольно глубоко проникал в суть вещей, но гораздо важнее другая сторона дела — социальная база Южного союза. Основная черта союза Северного была та, что это был союз текстильщиков, ткачей, рабочих, вчера вышедших из деревни и сохранивших еще всю связь с деревней. На юге это был союз главным образом металлистов. В Одессе были тогда крупные железнодорожные мастерские, была большая верфь Русского общества пароходства и торговли; в Ростове тоже были металлургические предприятия, — и вот на них-то и базировалось главным образом это рабочее движение. Эту базу Южно-русского союза приходится подчеркнуть, ибо впоследствии, разбирая с вами рабочее движение конца 90-х и начала 900-х годов, мы увидим, что рабочее движение становится революционным именно с момента вступления в него металлистов. Основная индустрия современного капитализма, металлургия является в то же самое время и наиболее революционирующей индустрией, и металлист всегда шел впереди русского рабочего движения, всегда был его гвардией. В первый раз мы это видим на одесских и ростовских рабочих 1875 года. Союз в конце концов и там, конечно, провалился, и Южно-русский рабочий союз был тоже ликвидирован полицией. Результатом был процесс Заславского и приговор его к каторге, о чем я сейчас говорил. Но что известный дух рабочего вольномыслия на юге сохранился, — это показывает та картина, которую описал Плеханов. Плеханов приехал в Ростов на другой день после разгрома ростовской полиции, произведенного рабочими. Он описывает это как простую вспышку инстинкта, стихийную вспышку рабочего гнева, но на самом деле почва для таких выступлений рабочих была, несомненно, подготовлена тем, что на юге было пролетарское революционное движение еще за три года перед этим.
Еще одна любопытная подробность. Между этим Южно-русским рабочим союзом и Северным рабочим союзом была живая связь. Рядом с Халтуриным в числе основателей Северного союза стоит Виктор Обнорский, тоже типичный рабочий-полуинтеллигент, побывавший за границей, видевший западно-европейское рабочее движение — словом, с таким широким миросозерцанием, которое, конечно, далеко выходит за рамки обычного миросозерцания русского пролетария 70-х годов. Но этот Виктор Обнорский, как теперь доказано, ученик Заславского и работал раньше, на юге в рядах этого самого Южно-русского рабочего союза. Таким образом, повторяю, Плеханов мог знать о Южно-русском союзе. То ли он никогда не говорил о нем с Обнорским, не приходилось ему, хотя Обнорского он, несомненно, в Питере встречал, работая там среди пролетариата, то ли какие-нибудь другие причины помешали этому, но так или иначе у него мы не встречаем указаний на существование Южно-русского рабочего союза. Факт чрезвычайно ценный со стороны исторической критики, потому что это показывает, что иногда даже на свидетельство современников полагаться нельзя. Видя это молчание Плеханова, какой-нибудь очень тонкий исторический критик может заключить, что Южно-русский союз есть миф. Как же, Плеханов не говорит о нем. Но так как от этого мифа мы имеем документы и устав, который я вам читал, то не приходится сомневаться, что Южно-русский рабочий союз существовал. Несомненно, что это не было нечто мифическое, а тем не менее, на севере в Ленинграде, об этом могли не знать.
И вот на основе этого рабочего движения уже в 70-х годах начинает понемногу у нас вырабатываться марксистская идеология. Я употребляю выражение «марксистская идеология» только потому, что мы привыкли к этому нелепому словосочетанию. На самом деле, вы знаете, что под идеологией Маркс и Энгельс разумели ту более или менее фальшивую и призрачную картину, которую вырабатывает себе тот или другой общественный класс под влиянием исключительно его классовых интересов, — картину чисто субъективную. Поэтому можно говорить о буржуазной идеологии о мелкобуржуазной идеологии, можно говорить о феодальной идеологии, но поскольку марксизм есть не простое отражение действительности сквозь призму цеховых интересов рабочего класса, а есть научная теория, объективная научная теория, постольку, конечно, о марксистской идеологии говорить не точно, это выражение неточное; приходится говорить о марксистском миросозерцании, иначе мы ставим свою теорию, которую мы считаем научной, и которая действительно, объективно является научной теорией, на одну доску с фантазиями всевозможных мыслителей XVIII века, вроде Руссо, социалистов-утопистов и т. д. Между тем мы всегда резко проводим черту между утопическим и научным социализмом. Я сделал это отступление, а затем все-таки буду употреблять эти выражения «марксистская» и «пролетарская идеология», потому что мы, к сожалению, привыкли к этому неудачному словоупотреблению.
Так вот, марксистское миросозерцание начинает у нас складываться именно на основе этого рабочего движения. Об этом приходится говорить, потому что это опять-таки резко расходится с тем представлением о начале марксизма в России, которое вы встречаете обычно в книжках и которое предают современники-очевидцы. Как Дейч в своих воспоминаниях рассказывает о движении Плеханова к марксизму? Плеханов, говорит, когда он жил в России, не знал немецкого языка и поэтому не имел возможности изучить как следует Маркса — смешивал Маркса с Дюрингом и т. д. Имея очень неправильные общественные представления, он был заражен всевозможными народническими предрассудками. Попав в эмиграцию и изучив там немецкий язык, Плеханов имел возможность внимательно прочитать все произведения Маркса и Энгельса и сделался таким образом марксистом. Так примерно рассказывает Дейч о зарождении русского марксизма, но все это — извиняюсь перед этим чрезвычайно почтенным ветераном русской революции — есть совершеннейший вздор, ибо первая марксистская статья Плеханова написана в 1878 году в Ленинграде, когда Плеханов немецкого языка не знал, но когда он наблюдал воочию непосредственно петербургское рабочее движение, и оно наводило его на целый ряд соответствующих выводов. Эта его статья — «Закон экономического развития общества и задачи социализма в России» — напечатана была в номере четвертом «Земли и Воли», вышедшем в феврале. 1879 года, но написана статья была несколько раньше, в конце 1878 года. Вот что он пишет:
«Вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самой жизнью самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, вопреки априорным теоретическим рассуждениям революционных деятелей. В прошлом, не без некоторого основания, мы обращали все свои надежды, употребляли все свои усилия на деревенскую массу. Городской рабочий занимал второстепенное место в расчетах революционеров, ему посвящалась, можно сказать, только сверхштатная часть сил. В городе пропаганда велась между делом, в минуты, когда деревня была почему-либо недоступна для пропагандиста, и велась притом исключительно с целью выработать из городского рабочего пропагандиста для деревни. Такое отношение к делу, естественно, исключало возможность как настойчивой, систематической пропаганды, так и, в особенности, организации городских рабочих, и в настоящее время дает себя чувствовать очень плачевными результатами».
«Городской рабочий, несмотря на сравнительную незначительность затрачиваемых на него сил, проникся идеями социализма в довольно сильной степени. Теперь уже трудно встретить такую фабрику или завод, или даже сколько-нибудь значительную мастерскую, где нельзя было бы найти рабочих-социалистов. Но как ни отрадны подобные явления, они, однако, лишаются огромной доли своего значения, когда мы начинаем ближе присматриваться к положению этих спропагандированных рабочих в среде их товарищей. В течение минувшего года мы видели несколько крупных стачек на разных заводах и фабриках. Где в это время были наши социалисты, какую роль играли они в этих движениях? Почти никакой. Иногда о них вовсе не было слышно; в тех же случаях, когда они пытались действовать, влияния их оказывались совершенно ничтожными».
«Между тем, — продолжает Плеханов, — надо было относиться к городским рабочим как к целому, имеющему самостоятельное значение, надо было изыскивать средства влиять на всю их массу, а это было невозможно до тех пор, пока в городских рабочих видели только материал для вербовки отдельных личностей. Серьезному отношению к городским рабочим всегда мешал взгляд на их значение, по которому им отводилось самое второстепенное место. Справедлив ли этот взгляд? Действительно ли городской рабочий остается без крупной роли в будущем социальном перевороте? Нам кажется, что это мнение совершенно ошибочно...»
«Не представляя западно-европейской оторванности от земледельческого класса, наши городские рабочие одинаково с западными составляют самый подвижной, наиболее удобовоспламеняющийся, наиболее способный к революционизированию слой населения».
Дальше следует совершенно народническая фиоритура. «Благодаря этому они являются драгоценными союзниками крестьян в момент социалистического переворота».
Тут еще народник в Плеханове сказывается. Но те практические меры, которые он предлагает, пророчески освещают перед нами всю будущую историю рабочего движения. Прежде всего самые методы организации:
«Организуйте массу для борьбы путем борьбы и во время борьбы, только таким образом вы создадите в ней самодеятельность, самоуверенность и стойкость, каких она не имела до сих пор, и благодаря отсутствию которых десяти городовых бывает часто достаточно, чтобы разогнать и навести ужас на целую толпу рабочих».
Главная ваша цель, говорит он, агитация в массах. На какой же основе?
«Масса существенно, кровно заинтересована прибавкой или уменьшением заработной платы, большей или меньшей прижимкой хозяев и мастеров, большей или меньшей свирепостью городового. А социалисты разводят перед нею разные теории, призывают ее к развитию и образованию и т. п. вещам, сводящимся иногда к чтению лекций о каменном периоде или о планетах на небесах. Как может относиться масса к подобным людям? Она только видит в них нечто отличное от себя, думающее не в унисон с нею, иногда насмешливо задевающее ее верования и надежды, говорящее даже несколько иным языком; но какой-нибудь пользы для себя она не видит, не видит даже их желания быть полезными, потому что не понимает, каким образом сведения о каменном периоде могут привести к устранению чересчур придирчивого табельщика».
Таким образом агитация должна опираться на повседневные нужды рабочего класса. Товарищи, те из вас, которые, хотя бы в общих чертах, знают историю нашей партии и нашего рабочего движения, — те, конечно, помнят, какое колоссальное значение в 90-х годах имела брошюра «Об агитации», где как раз и ставился вопрос об организации массы для борьбы в первую голову на почве повседневных интересов рабочего класса. Так вот идея этой брошюры об агитации была налицо в плехановских писаниях даже не народовольческого, а землевольческого периода, раньше появления «Народной Воли».
Агитация — путь воздействия на массы, говорит Плеханов, «агитационный путь воздействия на массу дает гораздо более плодотворные результаты и гораздо скорее ведет к цели, нежели практиковавшийся, так сказать, до вчерашнего дня способ влияния на отдельных личностей».
Мало того, что он предсказывает брошюру об агитации, — он предсказывает и ту форму, которую должно принять рабочее движение в русской самодержавной обстановке:
«Вытекающие отсюда трудности расширения организации должны вознаграждаться исключительными способностями и преданностью к делу со стороны лиц, посвященных в ее тайны; «страшная тайна и величайшее насилие в средствах» составляли отличительную черту английских рабочих союзов до 1824 года, и ни один мыслящий человек не упрекнет организацию за неразборчивость в средствах, когда она увидит себя вынужденной на насилие отвечать насилием...».
Дальше землеволец, опять берет верх в Плеханове, и он рисует себе насилие рабочего класса в интеллигентско-мелкобуржуазной форме террора. Но как бы то ни было, идея боевой и конспиративной рабочей партии, идея будущего большевизма, намечена в этих строках достаточно ясно.
Итак, основная идея революционного рабочего движения была формулирована Плехановым еще в «Земле и Воле», в статьях, написанных в конце 1878 года и опубликованных в самом начале 1879 года. Это для нас ценно, потому что лишний раз подчеркивает, что к своей пролетарской революционной позиции Плеханов шел не от книжки, как изображает Дейч, как изображали до сих пор, а от действительной жизни, от той реальной борьбы, которая происходила на его глазах. Плеханов марксистом сделался, не изучая Маркса в подлиннике, как думает Дейч, а наблюдая в подлинном виде рабочее движение, и только это рабочее движение, конечно, и натолкнуло его на чтение и изучение Маркса. Этот факт чрезвычайно полезно запечатлеть в своем сознании прежде всего из методологических соображений, — чтобы понять, как возникает идеология: идеология возникает всегда на почве определенной действительности[4-1].
Я теперь перехожу к методам действия, которые связаны с другим революционным ответвлением конца 70-х годов, т.е. с теми группами, которые ориентировались не на рабочий класс, по крайней мере не главным образом на рабочий класс, а ориентировались главным образом на буржуазию.
Что толкнуло на террор тогдашних революционеров? Почему они занимались с нашей точки зрения совершенно нелепым истреблением начальствующих лиц и охотой за царем, вместо того, чтобы вести массовую агитацию? На это один из них, тот же цитированный мною прошлый раз Тихомиров, дает, по-моему, совершенно удовлетворительный ответ. Ответ этот заключается вот в чем. В половине 70-х годов, движение достигло такой температуры, что ограничиться разговорами революционеры не могли; они должны были как-то начать действовать. Но как может начать действие группа в несколько сот человек? Вы скажете, что они могли бы обратиться к рабочей массе и двинуть ее на революцию. Но вы видели, что даже в Петербурге, — а это был центр революционного движения, — рабочая масса стояла на таком уровне, что ее приходилось подвигать на шествие к наследнику. Очевидно, что опереть на рабочую массу такой степени сознательности революционное движение, революционную борьбу было нельзя. Крестьяне? Крестьяне, конечно, базой для революционного движения служить могли еще в меньшей степени, чем рабочие. Что же оставалось делать? Оставалось действовать самим. А сами — это, повторяю, были несколько сот человек. По подсчетам Тихомирова, вокруг Исполнительного Комитета группировалось около 500 человек. Эта цифра довольно надежная, поскольку Тихомиров хороню, конечно, знал все внутренние дела Исполнительного Комитета «Народной Воли». Эти пятьсот человек, в силу чисто объективных условий, ничего другого, кроме партизанской борьбы с правительством, предпринять не могли. Они, повторяю, были осуждены на то, чтобы или говорить слова, которые явно никакого действия не производили и их самих не удовлетворяли, или что-то сделать при помощи каких-то частичных выступлений партизанского характера, которые в конце концов и отлились в систему террора. Навстречу им в данном случает пошла техника. Как раз семидесятые годы — это первый расцвет сильно взрывчатых веществ. Это был период появления нитроглицерина, динамита, пироксилина и т. д. Мы знаем из воспоминаний о Желябове, как на него, на этого вождя «Народной Воли», производило прямо чарующее впечатление видеть, как кусок динамита, небольшой кусочек вещества, который в добавок можно приготовить дома, кустарными способами, производит в буквальном смысле слова оглушительный и страшно разрушительный эффект. Динамит таким образом сделался тем техническим средством борьбы, которое могло сделать партизанскую тактику страшной и действительно сделало ее страшной: едва не взлетел на воздух царский поезд, отчасти взлетел на воздух царский дворец и в конце концов взлетел на воздух сам царь.
Совершенно правильно говорил один из тогдашних реакционеров, директор департамента полиции Дурново, что то влияние на массы, которое террор производит своими, действиями, гораздо больше, нежели самые непосредственные результаты этого террора. Когда Тихомиров в разговоре с ним — это было уже после измены Тихомирова — говорил: в сущности говоря, чего же правительство тогда испугалось? ведь это же горсть людей была — Дурново ответил: да, горсть, но в руках у этой горсти были такие средства действия, которые делали ее влияние гораздо большим, чем могла бы она иметь по своему количественному составу. Это было, несомненно, соблазнительно, и я считаю, что тактика народовольцев в этом случае не заслуживает, объективно рассуждая, такого безусловного отрицания, которому ее подвергали в период борьбы с террористической тактикой эсеров. Почему террористическая тактика эсеров в начале XX века никуда не годилась? Да по той простой причине, что у нас в 1905 году была уже революционная масса, и поэтому вести партизанскую борьбу не имело никакого смысла. Надо было воззвать к этой массе, ее организовать, ее вести на вооруженное восстание, а не тратить силы на террор. Но этих условий не было в 70-х годах, тогда не было массы, которую можно было бы двинуть на вооруженное восстание, и потому, повторяю, тогдашние революционеры могли итти или на террор, предпринимать какие-нибудь партизанские действия, или ограничиться бесплодным словоистечением.
Что и мы, в сущности, не отказались от партизанских действий, — показывает опыт того же 1905 года. Что такое было декабрьское восстание 1905 года? Ряд партизанских действий, несколько иного стиля, чем народовольческие выступления, потому что тут было в руках большее количество вооруженных сил, но это все-таки была чистейшая партизанщина. Сравните декабрьское восстание 1905 года и октябрьское восстание 1917 года. Мы вели правильную осаду юнкеров, мы вели правильную атаку Кремля и т. д. Разве мы видели что-нибудь подобное в декабре 1905 года? Вспомните, кто принимал участие, или расспросите тех, кто помнит, и вы увидите, что в декабре 1905 года у нас была типичная партизанская тактика, только иного типа, нежели партизанская тактика народовольцев. В декабре 1905 года не было у нас красной гвардии, не было на нашей стороне целых полков, не было у нас и артиллерии, — совершенно естественно, что, кроме партизанской тактики, нам ничего не оставалось делать. Таким образом тактика народовольцев в этом отношении вытекала из того положения, в которое они были поставлены.
Но эта тактика фатальным образом вела к изменению и программы и в известной степени даже идеологии этой группы. На примере Плеханова мы видели, как в основе всякого миросозерцания лежит дело, лежит факт, а не книжка. Обратный пример дают в этом случае народовольцы. Вы знаете, что революционных групп было последовательно две: в конце 70-х годов сначала «Земля и Воля», образовавшаяся в 1878 и 1879 годах, затем после того, как «Земля и Воля» раскололась на воронежском съезде, в июне 1879 года образовалась «Народная Воля». Я это напоминаю опять-таки только для тех, которые эту внешнюю историю не ясно вспоминают. До выхода записок Фигнер и до автобиографии Тихомирова считали, что «Земля и Воля» прежде всего пропагандистская организация, и только «Народная Воля» стала чисто террористической организацией. Уже воспоминания Фигнер открыли тот факт, что на самом деле и «Земля и. Воля» была гораздо более организацией террористической, нежели организацией пропагандистской. А Тихомиров прямо заявляет в своей автобиографии, что уже в «Земле и Воле» в 1878 и 1879 г. г. пропаганда была только ширмой, и изображает деревенщиков, членов партии, сгруппировавшихся в деревне и ведших там пропаганду, как своего рода околпаченных людей, которые воображали, что из центра действительно руководят этой пропагандой. На самом деле, рассказывает Тихомиров, эту пропагандистскую организацию приходилось поддерживать только из приличия и по традиции, потому что, — как в истории обыкновенно бывает, — нельзя сразу расстаться со старыми методами действия, со старыми привычками, со старыми лозунгами. Поэтому деревенщикам время от времени бросали какой-нибудь кусок, время от времени удовлетворяли какой-нибудь литературой, но все внимание сосредоточивали на террористической борьбе. Когда деревенщики съезжались на съезд в Питер, они обыкновенно бунтовались, ругались, а потом разъезжались; питерское же ядро оставалось на месте и продолжало свою деятельность. Поругавшись с деревенщиками, слегка их умаслив, чтобы они больше не сердились, питерцы, спровадив их из Питера, опять принимались за прежнее дело — за организацию террористических выступлений, или, как тогда говорили, за дезорганизацию государственной власти.
Таким образом и Фигнер и Тихомиров изображают организацию «Земли и Воли» как организацию по существу террористическую. Именно на землевольческий период падают такие факты, как покушение Соловьева на Александра II, — покушение неудачное, потому что это было последнее покушение, совершенное при помощи револьвера. Дальше уже было решено твердо применять только динамит, и он в конце концов привел к цели.
Характеристику следующего периода, народовольческого, после воронежского съезда, вы найдете в моем четырехтомнике; там история этого съезда вкратце, но в достаточной мере, изложена. После воронежского съезда «Народная Воля» — уже открыто террористическая организация, а деревенщики образовывают партию «Черного Передела», и тут обнаруживается, что действительно революционным центром был террор, ибо «Черный Передел» ничего не дал; ни черного ни какого другого передела чернопередельцы не произвели, не старались даже произвести, не подходили практически к этому делу совершенно.
Начиная с лета 1879 года, знаменитое постановление Исполнительного Комитета «Народной Воли» все силы борьбы сосредоточивает на личности Александра II. Начинается, как я выразился в своей книжке, травля коронованного зверя, кончающаяся 1 марта 1881 года. Перипетии этой травли я описывать вам не буду. Что тут были проявлены со стороны революционеров буквально чудеса героизма, — это мы знаем, и в этом отношении, конечно, эта эпоха была эпической, единственной в своем роде. Но мне хочется указать на другую сторону дела.
Террор, несомненно, предполагал известные материальные средства: нужен был динамит, нужны были лаборатории, а на эти лаборатории нужны были деньги; деньги откуда-то нужно было доставать. Позднее историки «Народной Воли» вроде Богучарского упорно отрицали, что народовольцы откуда-то эти деньги доставали, изображали средства «Народной Воли» как чрезвычайно скудные и т. д. Это, конечно, совершенно неверная картина. Она объясняется всей позицией буржуазных историков русского революционного движения, которые, как я уже упоминал, всеми мерами старались представить это движение возможно более наивным и даже смешным, дабы показать, что революция в России вообще осуждена на неудачу, и что только буржуазные методы, т.е. методы главным образом захождения с заднего крыльца, петиций и т. д., есть единственно действительные методы. На самом деле «Народная Воля», как раньше «Земля и Воля», несомненно, располагала крупными денежными средствами, которые шли из буржуазных кругов. Отчасти некоторые из членов были сами выходцами из буржуазных семей, как, например, Лизогуб и Войнаральский, отчасти были пожертвования буржуазии. Что буржуазия относилась совершенно иначе к революционному движению, нежели крестьянство, — на этот счет Фигнер в своих воспоминаниях дает ряд примеров, которые сама она не суммирует, не объединяет, а приводит отдельно. В одном месте мы видим, что помощь им оказывает нотариус, в другом месте — председатель земской управы, в Третьем случае — член городской управы и т. д. Все они сочувствуют, поддерживают их, укрывают и все они по мелочам дают деньги, а из этих мелочных взносов образовывались порядочные суммы, более порядочные, нежели изображает Богучарский, нежели, до некоторой степени подчиняясь точке зрения Богучарского, изображаю я, ваш лектор, в четырехтомнике. Средства у них были. Материально, значит, они зависели от буржуазии; и эта материальная зависимость от буржуазии мало-по-малу приводит к тому, что «Народная Воля» перестает быть практически социалистической партией. Тут начинаются советы со стороны Желябова, вождя этой «Народной Воли», поменьше говорить об аграрном терроре и вообще об аграрной революции, поменьше писать об аграрном вопросе, — начинается замазывание термина «республика». «Народная Воля» говорит, что она ставит своей задачей только довести народ до учредительного собрания, а там дальше народ сам решит, как ему управляться. Фигнер говорила даже на своем процессе, что вопрос о монархии или республике у них не ставится, неизвестно, какая форма будет, т.е. Фигнер в самый трагический момент своей жизни, когда она стояла перед перспективой виселицы, унижается до позднейшей освобожденческой идеологии, когда тоже не ставили вопроса о монархии или республике, дабы не расколоться. И эта постановка не была ее личным делом, — раньше Желябов точно так же ставил вопрос перед офицерами, чтобы их «не испугать». Идеология типично мелкобуржуазная, и со ступеньки на ступеньку под влиянием того материального фактора, от которого зависела «Народная Воля», начинается понижение лозунгов этого движения. «Единственная наша задача в данный момент, — говорил Желябов, — это добиться демократической конституции. Для этого нам необходимо сочувствие общества. Мы должны поэтому избегать таких шагов, которые могли бы оттолкнуть от нас либеральные общественные круги» (воспоминания Аксельрода).
Чрезвычайно характерно, что в момент своей агонии, накануне 1 марта, которое было концом не только Александра II, но фактически смертью и Исполнительного Комитета «Народной Воли», потому что он после этого существовал больше номинально — как раз перед этим моментом «Народная Воля» начинает нащупывать действительно революционную силу, которая могла бы вывести русское революционное движение из этой чрезвычайно постыдной, конечно, зависимости, выражаясь современным эсеровским языком, — зависимости от толстосумов. Этой силой был опять-таки рабочий класс.
Лекция пятая
Попытки массовых организаций «Народной Воли»; военная организация. Рабочая программа Желябова; ее пророческие черты. Программы группы «Освобождение Труда», их отношение к крестьянству. Внешняя картина рабочего движения; таблицы К. Сидорова; необходимые поправки к ним. Три периода русского революционного движения значение идеологии и влияние интеллигенции. Стихийная революционность и революционная идеология рабочего класса. Крестьянские корни русского пролетариата; аграрный кризис 80-х —90-х годов и его значение. Мелкая сельская буржуазия и ее место в революции.
В своем курсе я остановился на двух ориентировках русского революционного движения 70-х годов, ориентировках, возникших на почве разочарования в третьей, более старой ориентировке, ориентировке на крестьянство. Убедившись к середине 70-х годов в политической неподвижности крестьянства и невозможности вызвать массовое крестьянское движение, одно крыло революционеров, которое характерным образом до сих пор оставалось в тени на страницах буржуазной истории революционного движения, взяло курс на рабочий класс. К этому крылу принадлежали мало известный Заславский и гораздо более известный Плеханов, из интеллигенции, не говоря о деятелях рабочего движения — рабочих. Другое крыло, во главе которого стоял Желябов, взяло курс на буржуазию. Я уже сказал вам прошлый раз, к каким это привело последствиям в смысле влияния на тактику и до известной степени даже на программу партии «Народной Воли», которая является представительницей этой второй ориентировки, ориентировки на буржуазию. Буржуазия дала некоторые материальные средства, но зато почти вынула социалистическую душу из революционеров-народников 70-х годов. Притом же, кроме средств, которых хватило лишь на организацию нескольких террористических покушений, буржуазия и в смысле непосредственного материала для борьбы ничего не дала. Наиболее характерной буржуазной организацией, мелкобуржуазной, конечно, но отражавшей настроение вообще буржуазного общества, была военная организация партии «Народной Воли», которая тоже оставалась долгое время в тени. Характерным образом, бросание бомб и выстрелы, словом героические подвиги á la Вильгельм Телль и Шарлотта Кордэ, заполняли все внимание русского интеллигента, изучавшего историю «Народной Воли». И только вот сейчас, благодаря той же Вере Николаевне Фигнер, благодаря последним запискам Ашенбреннера, мы начинаем понемногу разглядывать за этой кустарной по существу говоря, хотя чрезвычайно эффектной по своей разрушительной террористической работе организацией, разглядывать организацию более массового характера. Эта организация была военной, или, точнее говоря, офицерской организацией партии «Народной Воли», охватывавшей не менее 200 офицеров, — считали даже до 500 вместе с сочувствующими. Таким образом это был круг людей, по количеству немного более узкий, чем круг декабристов, число которых тоже колебалось между 2 и 5 сотнями, опять-таки в зависимости от того, брать ли и сочувствующих или только активных участников движения.
Но характерна разница: в то время как декабристы с такой же силой все-таки совершили два военных выступления — одно, правда, было мирное выступление, на Сенатской площади, как вы помните, избегавшее стрельбы; другое — настоящее военное восстание Черниговского полка, — с приблизительно одинаковой по количественному составу офицерской массой у народовольцев решительно ничего не получилось. Эти офицерские кружки усердно изучали нелегальную литературу, довольно дружно помогали тем народовольческим агитаторам. Которые попадали в их кругозор, которых они видели, — наконец, в лице отдельных наиболее энергичных единиц, вроде лейтенанта Суханова, поручика Рогачева и т. д., давали борцов для террористической деятельности. Но никакого военного заговора, никакого военного восстания, на которое рассчитывали народовольцы, из этого не получилось. Это характерно вот почему. На что надеялись декабристы в своем выступлении? Хотя они и вели, как вы помните, пропаганду между солдатами, но настолько в микроскопических размерах, что, конечно, главной опорой для них была не эта пропаганда. Главной опорой для них, в особенности для Северного общества, была традиционная, можно сказать, слепая казарменная дисциплина. В расчете на эту дисциплину они надеялись повернуть полки против самодержавия. Когда Пестель говорил о движении целых корпусов, он мог иметь в виду известную подготовку солдат этих корпусов пропагандой. Но, во всяком случае, целый корпус распропагандировать до последнего человека (корпус, это — 40000 человек) очевидно было совершенно невозможно. Расчет был, повторяю, на то, что целый ряд полковых командиров или даже генералов принадлежал к заговору и что они могли двинуть свои полки, куда хотели.
В 80-х годах XIX века этой мертвой казарменной дисциплины не было. Была всеобщая воинская повинность. Были солдаты, взятые с фабрики или от сохи, которых непременно нужно было сначала хорошо распропагандировать, чтобы на них можно было положиться. Военное движение уже в начале 80-х годов XIX века зависело от массового движения в стране, и именно температура этого массового движения определяла температуру движения военного. В 1917 году без всякого офицерского заговора, — вернее сказать, наперекор даже существующему офицерскому заговору, который преследовал совсем другие цели, заговору ген. Крымова, о котором придется, быть может, сказать пару слов впоследствии, — независимо совершенно от этого, благодаря громадному давлению распропагандированной солдатской массы, солдат петроградского гарнизона, получился тот взрыв, который повалил самодержавие. В 80-х годах эта массовая пропаганда давала еще пока результат совершенно ничтожный, и офицерская организация «Народной Воли» ничего не могла сделать и даже ничего не пыталась сделать. Дальше чтения нелегальной литературы, помощи революционерам и, повторяю, отдельных случаев личного участия в террористических выступлениях из этой организации ничего не получилось.
И вот, это сознание зависимости буржуазного движения в конечном итоге опять-таки от массового движения дало любопытнейший документ, принадлежащий перу самого основателя «Народной Воли», ее вождю Желябову. Это — программа рабочих, членов партии «Народной Воли», программа, на которой я остановился, в прошлый раз. Желябов был одним из немногих народовольцев, которые совершенно отчетливо понимали значение рабочего движения, как такового. Желябову принадлежит знаменитая фраза, что в России стачка есть политическое событие. Действуя в этом направлении, Желябов обратил гораздо больше внимания на городской рабочий класс, нежели это делали прежние народники. Его программа, является, конечно, программой в конце концов чисто народнической. Там вы найдете все решительно народнические украшения: и веру в общину и крестьянство как главную силу революции и т. д. Но любопытнее всего, что рабочему классу отводится здесь самостоятельная, если можно было бы употребить в данном случае этот марксистский термин, не подходящий к не-марксисту Желябову, самостоятельная классовая роль. Прежде всего в этой программе мы встречаем идею, которая потом реализовалась (нам с вами — большевикам — нет надобности об этом упоминать и объяснять, как она реализовалась), идею самостоятельной революционной рабочей партии: «те из рабочих, которые твердо порешили, что теперешние порядки и всю народную жизнь следует изменить, — говорит программа Желябова, — составляют небольшие, но дружные общества (кружки) рабочих, выясняют себе, чего следует добиваться, и готовят себя к тому времени, когда общими усилиями нужно будет приступить к выполнению переворота. Кружки должны быть тайными, недоступными для правительственных ударов». Конспиративные рабочие организации, как видите, но это рабочие организации, и, что еще более характерно для народника, они готовятся не только на случай переворота: «если бы правительство из боязни общего бунта решилось сделать обществу кое-какие уступки, т.е. дать конституцию, то деятельность рабочих не должна от этого изменяться. Они должны заявить себя силой, должны требовать себе крупных уступок, должны вводить своих представителей в парламент (т.е. законодательное собрание) и, в случае надобности, поддержать эти требования массовыми заявлениями и возмущениями». Тут мы встречаем уже совершенно четкую социал-демократическую тактику. В этой программе, вышедшей из-под пера народника и народовольца, в характеристике самого переворота есть прямо некоторые пророческие черты: «Для успеха дела крайне важно овладеть крупнейшими городами и удержать их за собою. С этой целью восставший народ немедленно по очищении города от врага должен избрать свое временное правительство из рабочих или лиц, известных своею преданностью народному делу. Временное правительство, опираясь на ополчение, обороняет город от врагов и всячески помогает восстанию в других местах, объединяет и направляет восставших. Рабочие зорко следят за временным правительством и заставляют его действовать в пользу народа». Чем не 17-й год, когда рабочие в лице Совета Рабочих Депутатов зорко следили за временным правительством и пришли к убеждению, как вы знаете, в конце концов что оно никуда не годится и его нужно выкинуть? Таким образом, это — программа высоко интересная, поскольку она предугадывает и конспиративно-революционную работу организации и возможность массовой тактики, т.е. предвидит большевиков не только 1905 г., но и большевиков 1910 г. с их поворотом на Государственную думу, поскольку она предвидит даже 1917 г. в лице Временного правительства, контролируемого рабочим классом. Желябов уже сознавал, что ориентировка на буржуазию результатов не дает и примкнул к другой ориентировке, ориентировке на массу, но не на ту массу, которая вызывала неосновательные надежды его предшественников, не на крестьянскую массу, а на массу рабочих. Вы видите, что появление группы «Освобождение Труда», первой русской марксистской с.-д. организации 80-х годов, вовсе не было каким-то внезапным фактом, объясняющимся исключительно литературными занятиями Плеханова и его друзей. Этот факт был подготовлен всей предшествующей историей русского революционного движения; он был подготовлен, как вы помните, идеологическим переворотом, который произошел в Плеханове под влиянием наблюдения петербургских стачек; он был подготовлен и тем поворотом в ориентировке народовольцев, который сказался в этой желябовской программе.
Совершенно естественно, что первые социал-демократические программы, программы группы «Освобождение Труда» 80-х годов, еще решительнее, еще дальше идут от старой идеологии. Этих программ, как вы знаете, две. Одна относится к 1884 году, другая — к 1887 (опубликована в 1888 году). Обе они очень любопытны, если их сравнить между собой. В первой из этих программ говорится о крестьянстве, но исключительно как об объекте, как о чем-то таком, для чего что-то должно быть сделано, но не как о субъекте. Это было в 1884 году; И это настолько еще пугало вчерашних чернопередельцев, что они сами несколько удивились тому, что они написали, и программа заканчивается: «Группа «Освобождение Труда» нимало не игнорирует крестьянства, составляющего огромнейшую часть трудящегося населения России». Это подчеркнуто, но именно потому подчеркнуто, что раньше программа группы «Освобождение Труда» несомненно игнорировала крестьянство как активную силу. «Но она полагает, что работа интеллигенции, в особенности при современных условиях социально-политической борьбы, должна быть прежде всего направлена на более развитый слой этого населения, каким и являются промышленные рабочие. Заручившись сильной поддержкой со стороны этого слоя, социалистическая интеллигенция может с гораздо большею надеждой на успех распространить свое воздействие и на крестьянство, в особенности если она добьется к этому времени свободы агитации и пропаганды». Итак, воздействие на крестьянство перегибается, как видите, по ту сторону революции, потому что добиться свободы агитации и пропаганды можно было только в случае хотя бы неполного успеха революционного движения.
Но в первой программе группы «Освобождение Труда» есть все же фиговый листок, — те самые строки, которые я вам только что прочитал. А во второй программе этого фигового листка нет. Тут крестьянство прямо объявляется реакционной силой, на которую надеяться не приходится: «Русское революционное движение, — говорит эта вторая программа более резко, — торжество которого послужило бы прежде всего на пользу крестьянству, почти не встречает в нем ни поддержки, ни сочувствия, ни понимания. Главнейшая опора абсолютизма заключается именно в политическом безразличии и умственной отсталости крестьянства. Необходимым следствием этого является бессилие и робость тех образованных слоев высших классов, материальным и умственным интересам которых противоречит современная политическая система». Значит, оказывается, и в трусости буржуазии виноват тот же мужик, благодаря своему невежеству и политическому безразличию. «Возвышая голос во имя народа, они (эта почтенная буржуазия) с удивлением видят, что он равнодушен к их призывам. Отсюда — неустойчивость политических воззрений, а временами уныние и полное разочарование нашей интеллигенции. Такое положение дел было бы вполне безнадежно...» Итак, будь в России одни крестьяне, положение было бы вполне безнадежное, — складывай свои пожитки и убирайся в какую-нибудь другую страну, никакой революции не будет... «если бы указанное движение русских экономических отношений не создавало новых шансов успеха для защитников интересов трудящегося класса. Разложение общины создает у нас новый класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый, подвижной и развитый класс этот легче отзывается на призыв революционеров, чем отсталое земледельческое население. Между тем как идеал общины лежит позади, в тех условиях патриархального хозяйства, необходимым политическим дополнением которых было царское самодержавие, — участь промышленного рабочего может быть улучшена лишь благодаря развитию новейших, более свободных форм общежития. В лице этого класса народ наш впервые попадает в экономические условия, общие всем цивилизованным народам, а потому только через посредство этого класса он может принять участие в передовых стремлениях цивилизованного человечества. На этом основании русские социал-демократы считают первой и главнейшей своей обязанностью образование революционной рабочей партии».
Рубикон был, наконец, перейден. Сначала робко высказавши, что от крестьянства пользы ждать нельзя, в 1887 году Плеханов категорически заявляет: от мужика политически один вред. Это — чрезвычайно важный момент; если вы возьмете, — вы, конечно, ее читали, отчасти знаете, нашу меньшевистскую литературу, можно сказать, до сего дня, а в особенности нашу меньшевистскую литературу времен первой революций 1905 г., то вы отчетливо увидите, как эти люди твердо держались плехановской традиции: от мужика ничего доброго ждать нельзя; мужик реакционен по природе и будет тащить всякое движение, которое к мужику прицепится, назад. Единственно, кто может быть союзником рабочего класса, это — буржуазия, буржуазия, робость и измену которой Плеханов объясняет, как мы видели сейчас, именно тупостью и трусостью мужика. Кабы не мужик, и буржуазия у нас была бы совсем другая. Вы видите, что эта постановка, постановка меньшевистская 1905—1907 годов, она уже, в сущности, коренится в этой реакции на народническую революцию, реакции против народнической революции, которая с такой яркостью сказалась в этих двух программах группы «Освобождение Труда». Меньшевики таким образом возлагали все свои надежды на рабочий класс плюс буржуазия. И вы знаете, что в этом они как раз разошлись с нами, большевикам, которые в 1905—1907 годах возлагали надежды на рабочий класс плюс крестьянство. Вопрос, как видите, практически весьма существенный и который стоит разобрать, ибо он сохранил всю свою актуальность до сего дня. Есть ли у нас какие-нибудь шансы использовать в смысле революционной, политически прогрессивной силы крестьянство, или же это есть тяжелая гиря на наших ногах, которая все время будет замедлять наш ход, которая будет оттягивать назад? Это вопрос, который очень стоит разобрать, это вопрос, который является актуальным до сего дня. Если присмотритесь к тем спорам, которые шумели очень недавно, вы различите в них две ноты. Одна нота говорит: надо спаяться крепко с мужиком и вместе с ним итти. Другая, меньшевистская, говорит: из-за мужика забывают интересы рабочего класса. Нужно поменьше внимания обращать на мужика и побольше обращать внимания на пролетариат. Если мы этот спор попробуем провести вглубь, то увидим, что он тянется к этой постановке в 80-х годах и в первое десятилетие 900-х годов. Вот почему, повторяю, стоит этим вопросом заняться и затем попытаться дать в общим чертах схему, с одной стороны, рабочего движения периода первой русской революции, с другой стороны, крестьянского движения того времени, при чем я очень счастлив, что не имею надобности загромождать вас детальным фактическим материалом, как я это делал в Свердловии. Когда я читал свердловцам, не было этой зелененькой книжки[5-1]), которая теперь у вас есть, где кое-какой материал имеется, к сожалению, устаревший до некоторой степени, так как я собирал этот материал в течение ряда лет, большей частью еще до революции, но все-таки материал есть. С другой стороны, есть такая вещь, как таблицы забастовочного движения в России, составленные тов. К. Сидоровым, для характеристики рабочего движения, и достаточно будет только несколько комментировать эти таблицы (таблицы эти изданы «Красной Новью»).
Те данные, которые есть у тов. К. Сидорова, являются удобным исходным моментом для того, чтобы подойти к занимающему нас сейчас вопросу. Он стоит на той точке зрения, что русская революция была исключительно рабочей революцией, и он старается всячески найти доказательство того, что русский рабочий был, должен был быть самым революционным рабочим не только в Европе, но и во всем мире. Он приводит, в связи с этим, целый ряд данных и иллюстрирует их таблицами, которые свидетельствуют, что в смысле концентрации промышленности и сосредоточения рабочего класса в наиболее крупных предприятиях, Россия была поставлена в наиболее выгодные условия сравнительно с другими странами, даже с Соединенными Штатами. Возьмем 1914 г., например, в то время, когда в России в предприятиях-гигантах, свыше тысячи человек рабочих на каждом, было 1 300 тыс. чел., — в Соединенных Штатах на таких предприятиях было 1 255 тыс. чел. В то время как среднее число рабочих на каждом из этих предприятий-гигантов в Соединенных Штатах было 1940 чел., в России даже в 1902 г. их было 2490. В то время как на предприятиях крупного типа, с рабочими свыше 500 чел. на каждом, в России было сосредоточено 56,5 % всего пролетариата, в Соединенных Штатах на таких же предприятиях было сосредоточено только 31 %, — 69 % американских рабочих размещалось на предприятиях более мелких. Все это, конечно, верно и интересно, но нуждается только в некоторых поправках. Поправки эти даны в одном замечании весьма интересной книги Шляпникова о 1917 годе. Там Шляпников, которому приходилось работать и на английских, и на французских, и на русских фабриках, отмечает любопытный факт, что благодаря дешевизне рабочих рук у нас в России, даже на самых гигантских промышленных предприятиях живая сила еще в очень больших размерах выполняла то, что на Западе выполнялось и выполняется машинами. Так что, когда вы видите эту цифру, что на каждое предприятие-гигант в Америке приходится меньше 2000 рабочих, а в России 2 с половиной тысячи, то это, конечно, еще не означает само по себе, что русские предприятия экономически крупнее американских. Это показывает только то, что у нас рабочие руки дешевле и что поэтому масса неквалифицированного труда у нас пускается на такие работы, которые в Америке выполняются машинами. Эту оговорку необходимо сделать, и она, конечно, должна пройти через всю нашу характеристику. То же и относительно предприятий с 500 рабочими выше 500. Американское предприятие с 400 рабочих может фактически быть крупнее русского предприятия с 600 рабочих по той же самой причине. Надо брать тут в расчет не только количество рабочих, но и количество лошадиных сил, которые применяются, выработку, продуктивность, количество пудов производства, и тут, конечно, американское предприятие будет выше. Это приходится подчеркнуть, потому что иначе мы получим действительно ту картину, которую хочет нарисовать тов. Кузьма Сидоров и которая, конечно, не совсем верна, а именно, что русский капитализм являлся будто бы самым прогрессивным, а потому и русский рабочий класс был наиболее подготовлен к социалистической революции.
Мы решительно никого не обидим, если как марксисты выскажем тот факт, который есть (а марксисты обязаны прямо смотреть в глаза правде), что к социализму в, 1917 году русский рабочий класс в целом готов не был, несмотря на его колоссальную инстинктивную тягу к социализму. Для всякого, кто только чувствует историческую диалектику, ничего нет удивительного в том, что человек может быть инстинктивно глубоким социалистом, но в то же время не уметь сознательно осуществить этот социализм. Наоборот, это противоречие чрезвычайно характерно, и оно всюду нам встречается в истории, оно объясняет нам отношение между инстинктивными порываниями человека и теми средствами, которые у него есть, чтобы эти инстинктивные порывания реализовать. И в этом смысле, в смысле средств, организованности необходимой и т. д. русский рабочий класс в 1917 г. не был готов для перехода на социалистическое хозяйство. Это не подлежит никакому сомнению. Опять-таки это звучит парадоксом, но я скажу, что теперь он гораздо более готов к этому, сейчас в 1924 г., нежели был готов в 1917 г. Эта тоже никакому сомнению не подлежит. Новая тяга рабочих к партии, тяга этих коммунистов, так сказать, второго призыва — чрезвычайно характерное явление. Это уже не стихийный ход, это ход до известной степени сознательный, ход, который в результате может дать людей, способных воплотить в жизнь социализм, тогда как раньше это были люди, по инстинкту ставшие революционерами-большевиками, с горячей, раскаленной ненавистью к буржуазии, к капиталистам, но без понимания, как же из этого рокового капиталистического круга выбраться и перейти к новому типу хозяйства. Эту поправку совершенно необходимо ввести в таблицы и в особенности в объяснения тов. Сидорова, потому что иначе мы получим неверную картину. Но во всем другом таблицы эти дают массу интереснейших фактов. Например, они чрезвычайно хорошо иллюстрируют революционный характер движения 1905 года. Возьмите таблицу, показывающую количество забастовок в России. Вот эта громадная серая колонна — это 1905—1907 г. г. Вы видите, как эта колонна, как нефтяной фонтан из земли, начинает бить. Я не знаю диаграммы, которая бы резче, рельефнее формулировала бы именно революционный характер русского рабочего движения. Это не было эволюционным движением, где движение постепенно поднимается, поднимается и поднимается кверху. Так бывает в экономической борьбе. Возьмите у того же Сидорова столбец, относящийся к заработной плате, вы увидите, как постепенно заработная плата поднимается, поднимается и поднимается все выше. А когда вы имеете столбец, изображающий политическое движение, то он сразу вздымается кверху фонтаном. Таблица чрезвычайно показательная, рисующая, что стихийное революционное движение было, конечно, чрезвычайно сильно. Тут мы имеем некоторое очень типическое отражение экономического и политического движения. Вы, видите, насколько политическая стачка сильнее экономической, вы видите, насколько политическая забастовка сильнее вздымается вверх сравнительно с экономической. Таблицы очень показательные, но поскольку вы все имеете возможность с ними познакомиться, я на них больше останавливаться не буду. Несомненно, что вел в России революцию, был ее гегемоном рабочий класс.
Но вот тут-то разница между нами и тем пониманием движения, которое дают 80-е годы. Там выходит, что как будто рабочий класс введет за собой только самого себя или в лучшем случае ведет буржуазию, внушая ей бодрость, веру в будущее, надежду на свои силы и таким образом внушая ей стремление бороться с самодержавием, — такими словами оканчивается, как помните, вторая программа группы «Освобождение Труда» 1888 года.
Но кого ведет еще за собой пролетариат, это из этих программ понять довольно трудно. Мы же, большевики, считали, что русская революция только потому и стала национальной революцией широкого масштаба, а затем интернациональной, что за этим рабочим классом, за этим гегемоном шла некоторая сила, которую этот гегемон вел: шло крестьянство. Вот относительно схемы, так сказать, участия крестьянства в русской революции я и попытаюсь кое-что сейчас сказать[5-2].
Была ли наша революция 1905 г. чисто пролетарской, как ее изображает тов. К. Сидоров, или же она была пролетарско-крестьянской, рабоче-крестьянской? Я считаю, что она была рабоче-крестьянской революцией, и постараюсь вам сейчас наметить схематически те моменты, которые дали у нас революционное крестьянство и которые связывали крестьянство с рабочим движением.
Прежде чем перейти к этому, нам нужно вспомнить третий элемент русской революции. Куда же девалась интеллигенция? Ведь революционное движение начала у нас все-таки интеллигенция. Начиная с декабристов, продолжая петрашевцами, людьми 60-х годов, и, наконец, народниками-пропагандистами и народовольцами, мы всюду имеем интеллигентские по существу организации. Куда же девалась эта революционная интеллигенция? Что она, развеялась или нет? И тут приходится подчеркнуть тот факт, что у нас, собственно, революционные рабочие организации появляются чрезвычайно поздно. И даже в то время, когда уже существовала идея рабочей партии и строилась самая эта рабочая партия, руководящая роль все-таки принадлежала революционной интеллигенции.
Можно построить три периода русского революционного движения. Первый период — с 20-х до 80-х годов XIX века — можно охарактеризовать так: интеллигенция в поисках массы. Она ищет эту массу сначала среди крестьянства, потом среди рабочих, даже среди буржуазии, офицерства и т. д. Она ищет массу и не находит ее. Второй период будет с 80-х годов и приблизительно до начала второго десятилетия XX века, когда интеллигенция нашла массу. Она нашла массу, но она еще не слилась и не спаялась с этой массой, ибо эта масса, постепенно, стихийно накалившись, идеологически была еще чрезвычайно далека от революционной интеллигенции.
Тут мне придется сделать маленькое отступление по вопросу о том, что такое идеология. Под влиянием енчменизма, который правильно, в общем, ставил задачу исследования научного, как исследования чисто объективного, не апеллирующего к субъективному моменту, — под влиянием этого у нас произошла в последнее время в вопросе об идеологии девиация, которую начал исправлять и хорошо исправлять тов. Бухарин.
Не следует рассматривать идеологию как нечто вроде зеркала, которое пассивно отражает происходящее движение. Эта точка зрения на идеологию совершенно немарксистская, неправильная. Объективность здесь заключается не в том, что мы имеем дело с фактами не-психическими, а объективность заключается в том, что мы имеем дело с фактами объективно необходимыми и отвечающими объективным интересам тех или других общественных классов. В этом заключается объективность идеологии. Субъективным будет тут то, что является более или менее случайным, индивидуальным и общей значимости не имеет. Но то, что отвечает объективным интересам класса, это будет объективно, несмотря на то, что это будет субъективно-психическим фактором, — извиняюсь перед товарищами енчменистами, — фактором «духовным». Они, конечно, захохочут громким хохотом, но я привожу этот термин только для того, чтобы подчеркнуть, что духовный фактор может быть вполне объективным.
Идеология — это есть совокупность известных понятий, представлении, программ и т. д., есть фактор идеологический, «духовный», как хотите, — но тем не менее это есть совершенно объективная вещь, объективно необходимая для общественного движения. Для того чтобы люди единогласно и организованно действовали в известном направлении, необходимо выработать известные навыки, известные привычки, известные определенные тенденции, которые толкали бы их в этом направлении... Это есть чисто объективная работа и в этом суть той пропаганды и агитации, которой мы занимаемся. Разница только в том, что агитация преимущественно обращена к настроению, а пропаганда обращена главным образом к интеллекту, но, так или иначе, и та и другая являются средством организовать нашу психику таким образом, чтобы она отвечала тем действиям, которые кем приходится предпринимать.
Вот почему выработка правильной идеологии, пролетарской революционной идеологии, во всякой стране составляла такой колоссальной важности дело. По отношению к Западной Европе эту работу выполнили Маркс и Энгельс. В России эту задачу выполнил главным образом Ленин и большевики. Меньшевики вырабатывали идеологию нереволюционную и в силу этого не отвечающую объективным требованиям той задачи, которая стояла перед русским революционным рабочим классом, — произвести переворот, захватить власть, низвергнуть самодержавие и, низвергнув самодержавие, превратить в самодержца народ.
Вот в чем значение — и громадное значение — той идеологической борьбы, которая происходила между Лениным и его группой, с одной стороны, и Мартовым и его группой, с другой стороны, на протяжении всех двух первых десятилетий XX столетия. Одна сторона пыталась организовать психологически революционную массу так, как это нужно было для выполнения ее миссии. Другая, конечно, непроизвольно, не думая об этом, старалась дезорганизовать ее, почему вторая и пользовалась великими симпатиями буржуазии, которая ничего так не боялась, как того, что рабочий класс сорганизуется и захватит власть. Это был кошмар буржуазии. Этот кошмар разрушали меньшевики, почему и пользовались симпатиями. Этот кошмар, наоборот, усиливался по мере успехов большевиков, почему большевики были предметом ненависти.
Таким образом влияние интеллигенции как аппарата, который вырабатывал идеологию, создавал известную организацию, которая была нужна для осуществления, целей революции, — это влияние было громадно в этот период; оно остается очень большим даже до настоящего времени, хотя сейчас, как вы видите, оно падает; его значимость меньше, чем была раньше, чем она была в период первой революции, который можно обозначить лозунгом: «интеллигенция нашла массу», — тогда роль ее была чрезвычайно велика. Ибо эта масса, становясь под влиянием объективной обстановки революционной по инстинкту, была чрезвычайно мало революционна сознательно, и тут опять не приходится от себя замазывать решительно ничего.
Я вам сказал, что, по моему мнению, русский рабочий класс не был готов к социализации хозяйства в 1917 г., — субъективно не был способен, не обладал теми навыками, которые нужны для этой цели, а в 1905 г. Он не был еще готов и к революция. Я это в своей книжке довольно робко высказал, опасаясь, что это вызовет большой скандал, но после того, как никакого скандала не получилось, я начинаю говорить всеми словами, что русские рабочие в массе в 1905 г. сознательно не были революционными, что они были революционны стихийно. Но эту стихийную революционность можно повернуть во всех направлениях, даже, как 19 февраля 1902 г., к памятнику Александра II, перед которым рабочие манифестировали. Она могла пойти за попом Гапоном, и пошла действительно. Так что эта стихийная революционность представляла собой нечто весьма мало устойчивое и надежное. Когда иваново-вознесенские рабочие летом 1905 г. услыхали: «долой самодержавие», то они в ужасе шарахнулись и стали кричать: не надо, не надо. Это было слишком непривычно и страшно, слишком резало их слух. Я приведу другой пример, из моих личных переживаний в октябре 1905 г. Я помню, как мне тогда любимейший оратор рабочих митингов Станислав Вольский, теперь от нас отпавший далеко вправо, перешедший чуть не к белым; а в то время член Московского Комитета и в то же самое время один из самых дельных ораторов, говорил не без тоски:
«Говоришь им о притеснении хозяев, о тяжелой участи рабочего и т. д., — вас слушают, впечатление и настроение растет; начнешь говорить о самодержавии, о политике — митинг начинает таять, рабочие расходятся: нам этого не надо, нам это ни к чему и т. д.».
Вот в каком положении была сознательность даже московских рабочих в октябре 1905 г. А сознательность питерских рабочих 9 января иллюстрируется их шествием под предводительством попа Гапона к Зимнему дворцу. Вы видите, что интеллигенции было над чем работать, вот почему роль революционной интеллигенции в этот период была чрезвычайно велика. Несмотря на то, что проблема рабочей партии уже существовала и партия формировалась, тем не менее в течение первой революции, которую мы сейчас изучаем, несомненно, идеологически руководящая роль принадлежала интеллигенции. Иначе быть не могло.
Переломным моментом, с моей точки зрения, является Лена, ленские события апреля 1912 г. С этого момента можно датировать у нас сознательность революционного рабочего движения, уже не внушенного интеллигенцией. Тут мы опять имеем то, что буржуазия называет парадоксом и что мы называем диалектикой. Рабочему классу нужно было потерпеть поражение в первой революции для того, чтобы стать сознательно революционным. Это звучит парадоксом, но это именно так, именно благодаря разгрому рабочего движения 1905—1907 г. г. среди рабочих слоев, сначала среди меньшинства, появляется определенно сознательный слой, — слой, который на своих плечах выносит большевистскую партию; начиная с 1912 г., он в 1914 г. в лице питерского пролетариата, доводит дело почти что до революции (тогда уже говорили, что ситуация напоминает 1905 г.) и совершает, наконец, революцию 1917 г., при чем в 1917 г. роль масс, сознательно революционных масс чрезвычайно ярка, поскольку интеллигенция от них отстает значительно. Большевики в то время не были на местах, были в ссылке или за границей, в эмиграции, а интеллигенция, которая оказалась налицо — меньшевики и эсеры, — несомненно, шла ниже уровня рабочего движения. Рабочие требовали республики, а интеллигенция требовала лишь, чтобы только не провозглашали монархии.
Это чрезвычайно любопытное сопоставление. Интеллигенция, меньшевики, будучи в большинстве в Исполнительном Комитете в 1917 г., не сумели стать властью, а властью стать сумели эсеры, которые составляли меньшинство в Исполнительном Комитете. Но эсеры, став у власти, своего основного лозунга о земле провести не могли. Это характерная картина, как интеллигенты петушком-петушком бегут за рабочим движением, но не могут его догнать.
Рабочий класс не только объективно становится гегемоном революции, как в 1905 г., но и субъективно является гораздо более сознательной революционной силой, нежели эти полуреволюционеры-интеллигенты, которые в то время были налицо.
Это третий период, когда революция массовая, настоящее революционное движение, продолжающееся, как я уже сказал, и до сего дня, поскольку только теперь пролетариат переходит от революционной общей идеологии к идеологии, если так можно выразиться, четко социалистической, — это третий период, которым мы с вами заниматься не будем и которым вы будете заниматься с другим лектором.
Я остановлюсь на втором периоде. Вы видите, что эта идеологическая комбинация не дает возможности рассматривать первую русскую революцию, — а ее объяснение идет далее, — как чисто пролетарскую революцию. Эта же идеологическая комбинация предполагает здесь присутствие еще одного момента, а именно революционной интеллигентской группы, которая вырабатывает в это время идеологию движения, вырабатывает, пользуясь опытом западных рабочих. Как-никак все-таки интеллигенция вырабатывает, а не кто другой. Того факта, что перед 1905 г., вопреки требованию тов. Ленина, чтобы в комитетах было на 2 интеллигентов 8 рабочих, в комитетах было все-таки на 8 интеллигентов 2 рабочих, — этого факта отрицать нельзя. Тов. Ленин был тысячу раз прав, когда требовал обратного соотношения, во это обратное соотношение было постулатом, было его пожеланием, а действительность была такова, что Аксельрод не без некоторого основания называл партию этого периода партией студентов и курсисток. Те меньшевистские выводы, которые сделал из этого Аксельрод, неверны, но факт остается верным сам по себе. Действительно, студенты и курсистки преобладали в наших комитетах этого, а в особенности предшествующего — до 1905 г. — периода. Это, так сказать, если мы будем рассматривать движение сверху. Но если мы будем рассматривать движение снизу, то опять-таки найдем здесь непролетарские элементы. Этим непролетарским элементом было крестьянство.
Тут прежде всего приходится указать на тот факт, что самое появление пролетариата в России в виде такой громадной массы, возможность массового пролетарского движения, быстрый рост пролетариата были результатом не чего иного, как определенного состояния нашего крестьянского хозяйства,
Как-никак, можно было противополагать сколько угодно рабочего крестьянину, но рабочий рос из мужика под влиянием тех условий, в которых стояло крестьянское хозяйство того времени. Я иллюстрации ради приведу пару цифр; я беру десятилетний период 1887 —1897 г. г. Приблизительно мы имеем количество металлистов в 1887 г. 103 000 человек, в 1897 г. — 153000. У текстильщиков еще более характерная цифра: в 1887 г. — 309000, в 1897 г. — 642000. Надо иметь в виду, что наши текстили — это как раз наиболее крестьянская часть нашего пролетариата.
Теперь спрашивается: что так толкало вперед развитие пролетариата? Если мы будем отправляться исключительно только от развития крупного производства, от внедрения в Россию иностранного капитала в то время и т. д., то мы получим только половину ответа. Конечно, без крупного капитала капитализма быть не может, это само собой разумеется. Но не то только плодило пролетариат, что русский предприниматель-капиталист мог удвоить в течение десятилетия число рабочих на фабриках и заводах, — его плодил тот аграрный кризис, которым была охвачена русская деревня, прусская деревня и всякая другая в 80-х —90-х годах XIX века. Тут остается только вам напомнить — подробно на этом я останавливаться не буду, — что хлебные цены начиная с 1880 г. резко стали падать на мировом рынке.
Если мы возьмем цены пятилетия 1871—1875 г. г., то мы получим для пшеницы 144 к., для ржи — 78 к. Пятилетие 1891 — 1895 г. г.: пшеница — 81 к., рожь — 65 к. Цены таким образом определенно катились вниз, и под влиянием этих катившихся книзу цен происходило разорение крестьянского хозяйства, разорение, о котором также долго распространяться не приходится, и здесь опять-таки только для ясности я приведу еще несколько цифр. Цифры эти более или менее всем известны, но напомнить их не мешает.
Для 9 центральных губерний за шестилетие 1888—1893 гг. убыль рабочего скота, т.-е. лошадей, составляла почти 25%. Из 4 миллионов убыло слишком 900000 лошадей, как засвидетельствовала конская перепись, которая производилась в то время регулярно в военных целях.
По Орловской губернии мы имеем такие цифры: в 1881 г. — 221 000 лошадей, в 1893 г. — 188 000 лошадей, в 1899 г. — 177 000 лошадей и т. д.
Падение крестьянского хозяйства шло таким образом все дальше и дальше, и тут мы имеем ключ не только к появлению пролетариата на наших фабриках, но и ключ к голодовкам, к голоду 1891 г. и др., ибо другие цифры показывают, что чем меньше крестьянское хозяйство было снабжено рабочим скотом, тем ниже был урожай. Если возьмем группы с количеством скота на один посевный гектар (десятину) от 1,2 до 1,4, у нас урожай будет сам 2,7. Если возьмем количество скота на посевный гектар (десятину) от 1 1/2 до 2 1/2, то получим сам 2,9, и т. д., выше 3 штук скота на посевный гектар (десятину) — сам 3,4. Урожай повышается в связи с увеличением количества рабочего скота, и это совершенно естественно, поскольку скот является не только силой механической, но и дает удобрение. Чем меньше скота, тем хуже удобряется земля и тем хуже урожай.
Таким образом, под влиянием этого фактора — падения хлебных цен, начинается разорение русского крестьянского хозяйства 80-х — 90-х годов. При падавших хлебных ценах и остававшихся на прежнем уровне податях крестьяне должны были отдавать все бóльшую и бóльшую долю своего прибавочного продукта, а в конце концов и свой необходимый продукт. Крестьянин разорялся и из крестьянина превращался в безземельного или полубезземельного рабочего, которому приходилось искать заработка или в барской экономии, или на заводе.
Вот какой процесс происходил в русской деревне 80-х — 90-х годов, процесс, без которого невозможно себе представить той быстрой пролетаризации России, какая происходила в тех же 80-х — 90-х годах, а без этой интенсивной пролетаризации России нельзя себе представить и того пролетарского движения, которое составляло авангард русской революции, ибо на рабочий класс главным образом направлялись усилия интеллигенции, и правильно, ибо только там революционная интеллигенция и могла найти отклик. Таким образом самыми корнями своими это пролетарское движение экономически, объективно, упирается в крестьянскую массу. Если мы эту конъюнктуру забудем, если мы забудем эту пролетаризацию крестьянства, раскрестьянивание его в 80-х — 90-х годах, то не поймем, откуда взялся пролетариат, откуда взялось стачечное движение 90-х годов и т. д. Это стачечное движение без этого не появилось бы, ибо несомненный факт, что пролетаризация крестьян у нас шла быстрее, нежели рост пролетариата на фабриках и заводах.
В конце XIX века у нас считали приблизительно 2 1/2 миллиона безработных пролетариев, т.е. пролетаризированных крестьян, которые не могли найти себе работы, и вы догадаетесь, что это должно было давить колоссальным грузом на заработную плату и условия труда тех рабочих, которые находили себе место на фабриках, а ужасные условия труда, необычайно трудный и длинный рабочий день и плохая заработная плата толкали этого голодного рабочего к забастовочному движению. Как вы видите, и это забастовочное движение 90-х годов было связано необходимой связью с тем, что происходило в деревне.
Эта связь шла в обе стороны. Если пролетаризация крестьянства толкала все большее и большее количество бывших самостоятельных хозяев в город, в ряды забастовщиков, то промышленный кризис выбрасывал рабочих обратно в деревню — куда вчерашний крестьянин возвращался уже обогатив свой опыт стачечной борьбой, уже распропагандированный своими городскими товарищами. Когда мы будем читать потом, в 1905 году, губернаторские донесения о деревенских «беспорядках», мы стереотипно будем встречать во главе последних крестьян, вернувшихся из города, с «отхожих промыслов». И оставшиеся в деревне пролетаризированные их собратья, «деревенская беднота», составили главную массу участников нового крестьянского движения.
Оправдывались слова Плеханова: «Революционная мысль, зреющая в рабочей среде, есть революционная мысль, зреющая в среде народной. Русский рабочий есть кость от кости и плоть от плоти русского народа». И основываясь на этом, Плеханов предсказывал, что «начавшееся в рабочей среде революционное движение вовлечет в свое русло значительную часть беднейшего крестьянства».
Но оправдывалось гораздо больше, чем это. Против помещика все крестьянство вставало как единое целое. «Отработки и кабала, сословная и гражданская неполноправность крестьянина, его подчинение вооруженному розгой привилегированному землевладельцу, бытовая приниженность, делающая крестьянина настоящим варваром, — все это не исключение, а правило в русской деревне, и все это является, в последнем счете, прямым переживанием крепостного порядка», говорил Ленин. «В тех случаях и отношениях, где царит этот порядок и поскольку он еще царит, врагом его является все крестьянство как целое. Против крепостничества, против крепостников-помещиков и служащего им государства крестьянство продолжает еще оставаться классом, именно классом не капиталистического, а крепостного общества, т.е. классом-сословием».
И тут на стороне рабочего было не только беднейшее крестьянство. На время и не очень надежно, но на стороне рабочего оказывалось и крестьянство зажиточное, — знакомые нам «первые либералы в деревне».
По мере того как в русской деревне рос пролетариат, в ней росла и мелкая сельская буржуазия. Эта мелкая сельская буржуазия ухитрялась расти даже в период аграрного кризиса, цепляясь за некоторые извивы этого кризиса. Тут прежде всего нужно отметить тот факт, что в то (время как цена на пшеницу падала, так сказать, стремглав катилась книзу, цена на рожь падала, как падает бумажка, брошенная сверху, зигзагами. Мы имеем в пятилетие 1876—1880 г.г. 91 к. за (16,3 кг) пуд ржи, в пятилетие 1881 —1885 г. г. — 98 к. за (16,3 кг) пуд, в пятилетие 1886—1890 г. г. — 67 к. за (16,3 кг) пуд и т. д.; в то время как цена пшеницы все время падала, цена на рожь колебалась и лишь к началу 90-х годов она упала окончательно, твердо. Это начало 80-х годов было прежде всего использовано крепким мужичком.
В то время возникает крестьянский банк, и он возникает не случайно. В это время начинается приобретение этой сельской буржуазией земли, отчасти помещичьей, отчасти путем аренды наделов и сосредоточением в ее руках земель односельчан. Это одна картина. Затем в течение даже аграрного кризиса, — очень характерные факты, которые имеются у меня, я не буду их приводить, — в этот период сбережения крестьянской буржуазии растут, при чем максимального роста эти сбережения по данным сберегательных касс достигают в 1891 году. Это факт, который вы у меня найдете, он мною позаимствован из одной статьи тов. Ленина. Этот факт роста сбережений крестьянской буржуазии, рост количества крестьянских сберегательных книжек и взносов на каждую отдельную книжку — он чрезвычайно характерен.
К этому мы можем прибавить другой факт, факт роста индивидуальной и вообще мелкобуржуазной собственности, в особенности если мы возьмем южный степной район. Там мы можем найти следующие цифры:
В 1877 году надельная земля в южной степной полосе составляла (6 445 986 гектар) 5,9 милл. десятин. Лично крестьянская собственность — (655 524 гектар) 0,6 милл. десятин. Собственность крестьянская общественная — (32 776 гектар) 0,03 милл. десятин и, наконец, собственность товариществ — просто ноль. А возьмите 1905 год, приблизительно через 28 лет. (Общество, это — община купившая землю, а товарищество, это — сложившиеся кулачки, купившие землю.) Надельная крестьянская земля выросла с (6 445 986 гектар) 5,9 милл. десятин, до (7 647 780) 7 милл. дес. Личная крестьянская собственность поднялась с (655 524 гектар) 600 000 десятин до (2075 826 гектар) 1 900 000 десятин, т.е. втрое. Собственность обществ, правда, увеличилась, но составляет ничтожный процент, меньше полмиллиона гектар (десятин). А товарищества, которых не было и в помине в 1877 году, обладают уже (874 032 гектар) 800 тысяч десятин.
Если возьмете отношение надельной земли и мелкобуржуазной земли, в первом случае вы получите лишь 10:1, во втором случае отношение 100:38,5. В первом случае индивидуальные земли крестьян составляют 10 % всей площади, а во втором случае — 40 % всей площади. Так росло крестьянское индивидуальное землевладение.
А теперь припомните ту характеристику кулака, которую я читал по Энгельгардту. Припомните, что кулак был первым либералом в деревне, что он был наиболее политически сознательным (не в смысле пролетарском, конечно, а в смысле крестьянской классовой сознательности). Из этой среды вышел Степан Халтурин. Он вышел из зажиточной крестьянской семьи Вятской губернии. Вы поймете, что в этой растущей крестьянской буржуазии возникал чрезвычайно случайный, правда, и не на далекое расстояние, но несомненный союзник пролетариата против самодержавия. Нужно было только, чтобы отношения этого союзника и той силы, на которую опиралось самодержавие, т.е. помещика, особенно обострились. Этого обострения было достаточно для того, чтобы перетянуть этот слой окончательно на сторону революции, сделать этот слой антипомещичьим в настоящем смысле этого слова и, значит, сделать его определенным союзником пролетариата в борьбе с самодержавием. Этого и достигло изменение в конъюнктуре хлебного рынка во второй половине 90-х годов. Начиная с середины 90-х годов цены на хлеб начинают ползти вверх, и то относительное противоречие интересов крестьянского хозяйства, с одной стороны, и интересов помещичьего хозяйства! — с другой, которое уже чувствовалось в 60-х годах, становится с конца 90-х годов чрезвычайно острым. Обострение отношений этих двух сил на хлебном: рынке — крестьян и помещиков — должно было столкнуть их лбами совершенно неизбежно.
Вот вам тот грунт, тот фон, на котором развертывается рабочая революция 1905—1907 г. г. Я не буду подробно излагать ход событий этой революции, — вы найдете это в моей книжке, но в следующей лекции я произведу некоторый анализ классовых отношений России в течение всего этого периода.
Лекция шестая
Политика буржуазии и ее место в революционном движении. На каком моменте капиталистического развития застала революция Россию. Империалистические вожделения Николая II. Две причины развития в торгово-капиталистических странах "отечественной" промышленности. Идеология крупной буржуазии в империалистический период; эра Витте; золотая валюта. Торговый капитал, активный баланс и хлебные цены. Реванш торгового капитала и дальневосточная политика. Реакция торгового капитализма во внутренней политике; Плеве и зубатовщина. Зубатовщина и промышленный капитализм; «Освобождение» и Союз освобождения; кадеты и массовое движение, промышленный капитал и самодержавие.
Нарастание рабочего и крестьянского движения более или менее определенно предсказывало близкий общий взрыв. Но этот взрыв той или другой политикой правящих классов мог быть отодвинут на неопределенное почти количество лет.
Примером служит современная Англия, где острота отношений, — не между рабочими и крестьянами, буржуазией и помещиками, а между рабочими и буржуазией, поскольку там не крестьян, ни помещиков в нашем смысле этого слова почти нет, — острота этих отношений достигла уже очень большого напряжения примерно к 1912 году, очень большого напряжения, напоминавшего русскую ситуацию 1903—1904 г. г. Но тем не менее сейчас уже 1924 год, а в Англии рабочая революция не наступила[6-1], и люди, знающие Англию, не решаются предсказывать, что рабочая революция в Англии наступит в ближайшие годы. Возможно, что мы отделены от нее еще целым рядом лет. Ускорить эту революцию может только новая война, и поскольку эта новая война прощупывается довольно определенно, постольку мы можем надеяться, что Англия находится на пути к более или менее близкой пролетарской революции, но утверждать это ни один знаток Англии не решается. Сделала это политика английской буржуазии, политика открывания всевозможных клапанов, политика всевозможных оттяжек, всевозможных более или менее тонких обманов рабочих буржуазией, при чем последним и самым тонким и самым смелым обманом являлось известное вам рабочее министерство. Отсюда момент взрыва, неизбежного в общей перспективе, может быть оттянут на очень продолжительное число лет, и причины взрыва не исчерпываются характеристикой классов-взрывателей, если так можно выразиться.
Для того чтобы понять, почему именно в 1905 г. вспыхнула у нас революция, нужно учесть другую сторону, нужно выяснить силу сопротивления той массы, которая противостояла взрыву, другими словами — силу сопротивления и умелость сопротивления тех общественных классов, которые стояли поперек дороги революции, и которые ею должны были быть низвергнуты. К этому я теперь и перехожу.
Но для того, чтобы понять настроение и положение русской буржуазии и русского крупного землевладения в эти годы, нам необходимо уже, не ограничиваясь только общей марксистской характеристикой классовых конфликтов, немножко приглядеться к тому историческому моменту, который переживала Россия в конце XIX и начале XX веков, и который дал толчок, искру, если хотите, непосредственно вызвавшую взрыв; толчок это будет, если мы будем иметь в виду взрывчатые вещества более современного типа, которые взрываются от удара, от толчка; искра, — если мы будем рассматривать старую Россию как добрый старый порох. Так или иначе, взрывателем в данном случае послужила японская война. Об японской войне я написал целую главу в «Сжатом очерке», написал летом 1921 года. И вот вам образчик того, до какой степени быстро в наше время стареет всякая написанная история. Глава эта, несомненно, устарела, несмотря на то, что она основана на очень свежих архивных материалах. Мне не удалось отрешиться от старой формулы, по которой Николай своей глупостью и жадностью случайно вызвал войну, сам, быть может, вовсе того не желая настоящим образом. Эта глупость и жадность Николая у меня изображены довольно рельефно, — надеюсь, вы это признаете. Между тем те документы, те показания, точнее говоря, которые попали в мои руки уже после написания этой главы, дневник Куропаткина, с одной стороны, любопытнейшие исторические таблицы, составленные Вильгельмом II и являющиеся дополнением к его мемуарам, — с другой, переписка Николая с Вильгельмом — с третьей стороны, мемуары Витте — с четвертой, — все эти документы дают возможность иначе поставить вопрос. Несомненно, что Николай не случайно нарвался на войну, протягивая руку к корейским богатствам, а шел на войну, желал войны, добивался войны, — это была его цель. Прежде всего характеристика Куропаткина. Вот выдержка из его дневника. Надо иметь в виду, что Куропаткин свои записи делал по свежей памяти после соответствующих разговоров. И вот в одном разговоре с Витте, когда он катался с ним в манеже (Витте очень любил верховую езду, и они вместе с Куропаткиным упражнялись в манеже), 16 февраля 1903 года, Куропаткин сказал Витте:
«У нашего государя грандиозные в голове планы: взять для России Манчжурию, итти к присоединению к России Кореи, мечтает под свою державу взять и Тибет, хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы».
Таковы были планы Николая в 1903 году, и то, что говорил Куропаткин, находит себе блестящее подтверждение в других источниках. Один из них я уже называл: это — мемуары Витте. Витте рассказывает очень детально об этих планах, — и мы потом в архиве нашли документальные дополнения к рассказу Витте о том, как Николай пытался захватить Босфор уже в 1896 году, т.е. через год после вступления на престол. Была оборудована технически подготовленная военная экспедиция; мы до сих пор не могли раскрыть, на чем она сорвалась, что ей помешало, но дело шло так далеко, что сосредоточивались уже войска, сосредоточивались транспортные суда, установили определенный шифр телеграмм, которые должны были стать сигналом для посадки этих войск на суда и отправки их в Константинополь, — словом, была совершенно налаженная военно-морская экспедиция, совершенно налаженный десант. Это было в 1896 году. Что-то помешало этому очевидно. Витте относит это к воле божией. Мы, коммунисты, не можем, конечно, принять такого объяснения. Очевидно, что «воля божия» выливалась в какие-то конкретные формы. Теперь мы этого не знаем еще, но сама экспедиция — факт несомненный и чрезвычайно важный. Уже в 1896 году, когда не было никакого Безобразова, никакой реки Ялу, никакой Кореи, Николай собирался начать драку. То же самое — относительно специально японского конфликта. Теперь из таблиц Вильгельма мы знаем, что еще в сентябре 1901 года на свидании в Данциге Николай говорил Вильгельму, что Россия готовится воевать с Японией. Это было в 1901 году, т.е.за три года до начала войны, почти за три года. Что это не была случайно оброненная фраза, показывает запись Вильгельма ровно через год, в сентябре 1902 года. Николай опять ему говорил, что Россия готовится воевать с Японией, намечая дату — 1904 год. В 1903 году, при новом свидании (они виделись приблизительно каждый год), Николай сказал Вильгельму: в 1904 году войны еще не будет, так как Россия еще не готова. Николай был убежден, что момент объявления войны он держит в своих руках, что японцы будут смирно дожидаться, пока ему угодно будет объявить войну. Японцы оказались не такими глупыми. Они объявили войну раньше, чем этого желал Николай, раньше, чем он был готов, ибо, если вы сложите боевую силу русского флота, какой она была в то время, в 1904 году, в момент объявления войны, с той эскадрой, которая погибла под Цусимой в мае 1905 года, то вы получите силу приблизительно вдвое большую, чем сила японского флота.
Таким образом, если бы Николай успел приготовиться, он имел бы, пожалуй, много, шансов раздавить японцев, потому что против двойной силы никакой адмирал Того, вероятно, ничего сделать не сумел бы. О русской сухопутной армии и говорить нечего. Тут Россия располагала около 4 с половиной миллионов обученных солдат и была гораздо сильнее Японии, у которой к началу войны было только 640 тысяч обученных солдат. Таким образом все шансы были в руках Николая, и он рассчитывал не только захватить какие-то корейские рудники и т. д., — это была его личная добыча от этой войны, его «могарыч», который он собирался положить в карман, он рассчитывал разгромить Японию и, разгромив Японию, разгромив Корею, тем самым утвердить гегемонию России на Дальнем Востоке.
В первом издании настоящей книжки я рассматривал еще политику Николая на Дальнем Востоке, как нечто самодовлеющее — и так как для самодовлеющей политики на Дальнем Востоке никаких мотивов, кроме империалистических, предположить было бы невозможно, то далее следовала у меня характеристика русского империализма конца XIX — начала XX веков. Появившиеся с тех пор работы — в особенности т. т. Ванага и Ронина — выяснили со всею очевидностью, что говорить о «русском империализме» в этот период нельзя, не извращая самого слова «империализм», как оно употребляется в теоретической литературе. Мало того, работа тов. Ронина показала, что даже для 1914 г. говорить о «русском империализме» можно лишь весьма условно — что Россия даже накануне империалистской войны была ареною действия гораздо более иностранного финансового капитала, нежели туземного.
Все это в политической плоскости можно резюмировать одним выводом: русское правительство даже в 1914 г., — а в 1904 г. тем более — было в гораздо бóльшей степени орудием международного империализма, нежели самостоятельным фактором империалистской политики. И тут те же самые данные из переписки Вильгельма с Николаем, из дневника Куропаткина и т. п. стали перед автором в совершенно новом свете.
Прежде всего все «империалистские» стремления Николая, куда бы они не направлялись, на Босфор, в Тибет или к Манчжурии, связаны одной общей чертой: они все направлены против Англии. Но отсюда ясно, во-первых, что стержнем этих стремлений являлись именно «проливы», т.е. Босфор и Дарданеллы, из-за которых шла почти вековая борьба именно с Англией: прилагать к этой борьбе понятие «империализма» значило бы подводить под этот термин и политику Екатерины II, — что было бы совсем странно. А во-вторых, именно в борьбе с Англией Николай в конце XIX-начале XX века был не одинок, — Не одинок не только объективно, но и субъективно, в своем сознании, как более чем достаточно свидетельствует его переписка с Вильгельмом II. Являясь для императорской России традицией, борьба с Англией в это время стала также и составной частью империалистской политики Германии, в эти именно годы стремившейся «окружить» (einkreisen) свою соперницу с большей энергией и с бóльшим успехом, нежели в последующее десятилетие. Общую картину дальневосточной политики России на основе двух приведенных соображений я только что дал в специальной книжке[6-2], — к которой я и отсылаю читателя; повторять здесь эту характеристику нет надобности, поскольку прямой задачей этого маленького курса является дать очерк истории революционного движения.
Этой внешней политикой царизма в значительной степени определялись внутренние отношения правящих групп царской России между собою — в частности отношение к царизму буржуазии. Что торговую буржуазию такая политика тесно связывала с царизмом, это само собою разумеется. Но что делало смирной и покорной буржуазию промышленную, которую диалектика экономического развития должна была делать либеральной, антикрепостнической и, стало быть, антицаристской? Тут надо иметь в виду, что развитие промышленного капитализма является неизбежным последствием развитие капитализма торгового. Этот последний в борьбе с промышленно капиталистическими странами должен развивать промышленность или — погибнуть. Торгово-капиталистическая страна, которая не сумела развить своей собственной промышленности, неизбежно становится колонией промышленных стран: пример — Индия, обратным примером является Япония, которая не позволила сделать себя колонией, выбилась из полуколониального состояния благодаря еще более, чем в России, катастрофически быстрому промышленному развитию.
Две причины непосредственно толкают торгово-капиталистические страны к развитию своей «отечественной» промышленности. Первой является необходимость поддержать торговый баланс: всякий купец должен продавать больше, чем покупает — иначе банкротство неизбежно. Всякая торгово-капиталистическая страна стремится, как можно менее ввозить к себе товаров из-за границы, как можно более вывозить: к этому сводилась премудрость экономической теории торгово-капиталистического периода, меркантилизма. Этою причиною объясняется главным образом развитие русской текстильной промышленности, — точнее говоря, заботы самодержавного правительства о развитии этой промышленности. До начала XIX века потребность русского рынка в тканях, особенно высших сортов, покрывалась ввозом из-за границы, главным образом из Англии, меньше из Пруссии. «Континентальная блокада», к которой должна была присоединиться Россия после 1807 года, разорвала связь с Англией и дала возможность развиваться туземным, русским, прядильным и ткацким фабрикам. Низкий курс русского бумажного рубля, упавшего к третьему десятилетию XIX века до четвертака, заставил царское правительство всячески «покровительствовать» развитию этих последних: уже Александр I, незадолго до смерти вступил на этот путь, Николай I следовал за ним по этому пути необычайно рьяно, не только «охраняя» русскую промышленность высокими таможенными пошлинами, но отыскивая и завоевывая для нее новые рынки. Пример Николая I служит ярким доказательством того, что политика торгово-капиталистического государства отнюдь не включает в себе пренебрежения к интересам промышленности, а как раз наоборот.
Другой причиной является то, что борьба за рынки и торговые пути со странами высоко-развитой техники предполагает такую же технику и у борющейся с ними торгово-капиталистической страны; а развитие техники опять-таки предполагает развитие крупной обрабатывающей промышленности. Классическим примером в русской истории является создание морского военного флота Петром 1 (речной торговый флот очень обширных размеров имела уже московская Россия). При Николае I выяснилось, что парусного флота: — в николаевской России достигшего высшей ступени развития в 30-х годах о нем с уважением говорили даже англичане — мало: понадобился паровой флот, а главное понадобились железные дороги. «Ситцевый» протекционизм предыдущей эпохи дополнился металлургическим. Как оба эти протекционизма выразились в цифрах, покажут следующие данные о русских таможенных пошлинах конца XIX века:
Возьмем пошлину на железо с пуда (я беру в копейках, год — 1898). В Соединенных Штатах железо оплачивалось при привозе в страну пошлиной от 42 до 49 к. за (16,3 кг) пуд, в Германии от 19 до 23 к. А в России, в отсталой России, — от 75 до 98 к. с (16,3 кг) пуда, т. е. вдвое выше, чем американские пошлины, почти впятеро выше германских. То же самое было и со сталью.
За бумажную пряжу платили в Соединенных Штатах от 2 р. 10 к. до 6 р. 31 к. эа (16,3 кг) пуд; в Германия — от 91 к. до 3 р. 64 к.; в России — от 7 р. 20 к. до 16 р. 50 к. На этот раз уже в четыре раза выше, нежели в Соединенных Штатах.
За бумажные ткани в Соединенных Штатах платили пошлины от 4 р. 63 к. за (16,3 кг) пуд до 18 р. 60 к.; в Германии — югг 4 р. 55 к. до 17 р. 44 к.; в России — от 21 р. до 87 р. за (16,3 кг) пуд.
За машины платили (Для Соединенных Штатов цифр у меня нет) в Германии от 23 до 38 к. за (16,3 кг) пуд, в России — 2 р. 10 к. (16,3 кг) пуд.
Вы видите, что русский протекционизм в сравнении с германским, это — тигр в сравнении с кошкой, а сравнительно с американским — тот же тигр в сравнении с рысью, или во всяком случае с животным той же породы, но гораздо более мелким. Во всяком случае, по части высокой таможенной пошлины Россия в 1898 году побивала рекорды самых отчаянно-империалистических стран, какие только, существовали на земном шаре.
В скобках сказать, это служит лишним доказательством, что высокие таможенные пошлины сами по себе отнюдь не являются еще, признаком империализма — в 1898 году, более весьма скромных зачатков последнего в России во всяком случае найти было нельзя.
Остается сделать еще два дополнительных разъяснения. Во-первых, этот процесс «покровительства» торгового капитала промышленному никак нельзя рассматривать метафизически — как одностороннее воздействие чего-то активного на что-то неподвижное и косное. В истории, борются живые силы, и они действуют друг на друга. Промышленный капитализм пользовался всякой щелью, которую ему открывал капитализм торговый, чтобы пробить брешь в системе последнего, торговый — защищался, стремясь сохранить в неприкосновенности, по крайней мере, основы своей системы. Это был, как все процессы в мире, волнообразный процесс, — ряд наступлений и отступлений, а не движение вперед по прямой линии. В конце XIX века, примерно с 80-х годов, шел явный «промышленный прилив» — давление интересов промышленного капитализма на систему капитализма торгового явно увеличилось.
Можно сказать, что в 90-х годах у нас утвердилась временно в лице Витте гегемония промышленного капитала. Наиболее ярким моментом, чтобы не приводить других и не затруднять вас слишком большим отступлением в сторону, — наиболее ярким моментом эры Витте было у нас введение золотой валюты. Это была совершенно определенная победа промышленного капитала над капиталом торговым. Торговый капитал тщательно оберегал неразменные бумажные деньги, ибо у этих неразменных бумажных денег была драгоценная особенность: их покупательная сила внутри страны была выше их цены на международном рынке. Поэтому, получая рубль за проданный хлеб, тот или иной представитель торгового капитала — был ли это экспортер, был ли это помещик — фактически получал для расплаты внутри России больше рубля, потому что внутри России, в особенности в деревне, курс нашего неразменного бумажного, так называемого кредитного билета был выше международного. На этой почве мы имеем любопытнейшее явление в нашей финансовой истории. Это любопытнейшее явление заключается в том, что в правление Вышнеградского (предшественника Витте) наше министерство финансов вело отчаянную кампанию за понижение курса русского рубля на международной бирже, при чем в этом понижении большое участие принимал тогдашний председатель финансового комитета Абаза. По случаю приключения с Абазой, который разорил этим путем одного банкира и таким образом вскрыл свои операции, мы имеем подробный рассказов этом в «Мемуарах» Витте. Царское правительство, которое играет на понижение собственного рубля, — чрезвычайно любопытное явление. Но почему оно играло? Да потому, что, как свидетельствует одна докладная записка, поданная Вышнеградскому и опубликованная впоследствии, чрезмерное повышение курса русского рубля на заграничных биржах может повести к крупным убыткам для русских помещиков; там было сказано не «для помещиков», а для «производителей хлеба», но это одно и то же в данном случае. Представьте себе, что рубль, действительно, всползет, — он всполз до 80 коп., тогда как ранее цена его была 60 копеек, — это перевернуло бы все отношения внутри России. Русский помещик получал бы меньшее количество рублей, и русские помещики и экспортеры кричали бы: «Такого безобразия допускать нельзя, это — грабеж. Уроните курс рубля во что бы то ни стало, иначе мы терпим убытки, и может наступить кризис». Они грозили кризисом, и, дабы не наступил кризис, правительство играло на понижение рубля. В этом принимал участие частным образом председатель финансового комитета, но, вероятно, и другим перепадало на долю. Когда меньше, чем через 10 лет после этого Витте вводит твердую золотую валюту, с тех пор уже нельзя было колебать курс рубля, играть на нем. Это явное доказательство того, что теперь, в противоположность 80-м г. г., было выгодно, чтобы русский рубль стоял как можно выше. Что требуется русским промышленникам? Русские промышленники не могли обойтись без покупки за границей машин; без покупки за границей хлопка. Правда, туркестанское хлопководство бурно развивалось в это время, но в конце XIX века оно едва покрывало одну треть спроса русских ситцевых фабрик, — две трети покрывались покупками хлопка за границей. И вот, ситцевому фабриканту было совсем не все равно, какой курс рубля на заграничной бирже, потому что если этот курс был очень низок, то ему приходилось выплачивать гораздо большее количество рублей, чем до сих пор, и русские промышленники вопили о необходимости установить в России твердую валюту, выпустить золотую монету, которая бы не колебалась, перейти к золотому обращению. И то, что Витте провел это золотое обращение в середине 90-х годов, — это яркий признак победы промышленного капитала над торговым.
Но торжество промышленного капитала было непродолжительным. Дело в том, что торговый капитал у нас был главным, если можно так выразиться, содержателем романовского государства. На какие средства, я не скажу — жила, а содержалась система последнего, на чем держался прежде всего курс этих неразменных кредитных билетов? Этот курс неразменного кредитного билета ехал на заграничной валюте, которая, в результате вывоза хлеба за границу, поступала во все большем и большем количестве в русский карман. Мы можем проследить величину процента всего производства хлеба, который шел на заграничный рынок. С понижением хлебных цен в конце 80-х годов все больше и больше хлеба приходилось выбрасывать на заграничный рынок. В середине 80-х годов этот процент вывоза составлял около 17, к концу 80-х годов и началу 90-х почти четверть всего своего хлеба Россия должна была выбрасывать на заграничный рынок. Для чего это? Для того, чтобы обеспечить активный торговый баланс; для того, чтобы ввоз из-за границы был меньше, чем вывоз из России, и разница поступала бы в русский карман в виде валюты. Этот активный баланс был резервным фондом империалистской России. Она благодаря этому активному торговому балансу могла копить золотые запасы. Она копила их в громадном количестве. Русский золотой запас к 1914 году был максимальным[6-3]. На всем земном шаре не было страны, у которой был бы большой золотой запас, и ту империалистскую активную политику, о которой я говорил, можно было вести, только опираясь на этот золотой запас. Несомненно, что такие страны, как Англия, — страна, которая держала в своих руках мировой транспорт, мировые пути сообщения, из 42 миллионов тонн мирового торгового флота перед империалистской войной в руках Англии была почти половина, было 19 миллионов тонн, — при таком положении Англия могла себе позволить роскошь итти на войну, не сосредоточив в своих руках громадного золотого запаса. Все остальные страны — и Россия, и Франция, в том числе — старались скопить в своих сундуках возможно больше золотых червонцев, чтобы было чем оплачивать войну.
Теперь присмотритесь к цифрам. В среднем, активный баланс России в конце 80-х и начале 90-х годов был около 100—150 миллионов, а возьмите 99-й год, высшую точку эры Витте, — наш активный баланс — 7,2 милл. Наш активный баланс к концу XIX века пал почти до нуля. Для промышленности, как таковой, это было спол-горя. Она могла это вынести. Что было ей нужно? Ей нужно было индустриальное сырье, ей были нужны машины. Этого было совершенно достаточно, и так как ей был нужен дешевый хлеб, потому что дешевый хлеб означает низкую заработную плату, то по существу дела она, эта промышленность, была даже не слишком заинтересована в хлебном вывозе. Чем меньше хлеба вывозится за границу, тем дешевле он будет внутри страны, и тем ниже будет заработная плата. Промышленность таким образом не была заинтересована даже в том, чтобы был большой экспорт хлеба. Но торговый капитал был в этом заинтересован, потому что экспорт хлеба за границу — это была золотая река, которая текла из-за границы. К 1899 г. эта золотая река начала почти иссякать. Тут и был тот подводный камень, на который должна была налететь и действительно налетела политика Витте. А конъюнктура на мировом рынке складывалась так, что центр тяжести, естественно, перекатывался на сторону капитала торгового, ибо ведь все это угнетение торгового капитала промышленным, о котором я рассказывал, было возможно только на фоне тех низких хлебных цен, о которых я так много распространялся в прошлой лекции. Эти низкие хлебные цены и делали торговый капитал таким рабом капитала промышленного. Капитал тортовый петушком-петушком бежал за промышленным капиталом, а промышленный капитал ходил гоголем и гордо и оглядывал вокруг, потому что дешевый хлеб означал дешевые рабочие руки и низкую заработную плату, то-есть процветание промышленности. Но, как я уже указал выше, хлебные цены начинают расти во вторую половину 90-х годов; если мы возьмем цены четырехлетия — 1893-1897 годы за 100, то цены шестилетия 1898-1904 годов, будут 122, а цены 1905-1912 годов — 165; вместе с этим начинает расти и наш торговый баланс: в 1900 году — 116,3 милл. руб., в 1901 г. — 196,9, в 1902 г. — 226,3, в 1903 г. — 347,1, в 1904 г. — 374, в 1905 г. — 458,6. И по мере того как растет наш торговый баланс, растет материальная база нашего будущего империализма, растет экономическое значение торгового капитала, который является героем русского хлебного рынка и который привлек в Россию всю эту массу золота. Таким образом естественным путем, в силу изменения экономической конъюнктуры, облегчена была победа тортового капитала над капиталом промышленным, своего рода реванш торгового капитализма.
И уход Витте от власти в августе 1903 года был в конечном счете той переменой министерства в русской форме, которая совершенно неизбежно вытекала из изменения экономической коньюнктуры, — из изменения относительного удельного веса внутри массы русских капиталистов. Центр тяжести от промышленного капитала перешел опять к капиталу торговому. Это и выразилось в том, что интересы восточной политики, интересы внешней политики направились по тому пути, по которому нужно было и выгодно было итти для русского торгового капитала. Тут приходится вспомнить значение Сибири как колонии и постройку, отчасти в связи с этим, Сибирской железной дороги[6-4]. Характерно, что Сибирь как колония начинает интересовать русское правительство и русский капитализм как раз в период наиболее низкого стояния хлебных цен, когда России было чрезвычайно важно во что бы то ни стало увеличить количество сырья, которое она выбрасывала на хлебный рынок, потому что это сырье стоило все дешевле, и нужно было найти новые районы добычи этого сырья: именно тот самый Вышнеградский, который произнес знаменитую фразу: «сами не доедим, а вывезем!», — он является инициатором Сибирской железной дороги. Сибирская железная дорога — я об этом говорю в своей книжке — дала громадный толчок и развитию промышленного капитализма поскольку она создала условия для колоссального развития русского металлургического производства, вызванного той же самой постройкой железной дороги. Но она сама была делом капитализма торгового. В первое время торговый капитализм тут добивался, так сказать, минимума. У него аппетиты в этой области не разгорались, но, по мере того как цены на сельскохозяйственное сырье стали повышаться, как создалась новая конъюнктура хлебных цен, — по мере этого русский торговый капитал, оживая, начинает все более и более активно действовать в этой области. Тут чрезвычайно любопытно опять-таки дать маленькое хронологическое сопоставление. Перелом хлебных цен приходится на промежуток с 1894 до 1897 г. Если мы возьмем хлебные цены на рожь, то они будут такие: 1894 г. 41 коп. за пуд, 1895 г. — 44 коп., 1896 г. — 45 коп., 1897 г. — 61 коп. (резкий прыжок кверху) Пшеница: 1894 г. — 51 коп. за пуд, 1895 г. — 57 коп., 1896 г. — 72 коп. (скачок несколько раньше), 1897 г. — 93 коп. за пуд. И как раз на этот период, 1894 —1897 г. г., падает московская конвенция с Китаем 1896 г., которая открывает русским железным дорогам выход к незамерзающим гаваням Южной Манчжурии. «Как раз именно в мае 1896 г., во время коронации Николая II, с Ли-Хун-Чангом за очень крупную взятку, в размере приблизительно полмиллиона рублей, была заключена эта знаменитая конвенция, которая одновременно удовлетворила промышленников, открывая перспективы постройки новой железнодорожной сети, и в то же время русский торговый капитал, ибо она открывала русскому сырью, сибирскому, выход к незамерзающему морю. Вам покажется это наглядной несообразностью. Казалось бы, раз имеется Сибирская железная дорога, проще гораздо возить сырье прямым путем по железной дороге на Запад, нежели кругом всей Азии и всей Европы кружить его на пароходе. Но тут надо иметь в виду, что пароходные фрахты в то время, да отчасти и теперь, хотя в меньшей пропорции, были в 25 раз ниже железнодорожных. За ту цену, за которую по железной дороге можно провезти тысячу верст 1 пуд, на пароходе можно было провезти 25. пудов, и вы догадываетесь, что ежели бы даже на пароходе везти сырье приходилось в 5 раз более длинным путем, чем по железной дороге, то все-таки получалась бы огромнейшая выгода. Чрезвычайно характерно это совпадение момента перелома конъюнктуры на мировом рынке и момента русского стремления к незамерзающим гаваням на Дальнем Востоке.
Вот в какой обстановке Россия подходила к японской войне. Во внешней политике дело сводилось к тому, чтобы захватить Манчжурию, Корею, целый ряд незамерзающих гаваней на Дальнем Востоке, открыть их для русского экспорта и, значит, для русского экспортного и русского торгового капитала найти чрезвычайно выгодную дорогу, единственный, кстати сказать, в коммерческом смысле выход из Восточной Сибири, восточнее Енисея, потому что вывоз по железной дороге стоил бы слишком дорого. Тут нужно было где-то иметь гавани на Востоке, через которые все это могло провозиться.
Таким образом русско-японская война, будучи авантюрой по типу ведения, будучи предприятием озорным, плохо рассчитанным и плохо слаженным, тем не менее, была совершенно закономерным явлением: с железной необходимостью наталкивала нас диалектика русского экономического развития на дальневосточную войну, на войну с Японией, которая являлась нашим соперником, которая стояла на дороге этой эксплоатации Сибири Россией.
Это была внешне-политическая сторона аспекта. Во внешней политике руководителем опять становится торговый капитал. Это нашло себе выражение в том, что Витте в августе 1903 г., и именно в связи с делами на Дальнем Востоке, вынужден был выйти в отставку. У власти становится Плеве, типичный представитель не старой дворянской знати, а именно торгового капитала как такового, капитала грубой, хищной, жадной власти, власти, в которой самодержавие составляло основную черту, потому что торговому капиталу — я это выяснил достаточно — нужны были крепостнические и полукрепостнические формы для того, чтобы иметь возможность достигнуть своих экономических целей. Именно поэтому с дворянством, в лице земства, даже земства очень умеренного направления, литовского московского земства, Плеве жил в чрезвычайно плохих отношениях.
В земстве его ненавидели. Земцам он всячески противодействовал. Таким образом считать Плеве представителем сословных дворянских интересов не приходится. Любопытно, что по своему происхождению это — человек без рода и племени, приемный сын мелкого помещика Западной России. Гораздо крупнее его в этом отношении был| министр внутренних дел, поставленный Витте, — Сипягин. Это был действительно сын родовитого русского дворянина, но это был ставленник Витте, человек, который обслуживал Витте, это была фигура, которую выдвинул Витте, чтобы несколько задобрить своего конкурента и противника. Плеве был человеком весьма незнатного происхождения. Некоторые приписывали ему даже происхождение от той самой еврейской расы, которую он так ожесточенно преследовал, ибо, как и полагается представителю этого политического типа, Плеве был ярым антисемитом. Это была фигура чрезвычайно типичная. Вы, может быть, видели картину Репина «Заседание Государственного Совета», там он очень хорошо изображен стоящим на вытяжку в мундире, с солдатскими усами, — типичная фигура если не околоточного, то участкового, всероссийского участкового. И вот этот-то участковый начинает наводить во всей России порядок и начинает насаждать такие формы порядка, которые понемногу отбрасывают вчерашнего господина, промышленную буржуазию, в лагерь оппозиции.
Тут основное политическое значение зубатовщины. Зубатовщину часто рассматривают как эпизод только русского рабочего движения. Это, конечно, был весьма грустный эпизод русского рабочего движения, потому что — не приходится отрицать того факта — в тот момент, в 1902 году, зубатовская организация больше притягивала к себе рабочих, нежели наша партийная организация. Даже в 1906 году, в начале этого года, у Гапона по малой мере в пять раз было больше рабочих, чем в партии. Про Москву, где был Зубатов, и говорить нечего. Тогда рабочих в наших организациях приходилось считать единицами, десятками, а Зубатов согнал к памятнику Александра II в 1902 г., 19 февраля, 50 тысяч человек; он сам поражался такой «громадой» и самодовольно говорил, что для того, чтобы двигать такой «громадой», нужен особый талант, который не у всякого есть. Эта «громада» прежде всего должна была обеспокоить русского предпринимателя. Русский предприниматель в рабочем вопросе не был таким косным, заплесневелым существом, каким его иногда изображают. В том же самом 1903 году, когда шел бой с зубатовщиной, в министерстве финансов по инициативе нескольких крупных предпринимателей разрабатывался вопрос о свободе коалиции, — конечно, в своеобразных русских условиях, но все же о свободе стачек, по европейскому образцу; когда же их угостили таким азиатским способом разрешения рабочего вопроса, как классовая организация пролетариата, работающая под эгидой полиции, но направленная против непосредственных экономических интересов капиталистов, — предприниматели, конечно, возопили. Тут они действительно начинают становиться либералами, и действительно начинают оплачивать своими деньгами даже людей, стоящих далеко налево. Чрезвычайно характерно опять-таки хронологическое совпадение. В 1902 г., 19 февраля, была эта манифестация московских рабочих перед памятником Александра II, а в 1902 г. летом вышел первый номер заграничной газеты «Освобождение», буржуазно-либерального, по существу говоря, радикального органа, основанного на буржуазные деньги. И чрезвычайно любопытно, что в качестве редактора этого органа буржуазия нашла человека весьма левого. Теперь когда мы знаем П. Б. Струве исключительно как министра Врангеля и как лидера русской монархической партии за границей, мы с трудом представляем себе, что этот человек спорадически сотрудничал в «Искре» в первый год ее существования, что с ним велись переговоры о привлечении его в качестве более близкого постоянного сотрудника в «Зарю», и что переговоры эти вел не кто другой, как Г. В. Плеханов. Плеханов вел переговоры со Струве о его постоянном сотрудничестве в «Заре». Этот факт нужно вспомнить, чтобы оценить то значение, которое тогда мог иметь орган «Освобождение» как русский буржуазный орган. Буржуазия взяла самого левого человека, какого только она могла взять. Конечно, до того, чтобы заарканить самого Плеханова, до этого не доходили самые смелые помыслы тогдашней буржуазии, но по существу дела заарканить человека, с которым вел переговоры Плеханов об участии его в плехановском органе, это было уже кое-что.
Это все показывает, что наша буржуазия под влиянием тогда наступившего переворота полевела в достаточной степени, в достаточной степени обозлилась на правительство. Правда, группою, непосредственно финансировавшею журнал «Освобождение», были левые земцы. Но это левое крыло двигалось вместе со всей массой влево. Эти же левые земцы за 10 лет перед тем не шли дальше совещательного представительства, а вот «Союз освобождения», основанный этими самыми земцами в 1902 г., — формально в 1903 г., — с самого начала стал на платформу парламентского правительства, с правильной двухпалатной системой и со всеобщей подачей голосов. Само собою разумеется, что в конечном счете руководители этого союза предполагали, вероятно, надуть почтеннейших российских граждан и как-нибудь ограничить эту всеобщую подачу голосов, но в то время принципиально в «Союзе освобождения» никто не возражал против всеобщей подачи голосов, никто не требовал введения избирательного ценза. Между тем это была организация, по внутренним пружинам, ее двигавшим, несомненно, буржуазная, хотя и тщательно скрывавшая это от тех левых, но не партийных людей, которые втягивались туда. Втягивание этих левых людей было тоже весьма симптоматично. Зачем были нужны эти левые люди? Для вывески. Для того, чтобы представить организацию левее, нежели она была в действительности.
Уже в 1903—1904 г. г. русская буржуазия начинает играть на повышение революции, начинает ту игру, которая заканчивается только после декабрьского восстания 1905 года. Мы привыкли опять-таки представлять себе кадетов как партию, которая тянет вправо. Для эпохи после января 1906 г. это совершенно верно. Тут кадеты определенно становятся монархистами. Но в предъидущий период эти же кадеты существовали в качестве правого крыла революционеров и не подымали вопроса о монархии и республике. Они говорили левому крылу: вы, республиканцы, пожалуйста, устраивайте республику; мы против республики ничего не имеем. А в январе 1906 г. кадеты твердо написали в своей программе, что Россия должна быть конституционной монархией. Что их толкнуло к этому? Декабрьские баррикады и их неудача. До декабрьских баррикад наша буржуазия определенно спекулировала на рост и повышение массового движения. Витте в своих мемуарах сохранил на этот счет любопытную черту. К нему, рассказывает он, в ноябре 1905 г., после октябрьской забастовки, пришел Гессен, тот самый Гессен, который сейчас за границей издает «Руль», — видный кадетский журналист. Витте с ним разговаривал, завлекая, так сказать, кадетскую партию на свою сторону, и стал обещать кадетам всякие перспективы, — «только поддержите меня». Витте в то время, как представитель промышленной буржуазии, тоже нуждался в вывесках. «Только одно условие, — говорил Витте, — откажитесь вы от этих революционеров, от этих бомб, браунингов, призывов к вооруженному восстанию и т. д. Отмежуйтесь резко, скажите, что мы с ними ничего общего не имеем, что да в коем случае за ними не пойдем» и т. д. «Гессен, — говорит Витте, — на меня посмотрел лукаво и спросил: а вы распустите тогда свою армию, полицию и т. д.?». Витте ответил, что этого сделать никоим образом нельзя. — «Как же вы хотите, чтобы мы распустили свою армию?» — сказал Гессен. Таким образом кадеты смотрели на революционеров, как на свое войско: поэтому только что образовавшаяся кадетская партия сочувственно относилась к октябрьской забастовке, всячески выражая свое сочувствие забастовочному движению. Все эти ужимки и прыжки Милюкова к «друзьям слева» (от правых он резко отмежевывался, — говорил, что ничего общего с правыми у них нет), правда, никакого успеха не имели. Помните эту знаменитую карикатуру, где Милюков был изображен с медоточивой улыбкой — «друзья слева». Другая, не столь уже медоточивая улыбка — «союзники слева». Совсем без улыбки — «соседи слева». И наконец, яростный оскал — «ослы слева». В этой гениальной карикатуре — все отношение буржуазии к русской революции за этот промежуток времени. С 1903 по 1905 год буржуазия, несомненно, играла на повышение революции, поддерживала в известной степени революцию, даже в октябре месяце, в период октябрьской забастовки, питерские предприниматели аккуратно платили рабочим за забастовочные дни. Администрации заводов давали казенные пароходы депутатам для поездок в Совет.
Таким образом вот какова была позиция промышленной буржуазии в этот период: вы догадываетесь, насколько она объективно облегчала революционное движение, помогала ему развиваться, в особенности на фоне военной неудачи торгового капитала.
Мне в заключение приходится остановиться буквально только в двух словах на том, что же, глупа была эта политика русской буржуазии? Знала она, к чему это приведет, или нет? Ответ получился в марте 1917 г. Победила революция, несомненно, настоящая рабочая революция. Даже покойник Родзянко не отрицал того, что хозяевами в Питере в марте 1917 года были рабочие. Не только Родзянко, — это понимал даже и Николай II; он записал в своем дневнике, что комитет думы пытается как-то ввести в границы движение, но с ним борется социал-демократический комитет рабочих (так Николай называл Совет рабочих депутатов), и последний сильнее, — думцы не могут с ним справиться. Совершенно ясно, что хозяевами были рабочие. А кто стал у власти? У власти стало кадетское буржуазное министерство Милюкова—Львова, которое получило власть при благосклонном содействии меньшевиков, эсеров и тому подобных элементов. Таким образом политика промышленного капитала вовсе не была такой глупой и вздорной, как могло бы показаться с первого взгляда. Ставка была сделана. Правда, первая ставка была бита. Что делать? Буржуазия нашлась, — она пошла быстро направо, а друзья слева превратились в ослов слева. Но дальнейшее показало, что расчет у русской буржуазии был, несомненно, в известной степени правильный.
Здесь полезно сделать второе разъяснение. Почему же это русская буржуазия так поздно сделала логический вывод из своего положения в торгово-капиталистическом государстве — вывод, который она, казалось, должна была бы сделать тотчас после «освобождения крестьян»; в 1861 году? Почему она вспомнила о парламентарной монархии и о возможности опереться на массы только когда у власти стал Плеве?
Ближайшим ответом мог бы быть тот перевес промышленного капитала над торговым, которым отмечены. 80-е — 90-е годы, и о котором уже говорилось, как об «эре Витте». Буржуазия этого времени жила с царским правительством в необыкновенно добрососедских отношениях.
Я позволю себе вам напомнить, во-первых, что как раз этот таможенный барьер, о котором я говорил, создавался вовсе не путем какого-либо спонтанного законодательного творчества русских правительственных органов. Пошлина на каменный уголь была прямым ответом на ходатайство съезда южных горнопромышленников. Пошлина на чугун в 15 к. золотом с пуда (16 кг) аккуратно отвечала заявлению съезда металлопромышленников, при чем последние заявили свое прошение в 1883 году, а уже в 1884 году оно было полностью удовлетворено. Следующий съезд пожелал получить четвертак за пуд (16 кг), и в 1887 году четвертак был дан. На съезде в Нижнем-Новгороде по поводу выставки в 1896 году, когда газета «Волгарь» писала, что в России «купечество все может», — чрезвычайно характерное заявление нижегородской газеты, газеты ярмарочного города, — представитель министерства финансов говорил:
«Министерство финансов признало нужным познакомиться со взглядами представителей торгово-промышленного класса на вопросы, наиболее их интересующие. Так поступало оно и прежде. Свыше 40 лет моей деятельности при министерстве финансов дают мне право и основание утверждать, что министерство всегда чутко прислушивалось к интересам промышленности и капитала».
Это, может быть, было неверно для всего 40-летнего периода; который охватил этот почтенный человек, ибо до наступления эры протекционизма в 1878 году русское купечество не могло похвалиться особенной благосклонностью министерства финансов, но для 1896 года это было вполне верно. Я приведу другой факт, как на совещании по поводу установления нормального рабочего дня, 11 1/2-часового рабочего дня, представитель министерства финансов буквально плакался на крайнюю требовательность предпринимателей. «Прошлый год, — говорит, — созвали 30 человек, говорят — мало; в нынешнем году созвали 200 человек, говорят — тоже мало. Сколько же вас надо приглашать, чтобы вы удовлетворились?» Эта плачущаяся роль представителя министерства финансов чрезвычайно хорошо подчеркивает, чем реально было это министерство. Русский предприниматель не имел никаких оснований быть особенно ярым радикалом в 90-х годах, ибо у власти стоял его человек, стоял Витте, который фактически был представителем интересов русского капитализма. Я еще об этом скажу, когда буду ближе характеризовать, Витте.
Что же касается другого крыла русской буржуазии, — русских помещиков, то они были более либеральны в то время, чем русский промышленный предприниматель, потому что они пользовались меньшей благосклонностью со стороны начальства, нежели последний. Дворянину, правда, давали подачки время от времени, но его удельный вес был значительно меньше, и вы в моем четырехтомнике найдете жалобы дворянства на то, что его обижают, — но даже левый фланг этой более левой, либеральной части русской аграрной буржуазии не шел дальше проектов совещательного представительства. Оно добивалось того, что купцы уже имели. Купцов призывали, выслушивали. Дворяне говорили: «А нас-то? Пусть и нас выслушивают, мы ведь благородные, у нас грамоты есть. Купцов слушают, а нас нет. Хорошо ли это?». В 90-х годах дворяне большего не добивались.
Но это было бы объяснение, до известной степени, «от случайности» — между тем факт имеет вовсе не местное и временное значение. Это факт мировой, уполномочивший первый манифест нашей партии повторить слова Энгельса, что буржуазия, чем дальше на восток Европы, тем подлее. Что же, эта, все увеличивающаяся подлость восточно-европейской буржуазии есть ее мистическое, таинственное какое-то свойство, что ли? Нет, конечно, — и эта подлость буржуазии имеет свое материальное основание. Наиболее решительно выступала всегда промышленная буржуазия в странах, где раньше всего развилась крупная промышленность, — т.е. в странах, по существу дела не имевших еще крупно-промышленных конкурентов. Англия совсем не знала бонапартизма, — Франция уже знала два периода бонапартизма («первую» и «вторую» империи), т.е. подчинения промышленной буржуазии военной диктатуре. Германская промышленная буржуазия долгие десятилетия сносила полусамодержавный режим Гогенцоллернов, — русская терпела даже и чистое, самодержавие Романовых. Чем позже начинала торгово-капиталистическая страна развивать у себя крупную промышленность, тем с более грозными соперниками, технически ее превосходящими, лучше ее вооруженными, приходилось ей иметь дело. И тем больше ее феодальная верхушка — или ее буржуазный диктатор, Бонапарт — «покровительствовали» «отечественной промышленности», тем больше подкуплена была местная промышленная буржуазия, тем менее жгуче необходимой была для нее окончательная ликвидация феодального режима.
Лекция седьмая
Большевизм и неудача промышленного капитала. Кадетская легенда о столыпинщине и почему мы ей верили. Легенда и действительность; настоящий смысл столыпинщины. Аграрное законодательство Столыпина и промышленный капитал. Разложение общины. Индивидуализация землевладения и рост пролетариата. Рост мелкой сельской буржуазии. Ответы на вопросы: как следует понимать стихийный экономизм рабочего движения в 1905 г.? Что такое «буржуазная» и «социалистическая» революция? Как мог торговый капитал одержать победу над промышленным? Что объективно представляла собою кадетская партия? Экономическая база господства торгового капитала. Непредвиденные результаты столыпинщины; разложение поместного землевладения, рост кулацкого «либерализма» и кулацкого слоя как капиталистической силы.
Итак, парадоксальным, как говорит буржуазия, диалектическим образом, как говорим мы, неудача массового движения, рабочего массового движения привела к провалу либеральной оппозиции промышленного капитала. Вследствие неудачи массового движения, — вследствие неудачи восстания рабочих и крестьян промышленный капитал должен был капитулировать перед торговым. Почему это случилось? Тут приходится совершенно откровенно признать, что это случилось именно благодаря той причине, на которую указывали современные буржуазные либералы, тот же Милюков своими «ослами слева». Это случилось благодаря сравнительно очень высокой сознательности если не всего рабочего класса, то его верхушки, и благодаря тому, что у нас уже существовала, хотя и в зачатке, классовая рабочая партия.
Эта классовая рабочая партия, не давая массам пролетариата, тем массам, которые уже были охвачены революционным движением, стать орудием в руках буржуазии, тем самым, несомненно, расколола и подорвала это самое буржуазное оппозиционное движение, движение промышленного капитала и слоев с ним связанных, так что в смысле, так сказать, буквального соответствия фактам эти люди были правы, когда ругали большевиков, говорили о них с пеной у рта, говорили, что это они сорвали революцию. Да, их революцию мы действительно сорвали, создав классовую рабочую партию с определенной классовой ориентировкой, направленной столько же против буржуазии, сколько и против самодержавия. Мы, конечно, сорвали игру буржуазии, поскольку буржуазия играла на массовое движение. Я вам уже говорил в прошлой лекции, что в 1917 году случилось иначе, главным образом потому, что в решительный момент, в феврале 1917 года, большевики на сцене отсутствовали, их не было. To-есть они были, но в таком незначительном числе, что они не могли играть большой политической роли. Когда Ленин приехал в начале апреля старого стиля 1917 года, дело было уже сделано, правительство Львова — Милюкова уже сидело в седле, нужно было его выкорчевывать, что нам в конце концов и удалось, как вы знаете. Но это была операция обратного характера, а помешать им в марте сесть в седло мы не могли. В 1905 году, я повторяю, благодаря сознательной политике большевистской партии, буржуазная игра не удалась, и буржуазия действительно проиграла свою революцию, не добилась того, к чему она стремилась, не добилась «приличной» буржуазной монархии прусского или австрийского типа. Не добилась благодаря тому, что у нас существовала классовая рабочая партия, что у нас была сознательная верхушка рабочего класса, которая не позволила буржуазии сделать из этого рабочего класса свое орудие, как это было в 1848 году в Германии и во Франции. В этом отличие нашей революции 1905 года от революций, скажем, 48-го года в Западной Европе, где таких рабочих партий еще не было, рабочие массы были менее сознательны, чем у нас, и в результате получилось то, что вы знаете уже из истории Запада.
Теперь спрашивается: что же наша революция кончилась благодаря описанным мною условиям чистой неудачей промышленного капитала или нет? Тут, став оппозицией из претендентов на власть, кадеты в значительной степени исказили облик истории, а от них заразились этим искажением и мы. Кадетская пресса того времени злобно шипела на победивший торговый капитал в лице Столыпина и в лице октябристов и правых, всячески стараясь изобразить не только в русской, но и в Заграничной печати, что в России — лжеконституционализм, что все это — один обман, что Столыпин — жалкий демагог, который держится исключительно при помощи штыков и шпиков, и что все его конституционные аллюры ни более ни менее, как приманка для того, чтобы обмануть заграничную буржуазию и получить деньги взаймы. Вот приблизительно какая схема итогов первой русской революции давалась кадетской прессой. Мы им вторили, потому что мы на своей шкуре действительно никакой конституции не чувствовали.
Партия тотчас же после разгона первой думы, а окончательно после разгона второй думы была загнана в подполье. За одну принадлежность к ней была установлена казенная цена, твердая цена. Эта цена заключалась в ссылке на поселение с лишение всех прав, а за попытки более энергичного участия в этой партии — даже на каторгу. Как вы знаете, работники военных организаций, работники окраин, товарищи латыши и поляки, ссылались на каторгу. Никакой свободой рабочей партии в эти годы и не пахло. Рабочая печать легально, открыто, как мы увидим потом, возродилась в 1911—1912 годах под влиянием того мощного давления, которое стало оказывать вновь пробудившееся рабочее движение на правительство. Тогда пришлось допустить «Правду», «Звезду» и т. д.; хотя их каждый день конфисковывали и приблизительно раз в месяц закрывали, но тем не менее рабочие пользовались в это время открыто легальной печатью. Но это было значительно позже, а в 1909 году, скажем, такой печати не было. Даже профсоюзы были на полулегальном положении. Их аккуратно разгоняли, а их руководителей ссылали после каждой удачно проведенной союзом забастовки. Другими словами, даже самая элементарная форма защиты экономических интересов рабочих фактически тоже была загнана в подполье, фактически тоже была переведена на нелегальное положение. Последнее, в скобках сказать, оказало громадное влияние на развитие революционного настроения, революционной идеологии среди рабочего класса. Этот экономизм, в котором еще приходится обвинять нашу рабочую массу в 1905 году, его как рукой сняло политикой столыпинского правительства в отношении профессиональных союзов. Когда рабочие увидели, что они глубочайшим образом заблуждались, воображая, что они кое-что завоевали в экономической области и могут это удержать, когда им показали на некоторых наглядных примерах, что невозможно бороться с хозяевами, не повалив сначала царя, тогда они все пошли по революционной дороге, и в результате получился февраль 1917 года. Но как-никак по отношению к нам была святая истина, что никакой конституции не существовало. Даже то, о чем мечтали бедные меньшевики в 1906—1907 годах, именно существование в России социал-демократии в условиях, аналогичных исключительным законам о социалистах времен Бисмарка, даже это оставалось мечтой, мечтой о золотом веке, ибо никакого сравнения, конечно, нельзя провести между порядками Бисмарка, когда людей ссылали из Гамбурга в Альтону или из Альтоны в Гамбург[7-1], и нашими порядками, когда людей за простую принадлежность к партии ссылали на поселение в Сибирь с лишением, всех прав,: а за более или менее активную агитацию — на каторгу. По отношению к рабочей партии, к рабочему движению не было не только никакого псевдоконституционализма, но вообще никакого конституционализма не было, просто никаких гарантий не было, и мы поэтому искренно повторяли вслед за кадетами, что у нас лжеконституционализм, что Столыпин надувает публику и т. д.
Но тем не менее те же самые кадеты великолепно пользовались этим «лжеконституционализмом» для себя, ибо для кадетов, для партии, выражавшей стремления промышленного капитализма, конституция, конечно, существовала. Во-первых, самая их партия если не была признана Столыпиным де-юре, — этого де-юре они несколько раз настойчиво добивались, но безуспешно, — то была признана де-факто. Кадетские комитеты существовали совершенно открыто, тогда как за принадлежность к социал-демократии ссылали. Был только раз процесс о принадлежности к кадетской партии, который кончился совершенной чепухой, кончился штрафом денежным, кажется, даже не заключением. Это был единственный случай и, как единственный случай, как блестящее исключение, оправдывал правило. Кадетская пресса была более свободна, чем, скажем, прусская буржуазная печать во времена Бисмарка. Так хлестать правительство, как у нас хлестали Столыпина и его кабинет в кадетских газетах в 1909 — 1910 году, никакая прусская газета не осмелилась бы. Тон прусской печати 60-х — 70-х годов был куда почтительнее, чем тон нашей буржуазной печати. Таким образом кадеты имели все, что нужно, — тут был молчаливый сговор между ними и начальством. Кадетские книги по истории революционного движения свободно выходили, даже если они заключали в себе вредные с точки зрения царской прокуратуры цитаты, а как только появлялись большевистские книги, их моментально прихлопывали, хотя они были написаны гораздо осторожнее в смысле внешнего тона, чем соответствующие кадетские книги. После немногих недоразумений с кадетами в 1906 году, когда Столыпин, обозлившись на них за первую думу, немножко их прижал, кадетам позволяли жить и дышать совершенно свободно, и по отношению к буржуазии и к буржуазному движению конституция, несомненно, существовала. Это первое, что приходится подчеркнуть по отношению к буржуазному движению. Первая революция кончилась не полной неудачей, — она кончилась компромиссом, в области так называемого субъективного публичною права, т.е. в области тех конституционных гарантий, которые получила к.-д. партия.
Но если мы проанализируем политику Столыпина немножко глубже, возьмем в соображение не внешние, чисто конституционные уступки, которые им делались промышленной буржуазии и представляющей ее кадетской партии, а возьмем социальную политику Столыпина, то мы увидим уступки гораздо более крупные и сможем сказать, что столыпинщина в области своей реальной экономической и социальной политики была настоящим компромиссом, настоящим соглашением между промышленным и торговым капиталом, таким же точно компромиссом и соглашением, каким в свое время были знаменитые «великие реформы 60-х годов». Почти буквально та же ситуация, то же соотношение сил повторилось в промежутке 1907—1912 г. г. При свете той условной лжи, в которую облекала столыпинщину кадетская пресса, мы, грешным делом, прозевали в значительной степени самый крупный момент этой столыпинской социальной политики, именно его аграрное законодательство, выразившееся в указе 4 марта 1906 года о землеустройстве, в указе 9 ноября 1906 года о выходе из общины и в увенчавшем все это законе 14 июня 1910 года, который подвел итоги всему предшествующему. Теперь нужно прямо и открыто сказать, и это не будет никакой с нашей стороны уступкой самодержавию, что это была самая блестящая пора деятельности царской бюрократии после 60-х годов, и что в этом отношении Столыпин является прямым продолжателем Николая Милютина и его сверстников. Из этого, конечно, не следует, что мы должны окружать каким-нибудь ореолом Столыпина-вешателя, а то, что никакого ореола не полагается от нас и Николаю Милютину и Ко. Милютин если сам не вешал, то присутствовал при том, как вешали в Польше, жал руку Муравьеву-вешателю и в своих письмах очень сочувственно отзывался об утомлении Муравьева, который перевешал столько народа, что сам устал.
Земельная политика Столыпина вовсе не была жалкой демагогией, как изображали ее кадеты, жалкой демагогией, рассчитанной на то, чтобы приманить на сторону правительства кулаков (в чем, будто бы, Столыпин даже не успел, — эта приманка кулаков не удалась ему тоже), а была весьма удачной попыткой раскрыть перед промышленным капитализмом в России последнюю дверь, которая еще оставалась закрытой, при чем дверь была распахнута настежь, — операция была произведена столь четкая и столь решительная, как царское правительство, повторяю, еще не действовало со времен крестьянской реформы. Столыпин произвел ликвидацию поземельной общины, — вот в чем заключается сущность его политики. Насколько он успел в этом, вы увидите из цифр, которые я приведу. Пока, для краткости, напомню содержание его законодательства.
Уже закон о землеустройстве 4 марта 1906 года, т.е. закон чрезвычайно ранний, до первой думы, явное предпочтение оказывал тем крестьянам, которые владеют землей не на общинном основании, а индивидуально. В этом законе речь шла о распродаже казенных земель и предписывалось отдавать преимущество тем крестьянам, которые будут выделяться при покупке этой земли на отруба, будут создавать хутора, — тогда уже намечалось хуторское хозяйство. Закон 9 ноября пошёл дальше. Он предоставил право меньшинству крестьян любой общины разрушать эту общину. Достаточно было заявления 1/5 части всех домохозяев, а в общинах с количеством дворов более 250—50 дворохозяев общины, для того, чтобы их обязательно выделили из общины. Операция эта производилась местной землеустроительной комиссией, где большинство состояло из помещиков и чиновников (крестьяне составляли меньшинство, и притом до 1910 года это крестьянское меньшинство или назначалось начальством, или выбиралось помещиками же на губернском земском собрании, т.е. крестьянские классовые интересы до 1910 года не имели ни одного представителя, а после 1910 года получили одного представителя в лице волостного выборщика). Эта землеустроительная комиссия должна была на основании этого заявления % части дворохозяев приступить фактически я ликвидации общинного землевладения. В отдельных случаях, если это не встречало каких-либо препятствий, могла перейти к такого рода мере землеустроительная комиссия и по заявлению меньшего числа дворохозяев, и во всяком случае отдельным крестьянам предоставлялось право выделиться из общины и требовать отвода себе земельного участка в одном месте, образовать «отруб». Это был форменный удар по нашей сельской поземельной общине и форменная уступка, конечно, промышленному капитализму, поскольку сельская поземельная община была главным остатком крепостного права, главным орудием прикрепления крестьянина к земле, т.е. главным средством, обеспечивающим свободную эксплоатацию этого крестьянина торговым капиталом. Всю эту механику, — как прикреплял крестьянина торговый капитал, как эксплоатировал, я объяснял на первых лекциях, поэтому возвращаться к этому не буду, но община служила главным образом его целям, обслуживала главным образом его интересы. Теперь от этого отказались.
Характерно, что отказ начался еще до революции. Уже в 1903 году была отменена круговая порука, т.е. основной стержень всего этого общинного режима. В дальнейшем все это было в сущности логическим развертыванием закона 1903 года об отмене круговой поруки. Но вы очень хорошо знаете, что в истории логика далеко не есть само собою разумеющееся орудие для разрешения всех вопросов, и логические выводы из того или иного положения или вовсе не делаются, или делаются долго спустя. Ведь логическим выводом из буржуазных реформ 60-Х годов была бы буржуазная конституция. Как вы знаете, однако, Романовы такого вывода не сделали до 1905 года, да и в 1905 году сделали его весьма нечетко. Вот, в противоположность этому, логический вывод из отмены круговой поруки был сделан очень скоро и чрезвычайно четко.
То же самое массовое крестьянское движение, о котором я говорю в своем «сжатом очерке», — это массовое крестьянское движение в первое время доводило помещиков до совершенно панических проектов отдачи крестьянам половины помещичьих земель даром, - и эти проекты в промежуток между октябрем и декабрем 1905 года, когда у самодержавия поджилки тряслись всего больше, удостоились благосклонного внимания Николая, который рекомендовал эти проекты Витте. Но когда эта паника прошла, в начале 1906 года, тот же Николай отнесся весьма прохладно к проекту аграрной реформы, выработанному Витте и его министром Кутлером. Что это массовое движение оказало сильное влияние на законодательство Столыпина, этого отрицать не приходится, но это не было победой массового движения как такового, это было, по существу, победой промышленного капитала. Что нужно было этому промышленному капиталу объективно? Нужна, конечно, конституция, вещь приятная, но для эксплоататора это больше гарнир. На что эксплоататору народная свобода, в особенности подлинная народная свобода, что он с ней будет делать? Конечно, когда эта свобода нужна как клапан, как это бывало в Англии и отчасти в Германии, то промышленный предприниматель и на это идет; но внутренней, органической потребности в свободе у него нет. Ему нужна свобода юридическая, т.е. открепление от земли, от орудий производства рабочего-пролетария. Вот — первое, что ему нужно. Второе — ему нужен, этому промышленному предпринимателю, внутренний рынок, внутренний рынок в том случае, если внешних рынков добиться так или иначе не удается. Японская война показала, что над внешними рынками приходится пока поставить крест, что внешних рынков наш предприниматель в свое распоряжение не может получить с теми средствами борьбы, какие у нас имеются. Пришлось так или иначе расширять внутренний рынок. Вот две вещи, которые были реально нужны нашему промышленному капиталисту не в виде конституционных финтифлюшек, а действительно для его экономического существования: с одной стороны — пролетарий, с другой стороны — внутренний рынок. Поскольку пролетарий предполагал большое количество разоряющихся крестьян, постольку внутренний рынок предполагал более или менее прочное крестьянство, которое сравнительно хорошо питается, сравнительно хорошо одевается, вообще живет более человеческим образом, в более человеческом, более удобном просторном жилище и поэтому нуждается в большом количестве товаров промышленного производства. По этим двум линиям как раз и шла, как вы сейчас увидите, столыпинская аграрная политика. Она стремилась обеспечить наш промышленный капитал, во-первых, «свободными» и дешевыми работниками и, во-вторых, внутренним рынком.
Теперь перехожу к цифровому материалу. Тут прежде всего приходится выяснить, какие были непосредственные результаты этой реформы, о неудаче которой я прочитал даже и в ваших программах. Там говорится: «неудача столыпинской реформы» (кажется, причины неудачи). Если под удачей разуметь успех на 100%, то такого успеха столыпинщина не имела, конечно, — это не подлежит никакому сомнению, — но кое-какой успех все же она имела. Вот цифры. До 1915 года домохозяев, заявивших о выходе из общины, насчитывалось 2756 тысяч, т.е. 30 % всех домохозяев-общинников, какие были в России. Из них фактически вышло из общины 2008 тысяч, т.е. 22 %. За ними было укреплено в собственность. 14 миллионов десятин земли, т.е. 10% всей земли, находившейся в руках общинного землевладения, но подготовлено к укреплению еще 18 миллионов десятин. Всего, значит, выделению из общины подлежало 32 миллиона десятин, опять-таки приблизительно 1/3 — 30 % всей общинной земли в России. Таким образом, если сказать, что Столыпину не удалось до конца сломать в России общину, это будет верно,. но тем не менее как-никак на 1/3 он общину сломал. Что в дальнейшем ему нельзя было ожидать особенно крупных успехов, это показывает число домохозяев, заявивших о выходе из общины по годам в тысячах. Это очень любопытная таблица, вслушайтесь в нее.
В 1907 году, когда еще иллюзии революции, надежда получить помещичью землю не иссякли окончательно, заявили о выходе только 212 тысяч. В 1908 году — сразу 840 тыс., в 1909 году — 649 тысяч, в 1910 — 342 тыс., в 1911 — 242 тыс., в 1912 — 152 тыс. и т. д., дальше все книзу. Вы видите, как в 1908 году сразу вышибло пробку, произошла своего рода катастрофа, количество заявивших о выходе из общины увеличилось в 4 раза. Погасли надежды на аграрный переворот путем революционным, на переход в руки крестьян помещичьей земли, и значительная масса крестьян хлынула по столыпинской дороге, начиная выделяться из общины.
Для того чтобы вы оценили результаты этого процесса, опять-таки в цифровом виде, нужно сравнить, сколько было подворников до столыпинщины, и сколько стало после, т.е. какова была площадь индивидуального землевладения в 1905 году. Общее число подворников в России вообще, преимущественно в западных и южных губерниях, было 2,8 миллиона. Столыпинщина после 1905 года к ним прибавила круглым счетом еще 2 миллиона, — увеличение, значит, почти в два раза, до 4 800 тысяч. А если мы возьмем цифры, характеризующие, сколько из этих подворников перестало быть вообще (извиняюсь за плохой каламбур) какими бы то ни было дворниками и пролетаризировалось, то получим очень любопытную серию цифр, как раз противоположную той, которую я приводил по вопросу о выделении из общинного землевладения. Продано надельной земли крестьянами в 1907 году только 26 тыс. дес. (28406 гектар), в 1908 г. — 157 тыс. дес. (171 529 гектар), в 1909 г. — 373 тыс. дес. (407517 гектар), в 1910 г. — 524 тыс. дес. (572491 гектар), в 1911 г. — 533 тыс. дес. (582324 гектар), в 1912 г. — 650 тыс. дес. (710151 гектар) и т. д. Вы видите: как снежный ком, катится эта масса обезземеленных крестьян. К началу 1915 года продали свои наделы 30% всех выделившихся, земли под этими наделами было 20%, площадь 2,8 миллиона десятин (2,9 милл. гектар).
Вот в каких размерах вырос, благодаря столыпинской реформе, пролетариат. Если вы вспомните, что у нас чистого пролетариата было к концу XIX века 5 миллионов (Владимир Ильич считал 10 миллионов, но он считал и полупролетариат, т.е. тех, которые имели земельные наделы, но не могли существовать без заработной платы, — но чистого пролетариата было 5 миллионов), а теперь к ним прибавилось еще 2 1/2 приблизительно миллиона, то увеличение будет на 50%. Это нужно запомнить, потому что это нам объясняет, каким образом при (высоких ценах на хлеб, которые все это время держались (я сейчас еще об этом скажу), мог у нас иметь место тот бурный расцвет промышленности, начиная с 1909 года, который далеко превзошел подъем промышленности 90-х годов XIX века, опиравшийся на низкие хлебные цены. Это объясняется тем, что в это время столыпинским землеустройством очень умно был открыт клапан. Хлеб стал дороже, и благодаря этому заработная плата стала несколько выше. Но так как на рынок рабочих рук была выкинута новая масса в 2 1/2 миллиона, то в результате предприниматели могли держать заработную плату на выгодном для себя уровне благодаря громадной конкуренции предлагавшихся рабочих рук. Кстати уже это нужно запомнить и для того, чтобы понять обострение рабочего движения, начиная с 1911—1912 г. г. Та жестокая эксплоатация, которой должен был подчиняться этот пролетариат, вновь образовавшийся, и старый пролетариат, на который давил этот приток новой рабочей силы из деревни, она, конечно, сильно обостряла положение в городах, обостряла экономическое положение рабочей массы и толкала ее к все более и более активным формам движения.
Насколько после столыпинщины вообще пролетаризировалась русская деревня, покажут следующие цифры обеспечения сельского наделения скотом. На 100 жителей насчитывалось в 1905 г. лошадей 25, в 1913 — лошадей 23, крупного рогатого скота в 1905 — 39, в 1913 — 35; овец и коз в 1905 г. — 57, в 1913 — 51; свиней в 1905 г. — 11, в 1913 — 10. Вот одна линия, по которой шло столыпинское законодательство, одна линия, по которой Столыпин установил смычку между торговым и промышленным капиталом, — это снабжение нашей промышленности дешевыми рабочими руками, путем пролетаризации деревни. Теперь позвольте остановиться на другой стороне ее, на расширении внутреннего рынка. Тут мы имеем целый ряд весьма выразительных цифр.
Прежде всего, если мы возьмем душевое потребление сахара, то найдем такие цифры: 1895 —1896 г. г. — 8,7 фунта (3,4 кг), 1905—1906 г. г. — 14,7 фунта (5,9 кг), 1912—1913 г. г. — 19 фунтов (7,7 кг), т.е. в сравнении с 1895 —1896 годами увеличение больше, чем вдвое. Я нарочно привел цифры, иллюстрирующие пролетаризацию деревни. Они должны застраховать вас от иллюзии, будто материальное положение крестьянской массы сколько-нибудь улучшилось. Ничего подобного. Но, что кто-то стал жрать сахару даже не вдвое, а втрое, нежели жрал раньше, это не подлежит никакому сомнению. То же получается, если возьмем цифры выработки кровельного железа: в 1903 году — 14 1/2 миллионов пудов (227 1/2 тысяч тонн) кровельного железа, в 1905 году даже меньше — 13,4 (21 1/2 тысяч тонн), а дальше такие цифры: 1908 г. — 18,6 милл. пуд. (304,6 тысяч тонн), 1911 г. — 20,7 милл. пуд. (339 тысяч тонн), 1912 г. — 22,4 милл. пуд. (366,9 тыс. тонн), 1913 г. — 25,3 милл. пуд. (414,4 тыс. тонн), — постоянно повышающаяся норма изготовления кровельного железа. И конечно, не разоряющийся и продающий свой надел крестьянин крыл свою избу железом, — она у него, вероятно, совсем была раскрыта, — но кулачок начал все больше и больше прибегать к железу, как к материалу для кровли. И этих характерных еще для 80-х годов кулацких изб, прочных, красивых изб с железной крышей, которые описывал. Плеханов в одной своей цитате, их, конечно, в это время появлялось все больше и больше.
И наконец, третья линия — сберегательные кассы. Крестьянских вкладов в сберегательные кассы мы имеем в 1899 году всего на 126 миллионов рублей. В 1903 году (заметьте, как сказывается повышение хлебных цен) мы имеем уже 201 милл. руб., — 22% всех вкладов в это время делается крестьянами. А в 1912 году мы имеем 420 милл. руб., т.е. слишком вдвое больше против 1903 года, и крестьянские вклады составляют уже 30,4% всех вкладов.
Вы видите, как Столыпин вёл смычку с промышленным капитализмом и по другой линии, расширяя внутренний рынок. Не буду приводить цифр, но вы догадываетесь, конечно, что этот росший кулак, который кушал сахар и крыл свою избу железом, он сравнительно больше покупал и ситца, сравнительно больше покупал сапог, он же начал приобретать больше, особенно на юге, и сельскохозяйственных машин, другими словами, всячески обрастал жиром и своим жиром питал русскую промышленность. В каких размерах питал, как велик был подъем ее, — об этом я скажу в следующей лекции.
* * *
Мне задано несколько вопросов, очень интересных в общем, на которые я считаю долгом ответить, тем более, что мы стоим сейчас на чрезвычайно важном моменте нашего курса, где у вас под руками мало пособий, или нет пособий объединенных, и все вопросы приходится выяснять здесь, на лекциях. Позвольте ответить на первый вопрос, который основан, повидимому, на недоразумении, но на недоразумении интересном, и его нужно отметить, — это вопрос о том, была ли революция 1905 года для нашего рабочего класса борьбой за пятачок (это буквально написано), или же в ней было известное политическое содержание.
Тут я должен сказать, что если приблизительно половина по моим данным, и одна треть по данным тов. Кузьмы Сидорова, рабочих бастовало в 1905 году под чисто экономическими лозунгами, то это вовсе не значит, что даже эти рабочие боролись только за пятачок. Тут приходится различать два момента: революционный, если так можно выразиться, темперамент движения, с одной стороны, и революционную сознательность — с другой.
В своих лекциях я старался подчеркнуть, что революционная сознательность рабочего класса у нас, несомненно, отставала в 1905 году. Революционная сознательность верхушки рабочего класса, его авангарда, большевистской партии, — это несомненный факт. Но это не значит, что у остальной массы не было революционного настроения, только это настроение не находило еще себе там четкой идеологической формы. Революционная идеология начала у нас делать успехи в рабочем классе, как я вам сказал, парадоксальным, точнее сказать, диалектическим образом, в результате неудачи первой революции. Когда рабочие убедились, что те формы движения, на которые они полагались, формы экономического движения, без политики — ничто, вот тогда они начали осознавать политическую сторону своего движения. Но это не значит, что у них не было революционного настроения. Я спрошу, например: что, настроение наших рабочих в 1918 году, когда они требовали дележки профессорских штанов, было оно социалистическим или нет? Когда я должен был, выступая в Московском Совете и на районных собраниях, объяснять рабочим, что дележка профессорских штанов есть самый худший вид социализма, они мне возражали: какой же это социализм, если профессор живет в пяти комнатах, имеет пять пар штанов, а мы ходим оборванные (тогда был страшный мануфактурный голод) и живем пять человек в подвале в одной комнате? Это, конечно, не социализм, и они были совершенно правы. У них социалистический инстинкт был, и в то же самое время не было сознательного отношения к социализму, понимания того, что нужно не делить профессорские штаны, а сделать что-то другое, более радикальное и систематическое.
Итак, я никогда не утверждал, что рабочие в 1905 году боролись только за пятачок; но что многие из них свою революцию понимали как борьбу с хозяином и в этом отношении были недалеки от крестьян, которые свою революцию понимали, как борьбу с помещиком, — это совершенно верно.
Тем не менее нельзя принижать к «пятачку» это движение, потому, что тогда мы не поймем разницы между русским рабочим движением 1905 года и английским рабочим движением между 1850 и 1890 г. г., например. То была действительно борьба за пятачок, потому что английские рабочие сознательно избегали революционного движения в течение всего тред-юнионистского периода, т.е. в течение 40 лет, с 1850 по 1890 год, английские рабочие не были революционерами. Они сознательно воздерживались от революционной формы борьбы. Это действительно была борьба за пятачок, а наши рабочие не избегали революционной формы борьбы. Они по темпераменту, по настроению были уже революционерами, но не сознавали еще конечных результатов своего революционного движения и воображали, что это движение может остановиться на победе над хозяином, тогда как надо было итти дальше и сбить царя. Этого они еще не сознавали.
Вот как следует понимать то, что я говорил об экономизме русского рабочего движения в 1905 году.
Теперь следующий вопрос, отчасти с этим связанный: как понимать революцию 1905—1907 годов, — была ли это революция буржуазная или социалистическая? Я думаю, что еще Каутский в 1905 году, покончил с этим чисто метафизическим пониманием революций «буржуазных» и «социальных», как прежде говорили, или социалистических.
Когда, в 1905 году, Плеханов спрашивал Каутского: буржуазная ли революция у нас по своему характеру или социалистическая, — Каутский отвечал — это старый шаблон, это не по-марксистски. «Революция в России не буржуазная, — комментировал Каутского Ленин, — ибо буржуазия не принадлежит к движущим силам теперешнего революционного движения России. И революция в России — не социалистическая, ибо она никоим образом не может привести пролетариат к единственному господству или диктатуре». К этому надо прибавить, что для революции буржуазной в меньшевистском ее понимании, т.е. для торжества промышленного капитала у нас, как бы это сказать, было недостаточно пороха, чтобы дело дошло до революции.
Я вам рассказывал, в чем заключалась политика столыпинщины, что такое это было. Разрушение поземельной общины. Если это перевести на язык французской революции, то это значит — «уничтожение привилегий». Как там, во Франции, на дороге к развитию промышленного капитализма стояли привилегии, и их нужно было смести, так у нас на дороге к этому стояла поземельная община. И кто же у нас сметает поземельную общину? Сметает ее реакционное правительство Столыпина, царское правительство.
Таким образом для развития промышленного капитализма как такового, у нас не было надобности в насильственном взрыве, хотя я не стану отрицать того, что массовое движение 1905 — 1906 годов, поскольку оно явилось грозным напоминанием, в значительной степени ускоряло этот процесс. В 1903 году пришли к отмене круговой поруки, а в 1906 году приступили уже к реальной фактической ликвидации поземельной общины, и поскольку эта ликвидация производилась царским правительством, для этого не нужна была революция, а достаточно было реформы. Крестьянское и рабочее движение 1905 года в этом случае сыграло роль «ускорителя», подобно крестьянским волнениям эпохи Крымской войны, — только «ускорителя», несравненно более энергично действовавшего, конечно. Самодержавие XIX века, как вы прекрасно знаете, в достаточной степени прислушивалось к потребностям промышленного капитализма, тем более, что оно само не было вовсе остатком седой феодальной старины, а было созданием торгового капитализма, т.е. предыдущей стадии капиталистического же развития.
Теперь предпоследний вопрос, на который приходится ответить, Это вопрос относительно торгового и промышленного капитала. Тут мне указывают, как же это случилось, что торговый капитал мог победить промышленный капитал, тогда как промышленный капитал является более высокой формой капитализма, нежели торговый? Это опять-таки метафизика чистейшая. Нельзя себе представлять так: тум, тум, тум — идет торговый капитал, пришел. Тум, тум, тум — идет промышленный капитал, пришел. Тум, тум, тум — приходит социализм, пришел. Так же, по-детски, представлять себе нельзя. Я извиняюсь за слово «по-детски», но это относится не к вам, а ко многим публицистам, пишущим в этом роде. Так нельзя себе представлять. Живой исторический процесс есть переплет всевозможных течений. В конечном итоге, конечно, победила более высокая форма капитализма, и вы это видели как раз на образчике столыпинщины. Формально победил торговый капитал. Массовое движение, на котором пытался играть промышленный капитал, было раздавлено, а революция, в конце концов, в чью пользу пошла? Она пошла на пользу промышленного капитала, так иго в конечном итоге этого переплета одержал верх промышленный капитал. Это шло очень сложными извилистыми путями, и таков вообще исторический процесс. Если бы в истории не было таких извивов, то не стоило бы вообще заниматься историей: социологии было бы за глаза достаточно. Для чего мы занимаемся историей? Для того чтобы вы видели, как на практике все эти причины сложны, как они переплетаются, как они то забегают вперед, то отступают назад: потому что нам в жизни, в практической тактике приходится иметь дело с действительностью, и мы должны на историческом примере приучать себя к этой сложности, гибкости и извилистости исторического процесса. Мы должны быть готовы к тому, что мы идем вовсе не по прямой дороге, вытянутой, как стрела, д по необычайно извилистой, с ухабами, вымоинами и т. д.; если мы не будем смотреть под ноги, т.е. изучать живую историческую действительность, то мы споткнемся и упадем в такие ухабы, что ноги себе переломаем.
Теперь последний вопрос, который входит в мой курс, но я не сумел его уложить в план этой лекции, — это вопрос о том, что же действительно представляла из себя кадетская партия. В частном разговоре я уже сказал товарищу, что тут есть очень любопытные данные, почерпнутые, правда, из архивов департамента полиции, так что, когда мы их опубликуем, кадеты с необычайно благородным негодованием будут говорить: вот еще раз большевики оказываются вместе со всякими провокаторами и т. д. Но департамент полиции все-таки глядел за кадетской партией, хотя она и была легальной; полиция собирала данные о кадетах, и в этих данных есть очень любопытная сторона: это именно вопрос о материальных средствах кадетской партии. Оказывается, что в Москве, например, кадетов субсидировали главным образом такие персонажи, как Вишняков, основатель Коммерческого института, крупный московский толстосум, как Рябушинский. Рябушинский был наиболее щедрым снабжателем кадетов, и поэтому его кадеты собирались проводить на выборах в четвертую думу. Кандидатура Рябушинского объяснялась именно тем, что он был наиболее щедрым и, кроме того, имел свою газету. Благодаря этим двум качествам, он был для кадетов особенно важен. Я по частным сведениям знаю, что и раньше это была так. За несколько лет до того времени, к которому относится этот факт, я знал, что еще в 1907 году кадетская газета «Новь» в Москве субсидировалась некоторого рода синдикатом крупной еврейской буржуазии, которая больше всего заботилась о национальной стороне дела и, находя, что газета недостаточно защищает интересы евреев, приходила к нашему большевистскому публицисту, покойному М. Г. Лунцу (М. Григорьевский, «Полицейский социализм в России» — это его брошюра), и предлагала ему стать редактором газеты. Он был крайне изумлен, говорил: как же — ведь ваша газета кадетская, а я — большевик. Ему говорят: это все равно. Мы думаем, что ваше отношение к национальному вопросу более четко. Таким образом кадетская газета была фактически на жалованьи у еврейского буржуазного синдиката, который, как вы видите, к кадетской программе был довольно равнодушен. По данным царской полиции, кадеты получили очень крупную субсидию — до 300 тысяч финских марок, т.е. до 300 тысяч франков, или 120 тысяч рублей золотом, от финляндских буржуазных партий за поддержание интересов Финляндии в русской прессе и в Государственной думе. Вот вам другой источник. Если к этому прибавить, что кадетская газета «Речь» возникла на средства одного из воротил одного из крупнейших банков, кажется, Бака — фамилии точно, не помню, который основал «Речь» и который потом кончил жизнь самоубийством (по этому: поводу в «Речи» был очень жалостный некролог и т. д.), — если к этому прибавить, что банковские субсидии Волжско-Камского банка и Азовско-Донского банка попадаются и в агентурных донесениях о кадетской партии, то в общем и целом картина получится совершенно определенная. Этим объяснялась та позиция кадетской партии, которую она заняла во время войны. Но я вперед забегать не буду.
Итак, столыпинская политика была политикой смычки между интересами торгового капитала, который в то время все продолжал господствовать благодаря тому, что хлебные цены все продолжали ползти кверху. Если мы возьмем хлебные цены 1899 года за 100, то в 1901 году мы получим 103, в 1913 г. — 130. Хлебные цены ползли кверху, и в связи с этим рос русский хлебный вывоз не только по объему, но и по ценности. Вот размеры русского хлебного вывоза по сравнению с 1900 годом, если возьмем его за 100, вывоза как по количеству пудов, так и по количеству рублей. В 1909 году — 182 для количества пудов и 249 для количества рублей, которые за эти пуды были получены. Вы видите, как цены на хлеб за это девятилетие вскочили кверху. В 1910 году мы имеем 196 по количеству пудов и 245 по количеству рублей. В 1911 году — тоже 196 по количеству пудов и 241 по количеству рублей, и сообразно с этим конечно, и наш торговый баланс (я вам после объясню, какое это имеет значение) составлял максимальную цифру. В 1910 году наш активный баланс, т.е. перевес вывоза над ввозом, составлял 581 миллион рублей. Соответственно с этим держался и примат торгового капитала, его перевес, и по отношению к капиталу промышленному речь могла итти только об уступках, о компромиссе.
Но если столыпинская реформа непосредственно и сознательно преследовала цели удовлетворить уступками промышленный капитализм, то в конечном счете, бессознательно, на чью мельницу лил воду Столыпин?
На этот счет у нас имеются очень любопытные данные. Нужно сказать, что, помимо грабежа своих односельчан путем выделения из общины и скупки наделов пролетаризировавшихся крестьян, «крепкое» крестьянство еще в очень обширных размерах приобретало землю со стороны, главным образом землю помещичью. Это приобретение помещичьей земли шло весьма интенсивно. Всего было продано помещичьей земли за промежуток 1906—1912 годов 14,4 милл. дес. (15,7 милл. гектар), т.е. столько же, сколько было выделено земли столыпинскими землемерами крестьянам из общинных земель. Из них пошло через крестьянский банк — т.е. попало уже несомненно в крестьянские руки — 6,4 милл. дес. (6,9 милл. гект.). Процент проданной дворянской земли доходит в Воронежской и Тамбовской губерниях до 30, в Симбирской — до 35, в Самарской — до 30 и в Саратовской — до 40, т.е. в Саратовской губ. почти половина помещичьих земель в то время разными путями перешла в руки главным образом крестьян.
Вот вам первый, конечно не преследовавшийся сознательно Столыпиным, результат его политики, результат появления нового крестьянского слоя, жирного, питающегося сахаром и кроющих свою избу железом. Кулак скупал помещичью землю и скупал очень интенсивно. Увеличивалась площадь мужицкой земли за счет барского землевладения. А теперь, если мы возьмем заявления в Крестьянский поземельный банк о выдаче ссуд на покупку земли у частных землевладельцев, то получим, что в 1906 г. было 18,7% всех заявлений, исходивших от отдельных домохозяев, значит от кулаков непосредственно. 63,9% заявлений исходили от товариществ. Вы помните, что товарищества — это компании кулачков, которые слишком слабы, чтобы индивидуально приобретать помещичью землю, но, сложившись, могут ее приобрести; 17,4% приходится на заявления сельских обществ, т.е. на попытки увеличить свои земельные наделы со стороны старых форм крестьянского землевладения, старых крестьян-общинников. Это было в 1906 году. А если мы возьмем 1912 год, то окажется, что число заявлений отдельных домохозяев 81,5%, т.е. 4/5 помещичьей земли в 1912 году покупали индивидуально отдельные крестьяне, товарищества — только 17,8%„ а заявлений сельских общин — 0,7%. Сельские общины уже настолько пали, что почти уже не приобретали помещичьей земли. Но и в товарищества объединяться кулакам почти не приходится, потому что они настолько уже в то время сильны, что могут индивидуально приобретать помещичью землю. Эти индивидуальные приобретения составляют % всех купленных крестьянами земель, у помещиков. Вы видите, как колоссально индивидуализировалось крестьянское землевладение в то время, до какой степени слой, наиболее прогрессивный в экономическом смысле, расширил свое землевладение.
А теперь вспомните, что я на прошлых лекциях указывал, что кулак — это первый либерал в деревне, и что это опора в деревне демократической революции. Товарищ Преображенский, который в то время жил в России (а я в это время был в эмиграции), в разговоре со мною подтвердил, что параллельно с этим в эти годы, несомненно, росло революционное настроение в деревне. Это его личные наблюдения. Эти наблюдения подтверждаются и агентурными сведениями департамента полиции, которые в 1911 году говорят о неизбежности революции в ближайшем будущем. Так же точно высказывались в то время различные видные общественные деятели.
Вот каков был не предусмотренный и не учтенный Столыпиным результат его политики: огромный рост индивидуализации деревни, рост того слоя, который был преисполнен лютой ненавистью к помещику, который в то же самое время все креп, все ширился и все больше и больше поглощал помещичьи земли легальным путем, при чем вы догадываетесь, что люди, которые тратили свои сбережения на покупку помещичьей земли, с еще большим удовольствием получили бы эту землю даром, — это совершенно естественно.
Наконец, последний объективный результат всего того, что я вам рассказал об этом, — на этом стоит остановиться. Тут мы имеем опять довольно любопытные цифровые данные. Если мы возьмем размер посевной площади в России за 5 лет - 1901—1905 г. г. и за четырехлетие 1909—1913 годов, если возьмем 1900—1905 г.г. за 100, то для 1913 года мы получим 110. Посевная площадь увеличилась на 10%. А если возьмем урожай 1901—1905 годов за 100, то урожай 1909—1913 годов даст 123,6. Посевная площадь увеличилась только на 10%, а урожайность повысилась почти на 25% (23,6%).
Таким образом вы видите, что объективный экономический результат разрушения общины и создания этого кулачкового, слоя был положительный. Урожайность и интенсивность увеличились и соответственно с этим увеличилось употребление сельскохозяйственных машин русским хозяйством.
Ввезено было простых сельскохозяйственных машин в 1909 году на 17,1 миллиона руб., а в 1913 году — на 23,7 миллиона; сложных сельскохозяйственных машин в 1909 году — на 14,7 миллиона, а в 1913 году — только на 13 миллионов. Если вы вспомните, что сложные сельскохозяйственные машины, т.е. машины с приводом паровым и т. д., употребляются преимущественно крупным землевладением, а простые сельскохозяйственные машины употребляются крестьянским хозяйством, вы опять увидите тот же основной факт, с которым приходится иметь дело, именно — рост крепкого крестьянина, рост кулака. И до самого 1917 года этот кулак, будучи глубоко реакционен по отношению к пролетарской, социалистической революции, шел со всеми остальными слоями деревни вместе против помещика. В октябре 1917 г. в последний раз деревня выступила единым фронтом; только с лета 1918 г. начинается контр-революционное кулацкое движение. «Первая стадия, первая полоса в развитии нашей революции после Октября была посвящена главным образом победе над общим врагом всего крестьянства, победе над помещиком», говорил Ленин на всероссийском съезде комбедов в декабре 1918 года... «На эту борьбу против помещиков не могли не подняться, и поднялись в действительности все крестьяне. Эта борьба объединила беднейшее трудящееся крестьянство, которое не живет эксплоатацией чужого труда. Эта борьба объединила также и наиболее зажиточную и даже самую богатую часть крестьянства, которая не обходится без наемного труда».
Лекция восьмая
Влияние столыпинщины на развитие промышленного капитализма; промышленный подъем 1909—1913 г. г.. Рост туземного накопления и политическое осмеление русской буржуазии. Оборотная сторона медали; узость внутреннего рынка; неустойчивость активного баланса и ее причины; хлебная конкуренция России и Германии; «проливы». История русского империализма после японской войны; русско-английское соглашение 1907 г.. Россия, Англия и Германия на Ближнем Востоке. Подготовка кампании из-за проливов; совещание 1908 г.; сербско-болгарский договор и балканская война 1912 года, конфликт из-за Лимана-фон-Сандерса. Русско-английская морская конвенция 1914 г.; проекты раздела Австрии; убийство эрцгерцога Фердинанда и роль в этом деле русского главного штаба; кто был главным виновником войны 1914 г.
Я остановился в прошлой лекции на том, что первая, революция, будучи в политической плоскости, в узко политической плоскости блестящей победой торгового капитала и созданного им самодержавия, на самом деле кончилась компромиссом. Компромисс этот сказался в плоскости социально-экономической. За свою политическую победу торговый класс заплатил довольно дорого, расставшись с одним из самых могущественных орудий старой допромышленной эксплоатации деревни — с сельской общиной. Поскольку эта сельская община не была разрушена столыпинским законодательством, это была уже неудача Столыпина; попросту говоря, у него не хватило на это времени, ибо это процесс все-таки не такой быстрый, чтобы мог завершиться в течение немногих лет, — но уже в течение этих немногих лет было сделано, как вы помните, чрезвычайно много в угоду промышленному капиталу. То, о чем мы толковали в начале XX века, — перенесение классовой борьбы в деревню, — момент, вы помните, игравший очень видную роль в наших программах того времени, — теперь было действительно перенесено в деревню усилиями реакционной власти, той власти, которая разбила нас как революционеров. Бывают такие парадоксы, — мы, повторяю, называем это не парадоксом, а диалектикой исторического процесса. В результате этого внесения классовой борьбы в деревню получилась на одном полюсе резкая и быстрая пролетаризация масс деревенского населения, что дало дешевые рабочие руки промышленному капиталу, с другой стороны — образование слоя сельской буржуазии, быстро жиревшего, быстро крепнувшего и который для этого самого промышленного капитала создавал внутренний рынок.
Теперь нам остается только подвести итоги этому процессу и в немногих цифрах охарактеризовать результаты этого.
Тут прежде всего нужно взять, конечно, рост промышленного сырья, а затем продуктов промышленности. Рост промышленного сырья выразится в таких цифрах: в 1908 году добыча каменного угля составляла 1 600 милл. пудов (26 милл. тонн), а через 5 лет, в 1913 году, она составляла примерно 2 1/4 миллиарда пудов (36,8 милл. тонн). Это — рост каменного угля, т.е. той жратвы, которую поглощают топки паровых котлов русских фабрик. Соответственно с этим и продуктивность, конечно, этих фабрик также увеличилась. Если возьмем выплавку чугуна в миллионах пудов, то получим такие цифры: в 1900 г. — 177 1/2 милл. пуд. (2,89 милл. тонн), в 1903 году (разгар кризиса) — 150,2 милл. пуд. (2,4 милл. тонн), в 1908 г. — 170,1 милл. пуд. (2,7 милл. тонн), в 1909 г. — 175,3 милл. пуд. (2,86 милл. тонн). Вы видите, что мы все еще качаемся около цифр начала XX столетия. Во второй половине 1909 года наступает перелом конъюнктуры, очень резкий, нашедший себе целый ряд выражений, одно из которых я это чистый анекдот, но иногда анекдоты помогают легче запомнить приятно ощутил на своей собственной шкуре. Я как раз в 1909 году переехал на житье в Париж, и мой литературный гонорар стал переводиться на Париж. Я подсчитал, сколько должен был получить из банка, и вдруг мне выдают больше. Таких случаев не бывало, чтобы больше выдавали. Думаю, что ошибся в арифметике, подсчитал еще раз. Оказывается, верно. Как же так? Ведь, банк сам себя не обжулит. Тогда оказалось, что наш русский рубль перешел золотую точку, т.е. расценивался на международной бирже выше своей номинальной стоимости. Номинальная стоимость была 266, кажется, сантимов, а он доходил в это время до 268—269 почти сантимов. Это единственный, кажется, случай в карьере русского рубля, когда он расценивался на международной бирже выше своей номинальной стоимости. Обычно курс идет книзу, а не кверху, а тогда был так называемый лаж на русский рубль. Это анекдот, конечно, но он был одним из признаков, которые указывали на резкий перелом конъюнктуры во второй половине 1909 года, и с этого года выплавка чугуна начинает ползти кверху. В 1910 году выплавка чугуна — 186,5 миллионов пудов (3,054 милл. тонн), в 1911 году — 219,4 милл. пуд. (3,58 милл. тонн), в 1912 году — 256,3 милл. пуд. (4,19 милл. тонн), в 1913 году — 282,4 милл. пуд. (4,61 милл. тонн). Это был последний предвоенный год. Дальше увеличение пошло еще более кверху, но тут, как вы догадываетесь, влияла выработка снарядов, пушек и т. д., — того, что нужно было для войны. Но последний довоенный год показал все-таки очень большое увеличение, и несмотря на это, как вы потом узнаете из лекции по экономике военного периода, Россия в это время имела форменный чугунный голод и ввозила к себе чугун из-за границы: до такой степени бурно развивалась основа нашей промышленности, ибо металлургия, это — основа производства капиталистического мира. Эта основа производства росла чрезвычайно быстро. Соответственно с этим рос конечно, и рынок широкого потребления.
Если мы возьмем опять-таки цифры 1900 года, то мы получим для этого года 18 миллионов пудов переработанного хлопка; в 1908 году было 19,8 милл. пуд., в 1909 г. — 23 милл. пуд., в 1910 — 23,5 милл. пуд. и т. д. Хлопок в данном случае побил все рекорды. Такого количества хлопка не было в переработке на русских фабриках с тех пор как стояли эти фабрики. Это были рекордные цифры за целое столетие.
Таким образом мы имеем полную возможность говорить о 1909 и следующих годах как о периоде бурного подъема русской промышленности, бурного расцвета русского промышленного капитализма на той основе, которая была создана парадоксальным или диалектическим образом результатами первой революции и политикой Столыпина. Конечно, я, говоря о политике Столыпина, вовсе не хочу ее связывать персонально с П. А. Столыпиным, вы это прекрасно понимаете: я говорю это для краткости; это была на самом деле политика торгового капитала, приноровленная к потребностям промышленного капитала. Вот что лежало в основе этого расцвета. Я сейчас поясню вам, что давало возможность торговому капиталу так роскошничать, так щедро оделять своего младшего брата, водить его в таких шелках, а пока что остановлюсь на другой стороне этого явления.
В прошлой лекции я уже сказал, что, внося классовую борьбу в деревню и создавая там в лице кулака внутренний рынок, а в лице бедняка — пролетария для фабрики, торговый капитал фатальным образом (и тут опять-таки приходится говорить не о фатальности, как говорят буржуа, а о диалектике) рыл себе могилу, поскольку рос революционный слой, или, точнее говоря, два революционных слоя деревни: с одной стороны, росло не социалистическое, но демократическое кулацкое сословие — первые либералы в деревне (вы помните, по характеристике Энгельгардта); с другой стороны, рос пролетарий, присяжный, могильщик капиталистического строя. То же самое и тут, всячески оделяя этого своего младшего брата, торговый капитал отогревал змею. Эта змея начинает высовывать свое жало вот в каких цифрах. Вы помните, что в конце XIX века подъем нашей промышленности опирался главным образом на приток капиталов из-за границы. Главную массу капиталов, пришедших в нашу промышленность во времена Витте, составляли те 1 600 миллионов рублей, которые были получены благодаря так называемой конверсии русской ренты за границей, т.е., говоря грубо, попросту, превращению русских обязательств во французские обязательства продажей русской ренты французам, на парижском рынке. Благодаря этому, освободилось более 1Уг миллиарда русского капитала, который был брошен целиком в русскую промышленность. Вы догадываетесь, что при таких условиях наша буржуазия зависела от того сундука, который непосредственно снабжал ее этими капиталами, а так как, прежде чем попасть в карман русского буржуа, каждый золотой французской буржуазии проходил через казенный сундук, то это посредствующее звено — казенный сундук — и являлось тем моментом, который сдерживал либерализм русской буржуазии. Я, чтобы не портить общей картины, этого момента не вводил в свое предыдущее изложение, но отметить это нужно. Это, конечно, было не главным, но это был© одним из второстепенных моментов, которые делали’ русских буржуа 90-х годов преданными царю и отечеству. Этот момент играл известную роль: что этот буржуа мог получить то, что ему необходимо на производство, через посредство или при поддержке казны в той или иной форме.
Если вы теперь возьмете соответствующие цифры вот этого периода, который я теперь с вами изучаю, — периода промышленного подъема после 1909 года, вы получите другую картину. Я беру цифры капиталов разрешенных акционерных компаний, русских и иностранных. В. 1908 году было разрешено 108 русских компаний с капиталом в 103,4 миллиона рублей, иностранных компаний было разрешено 12 с капиталом в 9 миллионов рублей; в 1909 году русских компаний 116, с капиталом в 95 милл. руб., заграничных — 15 с капиталом в 12,9 милл. руб.; в 1910 году русских компаний 181 с капиталом в 190 милл. руб. и заграничных — 17 с капиталом в 33 милл. руб.; в 1911 году русских компаний 222 с капиталом в 240 милл. руб., заграничных — 40 о капиталом в 80 милл. руб1; в 1912 году русских — 322 с капиталом в 371 милл. руб., иностранных — 20 с капиталом в: 30 миллионов рублей; в 1913 году русских компаний — 343 с капиталом в 501 милл. руб., иностранных — 29 с капиталом в 44 милл. руб. Сравните эти два ряда цифр и вы увидите, до какой степени иностранный капитал в русской промышленности играет все меньшую и меньшую роль и все большую и большую роль играют русские капиталы, притом выросшие не из казенного сундука, а, так сказать, естественным путем накопления. Как шло это накопление, мы увидим из других цифр, сравнив с ними цифры нашего хлебного вывоза. Наш хлебный вывоз рос в такой пропорции. Если возьмем количество пудов в 1900 году за 100, в 1909 году будет 182, в 1910 году — 196, в 1911 году — то же. А если возьмем ценность этого вывоза и возьмем 1900 год за 100, то в 1909 году будет 249, н|1910 году — 245, в 1911 году — 241, — словом, ценность вывоза увеличилась в П/з раза сравнительно с его объемом. Тут уже играли роль те высокие хлебные цены, о которых я говорил неоднократно. И вот эта-то золотая река, которая лилась в карман русского капитала в виде активного торгового баланса (активный баланс в 1909 году достиг огромной, рекордной цифры в 581 милл. золотых рублей), это-то и оплодотворяло теперь русский капитализм, который рос не на счет притока заграничных капиталов, как это было раньше, а на счет «туземного» накопления. А в результате этого русский капитализм стал гораздо смелее, гораздо резче, и в 1912 году дошел до того, что образовал собственную оппозиционную партию, так называемую прогрессивную партию, во главе которой стоял Струве как идеолог, и Коновалов, крупный промышленник, впоследствии министр торговли и промышленности временного правительства, — партию, которая была правее кадетов в смысле программы и левее их в смысле тактики, говорила с правительством гораздо более решительным языком, нежели говорили кадеты. Но кадетская партия, партия, воплощавшая главным образом идеологию русского капитализма, как я вам говорил, не представляла собой непосредственно промышленности. Непосредственно наши промышленники до тех пор группировались в партии октябристов, во главе которых стоял Гучков. Вот это появление у октябристов левого крыла — прогрессистов, — которое, повторяю, держит себя с начальством гораздо более самоуверенно и дерзко, нежели держали кадеты, чрезвычайно характерно.
Параллельно с тем, как в деревне растут слои, враждебные в конечном счете торговому капитализму и самодержавию, в городе, среди крупной буржуазии растут оппозиционные настроения; и немудрено, что у многих очень опытных и хороших марксистов в это время явилась иллюзия, что Россия вступила на путь прусского типа развития. У нас будет, говорили они, более или менее нормально развиваться буржуазная конституция, подталкиваемая, конечно, рабочим массовым движением, но без новых кризисов, без новых революционных сдвигов. На этой почве, как вы, может быть, знаете, ушел из партии Рожков, который заявил, что буржуазная революция в России кончена, что социалистическая революция в России — момент очень далекий и что нам теперь нужно перестраиваться по меньшевистскому образцу, ликвидировать подпольную организацию и т. д. Подробности этой истории вы узнаете из лекций по истории партии.
Вот каковы были экономические и политические последствия того, что я для краткости назвал столыпинской политикой и что, конечно, точнее будет назвать политикой торгового капитала в России после первой рабочей революции. Внутри страны, таким образом, назревало как будто нечто устойчивое! Я не буду гадать, — гадать в истории самое грошовое дело, — я не буду гадать, что было бы, если бы и во внешней политике все обстояло так же благополучно, как и во внутренней. Факт тот, что во внешней политике дело обстояло далеко не так благополучно, как внутри, и что к концу этого периода на горизонте русской экономики с этой именно стороны, со стороны заграницы, начинает скопляться все большее и большее количество черных туч.
Прежде всего рост внутреннего рынка, под влиянием столыпинских мероприятий, не отличался, как и следовало ожидать, той быстротой, какая была необходима для бурно росшего русского промышленного капитализма. Гораздо легче было производить ситец, нежели создать людей, которые могут этот ситец покупать и надевать. Второй процесс явно отставал от первого, и, чрезвычайно характерная вещь, к концу этого периода начинается заминка на мануфактурном рынке. Эту заминку с тревогой сигнализируют различные специальные промышленные и другие экономические журналы 1913 года. Она нашла себе чрезвычайно яркое отражение в том, что русские мануфактуристы начинают думать о заграничном рынке. О каком заграничном рынке? Нетрудно догадаться, что они думают о ввозе русского ситца не в Германию и Англию. Если возьмете вывоз русских бумажных тканей по азиатской границе, получите такие цифры: в 1909 году — на 21 % миллионов золотых рублей, в 1913 году, всего через 4 года, — 40 800 тыс. золотых рублей, — всего за 4 года вывоз русской мануфактуры по азиатской границе, т.е. вывоз только в Персию и в Турцию увеличился почти вдвое; рост, как видите, колоссальный, — и, в частности, персидский рынок русская мануфактура почти завоевала. Цифры вы найдете все в моей статье «Русский империализм в прошлом и настоящем» в сборнике «Внешняя политика», первоначально напечатанной в «Просвещении». Вы там увидите, что в Персии Россия по мануфактурному ввозу стояла на первом месте, побивая рекорд даже Англии, не говоря о других странах. Даже английские ситцы и трико не шли так на персидском рынке, как шли русские. Таким образом эта страна была прочно завоевана русской мануфактурой, но, конечно, все-таки избытка который получался, благодаря недостаточно быстрому росту кулака в России, все-таки всего избытка Персия поглотить не могла, и естественным образом русские мануфактуристы должны были обратить свои взоры несколько дальше на запад и начать ввозить свою мануфактуру в Турцию.
Вот вам один коготок русского промышленного капитализма, которым он должен был увязнуть во внешней политике. Это-одна сторона. Другая сторона была еще серьезнее. Я сказал вам, что вообще накопление русского капитала держалось на хлебнем вывозе, и я изображал цифры этого хлебного вывоза как все растущие. Теперь я должен внести поправку. Они росли до 1911 года, но с этого года они начинают резко падать. Мы имеем в 1911 году 735 миллионов золотых рублей, а в 1912 г. — только 547 милл. зол. руб., — цифра уже упала. В 1913 году несколько более — 589 милл. зол. руб., но все-таки гораздо ниже цифры 1911 года. Характерно, что уменьшалось тут не только количество рублей (это можно объяснить падением хлебных цен, и вы увидите, что хлебные цены в это время слегка и начали падать), но и цифра пудов. В 1911 году Россия вывезла 821 миллион пудов хлеба за границу, а в 1912 году — 548 миллионов пудов. Что это такое? Откуда взялась такая убыль русского вывоза, которая самым ощутительным образом сказывалась на русском торговом балансе? Вы помните, что в 1909 году активный торговый баланс составлял 581 миллион золотых рублей, а в 1912 г. — только 391 миллион, а в 1913 г. — даже только 200 миллионов, т.е. убыль слишком вдвое, — симптом чрезвычайно тревожный. Золотая река, которая текла в карман, русских капиталистов, в это время явно начинала иссякать. В чем причина? А причина в том, что с сентября месяца 1911 года началась итальяно-турецкая война из-за Триполи. Защищая Константинополь от возможного нападения итальянского флота, Турция закрыла проливы. Вследствие закрытия проливов, Дарданелл и Босфора, наш вывоз из черноморских портов сразу сократился, и в результате — те цифры, которые вы видели. Д за итальяно-турецкой войной пошла балканская война, инсценированная Россией, которая не совсем учла последствия своей инсценировки. Закрытие проливов в эти годы начинает становиться хроническим явлением. Это било русский капитализм уже в целом. Какое влияние это имело, видно из показаний одного официального документа, что русские банки под влиянием всех этих событий увеличили на три четверти процента учет трехмесячных векселей. Таким образом капитал попал в полосу кризиса, самого форменного кризиса, потому что повышение учетного процента всегда знаменует собою кризис.
К фону этих событий внешней политики, о которых я рассказал, остается только добавить один последний штрих.
В основе русского активного баланса и всей той благодати, которая сыпалась на Россию в эти годы из за границы, стояли все-таки высокие крепкие хлебные цены. Само собою разумеется, что русские предприниматели рассматривали эти хлебные цены как нечто устойчивое и постоянное. Предприниматели — меньше всего диалектики и меньше всего склоняются к тому, что все на свете течет и меняется. На самом деле, исторический процесс оставался диалектическим, и тут получилась вот какая картина. Если мы возьмем трехлетие с 1907—1909 г. г., то мы получим для пуда пшеницы цену в 118 золотых копеек, а если возьмем трехлетие 1911—1913 г. г., то получим для пшеницы среднюю цену в 110 коп. Если возьмем для ржи первое трехлетие, 1907—1909 г. г., то получим цену пуда ржи — 99 зол. коп., а если возьмем 1911 — 1913 г. г., то получим цену пуда ржи только в 85 коп. Хлебные цены явно начали подаваться. И вот, если в области мануфактуры нашими конкурентами на Востоке пока что оказывались англичане как увидите, наши будущие друзья и союзники, то в области хлеба нашими конкурентами оказались немцы. Немцы тоже занимались с конца XIX века, еще со времени Бисмарка, покровительственной политикой, только они, как помните, покровительствовали не столько промышленности (промышленные немецкие пошлины были не особенно жестоки), сколько сельскому хозяйству. Вследствие этого в Германии ввозной хлеб был обложен пошлинами в марках за тонну до 80-го года — 10, в 85-м году — 30, в 87-м году — 50, в 1902 году эти пошлины достигли 50 марок за тонну за рожь и 55 марок за тонну пшеницы. И как под покровом русских промышленных ввозных пошлин процветала русская фабрика, так точно под покровом хлебных пошлин развивалось германское сельское хозяйство; к 1913 году, как раз к тому году, на котором мы останавливаемся, производительность одной десятины засеянной пшеницей земли в Пруссии, несмотря на чрезвычайно скверную землю (вы, может быть, знаете, что Пруссия, Бранденбургская провинция называлась в средине века «Песочницей Священной Римской Империи»), — несмотря на такую неблагоприятную почву, там производительность одной десятины дошла, до 13У2 двойных центнеров с десятины (двойной центнер это — 200 килограммов, значит приблизительно 12 1/2 пуд.). В том же 1913 году в России десятина под пшеницей давала четыре с половиной двойных центнера, втрое меньше. При такой колоссальной производительности германского сельского хозяйства оно стало весьма успешно конкурировать с русским. Русский хлебный ввоз в Германию становился все меньше и меньше, в особенности это сказалось на ржи. В промежуток с 1900 по 1904 год Германия ввозила ежегодно 828 тысяч тонн русской ржи. В промежуток 1905 — 1908 г. г. ежегодно ввозилось уже только 555 тысяч тонн, а в 1912 году было ввезено только 268 тысяч тонн, т.е. почти вчетверо меньше, чем в начале столетия, и. 114 тыс. тонн германской ржи было ввезено в Россию. Это был скандал уже совершенно неслыханный. В области ржи германское сельское хозяйство начало конкурировать с русским на внутреннем русском рынке. Русские потребляющие губернии, главным образом северо-западные — Псковская, Новгородская и т. д., находили более выгодным ввозить дешевую немецкую рожь, нежели покупать дорогую отечественную. Это был настоящий скандал. И он привел к тому, что за несколько месяцев до начала войны Россия ввела пошлины на хлеб, ввозимой в Россию. Этот момент для нас важен потому, что он, так сказать, заострял в определенном направлении те внешние политические противоречия, которые складывались. Вы видите, что картина была довольно сложная. Русская мануфактура рвалась на Восток — в Персию и Турцию. Русский капитализм в целом в своем активном балансе был заинтересован не непосредственно в турецком и персидском рынке, а был заинтересован со стороны Германии. Вот почему экономическая борьба из-за восточных рынков и должна была отлиться в парадоксальную форму русско-германской, не какой-нибудь русско-турецкой или русско-английской, а именно русско-германской войны. Вот вам та экономическая обстановка, которая привела нас к катастрофе июля 1914 года.
А теперь я не буду затруднять вас больше цифрами и расскажу о той дипломатической обстановке, которая сложилась к этому времени.
Я перехожу к тем условиям, которые непосредственно вызвали конфликт 1914 года и участие России в так называемой мировой войне, что привело опять-таки непосредственно к революционному взрыву 1917 года, падению Романовых, и в конечном счете — к Октябрьской революции. Ни для одного человека мало-мальски наблюдательного и неглупого не подлежало сомнению, что Россия вмешалась в войну 1914 года главным образом для того, чтобы раз навсегда разрешить для себя вопрос о проливах, кардинальный вопрос для русского торгового капитала. Захватив в свои руки Босфор и Дарданеллы, русский торговый капитал становился в области хлебной торговли монополистом для всей восточной Европы, потому что дунайские страны — Венгрия, Румыния и т. д., которые являлись его единственным в этой области конкурентом, попадали бы от него в зависимость, поскольку в Дарданеллах стояла бы русская таможня.
Таким образом наличность этого момента была, повторяю, ясна для всех с самого начала, несмотря на то, что Россия начала войну при нейтралитете Турции и даже, — одна пикантная подробность, — при попытках Турции сделаться союзницей России. Но пока — так или иначе, Турция в войне не участвовала. Тем не менее, для всякого сколько-нибудь неглупого наблюдателя было совершенно ясно и очевидно, что война для России идет только из-за проливов. Под конец войны, к 1917 году, об этом говорилось уже совершенно открыто; в особенности по этой части прославился Милюков, стяжавший себе потом прозвище «дарданелльский»; а после революции мы нашли документы, подтверждающие, что так именно дело и ставилось с самого начала.
То явление, на которое я вам указывал, — падение русского активного баланса, в результате падения русского хлебного вывоза от закрытия проливов, вызывало очень серьезное беспокойство наверху, и мы имеем перлюстрацию одного разговора Николая II с Бьюкэнэном, английским послом, где Николай говорил, что закрытие проливов ставит русскую торговлю перед чрезвычайно тяжелыми испытаниями, и что если не помогут мирные меры, то он, Николай, не остановится перед тем, чтобы открыть проливы силой. Это было сказано весной 1914 года.
Таким образом связь тех экономических затруднений, которые переживала а то время Россия, с тем, что можно для краткости назвать дарданелльским вопросом, и с войной 1914 года, — совершенно ясна. Остается только несколько конкретнее проследить эту связь вглубь времен.
Русско-японская война, будучи внешним образом жестоким поражением русского торгового капитала и колониальной политики царизма, имела для последнего, однако, один благодетельный результат. Иногда бывает, что после драки люди становятся друзьями: подерутся, а потом подружатся, — так случилось с Россией, и с Англией в Азии. Это были в течение почти столетия, во всяком случае трех четвертей столетия, непримиримые антагонисты, непримиримые противники. Русско-английский конфликт проходит стержнем через все XIX столетие, до 1904 —5 годов, когда русско-японская война была, между прочим, частью и этого конфликта, была столкновением английского капитала с русским в Китае. Но как раз японская война и положила конец этому конфликту. Англию беспокоило то, что Россия казалась колоссом на суше, а у самой Англии таких же колоссальных сухопутных сил для защиты своих азиатских колоний, в первую голову Индии, не было. Отсюда такое настороженно-подозрительное и опасливое отношение Англии к России в Азии, выразившееся в целом ряде конфликтов, до сих пор прочно сидящих в памяти старых царских офицеров генерального штаба, уже благополучно состоящих в настоящее время на службе в Красной армии. Но сами англичане, как люди практические, после 1905 года весьма в этом отношении успокоились, ибо они убедились, что русский колосс даже на сухом пути вовсе не так страшен, как казался. Японская армия с ним справилась легко, а японская армия с 1902 года, с момента англо-японского союза, была как раз той силой, которая должна была защищать от кого бы то ни было английские владения в Азии. На основании этого договора 1902 года японская армия должна была помогать англичанам во всех столкновениях в Азии. Япония не обязана была только вмешиваться в европейские конфликты. Этим и объясняется тот факт, что во время империалистской войны японская армия не появлялась на европейском театре. Но так как Англия опасалась России именно в Азии, и так как для защиты Индии у Англии имелись японские штыки, то этого было совершенно достаточно.
И вот Англия, которая со свирепым оскалом зубов смотрела на Россию до 1905 года, после 1905 года сменяет этот оскал зубов на улыбку. С ней произошло тут обратное тому, что произошло с Милюковым, у которого улыбка перешла в оскал зубов. С Англией было так, что она начала довольно благосклонно смотреть на Россию, и в 1907 году между Англией и Россией был заключен ряд соглашений по азиатским делам, в которых эти две страны совершенно размежевывались, и размежевывались не без пользы для России. Английская буржуазия и тут была умна и поняла, что дразнить противника не нужно, что нужно бросить ему кусок, чтобы его задобрить, и в виде этого куска России была уступлена, как зона экономического влияния, вся северная Персия.
Таким образом Россия получила, возможность развить свой вывоз в Персию, о котором я уже говорил. Это был прямой результат русско-английского соглашения. Русско-английский конфликт был, таким образом, снят, и поскольку он был снят, понятно, прекратились всякие дела на Дальнем Востоке; они были отложены в сторону и сейчас же, можно сказать, автоматически, внимание и русской дипломатии, и русских военно-морских сфер переносится на Ближний Восток. Уже в конце 1907 г. английский посол имел разговор с русским министром иностранных дел, тогда А. П. Извольским, впоследствии русским послом в Париже, и персонально одним из главных виновников мировой войны. Если искать персональных виновников мировой войны, то придется назвать по этой линии Пуанкаре с французской стороны, Эдуарда Грея — с английской и Извольского — с русской. Так вот, этот Извольский, который был тогда не послом в Париже, а русским министром иностранных дел, в конце 1907 года, повторяю, имел разговор с английским послом в Петербурге, и тот ему намекнул прямо, что если бы Россия теперь занялась Ближним Востоком, то она не встретила бы противодействия со стороны Англии.
Эту английскую позицию нужно все-таки немножко пояснить. Англия крайне нервно относилась всегда к делам Ближнего Востока, поскольку через этот Ближний Восток, через восточную часть Средиземного моря, лежит кратчайший путь из Англии в Индию. Поэтому Англия еще в 70-х годах XIX века скупила, например, все акции Суэзского канала и стала в порядке буржуазных правоотношений хозяином этой мировой артерии. Хотя этот канал с точки зрения буржуазного права есть нечто нейтральное, но так как все акции в английском кармане, то естественно, что фактически он принадлежит англичанам. Англия, таким образом, принимала вое меры к тому, чтобы на этом кратчайшем пути из Англии в Индию никто не мог утвердиться. Отсюда чрезвычайная нервность Англии, в период англо-русского конфликта, к попыткам России утвердиться в проливах, т.е. утвердиться чрезвычайно близко к этому пути. Если бы русский флот имел стоянку в Дарданеллах, то, конечно, он в любой момент мог бы перерезать этот путь и таким образом поставить Англию перед величайшими затруднениями. Но после Цусимского сражения русского флота не существовало. То, что было в Черном море, с точки зрения англичан, было величиной совершенно ничтожной, quantité négligeable, как говорят французы. Не английский флот могли испугать 5 —6 устаревших броненосцев, которые плавали между Севастополем, Одессой и Новороссийском. Россия, таким образом, с этой стороны стала для Англии совершенно безопасной.
Но в то же самое время, с конца XIX века, в этом неудобном для англичан месте с чрезвычайной назойливостью начинают выступать другие конкуренты Англии: появляется на сцену германский империализм. В 1898 году император Вильгельм с необыкновенной Помпой совершает поездку в Иерусалим, при этом останавливается во всех попутных городах, в Константинополе, в Дамаске, произносит политические речи, которые, как и все речи этого почтенного монарха, представляли собой верх политической бестактности. Словом, производится колоссальный шум, явно показывающий, что немцы собираются утвердиться в этом месте. Особенно была характерна речь Вильгельма в Дамаске, где он’ рассыпался в любезностях перед мусульманским миром, говорил, что лучшего друга, чем Германия, у мусульман нет и не может быть. А нужно сказать, что одной из привилегий англичан было как раз быть лучшим другом мусульманского мира. Вся мощь Англии держится на влиянии ее на мусульман, — это главная ее опора в Индии, и вдруг является германский император, который говорит, что есть лучший друг мусульманского мира, чем даже англичане, — это он, Вильгельм.
С этого началось. А в следующем 1899 году Германия получает в Турции концессию: концессию на постройку железной дороги от Константинополя до Багдада и далее к Персидскому заливу. Это было в 1899 году, а в 1902 г. концессия была подтверждена. И в то же самое время немецкие, пан-германские публицисты, немецкие писатели типа Рорбаха и Ревентлова, начинают писать вещи совершенно невообразимые. Рорбах выпускает брошюру о багдадской дороге, где подробно развивает идею, как легко может какое-нибудь иностранное государство при помощи багдадской железной дороги захватить Суэзский канал к Египет. Я не знаю, в какой литературе была бы возможна такая вещь. Какая цензура в мире не схватила бы автора за шиворот, и не сказала бы: позвольте, вы про себя думайте, что вам угодно, но не пишите; ведь, англичане это сейчас же прочтут. Но Рорбах это написал с величайшей самоуверенностью, немцы ее с еще большей самоуверенностью напечатали, с такой же самоуверенностью, с какой император Вильгельм произносил свои речи в Дамаске и в других местах.
Совершенно естественно, что англичане зашевелились и в английском парламенте раздались речи, что Англия не может допустить утверждения какой бы то ни было державы на берегах Суэзского канала и Красного моря. При этом англичане в достаточной степени прямо и откровенно заявили, что это единственный повод, который может заставить их выйти из своей миролюбивой позиции, и, кажется, лорд Лансдаун, тогдашний министр иностранных дел, впервые по поводу возможного появления на Персидском заливе немцев заявил о пушках, как о последнем аргументе. Действительно, английский колониальный империализм был до чрезвычайности затронут всеми этими проектами.
И вот, когда с одной стороны была Россия, у которой, благодаря Цусиме, не было ни одной плавающей посудины, а с другой стороны — Германия, со своей багдадской дорогой и со стратегическим проектом; при помощи этой дороги подъехать к Суэзскому каналу, к Египту, и таким образом отрезать Англию от Индии, то для англичан стало совершенно ясно, что и «злая тварь мила перед тварью злейшей». Как ни плоха Россия, но сейчас это настолько беззубое и безвредное существо, что если уж кого пускать в проливы, так, конечно, ее, а то дождешься того, что туда сядут немцы, чрезвычайно зубастые и чрезвычайно когтистые, и притом показывающие даже больше когтей и зубов,, чем у них есть на самом деле. Этого, допустить совершенно нельзя. И чрезвычайно характерно, что почти одновременно англичане в 1905 году оказывают могущественную поддержку Франции в споре с Германией из-за Марокко, и тем приобретают себе союзника на берегах Ла-Манша. А два года спустя английский посол в Петербурге делает намеки Извольскому, что ежели, мол, вы проливами интересуетесь, то мы против этого ничего иметь не будем.
И вот — в феврале 1908 г. в Ленинграде, тогдашнем Петербурге, созывается совещание под председательством Столыпина, обсуждающее ни более ни менее, как план новой войны с Турцией. Застрельщиками тут явились, с одной стороны, Извольский, а с другой стороны, конечно, русский генеральный штаб. Русский генеральный штаб изображал дело так, что война вот-вот сейчас неминуема, что турки собрали несметные силы, завтра на нас нападут и мы должны их предупредить. А Извольский рисовал черные точки на дипломатическом горизонте: и там злоумышляют, и там злоумышляют, и там злоумышляют, — будьте бдительны. К сожалению, военные между собой не спелись, и в то время как начальник генерального штаба Палицын изображал ту картину, о которой я упоминал, помощник военного министра Поливанов говорил: с чем воевать будете? пулеметов нет, патронов нет, солдатского обмундирования нет, сапог нет, и т. д. Это было в 1908 году, на другой день после войны и революции. Так что среди военных произошел некоторый раскол, и на этом расколе великолепно сыграл Столыпин. На этом совещании, показавшем, что после Витте это был умнейший из слуг самодержавия, Столыпин говорил необычайно грубо и заявил, что всякая мысль о войне в настоящий момент явилась бы горячечным бредом ненормального правительства, прямее говоря, что Извольский и его компания — просто сумасшедшие. Россия, говорил он, только что вышла из революции. Ей нужен целый ряд лет, чтобы оправиться и укрепиться, а ее втягивают опять в новую войну. Пока я жив (Столыпин так, конечно, не говорил, но смысл его речи был такой), я такой глупости не допущу. А Столыпин в то время был персоной чрезвычайно влиятельной. Стоит только прочесть письма, которые писал к нему Николай. Письма эти нечто очаровательное по тому подхалимству, с которым Николай обращался к П. А. Столыпину: «Многоуважаемый Петр Аркадиевич. Не могли ли бы вы быть завтра в таком-то часу, и удобно ли вам, а то, говорит, могу предоставить вам другое время», и т. д. Так царь писал своему министру.
При таком соотношении сил наверху, конечно, раз Столыпин стукнул кулаком по столу и заявил, что он войны не допустит, что это — горячечный бред ненормального правительства, то ясно, почему война тогда не возникла. Я в одной моей статье высказал предположение, что смерть Столыпина, быть может, была каким-нибудь более или менее сложными нитями связана с этим его категорическим запретом воевать в ближайшие годы, хотя бы даже и из-за Ближнего Востока. Во всяком случае, в 1908 г. произошла, несомненно, катастрофа наверху, потому что вскоре министр иностранных дел Извольский перемещается в качестве посла в Париж, а зять Столыпина, Сазонов становится министром иностранных дел, — что являлось в глазах Столыпина достаточной гарантией, что никакие безумные проекты не выдвинутся. А затем Столыпин был убит, и все пошло свои чередом.
Таким образом, уже в 1908 году основная проблема русского империализма, проблема Ближнего Востока, была поставлена на очередь.
Очень скоро после смерти Столыпина подготовка новой войны с Турцией опять была на полном ходу. Схема была такая: вызвать конфликт на Балканах, воспользоваться тем, что втянутые в конфликт в первую очередь балканские государства будут конечно, поставлены в довольно трудное положение перед Турцией, — Турция считалась тогда в военном отношении очень сильной державой, — и вмешаться для защиты «единоверных и единокровных братьев». С этой стороны легче всего казалось подойти к общественному, мнению русской массы.
• Проблема эта была сложнее, чем это вам покажется, ибо два основных балканских государства, или, вернее, три балканских государства, которые нужно было объединить на этой задаче, жили между собой в отношениях, по сравнению с которыми отношения между кошкой и собакой могут показаться чрезвычайно дружественными: болгары ненавидели греков больше, чем даже турок; сербы не терпели болгар до такой степени, что всякий проект, который принимали в Белграде, немедленно отвергался в Софии и наоборот. При таких «приятных» отношениях между, балканскими христианами, которых мы должны были защищать от неверных, повторяю, объединить их на одной задаче было не так легко. Тут мы имеем весьма любопытную серию переговоров не непосредственно между болгарским и сербским правительствами, а между русским послом в Софии Неклюдовым и русским же послом в Белграде Гартвигом. И хотя это были русские чиновники русского министерства иностранных дел, тем не менее, между ними, в силу чисто объективных условий, бы-‘ли сильно обостренные отношения только потому, что один сидел в Белграде, а другой сидел в Софии, и однажды чуть не последовал вызов на дуэль. Так что даже эти буфера сильно страдали от столкновений между «братьями-славянами». Но нашелся такой русский полковник генерального штаба, — я не помню его фамилии, — человек, который оказался исключительно гениальным в атом (отношении и провел такую пограничную черту между будущей Сербией и Болгарией, которая удовлетворила после некоторых споров обе стороны. Эту миротворческую задачу разрешил русский полковник генерального штаба. Для полковника генерального штаба задача не совсем соответственная, но, так или иначе, она ему удалась. Эта черта была проведена, конечно, по турецкой территории, как вы догадываетесь.
В это время всем говорилось, что Россия ни о чем так не заботится, как о сохранении мира в Европе. Вы, конечно, оцените эту обстановку: полный мир, никто воевать не хочет, но в то же самое время сидит в Софии русский полковник генерального штаба, перед ним карта Турции, и он по этой карте проводит границы: вот тут будет Сербия, а тут Болгария, а как это сделать, не нарушая мира, — это полковника не касалось, его роль была чисто техническая. Так или иначе, был заключен сербско-болгарский договор.
После этого дележа Турции по проекту русского полковника генерального штаба становится понятно, что когда этот договор увидел Пуанкаре, он воскликнул: «Это — орудие войны 1» До такой степени было ясно, что этот «мирный» договор между Болгарией и Сербией, — конечно, о турецких владениях ничего не упоминалось, это была секретная часть договора, — что это была подготовка новой войны, и осенью 1912 года война, действительно, началась.
Но тут случился камуфлет, которого никто не ожидал. Турция, на которую возлагались наилучшие надежды, — что эта сильная военная держава сумеет здорово дать в зубы кому бы то ни было, эта Турция с самых первых дней была разбита вдребезги, разбита так, что турецкой армии не существовало совершенно, а болгары шли на Константинополь. Но в Константинополе должны были быть русские, а не болгары и не сербы. А между тем царь Фердинанд уже заказал себе костюм византийского императора и готовился парадировать в нем при вступлении в Константинополь. Тут получился момент неслыханного конфуза, когда в Петербурге было запрещено играть болгарский национальный гимн «Шуми, Марица», до такой степени натянулись отношения между Россией и Болгарией, одним из «братьев-славян» на Балканах, которого русские собирались спасать и которого теперь спасать было нечего.
В результате пришлось принимать самые экстренные меры. На болгар была спущена с цепи Румыния, благодаря чему Болгария и была приведена в надлежащий решпект весьма быстро. Ничего другого не оставалось делать, потому что в конце концов вся игра была испорчена.
Эта попытка таким образом вызвать самостоятельную войну на Востоке не удалась. Мысль, конечно, не была оставлена, и Россия жадно хваталась за всякий предлог, чтобы поднять восточный вопрос. Так, когда в конце 1913 года в качестве инспектора восстанавливаемой после разгрома турецкой армии появился немец Лиман фон Сандерс, это было поводом опять для целого ряда совещаний в Петербурге о том, как на этой почве можно вновь возобновить конфликт с Турцией, устроить экспедицию в Константинополь, при чем дело было поставлено уже весьма практически; устанавливалось точно, какие корпуса должны были быть для этого направлены, где они должны были быть посажены на суда, в какой срок и т. д. Проект этот дополнялся чрезвычайно любопытным подпроектом, деталью проекта, выработанной нашими морскими офицерами того времени на предмет истребления турецкого флота до объявления войны. Дело в том, что турки оказались народом предусмотрительным. Они тоже готовились и приобрели два дредноута: один бразильский, «Рио де Жанейро», а другой английский, который назвали «Султан Решад». У России не были еще готовы ее черноморские дредноуты. Россия всегда запаздывала; к Цусиме опоздала и тут тоже опоздала. У нас дредноуты только строились, а у турок уже было два.
Начали поспешно покупать готовые на иностранных верфях. Нашли четыре, но как их ввести в Черное море? Проливы были по конвенции 1841 г. закрыты для военных судов, так что к Черному морю дредноуты не протащишь. Они должны были быть сосредоточены в Средиземном море, чтобы нажимать на турок с тыла. Но помочь непосредственно черноморскому флоту они не могли — для этого нужно было сперва завладеть проливами, что, как показал потом опыт англичан и французов в 1915 г., было делом нелегким. Тут р голове русских моряков и возник гениальный план — они решили использовать самое последнее слово техники. В Севастополе была построена станция русских гидроаэропланов. В то же время русский морской агент в Константинополе должен был тщательно следить за всеми продвижениями двух турецких дредноутов. Для этого все Мраморное море и проливы были разделены на ряд квадратов, кажется, на сто квадратов по номерам, и радиостанция в Буюкдере, при русском посольстве в Константинополе, сообщала регулярно в Севастополь номер квадрата, где находился в то время турецкий дредноут, скажем: номер пять — значит на пятом, номер семнадцать — значит на семнадцатом, номер двадцать третий, — значит на двадцать третьем и т. д.
Между разрывом дипломатических сношений и объявлением войны обыкновенно протекает промежуток времени хотя бы в несколько часов, потому что посольству нужно уложиться, выехать и т. д, В это время военных действий нет.
Но в то же самое время, как только разрыв дипломатических сношений совершится, радиостанция в Буюкдере радирует в Севастополь номер квадрата, на котором в данный момент находятся турецкие дредноуты. Русские гидро-аэропланы сейчас же вылетают из Севастополя с соответствующим грузом бомб и обрушиваются на эти дредноуты. Войны-то еще пока нет, турки меры принять не смогут, и дредноуты удастся потопить. Таким образом дело было в шляпе. Осуществить этого не пришлось; я думаю, что при общей нашей технической неслаженности едва ли эта операция и была бы выполнена благополучно. По всей вероятности гидро-аэропланы полетели бы не туда, куда нужно, бомбы были бы брошены тоже не туда, куда нужно, вообще, кроме сраму ничего не вышло бы, но самый план чрезвычайно характерен в плоскости дипломатических норм. Ведь как вопили о необыкновенной гнусности японцев, которые напали на Порт-Артур: коварное нападение и т. д., а потом сами учли: а мы чего же дураки зеваем, и совершенно таким же порядком, как японцы напали на Порт-Артур, и даже худшим, собирались уничтожить турецкие дредноуты. Но этот, план характерен только потому, что он показывает, как далеко шли русские планы насчет проливов. На самом деле России не пришлось устраивать свою сепаратную восточную войну, потому что она тем временем была втянута в мировую войну.
Всеми этими порываниями России к Константинополю великолепно воспользовалось то самое английское правительство, которое еще в 1908 году, как я рассказывал, через своего посла намекало, что если Россия заинтересуется проливами, Англия мешать не будет.
Основную причину этого поворота английской политики мы уже видели. Но позвольте привести еще одну подробность, объясняющую, по какой причине англичане теперь так благодушно соглашались на утверждение России в проливах. Перед выходом из Дарданелл в Средиземное море лежат острова Тенедос, Имброс, Лемнос и Самофракия, острова, с которыми вы, конечно, не знакомы, а русским белогвардейским офицерам они очень хорошо знакомы, потому что они там сидели в английских концентрационных лагерях. Эти острова находятся в руках англичан. При старой артиллерии эти острова, расположенные минимум в пятнадцати верстах от выхода из Дарданелл, были совершенно безопасны, потому что из старой пушки дальше, чем на четыре версты, не попадешь, а при новых пушках, которые стреляют дальше, чем на пятнадцать верст, получалась совершенно иная картина. Английская батарея, поставленная на этих островах, великолепно могла запереть выход из Дарданелл. Русский флот мог там вариться в собственном соку. У него получалась в прибавку к Черному морю некоторая кишечка, по которой он мог плавать, но выплыть из этой кишечки он мог только с разрешения англичан. И вот англичане предусмотрительно эти острова заняли, потому что с точки зрения стратегической стоял вопрос не дарданелльский, а островной, ибо в чьих руках эти острова, в тех руках при современной технике, при современной артиллерии находятся и Дарданеллы. Так что Англия довольно спокойно могла сказать России: вот вам и Босфор, вот вам и Дарданеллы, а об островах мы поговорим особо.
Но в то же самое время, будучи довольно спокойны относительно военных последствий утверждения России в проливах, англичане очень желали втянуть Россию в свою комбинацию, сделать ее частью того окружения Германии, о котором они хлопотали очень настойчиво с конца XIX века. Я не имею возможности вам объяснять, по какой причине, каким образом англичане стремились к этому, окружению Германии и к англо-германской войне. Эти причины изложены в моих статьях по внешней политике, и там вы это найдете.
Так или иначе, русско-английский союз при этой обстановке становился для России все более и более неизбежным: К маю 19. 14 года дело дошло уже до переговоров о русско-английской морской конвенции, при чем Россия, по обыкновению несколько спеша и проявляя большее проекционное творчество, чем, может быть, требовалось бы, спешила уже учесть эту морскую конвенцию, и в мае 1914 года (оцените это) русское морское министерство ставило вопрос о сосредоточении в портах Балтийского моря значительного количества английских коммерческих пароходов для перевозки русской армии в Померанию. Померания — это есть прусская провинция, находящаяся к северу от Берлина, на берегу Балтийского моря. Правда, русский посол Бенкендорф о Померании советовал не говорить, потому что это англичан может испугать, англичане — народ солидный и торопиться не любят. Русский морской агент собственно о десанте в Померании также не говорил. Но крайне интересно, как русское правительство, в мае 1914 года, когда никто не ожидал коварного нападения Германии на Россию, предусмотрительно обдумывало: как бы достать пароходики, чтобы пробраться к этим самым немцам? В то же самое время, в том же самом мае, французский посол в Петрограде Палеолог сообщает своему правительству разговор с одним влиятельным членом Государственного совета, — фамилия не названа, — разговор ни более ни Менее, как о разделе Австрии. В этом разговоре влиятельный член Государственного совета выражал не то опасение, не то надежду, что скоро умрет император Франц Иосиф, которому было под 80 лет. Что тогда будет с Австрией? Казалось бы, умирает всякий царь; ну, наследник будет на его место — есть же у него наследник? Но почему-то влиятельный член Государственного совета был этим очень огорчен и смущен: как же Австрия? И совершенно как-то естественно выходило, что после этого часть австрийских владений, а именно, Галиция и Буковина должны были перейти к России. Влиятельный член Государственного совета приводил целый ряд причин — исторических, экономических и даже религиозных: там тоже народ православный и русский народ — православный; говорят на том же украинском языке, который мы запрещаем у себя, и т. д., — все совершенно подходит к тому, чтобы они были у нас, естественно. Это опять относится к маю 1914 года. Миролюбие в это время проявлялось полнейшее. Когда самого Эдуарда Грея, английского министра иностранных дел, кое-что прослышавший германский посланник в Лондоне князь Лихновский спросил: у вас какие-то договоры с Россией насчет проливов, тот сделал большие глаза и дал честное слово, что никаких договоров с Россией о проливах не было чуть не с наполеоновских войн, — и правда, разговоры-то ведь были не о проливах, а о Балтийском море и Померании... А в то же самое время передал в Петроград: «Бишво, у вас чересчур болтают». Разоблачения в сербской прессе дали еще один штрих к этой картине, осветив загадочный момент убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда, как раз наследника Франца Иосифа, — с чего открылась Война, потому что это убийство послужило причиной австрийского ультиматума, предъявленного Сербии. Сербия на этот ультиматум ответила, правда, довольно послушно, но не так, как это нужно было Австрии, и на этой почве произошла война.
Смерть Франца-Фердинанда была чр1езвычайно на-руку тем, кто хотел войны, и поэтому сторонники того, что я называл «ритуальной легендой», т.е. той версии, что эту войну начали Германия и Австрия по взаимному сговору, стояли перед чрезвычайно трудной проблемой. Нужно было доказать, что Вильгельм убил своего личного друга (а Франц-Фердинанд был действительно личным другом Вильгельма) специально для того, чтобы найти какой-нибудь повод для войны. Это было чрезвычайно малоправдоподобно. И вот недавние сербские разоблачения, идущие от полковника Димитриевича, тогдашнего начальника сербской разведки, пролили свет на это дело. Оказывается, что в том же Самом мае месяце 1914 года, месяце гораздо более роковом, нежели июль 1914 года!, когда была объявлена война!, в Белграде была получена депеша, адресованная русским генеральным штабом сербскому генеральному штабу, и гласившая, будто бы Вильгельм и Франц-Фердинанд на свидании в Конопиште решили в ближайшее время напасть на Сербию. Душой проекта является Франц-Фердинанд. Его поездка в Боснию, якобы, на маневры есть не что иное, как подготовка к нападению на Сербию, и самые маневры — только ширма для сосредоточения войск на сербской границе. Получив это известие, сербский генеральный штаб заметался. Что было делать? И вот там; в числе других горячечных проектов рождается проект убить Франца-Фердинанда и таким образом сорвать готовящееся нападение, выиграть время, чтобы получить помощь России. Нетрудно было найти среди сербских националистов энтузиастов-юношей, которые отправились в Сараево и убили Франца-Фердинанда. Затем дело покатилось, как по рельсам. Собирался ли Франц-Фердинанд с Вильгельмом нападать на Сербию, неизвестно, но, во всяком случае, у русского генерального штаба в руках было то, что нужно, был факт, который должен был, как говорят французы, декланширо-вать войну, развязать войну. Ясно было, что такой плюхи, как убийство на австрийской территории сербами австрийского наследника престола, Австрия не перенесет. Этого никакая держава в мире не перенесла бы. Австрия; должна была, совершенно очевидно, выступить с ультиматумом Сербии. Дальше все идет, как по рельсам.
Итак, мы теперь знаем, убийство Франца-Фердинанда было спровоцировано русским генеральным штабом. Это совершенно ясно и очевидно. Таким образом, ответить на вопрос, кто начал войну, теперь становится очень просто, — и немудрено, что на этом фоне, уже за два дня до австрийского ультиматума, у французского посланника Палеолога в Петербурге происходит чрезвычайно интересный разговор с так называемыми «черногорками», т.е. с черногорскими принцессами, одна из которых, Анастасия Николаевна, была женой будущего русского главнокомандующего Николая Николаевича «большого». В это время только что приехал в Петроград французский президент Пуанкаре, и вот, что говорили «черногорки»:
— Знаете ли вы, что мы переживаем исторические дни, священные дни? Завтра на смотру музыка будет играть только французские марши, лотарингский марш и Sambre et Meuse (марш французского реванша, — борьбы за Эльзас-Лотарингию с Германией). Я получила сегодня телеграмму от моего отца в условленном стиле. Он мне сообщает, что до конца этого месяца у нас будет война.
Это было за два дня до австрийского ультиматума. Никто еще не мог знать, что в этом ультиматуме содержится, а уже знаменитый черногорский князь Николай, он же Никита, которого Александр III называл своим единственным другом и который прославился главным образом тем, что ухитрялся получать субсидию одновременно и от России и от Австрии, уже знал, что до конца месяца у нас будет война.
Этим маленьким анекдотом и позвольте мне закончить изложение собственно дипломатического конфликта, приведшего к войне. Вы видите, таким образом, совершенно определенно, что если искать непосредственных виновников войны, то их приходится искать не в Берлине и даже не в Лондоне, а в Петербурге. Николай II, когда он сначала полетел с престола, а потом попал в столовую дома Ипатьева в Екатеринбурге, пожал достойным образом то, что он заслужил своей политикой, будучи одним из главных виновников гибели десяти миллионов людей в мировой бойне.
Вы спросите: но это чисто политическая сторона, узко политическая. А какая-нибудь «экономическая база» у всей этой политики была? Почему царская Россия имела интерес ввязаться в войну 1914 года, это понятно: но что заставило ее в этой войне, в противоположность японской, стоять на стороне не Германии, а ее противниц, Англии и Франции? Виновато ли тут только более искусное шахермахерство английских и французских дипломатов, или были некоторые объективные условия, толкавшие в эту же сторону?
Некоторый ответ на это дает упоминавшаяся выше книжка тов. С. Ронина («Иностранный капитал и русские банки») — дополнением к ней по этой линии служит ряд документов, которые в настоящий момент, когда пишутся эти строки, собирается опубликовать «Красный Архив». Тут надо иметь в виду прежде всего, что русский империализм о котором неверно, неправильно было бы говорить до 1905 года, в промежутке 1907—1914 г. г. начинает становиться вещью довольно реальной — во всяком случае, о нем говорить уже можно. Это нашло себе выражение, между прочим, в колоссальном росте банкового капитала и в господстве банков над русской промышленностью. «Собственные капиталы» банков на 1 января 1909 года составляли 222 миллиона рублей, а. на! 1 января 1914 г. 836 миллионов: увеличение на 276% за пять лет. За промежуток 1895—1912 годы «собственные капиталы» русских банков возросли на 350%, а германских — только на 260: русский банковый капитал рос быстрее германского. В то же время в руках банков было сосредоточено железной промышленности России 86%, каменноугольной 77%, нефтяной 86%.
Банки орудовали русскими капиталами — в виде вкладов в их кассах сосредоточивалось все то золото, что шло в таких огромных количествах в обмен на русский хлеб. С 1909 по 1914 год размеры (вкладов в банки увеличились с 976 миллионов до 2538 милл. руб. — на 160%. Но сами банки находились не в русских руках. Значительная часть, от 40 до 60%, всех их акций была размещена за границей — и это делало заграничные банки командирами русских банков, а С ними и русской промышленности. Надо иметь в виду, что на собраниях акционеров любого предприятия никогда не бывают представлены все эти акционеры: обыкновенно являются 25 — 30%, часто менее. Поэтому, имея даже не 40%, а только 25% всех акций, можно командовать любым предприятием. Русские банки, как марионетки, плясали, когда дергали ниточку из Парижа или из Берлина. А за ними плясала и вся русская промышленность: одно «дело» (судебное дело, ибо все описанное было «нелегально» даже с точки зрения царских законов — но, в противоположность другой «нелегальщине» эта царской полиции и судов не боялась, а они ее боялись), которое собирается опубликовать «Красный Архив», свидетельствует, что вся угольная промышленность Донбасса управлялась перед 1914 годом из Парижа.
«В России накануне войны существовало не 46 самостоятельных акционерных коммерческих банков, а две мощные финансовые группы, общий контроль над которыми находился в руках иностранного финансового капитала», говорит т. Ронин. «Удельный вес всех прочих, «диких» банков был весьма ничтожен. За исключением нескольких московских учреждений и одного петербургского (Волжско-Камский), значение этих банков может быть приравнено нулю».
Остается дополнить один штрих. Этот иностранный финансовый капитал был двоякого происхождения: нити одной группы русских банков сходились в: Париже, другой — в Берлине. Между этими группами шла постоянная борьба за влияние — и в этой борьбе французский капитал явно брал верх, а к нему присоединялся понемногу и английский, вначале вовсе отсутствовавший. В 1907—1908 г. г. 81,5% акций всех возникших в эти годы «русских» байков было размещено в Германии, лишь 18,5% — во Франции. Английский финансовый капитал в эти годы совсем отсутствовал. А в 1910—1912 г. г. ка долю германского капитала пришлось всего 38,8% всех акций основанных в эти годы «русских» байков, на долю французского — 56,8%, и впервые появляется Англия — с 4,4%. Еще до начала войны Париж и Лондон начинают вытеснять в области «русского» финансового капитала Берлин. То закабаление России иностранному, и именно антантовскому, капиталу, которое расцвело окончательно к 1917 году и носит имя керенщины, вполне наметилось уже пятью годами раньше. При помощи небольшого сравнительно количества акций иностранный капитал царил на русском рынке — и мог заставить своего «вассала» пойти на все. Выход капиталистической России из войны этим был заранее исключен — на это могла пойти только Россия, пережившая социалистическую революцию.
Лекция девятая
Империалистическая война и русская буржуазия; роль печати; шовинистский угар молодежи. Война и промышленный капитализм. Снарядный кризис и «Особое совещание по обороне»; буржуазия становится хозяйкой тыла. Попытки смычки с рабочими; рабочее движение перед войной; военно-промышленные комитеты. Оборотная сторона военной экономики; разруха транспорта. Рост цен и настроение масс. Революционная агитация и массовое движение; рабочие войска. Экономическая характеристика питерского пролетариата перед Февральской революцией; настроения мелкой буржуазии.
Я вам дал характеристику кадетской партии — крайнего левого крыла русской буржуазии, и вы помните, что это крайнее левое крыло, само по себе составленное преимущественно из крупной интеллигенции, профессоров, врачей с хорошей практикой, инженеров и т. д., было в теснейшей зависимости от крупного, преимущественно банкового капитала. Что касается буржуазных партий, стоящих правее кадетов, то вы помните, что их непосредственными соседями справа были прогрессисты, которые были партией московских фабрикантов-текстильщиков, а дальше шли октябристы — партия, с одной стороны, ростовщического капитала, с другой — тяжелой индустрии; дальше шли еще более правые, о которых и говорить нечего.
Совершенно естественно, что война, затронувшая жизненные интересы всего русского капитализма, и промышленного и торгового, что эта война должна была иметь на своей стороне настроение всех этих партий, выражавших общественное мнение российской буржуазии. Только кадеты колебнулись на минутку, это было, так сказать, последнее воспоминание кадетов о когда-то существовавших у них расчетах на друзей слева. Но это колебание продолжалось буквально одну секунду. Стоило только справа цыкнуть на кадетов и пригрозить им закрытием «Речи», как моментально и кадеты настроились на общий тон и вся буржуазная машина своей печатью заработала в унисон, чрезвычайно дружно, в одном направлении. Я никогда не позабуду того впечатления, которое мне — эмигранту в Париже — давали приходившие из России газеты. Ничего столь омерзительного я в своей жизни не испытывал. Это чувство было чувством моральной тошноты, усиливающейся с каждым днем и доводившей меня, при всем моем интернационализме, до того, что я иногда начинал желать победы немцев только для того, чтобы смести всю пакость, выступавшую на страницах наших буржуазных газет. Это была пакость форменная, потому что здесь выступали элементы, которые нам в Париже потом пришлось судить за прикосновенность к департаменту полиции. Одним из корреспондентов «Русского Слова», одним из главных сеятелей патриотизма на страницах русской прессы был знаменитый Брут — Белов. Первое, что мы нашли, придя в архив Парижской охранки — это было письмо Брута с предложением своих услуг департаменту полиции, — предложением отклоненным. Департамент полиции решил, очевидно, что не стоит покупать Брута, поскольку он и так старается. Человек продался задаром. Вот какая публика тогда держала в своих руках русское общественное мнение. Конечно, тут были и формально порядочные люди, как Милюков, но эти формально порядочные люди были непорядочны политически. Они были выразителями классовых интересов буржуазии и пели в унисон с другими. Они были, может быть, чуть-чуть приличнее, но и они тоже кричали «ура» и пели «боже царя храни». Они дурачили широкую массу, которая читает газеты и наивно убеждена, что в буржуазных газетах говорят правду. Таких людей очень много и до сих пор, много таких людей, которые думают, что буржуазная классовая пресса может — не только хочет, а может — говорить правду. Я потом, во время войны, находил на страницах этой буржуазной печати и притом не нашей, а заграничной, которая была приличнее нашей, грубейшие статистические передержки по поводу, например, численности германской армии. Люди просто врали. Я в своих статьях указывал ряд таких передержек английской и французской печати. Но наша несчастная буржуазия, наша несчастная мелкая буржуазия и мелкобуржуазная интеллигенция верили полностью тому, что писалось на страницах этих газет.
И вот какие сцены происходили под влиянием такой организации общественного мнения буржуазной печатью в России. Я должен прочесть довольно длинный отрывок, потому что уж очень это характерно. Этот отрывок взят из тогдашних газет: «В Москве 9 октября (1914 г.) в 12 час. дня в новом здании Университета после лекции проф. Каблукова состоялась летучая сходка студентов, на которой была принята резолюция о необходимости выразить отношение студенчества к акту о призыве их в армию. Около 2-х часов в аудитории № 1 нового здания Университета проф. А. А. Байков во время своей очередной лекции высказал свой взгляд на переживаемые Россией и Европой события и, в частности, указал на положение Совета министров о призыве студентов в ряды армии. Один из студентов Л. К...» (Почему-то все-таки настоящую фамилию буржуазные газеты скрыли. Такой хороший, патриотический акт и все-таки одни буквы — Л. К... ) «... поднялся и произнес речь, указав, что студенты восторженно встречают акт о призыве их на защиту родины и смело идут навстречу врагу. По предложению оратора присутствовавшие в аудитории студенты пропели «Вечную память» всем павшим на полях сражения, а затем с пением -«Боже, царя храни» и «Спаси господи люди твоя» вышли на улицу. С пением национального гимна и портретами государя и государыни в руках студенты Университета прошли по Моховой и Тверской и по Тверскому бульвару к дому градоначальника. Перед зданием градоначальства студенты снова пропели «Боже, царя храни». На террасу вышел главноначальствующий г. Москвы генерал-майор Адрианов. Когда пение гимна закончилось, один из студентов обратился к главноначальствующему с речью: «Ваше высокопревосходительство, ознакомившись с высочайше утвержденным положением о призыве студентов высших учебных заведений в ряды армии, студенты Университета дружно, с горячим чувством любви к родине просят вас повергнуть к стопам его императорского величества, государя императора, наши верноподданнические чувства и нашу готовность вступить в ряды армии, двинуться вместе с ней на врага и грудью сломить упорство дерзкого неприятеля. Мы надеемся вступить в бой с немцами уже не под Варшавой, а под Берлином». Главноначальствующий г. Москвы генерал-майор Адрианов ответил: «Я сегодня же сообщу его императорскому величеству о выраженных вами верноподданнических чувствах и горячем желании вступить в ряды армии. Вместе с вами желаю, чтобы армия и вы вступили героями в Берлин». Слова Адрианова были покрыты восторженными кликами: «Ура! В Берлин, в Берлин!»
Это была не единственная манифестация. Манифестировало университетское студенчество, затем манифестировали студенты Института путей сообщения, затем манифестировали студенты Коммерческого института, теперешнего института Карла Маркса. Особенно выразительна была встреча студентов, и как раз на Красной площади, на том месте, которое стало теперь местом наших торжеств, с архимандритом Михаилом Сербским: «Студенты приветствовали в лице архимандрита Михаила героическую Сербию. Архимандрит Михаил благодарил студентов за внимание и любовь», и хотя газеты и не пишут об этом, но, наверное, благословил. Таким образом Москва была наполнена отвратительнейшими манифестациями молодежи, молодежи, во всяком случае, искренней, думавшей, что она делает хорошее дело, но сбитой с толку этим потоком лжи, бежавшим со страниц буржуазных газет, тогда как ни одной рабочей газеты в это время не было.
Чрезвычайно характерно, что старшее поколение и вообще сама буржуазия держалась в эти первые месяцы гораздо более осторожно, нежели эта молодежь и нежели та мелкобуржуазная интеллигенция, которая ежедневно читала буржуазные газеты с рассказами о подвигах русской армии, о превосходстве русской артиллерии над немецкой и т. д., и т. д. Как всегда бывает, мелкобуржуазная масса хлынула на улицу раньше, нежели пожилые, солидные люди. Солидные люди в первое время держали себя настолько сдержанно, что, например, в отношении известного заводчика Гужона можно было прочесть обвинение чуть ли не в измене, особенно пикантное потому, что Гужон был патриотом сразу двух отечеств — русским фабрикантом и по происхождению французом, а Франция и Россия участвовали в войне в одном лагере. Первое время крупная буржуазия держалась гораздо сдержаннее, и хотя профессора поднесли-таки верноподданнический адрес Николаю, но все-таки поднесли уже на второй год войны. Значит, от молодежи несколько отстали. Должен прибавить, что нашлись порядочные люди и среди студентов, и студенты университета Шанявского, а также меньшинство студентов Московского университета протестовали против этой манифестации, при чем один протест, очень цензурно написанный, был даже напечатан в «Русских Ведомостях». Я привожу это, чтобы вы не думали, что во всей массе студенчества не было тогда приличных людей. Повторяю, это молодежь и мелкая буржуазия, читавшая газеты и галдевшая патриотически на улицах, пошли впереди крупной буржуазии, и крупная буржуазия появилась на патриотической дороге лишь постепенно, когда выяснилось, до какой степени сама война является выгодным предприятием, до какой степени сама война есть не что иное, как колоссальный рынок, рынок, правда, краткосрочный, весьма ограниченный в продолжительности своего существования, но в то же время настолько выгодный, что за короткое время можно было нажиться на целый ряд лет.
Я приведу вам прибыль за первый же год некоторых предприятий: Акционерное о-во Тульских заводов имело перед войной среднюю годовую прибыль в 1 860 000 руб., в первый же год войны оно получило прибыль в 8 390 000 руб., Колъчугинский завод имел до войны прибыль в 2 170 000 руб., в первый же год войны получил прибыль в 4 720 000 руб., Сормовский завод до войны имел тоже прибыль 2 170 000 руб., в первый же год войны получил прибыль 3 790 000 руб., Кабельный завод до войны — 1 400 000 руб., в первый же год войны — 3 340 000 руб. Совершенно естественно, что в связи с этим новые предприятия, новые акционерные компании стали расти, как грибы. В течение 1915 года было основано 136 новых акционерных компаний с капиталом в 189 000000 зол. рублей. В течение 1916 года только до 1 октября было основано новых акционерных компаний 159 с капиталом в 210 миллионов рублей. Очень характерно, как распределялся капитал между отдельными видами предприятий. Вот таблица относительно акционерных компаний, родившихся в 1916 году. В этой таблице имеются как компании, вновь основанные, так и старые компании, увеличившие свой капитал. Если мы возьмем текстильную промышленность, то мы тут новых компаний найдем только 3, увеличивших свой капитал только 12. Соотношение этого капитала было такое: было вложено 8 новые предприятия 2,6 миллионов, а в старые — т.е. добавлено — 31 миллион. А если мы возьмем металлургические предприятия, мы увидим новых предприятий — 17, старых, увеличивших свой капитал — 21. В новые было вложено 25,5 миллиона, а в старые добавлено 38,5 миллиона, т.е. гораздо больше, чем в текстильные. Затем идут горные предприятия, связанные с металлургией. Там мы имеем такие цифры: 20 новых, 23 увеличивших капитал; вложено в новые — 45 милл., в старые добавлено — 63 миллиона. И, наконец, химические заводы, изготовлявшие порох, взрывчатые вещества и т. д. — новых было основано 7, старых, добавивших капитал — 10; в новые было вложено 14,4 миллиона, в старые добавлено 6 миллионов. Вы видите, что рынок широкого потребления всего меньше выиграл от войны; выиграл и он, потому что солдат нужно было снабжать не только ружьями, снарядами, патронами и т. д., но нужно было их и одеть. Интендантство заготовило такие громадные запасы ткани, что весной 1918 года в Московском совете серьезно обсуждался вопрос, не пустить ли эти запасы ткани в население, потому что тогда был большой мануфактурный голод, все ходили оборванные, голые, а в интендантских складах, одних московских, лежало до 10 миллионов аршин всяких тканей, — огромное количество. Все это пошло потом на снабжение Красной армии и, повидимому, запасов хватило надолго. Во всяком случае, текстильные фабрики оживились всего меньше под влиянием войны, зато металлургия, горное дело, химия чрезвычайно процвели. Производительность русской промышленности увеличилась в общем в таких размерах. Я беру 1913 год, как нормальный, — в 1913 г. валовое производство оценивалось в 5620000000 зол. руб. в 1915 г., через 2 года — уже в 6250000000, а в 1916 — в 6831000000.
Чрезвычайно любопытно и для оценки всего патриотического настроения чрезвычайно интересно, а для политической истории войны очень важно отметить, что все эти благостыни сыпались на буржуазию не столько от самой войны, сколько от поражения русской армии. Это чрезвычайно любопытная и пикантная подробность. Дело в том, что первые месяцы войны наша металлургия не только не оживилась, а, наоборот, замерла, — об этом свидетельствует,. между прочим, количество рабочих в Питере. На первое марта 1914 года считалось 208 000 всех рабочих в Питере, а в сентябре 1914 года уже только 197 300; рабочие были мобилизованы в значительной степени, и фабриканты не очень этому препятствовали, потому что дело у них пошло тише. Наше артиллерийское ведомство, во главе которого стоял, как водится, один из Романовых, пребывало в наивной уверенности, что оно великолепно подготовилось к войне; война, думали все «благоразумные» люди, будет, конечно, короткая, в 2—3 месяца мы раздавим немцев в лепешку, а если не раздавим в лепешку, то всем патриотам было ясно, что к 1 января 1915 года немцы начнут умирать с голоду, что 31 декабря 1914 г. они скушают последний кусочек хлеба. Таким образом, артиллерийское ведомство, заготовив тройной запас снарядов по сравнению с японской войной, считало нужды войны совершенно обеспеченными. И когда наивные частные заводы начали обращаться к военному министерству с предложением взять на себя изготовление снарядов, то артиллерийское ведомство с великим князем Сергеем Михайловичем во главе величественно отвечало: «в шрапнелях надобности не ощущается». Когда же начали стрелять из пушек, то оказалось, что расчеты нашего великокняжеского артиллерийского ведомства чересчур оптимистичны. Уже к концу августа наши батареи расстреляли тройной запас, уже в конце августа 1914 г. в переписке Янушкевича, тогдашнего начальника штаба, с военным министром Сухомлиновым начинают проскальзывать нотки тревоги по поводу недостатка снарядов. Наша артиллерия принуждена сокращать огонь, и это чрезвычайно деморализующе отражается на армии. Когда вы читаете переписку, перед вами, как снежный ком, растут жалобы на отсутствие снарядов, поднимающиеся к началу зимы до настоящего воя, который заставляет Сухомлинова сорваться из своего питерского комфортабельного кабинета и начать ездить по заводам, понукая заводчиков изготовлять снаряды.
Это обстоятельство, тот снарядный и пороховой кризис, который начала переживать русская армия уже в течение зимы 1914—1915 г. г. и который был основной причиной нашего разгрома летом 1915 года, когда на 3000 германских выстрелов мы могли отвечать только сотней выстрелов, это обстоятельство послужило не только к экономическому процветанию нашей промышленности, но и к увеличению ее политического веса. Долго военное ведомство прятало свой секрет насчет недостатка снарядов. Милюков пишет, что будто бы он в первый раз услыхал об этом снарядном кризисе в январе 1915 года. Вернее всего, что это просто неправда, потому что Янушкевич и Сухомлинов переписывались об этом уже в конце августа 1914 года, как я сказал выше. Во всяком случае, в Париже об этом знали — между прочим, по случайным причинам, знали и мы, русские эмигранты, — не позднее ноября 1914 года, когда туда приехала русская военная делегация с паническими вестями о происходящем на русском фронте. И из Франции отправились специальные инженеры в Россию для того, чтобы ставить русские орудийные и снарядные заводы, развить русскую химическую промышленность в необходимых размерах и т. д., и т. д. Мы об этом узнали, повторяю, в ноябре месяце. Когда началось наступление Макензена, в мае 1915 года, когда Макензен двинул свою знаменитую артиллерийскую фалангу в 3000 орудий, тут скрывать уже невозможно было, тут пришлось признаться перед всем миром, что на 3 000 немецких выстрелов мы отвечаем едва сотней. При таких условиях нельзя было не только наступать, а даже нельзя было держаться. Начался отход русской армии из Галиции, потеря миллионов пленными, потеря крепостей и т. д. Произошел разгром, полнейший разгром, — и какой-нибудь Мукден в русско-японскую войну был пустяком по сравнению с тем, что происходило летом 1915 г. на русском фронте. Этого скрыть нельзя было. Летом 1915 года образовывается в Питере особое совещание по государственной обороне с участием фабрикантов, промышленников, членов Государственной думы и т. д., и т. д. Здесь сидели, конечно, и чиновники, назначенные правительством, но сидели, в большинстве случаев, в качестве экспертов, сведущих лиц. Начиная с середины 1915 года русская буржуазия, промышленная буржуазия, которая была разбита в 1907 году, благодаря поражению массового движения, снова берет реванш. Она фактически становится хозяйкой положения, хозяйкой тыла, хозяйкой снабжения армии, а снабжение армии в этот момент, как вы догадываетесь, было всем, на этом держалось все.
Родзянко сообщает в своих воспоминаниях, что будто бы фронт был вскоре после образования особого совещания завален снарядами, при чем на них руками самих рабочих было выгравировано «снарядов не жалеть». Было это так или нет, неизвестно. Тут делались заказы и за границу, и из-за границы поступало большое количество снарядов; между заграничной и русской промышленностью было известное разделение труда, — заграница обслуживала наступление, которое требовало колоссального снабжения снарядами, а текущие потребности, потребности обороны по громадному фронту, от Риги до Баку обслуживались русской промышленностью, — как она его обслуживала, цифры я вам уже приводил. Таким образом буржуазия сделалась хозяйкой военной экономики и фактически руководящей силой уже летом 1915 года. Вот почему с политической точки зрения мало значения имеет тот факт, что в конце лета того же 1915 г. Николай II прогнал главнокомандующего Николая Николаевича, как виновника поражения, — хотя, собственно говоря; он был виноват не больше, чем всякий другой великий князь, — и фактически установил в России самодержавие Распутина: ибо Николай II был безвольной пешкой в руках своей жены, а та прямо писала в одном письме, что ее вдохновляет Распутин. Она объясняла это, конечно, мистически, до фактом было то, что ее вдохновлял Распутин, а она вдохновляла Николая. Несмотря на это, по существу дела нерв войны держала в руках буржуазия, поэтому она и мирилась так долго с распутинским господством. Только через год она начала им тяготиться, и началось движение, о котором я буду говорить на будущей лекции о Февральской революции.
Буржуазия, как вы помните, в революцию 1905 г. пыталась опереться на массы. Чрезвычайно характерно, что эта комбинация повторяется и в 1915 г. Буржуазия пытается опять опереться на массы, и тут необходимо хотя бы в двух словах сказать о том, что представляло собой массовое движение в годы, непосредственно предшествовавшие войне.
Я не буду детально излагать историю рабочего движения этой эпохи, потому что вы об этом слышали или будете слышать на лекциях по истории партии. Здесь я только напомню вам, что рабочее движение начиная с 1911 г. а в особенности с 1912 г. — с апреля (с Лены) — колоссально выросло. В 1910 г. мы имели 222 забастовки и 46000 забастовщиков, в 1911 г. мы имели 422 забастовки и 256000 забастовщиков, в 1912 г. мы имели 2132 забастовки и 750000 забастовщиков, в 1913 г. — 2142 забастовки и 861000 забастовщиков. За четыре года количество бастовавших рабочих увеличилось в 20 раз. Вот как росло рабочее движение. К лету 1914 г. это движение достигло чрезвычайно высокого уровня. 1 мая 1914 г. бастовало более миллиона рабочих. Это было явление невиданное с 1905 г. И невольно нам! — эмигрантам — вспоминался 1905 г., когда мы стали читать в буржуазных газетах весьма, конечно, смягченные телеграммы о событиях в Питере, Москве и других местах. Особенно в Питере, где движение летом 1914 г. напоминало по своим формам движение 1905 г., чувствовался настоящий революционный взрыв по темпераменту, по темпу и т. д. В 1914 г. наиболее пессимистически настроенные из нас поняли, что вторая революция не за горами, что она не так далека, как казалось нам в годы похмелья после первой революции.
Конечно, это видели не только по сю сторону баррикады, но и по ту сторону. Вот почему русская буржуазия, взяв в свои руки экономику войны, немедленно озаботилась тем, чтобы постараться привлечь на свою сторону рабочую массу. В созданные ею военно-промышленные комитеты по инициативе буржуазии были введены представители рабочих, при чем нашей партии пришлось бороться с вступлением рабочих в эти комитеты. Мы доказывали, что участие в империалистической войне для пролетариата — дело совершенно недопустимое. Но только среди наиболее передовой части пролетариата, пролетариата питерского, нам удалось сорвать это вступление в военно-промышленные комитеты, — и то не окончательно. Там антивоенная агитация велась с самого начала, и Выборгский район до созыва еще Государственной думы, тотчас же после объявления войны, выступил с воззванием против войны, — а затем за ним последовал и питерский комитет партии. Несмотря на эту агитацию, только в Питере, и то небольшим большинством 91 против 80, удалось провести отказ рабочих от вступления в военно-промышленные комитеты. Московский пролетариат сагитировать так и не удалось, и он вошел в военно-промышленные комитеты. Буржуазия, таким образом, вопреки настроениям рабочей партии, можно сказать, через ее труп, — потому что рабочая партия в это время, в лице своей думской фракции, была арестована и должна была готовиться к расстрелу, — осуществила ту смычку, с рабочими, о которой она мечтала в 1905 г. По отношению к самодержавию и рабочему классу, буржуазия как-будто торжествовала реванш после 1905 г. Сейчас я вам расскажу, как непродолжителен был этот реванш.
Буржуазия просчиталась и на этот раз. Чтобы понять, почему с ней случилось такое событие, нам необходимо взять экономику войны с другой стороны. Мы сейчас видели войну в качестве плодотворной манны, сыплющейся на русскую промышленность. Но это было нечто вроде тех возбуждающих средств, которые поднимают жизнедеятельность организма на короткое время, а в то же время в основе этот организм расшатывают и губят. К этой стороне нам и нужно перейти. Первое, что не было совершенно предвидено организаторами войны вообще, — за исключением англичан, — людьми, конечно, мало предусмотрительными, это влияние войны на транспорт. На это приходится нам с вами обратить особое внимание, потому что в этом, коротко говоря, есть корень всех вещей, в особенности у нас в России, где, благодаря нашим расстояниям и сравнительно редкой железнодорожной сети, транспорт играет особенно важную роль, потому что в силу огромных расстояний и редкости сети железных дорог, у нас загруженность подвижного состава больше, чем в других местах.
И вот, если мы возьмем влияние войны и военную экономику с этого конца, мы увидим такую картину: война заставила увеличить работу транспорта в колоссальных размерах, поскольку всякая крупная военная операция сопровождалась неизбежно переброской войск. В сущности, вся война в это время не только на русском фронте, но и на любом другом была игрой на железных дорогах, которой немцы, например, пользовались, как настоящие виртуозы. Благодаря сети железных дорог, у немцев гораздо более развитой, чем у нас, военные корпуса вырастали в нужную минуту, как грибы, перед противником. В течение 2 —3 дней переброски совершались на расстоянии сотен верст. Железные дороги входили в современную стратегию необходимой частью, но это требовало громадных расходов подвижного состава, топлива и т. д., т.е. требовало от железных дорог гораздо большей работы, чем в мирное время. Если мы возьмем пробег железнодорожных вагонов в миллиардах вагоно-верст, то мы получим такие цифры: для 1913 г. — 1,9, для 1914 г. — 1-го года войны, притом не весь год военный, а только вторая половина — 2,2, для 1915 г. — 2,5 и для 1916 г. — 3 миллиарда с лишним. Таким образом, мы имеем увеличение больше чем в полтора раза. Вот вам первое влияние войны на транспорт. Транспорт был вынужден работать гораздо интенсивнее. Соответственно увеличилась, конечно, и погрузка вагонов. Грузилось в. день в 1913 г. — 58 тысяч вагонов, в 1914 г. — 43 1/2 тысячи вагонов, в 1915 г. — 71 тысяча вагонов и в 1916 г. — 91 1/2 тыс. вагонов. В. такой же пропорции увеличился, конечно, и средний суточный пробег вагонов. В 1913 г. — 368 тысяч вагоно-верст, в 1914 г. — 412 т. ваг.-верст, в 1915 г. — 630 т. ваг.-вер. и в 1916 г. — до 800 тыс. Таким образом, транспорт заработал гораздо живее. Совершенно естественно ожидать, что выросла и промышленность, обслуживающая транспорт, в таких же размерах. Но тут вы видите совершенно иную картину. Как-никак, во время войны самое важное были снаряды. Все наши машиностроительные заводы, до сих пор обслуживавшие в значительной степени транспорт, брошены были на изготовление снарядов. Результат получился вот какой. Выпуск паровозов Сормовского завода в 1913 г. был 117, в 1914 г. — 107, в 1915 г. — 110, немножко больше в 1916 г. — уже 64 и в 1917 г. — 55[9-1]. Промышленность, обслуживавшая транспорт, чинившая вагоны, строившая и чинившая паровозы и т. д., сократилась, в то время как работа этого транспорта все усиливалась и усиливалась. Мало того, машиностроительная промышленность должна была передать военной свое оборудование на 300 миллионов рублей, — огромное количество машин, станков и т. д., которые раньше обслуживали машиностроение, и главным образом транспорт, и теперь обслуживали изготовление снарядов, артиллерии и т. д. Совершенно естественно, что это должно было отразиться очень тяжело на нормальном железнодорожном движении.
Считая среднюю месячную перевозку 1913 года за сто, в 1914 г. в июле было перевезено 72% хлебных грузов по отношению к июлю 1913 г., в августе только 35%, в сентябре 47%, в октябре 58%, в ноябре 53 %. Ни разу перевозка хлебных грузов по железным дорогам не достигала у нас норм мирного времени, держась все время ниже 60%. Вот вам наглядный образчик влияния разрухи транспорта на непосредственное снабжение населения. В результате, как вы догадываетесь, цены должны были расти, и росли они с катастрофической быстротой. Если мы возьмем московский рынок и цены на мясо, то мы получим такую шкалу (я не буду брать, чтобы не затруднять вас, абсолютные цифры, я приведу только проценты): взяв за 100 цены 27 января 1915 г. мы получим для 3 февраля 119, а для 5 февраля — 144. Цена меньше чем за месяц вздулась в полтора раза. Вот как отражалась война на ценах съестных припасов. Цена на яйца с апреля 1914 г. по апрель 1915 г. поднялась на 61 1/2 %. Цена на сахар: 1914 г. сентябрь — 5 р. 05 к. за пуд, 1914 г. ноябрь. — 5 р. 40 к., 1915 г. май — 6 р. 40 к. Месяц за месяцем цена на сахар растет. Я беру здесь все оптовые цены, а в розничной торговле повышение было крупнее. При подобной скачке цен, все розничные( торговцы всегда себя страхуют и берут больше, чем они могли бы брать, ожидая, что цены еще поднимутся, и им придется покупать следующую партию того же товара по гораздо более дорогой цене. Хлебные цены, цены самого основного продукта питания — были следующие: в 1914 г. в июле ржаная мука стоила 1 р. 15 к., в августе — 1 р. 22 к., в сентябре — 1 р. 18 к., в ноябре — 1 р. 15 к. (это повлиял урожай), а уже в июле 1915 г. — 1 р. 43 к.,, в августе 1915 г. — 1 р. 48 к., в сентябре 1915 г. — 1 р. 64 к. Вы видите, что в 1915 году даже урожай не помог, и в сентябре цена все-таки поднялась. До такой степени расхлябанность транспорта и сокращение хлебных перевозок сказались на снабжении городов.
Благодаря этому, прежде всего уменьшилась доставка муки в города, и в ноябре 1916 г. мы имеем для Ленинграда только 91% нормальной доставки, в декабре 1916 г. — 47% и только к январю 1917 года искусственными мерами удалось поднять эту цифру до 57%. Так как нужно быть справедливым даже к величайшим мерзавцам, то я не могу не привести как образчик деловитости и хитрости Распутина, что он это предвидел и по-своему пытался предупредить об этом своих коронованных покровителей. В одном из писем Александры Федоровны к Николаю II мы встречаем рассказ о том, как Распутину всю ночь были видения, ему грезились станции, поезда, забастовки, и результатом этого был указ о так называемых «продовольственных неделях», о том, чтобы в течение целой недели возить по определенным линиям исключительно только съестные припасы. Это было в 1915 году. Уже в 1915 г. Распутин предвидел ту апельсинную корку, на которой поскользнулась династия Романовых в феврале 1917 года. Совершенно естественно, что все эти факты должны были определенным образом влиять и на настроение рабочих масс. Вы помните, каким тоном разговаривали студенты с градоначальником Адриановым в первые «весенние» месяцы войны, хотя эта весна войны и приходилась на сентябрь месяц. А вот как год спустя, даже меньше года, в апреле месяце 1915 года разговаривали с помощником этого градоначальника рабочие: «На Преображенском рынке, на поднятый бабами шум по поводу дороговизны собралась толпа. Приподнятость настроения сейчас же опрокинулась на полицию, и когда г. Модль стал в резкой форме говорить толпе, одна женщина ударила его камнем, и тут же толпа вытащила его из автомобиля, била и тащила к реке, при чем г. Модль просил: «Что я вам сделал, братцы, простите»... и т. д. Были вызваны войска, но женщины вплотную подошли к солдатам и стали кричать: «Разве у вас нет жен — им так же плохо, как и нам. Стреляйте в нас, и ваших застрелят». Такие же сцены были и на Пресне, и в Грузинах, и на Сивцевом Вражке, где были разбиты все стекла в магазине Чичкина по случаю отказа в молоке одним и отпуска его другим».
Уже весной 1915 года в рабочей массе под влиянием этой обратной экономики войны складывалось совершенно определенное настроение. Поскольку эта масса, хотя тогда еще из самого глухого подполья, уже организовывалась нашими большевиками, постольку это проявлялось и в известных организованных действиях, и притом чрезвычайно опасного для правительства типа. Насколько глухое подполье было в то время, я всегда иллюстрирую одним фактом, — как питерский комитет нашей партии собирался буквально в болоте: под Питером много болот, и это было единственным местом, безопасным от шпиков, от налета казаков и т. д. Уже к концу 1915. г. мы могли похвастаться крупными успехами непосредственно на фронте. Это была знаменитая история на броненосце «Гангут», где была обнаружена подготовка настоящего матросского восстания. В результате этого два моряка были расстреляны, остальные преданы суду, и затем по ниточкам сыщики добрались до соответствующей революционной организации. Она была арестована в декабре 1915 года, а осенью 1916 г. ее судили. Характерно, что к этому времени настроение в массах до такой степени поднялось, что никого не посмели расстрелять, несмотря на то, что восстание во флоте, подготовка восстания во флоте в военное время есть тягчайшее с военной точки зрения преступление, и нужно было ожидать массового расстрела; но расстрелять никого не посмели, ибо уже только один суд над этой морской организацией вызвал забастовку 130000 рабочих в Питере. В случай расстрела нужно было ожидать форменного взрыва, вроде московской октябрьской забастовки, и правительство отступило. Предусмотрительно распространили через буржуазную прессу, что судят по 102 статье, где о смертной казни не могло быть речи. Адвокат Соколов, который защищал матросов, рассказывал, что на 102 статью со 101, по которой полагался расстрел, отступили именно из-за роста революционного настроения в массах. Таким образом, в течение уже 1915 г., к концу его, обнаружилось определенное революционное настроение в рабочем классе, проявлявшееся и организованно в виде движения моряков, проявлявшееся неорганизованно в виде тех беспорядков, о которых я вам говорил.
Эта обратная экономика войны естественно шла поперек дороги той политики буржуазии, которая ей удалась как будто с военно-промышленными комитетами. К осени 1916 года напряжение достигло таких пределов, что даже оборонческая пресса, т.е. социал-демократическая оборонческая пресса, начала разговаривать о необходимости так или иначе кончить войну, предварительно свергнув самодержавие. Прокламации, выпускавшиеся в январе 1917 года социал-демократическими организациями, призывали к тому, чтобы народ сам кончил войну, ибо самодержавие очевидно не сумеет ее кончить. Это настроение даже оборонцев очень характерно и его необходимо подчеркнуть. Не решаясь прямо восстать против войны, они начали понемногу переходить на рельсы революционного оборончества.
Тут чрезвычайно характерны те сведения о настроениях рабочих, которые мы имеем в бюллетенях рабочей группы Военно-промышленного комитета уже с осени 1916 года: «С начала октября по всему Петрограду начали широко распространяться слухи о каких-то чрезвычайных событиях, происходивших будто бы в Москве, Харькове и еще некоторых провинциальных городах. Из некоторых городов в частных письмах запрашивали: «Что у вас происходит в Петрограде?», тогда как в Петрограде еще ничего не происходило. В Петрограде же со всех сторон рабочую группу осаждают тревожным допросом: «что слышно о Москве?». Упорство, с которым слух о «московских событиях» передавался из уст в уста и захватил все рабочие районы Петрограда, вынуждало рабочую группу неоднократно наводить справки у московских товарищей. И всякий раз оказывалось, что слухи эти совершенно неправдоподобны... С ряда заводов в рабочую группу стали поступать сообщения о крайне повышенном, возбужденном настроении рабочих. Настроение это достигло такого напряжения, что, по сообщению корреспондентов рабочей группы, достаточно было малейшего шума, падения листа железа, чтобы рабочие останавливали станки и устремлялись к выходу. Вместе с тем по городу стали циркулировать самые чудовищные слухи». Положение складывалось самое серьезное. Предреволюционное настроение чувствовалось определенно, как чувствовалось оно и в 1905 г., перед началом массового движения, как оно чувствовалось и перед Великой французской революцией, в виде так называемого «большого страха», когда по всей Франции шли слухи о разбойниках, которые идут, население волновалось, между тем на самом деле никаких реальных фактов, оправдывавших эти слухи, не было. Что очень важно, — это настроение было не только среди рабочих, но определенно передалось уже и войскам. «Во время забастовки в Петербурге осенью 1916 г. на заводе Лесснера рабочие пошли снимать другие заводы. Появилась полиция, начала разгонять. Особенно крупные, многочисленные группы рабочих были около завода «Новый Лесснер». Рядом с этим заводом были расположены казармы 181 запасного пехотного полка. Между солдатами и рабочими отношения были чрезвычайно дружественные. Среди толпившихся рабочих были солдаты. Говорили тогда, что был среди них и какой-то солдат раненый и «георгиевский кавалер». Когда полиция начала свирепствовать и напала с шашками и нагайками на толпу, солдаты соседней казармы, смотревшие на улицу через низкий забор, не выдержали, повалили забор и вместе с рабочими побили и разогнали полицию. Властями были вызваны казаки для ареста солдат и рабочих.. Но казаки не решились действовать, и их убрали. Поступок солдат вызвал переполох среди военных властей. В казармы приезжало всяческое начальство, однако арестовать «зачинщиков» из 181 полка смогли лишь ночью, после поверки. Арестовано было 130 человек и их угрожали предать военному суду».
Мне остается только подвести, так сказать, материальную базу под эти настроения и дать краткую характеристику объективного положения рабочего класса в Питере в эти месяцы. Вы помните, когда я вам комментировал таблицу, тов. К. Сидорова, я указал на то, что у нас в рабочей массе наиболее революционным элементом были, с одной стороны, металлисты, с другой стороны — рабочие наиболее крупных предприятий. Прежде всего рост общей массы рабочих в Питере: сентябрь 1914 г. — 197300, сентябрь 1915 г. — 248000, сентябрь 1916 г. — 297000, октябрь 1916 г. — 305000 и к январю 1917 г. до 400000, т.е. слишком вдвое больше сравнительно с сентябрем 1914 г. Как были распределены эти рабочие? Конечно, в своей массе это были металлисты. Об этом нетрудно догадаться, потому что Питер — главный центр металлургической промышленности. Процент металлистов был очень высок — около 70% всей массы рабочих составляли металлисты. Процент по предприятиям: на предприятиях с числом рабочих больше тысячи, на предприятиях-гигантах было занято 76,7%, а в предприятиях с более 10000 рабочих на каждом, — т.-е. сверхгигантах — 22,8%. Таким образом, подавляющее большинство этой огромной массы рабочих, сконцентрировавшихся в Питере, принадлежало к наиболее революционному разряду — это были металлисты и рабочие крупнейших предприятий. Такова была почва того рабочего движения, которое окончательно разразилось в феврале 1917 г. и которое определенно чувствовалось уже осенью 1916 года. И так как массовое движение пролетариата никогда не остается без влияния на соседние непролетарские слои, в особенности на впечатлительную мелкую буржуазию, оно не могло не захватить молодежи, студенчества. 12 января 1917 г. московские студенты по обыкновению праздновали Татьяну и, как со скорбью отмечает полицейское донесение, пели исключительно революционные песни. К ним приехал тот же помощник градоначальника и умолял их спеть хоть разок «Боже, царя храни», — но ему не вняли.
Лекция десятая
Иллюзии правящих классов зимою 1916/17 г. г.. Распутин и прогрессивный блок; в чем сущность конфликта? Перемена ролей промышленного и торгового капитала вместе с военными неудачами. Тайные переговоры с Германией. Заговор и контр-заговор; значение склоки наверху для успеха революции. Чем пыталась изобразить Февральскую революцию буржуазия и чем в действительности она была. Революция и война; настроение пролетарских масс; настроение на фронте. Попытка Временного правительства возобновить войну. Война и большевизм. Почему вторая русская революция должна была стать социалистической.
Вы помните, что к весне 1917 года все элементы революции были налицо. Была колоссальная хозяйственная разруха, начавшаяся с разрухи транспорта, было не менее колоссальное скопление рабочих в царских столицах и притом рабочих наиболее революционного типа — металлистов, занятых в крупнейших предприятиях, предприятиях-гигантах. Словом, налицо были все те условия, которых недоставало для революции в 1907 — 1908 и следующих годах. Не было только налицо одного условия, и вы увидите, что оно сыграло свою роль, — не было той партии, которая была на сцене в 1907 году, которая провела первую русскую революцию и которая, как показал опыт, только одна и могла провести вторую революцию. Благодаря тому, что в первый момент этой партии на сцене не оказалось, получилась длинная, восьмимесячная агония старого режима, стоившая стране довольно дорого, особенно в смысле углубления экономической разрухи, и сделавшая необходимой вторую операцию (как иногда бывает, — если не удастся ампутация, начинается процесс воспаления, делают вторую операцию), операцию, которая могла бы быть, конечно, сбережена. Случилось это не совсем по воле божьей, а отчасти и в силу сознательного расчета тех сил, которые правили Россией и заботливо истребляли в промежутке между 1907 и 1917 г. г. именно большевиков, истребляли не только персонально, законопачивая их в казематы или сибирскую ссылку, или выгоняя за границу, но истребляли и идеологически. Никакая литература не подвергалась так преследованиям, как литература большевистская. Когда мы вскрыли архив Парижской охранки, то нашли очень выразительный документ, очень толковую и грамотную характеристику влияния большевистской литературы на русскую рабочую массу, сделанную каким-то шпиком, может быть, каким-нибудь литератором, состоявшим на жалованьи департамента полиции. Там была дана весьма грамотная и толковая библиография наших легальных и нелегальных писаний за это время с указанием их вреда. Таким образом, велась сознательная борьба, и до последней минуты, как вы увидите, Романовы, а после их падения — их друзья за границей, старались эту беду-появление на русской территории большевистской партии с Лениным во главе, предотвратить. Я уже затронул, как видите, сейчас ту силу, которую мы с вами анализировали, когда изучали первую революцию. И как тогда мы на минуту остановились на этой противодействующей силе и старались выяснить, что она собой представляла, так приходится это сделать и теперь.
Вы помните, что взрыв в 1905 году был очень облегчен той трещиной, которая образовалась в русском правящем классе благодаря антагонизму интересов промышленного и торгового капитала. Вы помните, однако, что этот антагонизм был не очень глубоким, и что неглубок он был благодаря тому, что оба капитала слишком хорошо чувствовали опасность, которая им грозила со стороны массы. Поэтому они не разодрались между собой до конца, а покончили компромиссом. Положение зимы 1916/17 г. тем и характеризуется, что эта опасность, опасность массового взрыва, совершенно ушла из поля зрения этой задерживающей силы, нашей империалистской буржуазии, как можно охарактеризовать этот блок целиком, не выделяя оттуда помещиков и фабрикантов, торговый капитал и промышленный капитал. Казалось, что после кровавой эры столыпинщины больше массовому движению не подняться. Я не знаю и не берусь объяснить, как могла сложиться такая иллюзия у людей, которые пережили питерское рабочее движение летом 1914 г., но что такая иллюзия была, это доказывается откровенным признанием Милюкова, сделанным Палеологу, прознанием, которое вы могли прочесть в моей статье. «Мы этого совершенно не ожидали», сказал Милюков. И весь образ действия буржуазной верхушки ясно показывает, что они действительно не ожидали массового выступления рабочих. Повторяю, это дело дальнейшего анализа. Мы далеко не вскрыли всех деталей этой революции, не выяснили до конца, что привело русскую буржуазию к этой странной аберрации, что массовый взрыв невозможен. Но самый факт налицо. Его признал Милюков, и он сквозит сквозь всю политику верхушки империалистской буржуазии в это время. Не решившись из-за массового движения додраться до конца в 1905—1907 г. г., тут они эту решимость нашли. Революция февраля, по нашему марта, 1917 г., была, конечно, не вызвана (чем она была вызвана, вы знаете), но облегчена в чрезвычайной степени тем, что на верхушке в это время происходила волосянка людей, совершенно забывших, что на свете есть рабочие, есть революционный пролетариат, и что этот пролетариат в один прекрасный момент может схватить за шиворот обоих дерущихся и потащить их в такое место, куда они итти не желают.
Обыкновенно то, что происходило зимой 1916—1917 г. г. изображают как чисто придворный спор. Но уже непосредственный наблюдатель, тот же Палеолог, прекрасно видел, что корни лежат глубже, что помимо придворных сфер в этом споре заинтересованы некоторые силы общественные, по-старому выражаясь. Анализируя положение марксистски, мы легко вскрываем, в чем заключалось основное противоречие. По наружности это был как будто спор прогрессивного блока с самодержавием, если хотите персонально, Милюкова и Гучкова с Распутиным. Прогрессивный блок — это было политическое представительство буржуазии, взявшей фактически в руки власть, в 1915 г. военная экономика держалась» буржуазией в руках непосредственно путем «особого совещания», а в Думе ее представлял особый блок, шедший от кадет налево до националистов направо и носивший название прогрессивного блока. Как будто дела сводилось к дуэли между этим блоком, с одной стороны, к самодержавием в лице, главным образом, Распутина, с другой. Но это внешняя, повторяю, оболочка... На самом деле противоречие было гораздо более глубокое. Мы тут имеем последнюю дуэль тех двух противников, борьба которых составляет, как вы помните, фон всей русской истории XIX и начала XX века, все тех же самых двух видов капитализма, интересы которых не могли вполне примириться на русской почве. В начале войны, несомненно, доминировал торговый капитал. Задача захвата проливов — это была задача торгово-капиталистическая. Это был эпизод борьбы России за торговые пути. Промышленный капитал, как вы помните, в первые месяцы отнесся к войне довольно прохладно, но постепенно, по мере того, как война оказывалась великолепным рынком, с лихвой заменявшим обычный рынок, на котором уже было тесновато русской промышленности, по мере того как, с другой стороны, прекращение всякого вывоза из России отнимало у торгового капитала всю прелесть войны, надежда на то, что война кончится в 3—4 месяца блестящей победой, не оправдалась, урожай 1914 года был потерян, урожай 1915 года был также потерян, урожай 1916 года также не был вывезен за границу, — по мере того, как шло это, — интересы торгового и промышленного капитала должны были переместиться. Промышленный капитал чем дальше, тем больше втягивался в войну, торговый капитал чем дальше, тем больше начал скучать и горько осуждать войну. Это сказалось во взаимоотношениях прогрессивного блока, который представлял собой, главным образом, промышленный капитал, и придворных кругов дворянства, которые искони представляло собой на Руси торговый капитал, ибо помещик был как вы помните, агентом торгового капитала.
Необходимость закончить войну, чтобы открыть, наконец, русскому хлебу вывоз за границу, сознавалась вое сильнее и сильнее. Правда, было два обстоятельства, смягчающих, так сказать, горе торгового капитала. Это, во-первых, все уменьшавшаяся урожайность русского хлеба: урожай к 1917 году упал на 30—40%, смотря по тому, берем ли мы пшеницу или рожь, и это держало хлебные цены, а затем смягчали помещичью беду военные поставки. Но так или иначе, всякое отсутствие не только активного, но какого бы то ни было баланса, превращение всего баланса сплошь в баланс пассивный должно было обеспокоить и даже не столько уже один торговый капитал, сколько русское накопление вообще. Промышленный капитал относился к этому легко, поскольку в его карман лились огромные барыши, но в общем и целом даже русский капитализм находился под некоторым вопросом. Все это вместе взятое должно было дать ход тем пасифистским тенденциям, которые с самого начала войны представлял Витте, умерший в 1915 году, но которые в начале войны никакого эхо не встречали.
Что война 1914—1917 г. г. (для России 1914—1917 г.г., а для Запада 1914—1918 г.г.), как и все решительно войны, была рядом открытых военных действий, с одной стороны, и закулисных дипломатических шагов;, с другой, это в настоящее время никакому сомнению не подлежит. Как это было с Крымской войной, как это было раньше со всеми наполеоновскими войнами, вопрос о мире был поставлен чуть ли не на другой день после открытия военных действий. Уже в самом начале сентября 1914 года мы имеем обращение германского правительства к посредничеству президента Вильсона на предмет переговоров с Англией, Францией, Россией, с Антантой, о мире. Не буду на этом останавливаться, эпизод очень характерный и любопытный, как два близнеца по наружности Георг V и Николай II в зародыше удушили эту первую попытку мира, которая возникла всего через 1 1/2 месяца после начала войны. Затем эти попытки разным путем возобновлялись и в декабре — январе 1914—1915 г. г. (что делает понятным соглашение о проливах между Англией, Францией, с одной стороны, и Россией, — другой, в марте 1915 г., соглашение, подписанное Англией буквально со скрежетом зубовным. Скрежет этот слышится в английском меморандуме совершенно определенно), затем осенью 1915 года, летом 1916 года (попытка Германии завязать переговоры через Японию). Словом, целая длинная вереница этих попыток тянется через всю войну. Этого и Антанта не отрицала, поскольку инициатива шла от Германии, но она скромно умалчивает: что же, Германия — всегда находила глухое ухо, или время от времени Германия находила с кем беседовать на тему о мире? Очевидно, находила с кем беседовать и, между прочим, с Россией. Уже в 1915 году весной мы имеем письмо Александры Федоровны к мужу, где она сообщает, что получила письмо от Эрни (ее родного брата Эрнеста Гессенского), где тот сообщает, что в Стокгольм должен приехать его доверенный человек и что было бы хорошо, если бы к этому доверенному человеку, Николай послал своего доверенного человека. Письмо дошло к Александре Федоровне с опозданием и она с тревогой спрашивает Николая: как быть? Этот доверенный человек сидит уже в Стокгольме, а тебя нет, ты в ставке. Бога рада, отдай распоряжение. Я боюсь, что выйдет недоразумение, и Эрни будет очень огорчен. Суть дела была, конечно, не в огорчении Эрни, а в том, что сорвется попытка переговоров, которые поручены Эрни. Письмо это пришло к Николаю на другой день после взятия Перемышля, единственного крупного русского успеха за всю войну, и Николай был настроен очень воинственно; он, видимо, отнесся отрицательно к предложению и даже, должно быть, посоветовал что-нибудь вроде: «в другой раз ты, матушка, в письмах не пиши об этом», — по крайней мере, в дальнейшей переписке Александры Федоровны мы не встречаем никакого упоминания о переписке с братом, но что переписка велась, это не подлежит никакому сомнению. Возможно, и не только возможно, но даже наверное, это были те самые письма, которые Николай, по показанию его дневника, разбирал и жег в первые дни по своем аресте в Царском Селе. У него в дневнике есть две такие отметки: «Разбирал и жег бумаги... Разбирал и жег бумаги». Керенский имел «неосторожность» оставить весь личный архив Николая в его распоряжении, вместо того чтобы запечатать его и передать, как это полагается, в распоряжение нового правительства. И тот его так почистил, что у нас документов «тайной дипломатии» Николая за время войны не осталось. Но за отсутствием документов есть белые нитки, которыми были сшиты те или иные события и которые сквозят очень прозрачно, — например приезд в Петербург некой княгини Васильчиковой, которую в придворных кругах называли сокращенно «Машей», что показывает, до какой степени она была близка, — а мы знаем, что она была командирована из-за границы с определенным дипломатическим поручением из определенных кругов Германии и Австрии. Васильчикова жила в Царском Селе в двух шагах от дворца, в дворцовом помещении, и очень досаждала Александре Федоровне тем, что тщательно подсматривала все визиты Распутина. Это очень смущало Александру Федоровну, и она пыталась ее как-нибудь убрать. Одной из реальных причин высылки Васильчиковой из Петербурга и было, вероятнее всего, наблюдение, которое она установила за Александровским дворцом, высматривая все, как выражается Александра Федоровна, «как кошка»: сидит, — говорит, — и смотрит, что у нас делается. Так или иначе, появление этой особы тоже весьма выразительно. Не менее выразителен и визит будущего министра внутренних дел и кандидата в премьеры, выдвигавшегося этой самой Александрой Федоровной и Распутиным — А. Д. Протопопова, визит его (или визит к нему, трудно сказать, кто к кому пошел с визитом, потому что они встретились) к советнику германского посольства в Стокгольме Варбургу — случай, которого в секрете удержать не удалось и который облетел всю печать. Случайно таких вещей не бывает, и, очевидно, не только Германия субъективно желала затеять переговоры о мире, но и объективно она, так или иначе, при этом находила собеседников, которые с нею на тему о мире разговаривали.
Подробностей, к сожалению, мы не знаем. Я не знаю, почему мы их до сих пор не узнали из германского архива. Это чрезвычайно любопытная вещь, что разоблачения германского республиканского правительства, даже с участием Каутского, останавливались на 1914 годе. А что было после 1914 года, этого мы не знаем. Могу только поставить самый факт: так или иначе, переговоры были. На стороне мира в России была, несомненно, (это мы опять теперь знаем документально), крупнейшая фигура, фактический с осени 1915 года самодержец — Распутин. Распутин, — я рискую прослыть апологетом «старца» и в этом смысле подвергнуться всевозможным заушениям и издевательствам, — в этой компании наверху, в компании в особенности торгового капитала, т.е. самодержавия, был сильнейшей головой. Не следует смущаться, что это был полуграмотный мужик. Это был недюжинный мужик. Его недюжинность выразилась в том, что он с самого начала был против войны. Когда война началась, он лежал больной в Сибири, лечась от раны, которую нанесла ему Феония Гусева. Он послал оттуда телеграмму, правда, не с протестом (это было бы, пожалуй, слишком), но где он рассматривал войну как несчастье, глухо намекал, что в это несчастье Николая и Александру кто-то втягивает. Он, очевидно, знал о военной партии и провокаторской политике русского генерального штаба. Он спрашивал с некоторой тоской себя и своих адресатов, сумеют ли помочь те, кто вызвал войну, и видел, что они помочь не сумеют. Когда Россия была разгромлена, уже в ноябре 1915 года Распутин определенно говорил, что войну затеяли зря, сербы не стоят этого, что, в конце концов, они были бы столь же неблагодарны, как болгары, и прочее. Это мы знаем из письма Александры Федоровны к Николаю. Таким образом, не было никакой надобности в немецких деньгах, на которые намекает Палеолог. Деньги Распутину были не нужны, потому кто к его услугам был кошелек самого богатого человека в мире, и без немецких денег существовало достаточно оснований для того, чтобы Распутин стал центром мирной политики с русской стороны. В основе же этой мирной политики лежали совершенно ясно и определенно объективные интересы того самого торгового капитализма, который вызвал войну. Жить без вывоза, не имея экспорта, жить в закупоренной коробке, этого торговый капитализм перенести не мог. Он не мог перенести этого во время крымской войны, в середине XIX века, и не мог зимой 1916—1917 годов. Но он не мог отказаться от главного приза этой войны, от проливов, и, по-видимому, все переговоры с немцами срывались на этом вопросе: как быть с проливами? Турция была союзницей Германии, и Германия не решалась выдать Турцию.
Но, по мере того как война затягивалась, положение Германии становилось все более и более трудным, — мы знаем, что к 1917 году положение союзников — Германии, Австрии, Болгарии и Турции стало невыносимым, об этом мы знаем из записок Чернина о Брестском мире; по мере того как ухудшалось положение Турции, она была более склонна итти на уступки в этом смысле. И осенью 1916 года в Петербурге стали ходить определенные слухи, что мир будет заключен не сегодня-завтра на таком основании: Россия под каким-то соусом получает проливы (неясно было, под каким), но зато выходит из войны, заключает сепаратный мир с Германией. На этом покоились надежды руководящих кругов и в самой Германии. Мы имеем об этом более или менее достоверные сведения и из эпохи нашей Февральской революции. Февральская революция произвела на германские капиталистические круги, главным образом на финансовые круги, очень тяжелое впечатление. Как рассказывал один банкир русскому осведомителю: «Мы надеялись, что очень скоро будет заключен мир, теперь эта надежда у нас улетучилась»., То, что революция фактически приближала заключение мира, это до понимания банкира не доходило. Под каким соусом могло состояться романовско-германское соглашение, об этом не стоит гадать. У меня гипотеза известная есть, какой тут мог быть соус, основанная на предыдущих переговорах о проливах между Россией и Германией, происходивших осенью 1913 года; но не буду на этом останавливать ваше внимание[10-1]. Ясно одно, что верхушка самодержавной России была на дороге к миру, и что на этом пути она должна была столкнуться с теми силами, которые в этот момент все надежды возлагали на войну.
Торговый капитал должен был снова, как это было в 1905 году, столкнуться с промышленным капиталом. Повторяю, тогда они не додрались до конца, потому что учитывали массовое движение. Сейчас они о нем случайным образом позабыли и поэтому решили до конца додраться. План Николая нам известен из записок Курлова, который приписывает этот план себе. Может быть, Курлов, а, может быть и не Курлов, это совершенно все равно, план этот заключался в том, чтобы разогнать Думу, объявив манифестом прирезку земли крестьянам, т.е. провести приблизительно то, о чем мечтал Трепов осенью 1905 года, и объявить одновременно равноправие национальностей в России, чтобы дать этим удовлетворение евреям, которые с точки зрения самодержавия рассматривались как главная революционная сила. Как известно, белогвардейцы и до сих пор так расценивают и рассматривают русскую революцию. Так вот: равноправие евреев и прирезка земли крестьянам, по мнению Николая и его камарильи, должны были перебросить симпатии масс на сторону самодержавия. На этом фоне можно было разогнать Думу и заключить мир. Значит, давались мир, земля и равноправие национальностей. Чего еще нужно? Намечалось это, повидимому, на март месяц. Знала ли в подробностях об этих планах противная сторона или нет, но она решила этот удар предотвратить контр-ударом. Контр-удар должен был заключаться в довольно решительном выступлении. В войне был заинтересован, конечно, не один промышленный капитал, но и делавшее на ней карьеру высшее офицерство. Поэтому промышленный капитал в лице прогрессивного блока без труда нашел себе союзников в рядах командного состава. В заговор были втянуты очень крупные силы, вплоть до начальника генерального штаба, генерала Алексеева. Этот командный состав был руками формального заговора, образовавшегося в это время около прогрессивного блока, а мозгом его была кадетская партия. О заговоре было известно в широких кругах. О нем определенно рассказывает т. Шляпников в своей книжке: «Об этом заговоре было известно некоторым лицам из прогрессивного блока. Указывали, что близкими к центру этого дела являются А. И. Коновалов, А. И. Гучков, великий князь Кирилл, и, кажется, из военных генерал Крымов, участник корниловского восстания, застрелившийся в кабинете у Керенского после его неудачи. В курсе этого дела были Н. С. Чхеидзе, М. И. Скобелев, И. А. Чхенкели, А. Ф. Керенский. Они были не только в курсе этого заговора, но, подобно всем другим, ожидали спасения от этого дворцового переворота. К. А. Гвоздев, бывший министр труда, передавал мне впоследствии, что между их группой деятелей при Военно-промышленном комитете и фракцией Чхеидзе произошел разрыв на почве воззвания к выступлению в день открытия Государственной думы. Скобелев открыто выражал свое негодование не только по поводу содержания воззвания и постановки вопроса о войне, но и по поводу самого факта его появления. Думские меньшевики боялись, что народное движение сможет расстроить планы дворцового переворота. Этакое отношение меньшевиков-марксистов свидетельствовало о крайней их растерянности. Лично я не помню ни одного свидания с Чхеидзе, на котором бы он не был «растерянным», но в этой растерянности была своя логика, и, пожалуй, своя «линия». За время войны фракция совершенно оторвалась от массового рабочего движения и попала целиком в лагерь буржуазной оппозиции».
Таким образом, как видите, прогрессивный блок неофициально тянулся даже гораздо левее кадетов и в нем участвовала оборонческая меньшевистская группа торгово-промышленных комитетов. Это стоит отметить хотя бы потому, что по этому направлению последовал первый удар с противной стороны.
Собственно, самая схема переворота была очень проста. Она заключалась в том, что на царский поезд, в одну из поездок Николая в ставку, должен был напасть генерал Крымов со своим офицерским отрядом, арестовать Николая и заставить его подписать отречение, а если он откажется подписать, то, как деликатно выражается Деникин в своих воспоминаниях, «физически его устранить», и после этого физического устранения Николая провозгласить царем маленького Алексея, а регентом — Михаила Александровича (это был младший брат Николая), который впоследствии называл себя республиканцем, а в то время был безусловно самым либеральным из великих князей. Он должен был фактически стать царем, а номинально должен был стать царем маленький и больной мальчик, который управлять, конечно, не мог. Затем должно было быть назначено думское министерство, т.е. министерство прогрессивного блока, и в России должны были наступить блаженные времена буржуазного парламентаризма. Такова была схема этого заговора. Противная сторона, не зная об этом в подробностях, как не знал в подробностях прогрессивный блок программу Николая — мы ее узнали только сейчас из записок Курлова, — противная сторона смутно догадывалась, что что-то готовится, и принимала ряд мер, чтобы доконать противника. Первой из этих мер был арест Протопоповым, уже назначенным министром внутренних дел и фактически в то время премьером, арест рабочей группы торгово-промышленных комитетов. Это была как раз спайка между прогрессивным блоком и массами. И эту спайку важно было сломать с самого начала, с самого начала разрушить эту связь. Дальнейшим шагом должен был быть разгром Думы. Этот шаг пришел уже позднее, в разгар революции, и потому значения не имел. Что касается манифестов о равноправии евреев и о земле, этого совсем не удалось сделать, потому что питерские рабочие для этого времени не дали.
Эта склока, происходившая наверху, чрезвычайно важна для объяснения того катастрофического успеха, какой имела мартовская революция. Почему самодержавие полетело так быстро, почему не произошло того, что случилось в 1905 году, когда оно сопротивлялось довольно длительно? Да потому, что в то время все, кто непосредственно распоряжался, все готовили к успеху этого дворцового переворота. Этим объясняется тот неимоверный факт, что Петроград охранялся ратниками второго разряда, т.е. наиболее революционными, наименее забитыми казарменной муштрой отрядами царского войска. Там стояли исключительно запасные и ратники в громадном числе. В Петербурге и его окрестностях было сосредоточено до 170000 человек. Из разных указаний, которые мы имеем в разных местах, нетрудно вывести общую картину, заключающуюся в том, что это была будущая армия, на которую надеялся опереться дворцовый переворот. Что эта 170000 масса может оказаться в руках рабочих, этого никому не пришло в голову, потому что рабочие вообще в счет не принимались, от них ничего не ждали, никаких особенных выступлений, — почему это, повторяю, не совсем ясно. Не буду на этом останавливаться. Факт тот, что к выступлению рабочих не готовились, а рассчитывали, примерно, так: на кого же может опереться эта новая власть, власть регента Михаила и царя Алексея и министерства прогрессивного блока, — конечно, вот на эту молодежь, только что взятую из общества, пропитанную его настроениями. А настроения были очень враждебны по отношению к самодержавию. Вы помните, что даже студенты на своей «Татьяне»[10-2] пели в это время только революционные песни. На эту массу должна была опереться новая «революционная» власть, и потому вы можете догадаться, как горько был разочарован Милюков, видя штыки этой армии, обращенные против прогрессивного блока. И вот, когда все уже с обеих сторон было готово — с одной стороны, готов был разгон Думы, а с другой стороны, должен был последовать арест Николая, событие предусмотренное в календарном плане, — у них был календарный план и как раз в марте месяце должно было последовать отречение Николая, — как раз в это время произошел питерский взрыв, который был полнейшей неожиданностью для обеих сторон. Никто его не ожидал — ни те, ни другие. Заговор удался только на одну половину. Удалось добиться только устранения Распутина. Что устранение Распутина было частью заговора, — это несомненно, однако это только пробудило внимание противной стороны, но пока решительно ничего не достигало, потому что Распутин был фактическим, а не юридическим главой всей системы. Конечно, устранение Распутина облегчило бы и подписание отречения и всю дальнейшую программу, но не удалось к этому даже и приступить, потому что произошла февральская революция.
Вот, значит, какие условия подготовили возможность такого быстрого успеха этого питерского восстания, успеха тем более характерного, что в это время даже петербургские большевики были в десяти верстах от вооруженного восстания. Шляпников говорит в своих воспоминаниях, что он запрещал организацию рабочих в боевые дружины и вооружение рабочих[10-3]. Правда, он оправдывает это тем, что он советовал рабочим распропагандировать солдат, и тогда дело пойдет гораздо лучше. Но пропагандирование солдат и выступление самих рабочих, — это, как вы помните из анализа 1905 года, были два акта, которые должны были итти друг другу навстречу. И несомненно, что если бы не массовое, хотя и безоружное, с голыми руками выступление рабочих на питерских улицах в последних числах февраля, то, конечно, солдаты не были бы вовлечены в это движение. Они были вовлечены в это рабочей массой. И естественно, что рабочая масса и стала хозяином положения, к великому ужасу обеих склочившихся сторон, на другой же день после переворота.
Я боюсь, что все подробности, которыми я загромоздил первую часть этой лекции, могут закрыть от вас основное, что за этими деревьями вы можете не увидать леса. Положение было такое: с одной стороны — промышленный капитал, желавший продержать войну и во имя этого готовый свергнуть Николая. С другой стороны — торговый капитал, воплощаемый высшим дворянством, придворными кругами, самим Николаем и возглавлявшийся фактически Распутиным, желавший заключить мир, ибо война запирала этот торговый капитал в сардинную коробку, глухо запаянную со всех сторон, и лишала всякого смысла его существование. Без хлебного экспорта — какой же это торговый капитал? И вот, в разгаре этой дуэли двух капиталов, дуэли, последней на русской почве, явилась мускулистая рука пролетария и потащила их в место, уготованное им с начала веков, место в высокой степени неприятное и которое никак нельзя назвать местом тихим, местом светлым и местом покойным. Покойным оно, пожалуй, было, но кроме этого качества никаких других не было. В первую минуту, несомненно, положение представителей всей этой империалистской верхушки, как торгового, так и промышленного капитала, было отчаянным. И эта отчаянность сквозит в том разговоре Милюкова с Палеологом, который я процитировал в своей статье и который перечитывать не буду. Все, казалось, кончилось. Осталось только утешать себя, как утешали себя бесчисленное количество раз и впоследствии, обманывая заграницу. За границей пытались изобразить дело так, что революция была победой именно того самого прогрессивного блока, которому не удалось довести до конца свой заговор, пробовали изобразить революцию как патриотический взрыв против изменницы-немки, Александры Федоровны и пацифистских интриг Николая; изображали, как полки один за другим являлись в Думу с изъявлением своих лойяльных чувств перед Родзянко, перед комитетом Государственной думы и своей патриотической готовности продолжать войну до победного конца.
Для того чтобы прежде всего разрушить этот мираж, очень хорошо прочесть воспоминания самого Родзянки, написанные теперь, незадолго до его смерти, в 1921 г., на свежую, что называется, голову, после того как и похмелье прошло. Вот как рассказывает Родзянко: «27 февраля, т.е. в первый день переворота, неизвестно по чьему распоряжению, солдаты петроградского гарнизона начали производить аресты»... (аресты производила не какая-нибудь власть, а солдаты петроградского гарнизона!)... «и одним из первых приведенных в думу арестованных сановников старого режима был председатель Государственного совета И. Г. Щегловитов. Он был приведен ко мне группой солдат, мне совершенно неизвестных, кажется, Преображенского полка, если память не изменяет мне, и когда я, пораженный этим произволом, для которого не сделано было никакого распоряжения, пригласил И. Г. Щегловитова ко мне в кабинет, солдаты наотрез отказались выдать его мне, объяснив, что они отведут его к Керенскому или в Совет Рабочих Депутатов. Когда я попробовал проявить свой авторитет и строго приказал немедленно подчиниться моему распоряжению, то солдаты сомкнулись вокруг своего пленника и с самым вызывающим и дерзким видом показали мне на свои винтовки, после чего, без всяких обиняков Щегловитов был уведен неизвестно куда.
Инцидент этот послужил первым поводом к столкновению между мною и Советом Рабочих Депутатов, но он был улажен ввиду того, что выпустить И. Г. Щегловитова на свободу — значило бы подвергнуть его просто-напросто самосуду толпы, а потому он был временно задержан в министерском павильоне Государственной думы, а впоследствии, распоряжением Временного правительства, был препровожден в Петропавловскую крепость».
«2 марта в Государственную думу, к ее председателю, явился Семеновский полк в полном своем составе, но с малым числом офицеров, после моей приветственной речи устроил мне шумную овацию, проводил с криками «ура» в мой кабинет, где в это время собрался Временный комитет Государственной думы.
Но немедленно выступивший после моей речи оратор, член Государственной думы Чхеидзе, стремился опорочить речь председателя Государственной думы и посоветовал семеновцам вновь потребовать меня, дабы я точно и определенно высказал свои взгляды по поводу учреждения в России демократической республики и разрешения вопроса о земле. Когда я пришел в зал к Семеновскому полку, настроение солдат было уже совсем не то, каким было прежде, а, напротив, было чрезвычайно агрессивным. Тем не менее удалось полк, взволнованный речью члена думы Чхеидзе, успокоить ссылкой на то, что все эти вопросы подлежат разрешению не представителя Государственной думы и не Временного правительства, а Учредительного собрания.
3 марта явившийся тоже демонстративно в Государственную думу 2-й флотский экипаж держал себя еще более агрессивно, и офицеры, его приведшие, в большинстве случаев юные, только-что произведенные мичманы, произносили тут же в зале зажигательные речи, при чем один из них в моем отсутствии без всяких обиняков заявил, что меня нужно как заведомого «буржуя» расстрелять, что, повидимому, матросы были не прочь исполнить».
Такой вид принимают овации Родзянке, о которых мы читали во французских газетах, в изложении самого Родзянки, через четыре года после происшествия. Вы видите, что овации эти чрезвычайно своеобразного характера. Совершенно ясно, что власть в Петербурге в это время держала масса и что настоящим хозяином была организованная верхушка этой массы в лице Совета Рабочих Депутатов. Я приводил образчики в своей статье. Я могу привести другой образчик. Вы знаете, что к Николаю за его отречением выезжали Шульгин и Гучков, но первоначально эту высокую честь — привезти в Петербург отречение Николая, стремился получить сам Родзянко и для этой цели властью председателя Государственной думы хотел получить поезд. Поезда ему не дали. Он должен был послать полковника, своего адъютанта, в Совет Рабочих Депутатов просить поезда, но и Совет Рабочих Депутатов поезда ему не дал, и Родзянко не поехал поэтому. Да и Гучков и Шульгин выехали только благодаря саботажу. Они отправились на вокзал, и там частным образом какой-то инженер посадил их в какой-то поезд, так что и они выскочили из Петербурга фуксом, а совсем не поехали, как уполномоченные настоящего правительства, торжественным образом.
Таким образом, хозяином в Питере был Совет Рабочих Депутатов. На вопрос — могло ли бы в этот момент образоваться в Питере рабочее правительство, — приходится отвечать самым категорическим утверждением: да, если бы в Петербурге был Ленин, была бы большевистская верхушка, если бы и большевики, в числе других, не были захвачены этой революцией совсем внезапно (что единогласно они сами признают), то, конечно, можно было бы сберечь русскому народу вторую революцию, Октябрьскую революцию, которая все же стоила довольно много пролетарской крови, и сразу установить тот режим, который установился у нас после октября 1917 года: если этого не случилось, то только благодаря тому, что та интеллигенция, которая неожиданно и отчасти невольно для самой себя оказалась наверху верхушки, оказалась организующим элементом наиболее организованной части массы, т.е. Совета Рабочих Депутатов, эта интеллигенция в значительной степени помогла осуществить ту программу дворцового переворота, которая была сорвана рабочей революцией, осуществить хотя бы то из нее, что еще было можно. Даже большевистский Питер, по словам т. Шляпникова, стоял на точке зрения коалиционного правительства из большевиков, меньшевиков и эсеров, т.е., другими словами, на точке зрения правительства, которое никак не могло считаться выражающим интересы пролетариата и даже интересы беднейшего крестьянства, ибо эсеры, ясно для всех, и тогда были уже кулацкой мелкобуржуазной партией. Только в форме коалиции даже питерские большевики мыслили себе революционнее правительство. А ведь питерские большевики были крайним левым крылом этой интеллигенции. Если и они шли на коалицию и иначе, как коалиционным, не могли представить себе революционного правительства, чего же было ожидать от меньшевиков и. эсеров? Те прямо заявляли, что если не привлечь к коалиции еще и кадетов, то все погибло, как это и написал Суханов, который прямо говорит в своих записках: «Власть, идущая на смену царизма, может быть только буржуазной. Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы думского «прогрессивного блока». На такое решение необходимо держать курс. Иначе переворот не удастся, и революция погибнет».
Эти строки Суханова и некоторые другие строки его записок вызвали очень суровый отзыв о Суханове Ильича, в одной из его последних предсмертных статей. Я лично не хочу говорить о Н. Н. Суханове ничего дурного, но привожу только его цитату как образец мнения той интеллигентской верхушки, которая возглавляла по необходимости рабочее движение. И вот к Милюкову, который, по описанию самого же Суханова, с самым растерянным видом ходил по залам Таврического дворца и не знал буквально, где голову приклонить, пришли, как к Рюрику с братьями, стали кланяться и говорить: «приходите, владейте и княжите нами». Естественно, Милюков воспрянул духом. Оказывается, он не только нужен, но даже необходим. И Милюков, Гучков, Львов и прочие «революционеры» изъявили свое благосклонное согласие возглавлять русскую революцию, возглавлять для той цели, которую преследовал промышленный капитал на всем протяжении, цели — продолжать войну во что бы то ни стало. Нет никакой надобности, как не было никакой надобности для пацифизма Распутина в немецких деньгах, так не было надобности в антантовских деньгах, чтобы объяснить, почему первое русское революционное правительство стало решительно на точку зрения империалистской войны до победного конца. Это совершенно естественно, иначе и быть не могло. Палеолог рассказывает, что он с самого начала заметил Керенского ( Керенского почти участника, а может быть, и совсем участника дворцового заговора против Николая — помните эту цитату из Шляпникова) как самую подходящую для Антанты фигуру, около которой Антанта может образовать правительство, в одно и то же время пользующееся доверием народных масс и идущее по империалистской стезе, верное союзу с Антантой и продолжению войны до победного конца. Таким образом, что это временное правительство оказалось верным старой внешней политике, включая и Дарданеллы, это разумелось само собой. Точно так же само собою разумелось, что питерская революция была антивоенной революцией в первую голову. Этого не мог не заметить тот же Суханов, который определенно говорил, что нотой, звучавшей на всех митингах в Питере в феврале, было «долой войну». Это он объяснял «циммервальдским воспитанием» петроградского пролетариата, т.е. объяснял, как и следовало ожидать, идеалистически, с точки зрения известной идеи. На самом деле это объяснялось, конечно, тем, что русский пролетариат в конечном счете отражал лучшие интересы русского народного хозяйства в целом, чем русская буржуазия. Он больше был заинтересован в спасении этого хозяйства. Он не мог не понимать отчетливо, что война есть гибель для этого хозяйства, что война есть его разрушений. И в лице пролетариата, так сказать, инстинктивно говорил голос погибающего русского народного хозяйства. Этот главный труженик - русской земли, наиболее сознательный, во всяком случае лучше других понимал, что дальше воевать нельзя, потому что это означает полный крах. И то, что война затянулась еще на восемь месяцев, как вы увидите из следующего курса, из истории Октябрьской революции, — в сильнейшей степени усугубило и углубило хозяйственную разруху. Если бы война кончилась в феврале, то разруха была бы меньше, и мы были бы по нашему календарному плану на три года впереди в смысле состояния нашей промышленности и т. д. Нужно было спасти русское народное хозяйство, и на это спасение выступил русский пролетариат. В этом, употребляя старомодное выражение, его великая историческая миссия в русской революции. И он его действительно спас. Только диктатура пролетариата это и могла осуществить.
Таким образом, настроение питерской пролетарской массы было по отношению к войне совершенно определенным. Иллюзия могла существовать относительно остальной России и в особенности иллюзия могла существовать относительно армии. Европейские (антантовские) журналисты, говоря о смысле и значении русской революции, на первое место выдвигали патриотические манифестации якобы русских солдат питерского гарнизона. Но вы знаете из прочитанного мною отрывка записок Родзянко, в чем заключались эти патриотические манифестации в Питере.
Каково было настроение на фронте? Ему итоги подвела конференция командующих армиями, собравшихся в Питере 4 мая, т.е. приблизительно через два месяца после начала революции. Это было гораздо раньше, чем развивалась широкая большевистская агитация. Первым успехом большевистской агитации была 1-я конференция фабзавкомов 30 мая, первое собрание в России, не партийное, а беспартийное, где приняли подавляющим большинством голосов большевистскую резолюцию, резолюцию Ленина и Зиновьева. А совещание командующих армиями происходило 4 мая, за три слишком недели до этой первой победы большевиков, и подвело итоги того, что происходило с февраля. Вот почему, когда мы пытаемся нарисовать картину настроения в русской армии по этому совещанию главнокомандующих, мы можем совершенно отвлечься от влияния большевистской агитации. Ее еще не было, она еще не успела развернуться, она не завладела даже питерским пролетариатом окончательно, а в то же время вот что рассказывал ген. Брусилов, командир юго-западного фронта о настроении своих войск: «Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти с фронта и разойтись по домам. Комитеты пошли против этого течения, но им заявили, что их сместят. Я долго убеждал полк, и когда спросил, согласны ли они со мною, то у меня попросили разрешения дать письменный ответ. Через несколько минут передо мною появился плакат: «Мир во что бы то ни стало, долой войну».
При дальнейшей беседе одним из солдат было заявлено: «Сказано без аннексий, зачем же нам эта гора». Я ответил: «Мне эта гора тоже не нужна, но надо бить занимающего ее противника».
В результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так: «неприятель у нас хорош и сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей: зачем же калечиться?»
Это была простая мужицкая аргументация, но свидетельствовавшая о том, что на фронте воевать не желали. Это относится к одному полку. Но вот в рассказе Брусилова выступает корпус: «Один из выдающихся корпусов занимал пассивный участок. Когда его хотели сменить с целью поставить на активный участок, то корпус отказался уйти, желая остаться на прежнем участке и одновременно разослал телеграммы «всем».
Дальше выступает другой главнокомандующий, генерал Драгомиров: «Господствующее настроение в армии — жажда мира. Популярность в армии легко может завоевать всякий, кто будет проповедовать мир без аннексий и предоставление самоопределения народностям. Своеобразно поняв лозунг «без аннексий», не будучи в состоянии уразуметь положение различных народов, темная масса все чаще и чаще задает вопрос: «почему к нашему заявлению не присоединяется демократия наших союзников?». Стремление к миру является настолько сильным, что приходящие пополнения отказываются брать вооружение, — «зачем нам, мы воевать не собираемся». Работы прекратились. Необходимо принимать даже меры, чтобы не раздирали обшивку в окопах и чинили дороги».
Затем выступает третий главнокомандующий — генерал Щербачев: «Недавно назначенный, я успел объехать все подчиненные мне русские армии, и впечатление, которое составилось у меня о нравственном состоянии войск и их боеспособности, совпадает с теми, которые только что были вам подробно изложены. Главнейшая причина этого явления — неграмотность массы».
Я привожу всё эти генеральские объяснения, они тоже очень характерны. Казалось бы, что желание рядовой массы, требующей объяснения, — почему западно-европейские демократии не заявляют, что они не желают аннексий и контрибуций, вполне разумное заявление, но генерал Драгомиров объясняет это темнотою, а генерал Щербачев — необразованностью масс. «Конечно, это не вина нашего народа, что он необразован. Это всецело грех старого правительства, смотревшего на вопросы просвещения глазами министерства внутренних дел, но с фактами малого понимания массами серьезности нашего положения, с фактами неправильного истолкования даже верных идей необходимо считаться. Я не буду приводить вам много примеров. Я укажу только на одну из лучших дивизий русской армии (это 16-я дивизия, очевидно), заслужившую в прежних войнах название «железной» и блестяще поддержавшую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок, дивизия эта отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать. Подобный же случай произошел на днях в соседней с этой дивизией, тоже очень хорошей стрелковой дивизии» и т. д. Не буду вам приводить еще отрывки, но один из трех главнокомандующих рассказал о том, как, «когда перед Двинском немцы начали братание от полка к полку, и один из офицеров этому воспротивился и сорвал братание, этому офицеру пришлось бежать». «И, — говорит он далее, — целую ночь по городу Двинску отыскивали его солдаты его, Пятигорского полка с целью убить его». Этот признанный факт характерен особенно потому, что он произошел в первые же дни после революции, кажется, через неделю после того, как в Петербурге победил пролетариат. Таким образом, не нужно было никакой большевистской агитации, для того, чтобы антивоенное настроение широкой полной разлилось по фронту.
Мало того, мы имеем доказательство этого в дневнике Николая. Николай объясняет, почему он подписал свое отречение, и одно из объяснений, почему он отказался от царской власти, такое: «для того, чтобы удержать солдат на фронте». Очевидно, что уже до отречения Николая, стремление уйти с фронта было, и генералы, окружавшие Николая, уверяли его, что солдаты не хотят воевать потому, что, — не знаю, как они говорили ему это, — но могу предположить, вероятно, так: ваше величество, говорят, что вы с немцами шушукаетесь и т. д. Нужно, чтобы было твердое национальное правительство, иначе фронт разрушится. Так или иначе, но факт тот, что уже до отречения Николая фронт разрушался, армия не желала воевать, армия желала мира. Тот товарищ, который будет вам читать историю Октябрьской революции, во введении, вероятно, расскажет вам, как вся политика Временного правительства летом 1917 года была не чем иным, как грандиозной и временами удачной попыткой гальванизировать труп войны. Милюков и Львов были к этому мало способны, потому что слишком хорошо все знали их дарданелльские симпатии. На этих дарданелльских симпатиях их поймали и в апреле — мае как вы знаете, их прогнали вместе с Гучковым и другими. Тогда недаром Палеолог наметил Керенского, и недаром создалось квази-социалистическое правительство с «социалистом» Керенским во главе. Это правительство поставило первой задачей своей — возобновить войну. Оно для того и было создано, чтобы возобновить войну, оно и начало немедленно подготовку к наступлению в июне 1917 года, которое дало первый толчок июльским дням. Возобновление войны — это была первая задача коалиционного правительства Керенского, оно и было создано для того, чтобы вывести армию из этого состояния. Об этом свидетельствует знаменитое письмо Керенского к Ллойд-Джорджу, которое я опубликовал в «Вестнике Агитации и Пропаганды». Позвольте напомнить его. Он уже пишет после наступления, после его неудачи, он пишет в сентябре 1917 года Ллойд-Джорджу: «Как ни трудно положение России с точки зрения общего дела (у Керенского было общее дело с Ллойд-Джорджем), мы можем утверждать, что оно лучше, чем было прошлой весной (т.е. немедленно после революции). Тогда на нашем фронте установилось фактически состояние перемирия — результат пропаганды «братания» и упадка военной дисциплины. Это положение тем больше внушало беспокойство, что немцы с ним считались, воздерживаясь от всяких военных действий на нашем фронте в надежде использовать освобождающиеся таким путем военные силы против наших союзников. Признавая всю опасность положения, Временное правительство решилось положить ему конец во что бы то ни стало. Наше наступление, несмотря на успех вначале, кончилось неудачей. Тем не менее, его главная цель — положить конец состоянию перемирия и возобновить войну (это главная цель — возобновить войну!), должна была рассматриваться как достигнутая ценою великих жертв». Весь смысл коалиции Керенского был в том, чтобы возобновить войну, которая прекращалась сама собой в силу сознательного протеста против войны в петербургском пролетариате и бессознательного, стихийного нежелания солдат на фронте воевать. Вот какая была картина, и вот почему партия, написавшая на своем знамени заявление: «Прежде всего мир», или, точнее говоря, превращение войны между народами в войну между классами и социалистическая революция, — вот почему эта партия была таким пугалом и таким предметом отвращения для всех действующих лиц того времени, включая и тогдашних «социалистов», и вот почему принимались самые экстренные меры к тому, чтобы хотя верхушку этой партии, ее главный штаб, в Россию не пустить.
Я рассказал в одной своей статье, которую, вероятно, не все читали, что смысл путешествия Ленина через Германию, в так называемом запломбированном вагоне и заключался в том, что он прорвал эту блокаду против большевиков. Что большевикеов не пускали, не хотели пускать в Россию, на это я имею самые автентичные доказательства. Я тогда работал в Национальной библиотеке в Париже. Там я получил от покойного тов. Владимирова («Левы») первое известие о Февральской революции. Он принес и положил мне на стол номер «Information» с известием об отречении Николая и о всем прочем. Никогда, кажется, не забуду я этого момента. И когда, недолго после этого, недели через три, я сидел за своим столиком и копался в книжках, как это мне полагается, ко мне подсел, я могу назвать его здесь, на лекции, Познер, довольно известный польский публицист антантовского направления, знавший меня по библиотеке, но не знаю, знавший ли, что я большевик, или нет. Мы с ним разговаривали только на литературные темы, избегая политических сюжетов. Он. спросил меня: «Кто такой Алексинский?» Я был крайне изумлен, что он не знает, кто такой Алексинский. Я дал характеристику этой персоны. Познер после этого успокоился и сказал: «Вот хорошо, а мне говорили, что он большевик». «А почему вам говорили, что он большевик?» Тут Познер замялся и сказал: «Мне поручено выяснить политическую физиономию некоторых русских эмигрантов, ходатайствующих о пропуске в Россию. Я других знаю более или менее, а вот Алексинский для меня не ясен, как будто последнее время он выступал за войну. А с другой стороны, говорят, что он большевик». В сущности, человек признался, что есть пароль: «большевиков в Россию не пускать». И вот, когда Ленин проехал через Германию, тогда сразу точно лед сломало. В Париже нас сейчас же пригласили в посольство и говорят: есть пароходы, которые вас повезут и т. д. А в то же время обещали-то нам это в апреле, а пароходы повезли в августе, т.е. саботировали наш отъезд елико возможно. Не только об Алексинском, но о людях гораздо более левого направления никто никаких справок не наводил. Были любезны до чрезвычайности. Это как раз совпадало с проездом через Германию Ленина. Они увидели, что не пустить большевиков в Россию они не могут, и сразу переменили тактику. Большевики в Россию попали.
Как они действовали, это вы узнаете из курса Октябрьской революции, отчасти вы об этом уже и знаете, конечно. Но я не могу не подчеркнуть одного факта, что перед большевиками сразу встал факт проблемы социалистической революции, встал объективно. Этот факт нужно подчеркнуть. Социалистическую революцию не Ленин привез в своей голове из-за границы. Наоборот, мы имеем документ, свидетельствующий, что в Швейцарии, пока Ленин не имел точных сведений о том, что делается в Питере и в России вообще, пока он был отрезан от всего этого стеной газетной лжи, он сам не шел дальше окончания буржуазной революции. Этот документ — его письмо к швейцарским рабочим, написанное за несколько дней до отъезда из Швейцарии. Там он прямо говорит, что Россия — самая мелкобуржуазная страна в Европе и, конечно, не может быть непосредственным театром социалистической революции, но он надеется, что демократическая революция в России даст толчок социалистической революции на Западе. Обычная схема, которую вы можете найти у Маркса, Энгельса и др., до Плеханова и до Розы Люксембург. И только в Стокгольме, увидев очевидцев русской революции, услыхав, что действительно делается в России, он набрасывает свои знаменитые тезисы, где имеется социалистическая революция, что такое социалистическая революция? Это есть по существу дела переход производства в руки рабочих. Я уже упомянул, что весь смысл русской революции заключался в том, что пролетариат выступил на защиту русского народного хозяйства, разрушаемого войной. Но дело было конкретнее, чем может показаться из этой моей фразы. Вот выдержка из речи делегата на первой конференции фабзавкомов 30 мая 1917 г. «В февральские и мартовские дни, — говорил рабочий Воронков, — рабочие покинули свои станки и вышли на улицу с тем, чтобы раз навсегда покончить с многоголовым змеем царизма. Фабрики и заводы приостановились. Потом неделю, другую спустя, рабочие массы вернулись на завод. Пришли и увидели здесь же, что многие из предприятий брошены администрацией на произвол судьбы».
«Пришлось на этих заводах приступить к работе без администрации. Но как? И тут заводы немедленно избрали заводские комитеты, с помощью которых начала устанавливаться нормальная жизнь на фабриках и заводах».
«Далее революция вошла в русло и потекла более спокойно. Беглецы увидели, что рабочие вовсе уж не так кровожадны... И стали возвращаться на заводы. Часть из них, совершенно ничтожную и безнадежно реакционную, рабочие не допустили к работам. Остальные были допущены, но тут же к ним приставили в помощники членов заводских комитетов. И таким образом был установлен фактический контроль над всем, что делалось на заводе».
Переход производства сначала под контроль рабочей массы произошел стихийно, потому что фабрики останавливались, а рабочие не хотели, чтобы они остановились. Вы потом узнаете из курса Октябрьской революции, что это не было эпизодом, что это была длительная борьба, был длительный процесс в течение всего лета 1917 года. Фабриканты предвидели конец войны, видели, что война стихийно заканчивается, а война была, как вы знаете, главным рынком. Поэтому они стремятся сократить производство и перевести заводы на консервацию для того, чтобы переждать лучших дней и начать производство полным ходом, когда, так сказать, все придет в порядок, т.е., в их представлении, когда революция будет раздавлена. На этом фоне наиболее ярким эпизодом является знаменитая история со Смирновым, председателем Московского военно-промышленного комитета, который на своей фабрике систематически скрывал запасы сырья, изображал в дутых подложных отчетах своих инженеров машины гораздо более устаревшими, чем они были на самом деле. Словом, в 1917 г. до октября они занимались форменным саботажем своего производства, стараясь перевести свои заводы на консервацию, потому что не видели никакой возможности продолжать производство с барышом для себя, а для того они и вели производство. Ибо буржуазия ведет производство не из бескорыстных соображений, а ради барыша. А раз предприятие не дает барыша, естественно, что предприниматель, стараясь спасти свой капитал, прекращает производство. Он это делает по мелочам во время всякого кризиса, он это делал и в период грандиозного кризиса, который называется русской революцией. И рабочим пришлось вмешаться еще раз, чтобы производство продолжалось, чтобы помешать фабриканту прекратить производство.
Таким образом Февральская революция была не только рабочей революцией, не только пролетарской революцией по социальному составу той массы, которая низвергла самодержавие и фактически стала у власти, но неизбежно была и социалистической революцией совершенно объективно. Не Ленин, повторяю, в своей голове привез эту социалистическую революцию из-за границы, а гениальная голова Ленина только лучше и скорее других схватила положение, поняла, что при таких условиях, кроме перехода всего хозяйственного процесса в руки пролетариата, т.е. социалистической революции, как мы ее понимаем, ничего другого быть не может и ничего другого придумать нельзя, что объективными условиями момента диктуется именно эта самая социалистическая революция. И борьбу Ленину пришлось вести за эту революцию не столько с какими-нибудь массами (массы нашлись долго спустя на наших кулацких окраинах, вроде Донской области, Кубани, Сибири и т. д.), а вести пришлось с интеллигенцией, которая сначала интронизировала Милюкова, а когда Милюков был свергнут, топталась на одном месте, сама сесть не решалась и других не пускала. Наиболее характерным эпизодом было, когда меньшевики, получив большинство в Центральном Исполнительном Комитете первого созыва, тем не менее власть не взяли, а организовали правительство с Керенским во главе. Этот факт, когда люди, имея большинство, не решились взять власть, чрезвычайно характерен и знаменателен для этой эпохи. Очевидно, какая-то власть должна была притти, которая взяла бы на себя всю ответственность за все происходящее, которая решилась бы назвать то, что происходит в стране, т.е. социалистическую революцию, социалистической революцией. Осуществлена эта власть была нашей коммунистической партией.
12 марта 1917 года[A-1]
«В половине девятого утра, едва вставши с постели, я слышу странный продолжительный шум, доносящийся как будто от Александровского моста. Я смотрю: мост, столь оживленный обыкновенно, пуст. Но почти тотчас же у входа на мост с противоположной стороны Невы появляется беспорядочная толпа с красными знаменами, — а с другой стороны, навстречу ей, спешит полк. Сейчас, кажется, произойдет столкновение. Ничего подобного, — две массы сливаются. Армия братается с мятежом»[A-2].
Так один из посланников Антанты был очевидцем начала конца «восточного фронта». Что кончался восточный фронт, сомненья не могло быть с первых же дней. Уже 13-го в толпе, окружившей Палеолога и его английского коллегу, Бьюкенена, к крикам: «Да здравствует Франция! Да здравствует Англия!» неприятно примешивались крики: «Да здравствует Интернационал! Да здравствует мир!» Две недели спустя к французскому послу приходил его старый знакомый А. Н. Бенуа — известный художник и историк искусства — приходил нарочно, чтобы убеждать его, что «война не может больше продолжаться. Надо заключить мир как можно скорее». А еще пару недель спустя Палеолог мог слышать это уже из уст своих светских знакомых. «Не создавайте себе иллюзий, — говорила ему одна из вчерашних «придворных дам»: — несмотря на все официальные фразы, война умерла. Одно чудо могло бы ее воскресить».
Мы увидим, как Палеолог надеялся найти — и на минуту нашел — чудотворца. На это ушло больше месяца времени. В первые же дни ясно было одно: что монархия умерла так же прочно, как и война. Это одна из выдумок издыхавшей буржуазной прессы, будто 12 марта пало «самодержавие». Дело шло гораздо дальше. «Великий князь Михаил Александрович, — рассказывает в своих воспоминаниях Родзянко, — поставил мне ребром вопрос, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол, и я должен был ему ответить отрицательно... Даже увезти его тайно из Петрограда не представлялось возможным: ни один автомобиль не был бы выпущен из города, как не выпустили бы ни одного поезда из него. Лучшей иллюстрацией может служить следующий факт: когда А. И. Гучков вместе с Шульгиным вернулись из Пскова с актом отречения Николая II в пользу своего "брата, то Гучков отправился немедленно в казармы или мастерские железнодорожных рабочих, собрал последних и, прочтя им акт отречения, возгласил: «Да здравствует император Михаил!», — но немедленно же был рабочими арестован с угрозами расстрела, и Гучкова с большим трудом удалось освободить при помощи дежурной роты ближайшего полка». Через, два дня после этого Палеолог был у Милюкова, которого он нашел «постаревшим на десять лет». Лидер кадетов уверял французского посла, что ни он, ни его друзья вовсе не желали этой революции. «Я даже ее не предвидел», сказал Милюков (драгоценное признание). «Но народные страсти так разгорелись (!), и положение так ужасающе трудно, что придется сделать немедленно большие уступки народной совести». В числе этих уступок значился на первом месте арест царских министров и генералов, а на одном из следующих — «разрушение всех императорских эмблем».
«Итак, династия Романовых пала?» — спросил Палеолог.
«Фактически — да; юридически еще нет. Только учредительное собрание имеет право изменить русскую конституцию».
Милюков тут же выразил надежду, что это учредительное собрание удастся еще, может быть, оттянуть. «Но, — прибавил он, — социалисты требуют немедленных выборов. А они так сильны, и положение так трудно, так трудно»[A-3]).
Если бы он знал, что «социалисты» ничего так не боялись в эту минуту, как того, что Милюков может отказаться от власти! «Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы «прогрессивного блока», писал (и еще в 1919 г.) Н. Н. Суханов. «Иначе переворот не удастся и революция погибнет».
Очевидно, что «социалисты» были сильны не своей, а чьей-то чужой силой. Чьей — на это достаточный ответ дает уже случай с Гучковым. На месте мало-мальски наблюдательному человеку, даже иностранцу, это было очевидно буквально с первого дня. Уже 12-го числа Палеолог записал, что «республиканская идея популярна в рабочей среде Петрограда и Москвы». Если эта идея победила, мы обязаны этим, конечно, не робким «социалистам» первого Петроградского исполкома, — а тем, кто на возглас «да здравствует конституционный царь!» отвечали тысячью возгласов: «К стенке его!».
Смертельный удар монархии нанесла та масса, которую монархия расстреливала 9 января 1905 года. «Кровавое» воскресенье не было простой ошибкой: то была отчаянная попытка царизма из пулеметов и винтовок расстрелять свою смерть. Пустое занятие! — от смерти не отстреляешься.
Теперь, следя бег исторических событий на протяжении 20 лет, легко прощупываешь скелет истории. Рабочий класс существовал в России сто лет. Всегда его ненавидел царизм и всегда боялся. Но была одна группа, которой судьба вложила в руки заступ могильщика — и царизма и буржуазии. И, как нарочно, эта группа жила и росла у самого порога царского дворца.
Давно установленный факт, что во главе революционной рабочей массы шли, во-первых, металлисты, во-вторых, рабочие крупнейших предприятий. В то время как текстиля в 1905 г. дали на 708 тысяч рабочих 1 296 тысяч бастовавших, металлисты на 252 тысячи рабочих дали 811 тысяч забастовщиков: каждый металлист бастовал в этот год 3 1/2 раза, а не каждый текстильщик бастовал и два раза. В то же время рабочие предприятий, занимавших не более 100 человек каждое, дали 109% забастовщиков, а рабочие предприятий свыше, чем с 1000 рабочих каждое — 232 % бастовавших, почти в 2,5 раза больше.
Промежуток между первой и второй революциями отмечен бурным ростом русской металлургии (со 171 милл. пуд. (2,8 милл. тонн) в 1908 году до 282 (4,6 милл. тонн) милл. пуд. в 1913), быстрым укрупнением предприятий именно Петербургского округа (число предприятий более, нежели с 1000 рабочих, выросло за 1910—1914 годы в Петербургском округе на 40%), и колоссальным усилением политического стачечного движения: в 1905 году на 1 миллион 800 тысяч политических забастовщиков пришлось еще более миллиона экономических. А в 1914, за неполный год, вторых было всего 278 тысяч, а первых, политических — более миллиона (1 059 111). В 1905 году на одного «экономического» забастовщика приходилось 1,8 политических, а в 1914 на одного «экономиста» пришлось уже более 3-х «политиков».
Война гнала движение все дальше и дальше по тому же пути. В марте 1914 года в Ленинграде считалось 208 000 рабочих, в сентябре 1915-го уже 248 000, в октябре 1916-го — уже до 400 000 человек. Из них на предприятиях с числом рабочих более 1 000 — 76,7%. И 62% всех этих рабочих были металлисты.
Так неуклонно, все быстрее и быстрее, рос железный кулак, который должен был обрушиться на голову Романовых. Трудно найти лучший образчик исторической диалектики: помещичье имение вызывает к жизни железную дорогу, чтобы добраться до наиболее выгодного, широкого европейского рынка; железная дорога родит металлургию; металлургия создает наиболее революционный отряд пролетариата, хоронящий прадеда всей системы — помещичье именье. Что конец «Романовых» означает конец крупного землевладения в России, этого с первой же минуты не поняли, кажется, только одни эсеры. «Заинтересованные лица» это понимали прекрасно. Уже 20 марта Палеолог в самом светском кругу, какой только можно было найти в «Петрограде», всюду встречал «одно беспокойство, один и тот же страх во всех умах: раздел земель».
«На этот раз не увернешься», говорили князь Б., генерал С. и щебетавшие вокруг них светские красавицы. А что мы будем делать без доходов с наших имений?»
И только новый посетитель — кавалергардский поручик «с огромным красным бантом на груди» несколько рассеял панику, напомнив, что на первый случай есть земли самой династии Романовых, а потом земли церквей и монастырей: пока что их хватит, чтобы заткнуть мужицкую глотку. Это рассуждение, столь же верноподданническое, сколь благочестивое, успокоило честную компанию.
Тем временем они успели уже вполне усвоить себе демократическую идеологию, выражавшуюся не только в красных бантах. Граф Кутузов точно подсчитал количественное отношение пролетариата к непролетарским элементам населения России — и пришел к чрезвычайно утешительным выводам: на 178 миллионов крестьян, казаков, купцов, чиновников и дворян граф насчитал всего 1 200 000 рабочих. «Эти миллион двести тысяч рабочих не вечно же будут нашими господами».
Граф занимался этими исследованиями еще 18 марта. Как видим, диктатура пролетариата у нас старше, чем обыкновенно считают — тем, на чью голову она обрушилась, можно поверить. На своей шкуре чувствовали. И диктатура определенного класса естественным образом вела за собою диктатуру определенной партии.
В среду 18 апреля Палеолог встретил Милюкова уже не постаревшего, а помолодевшего на 10 лет. С сияющим видом он сообщил французскому послу, будто «Ленин потерпел полное поражение вчера перед Советом. Он защищал пацифистские лозунги с такими преувеличениями, с таким бесстыдством, так неловко, что должен был замолчать и вышел освистанный... Ему не подняться. Я ответил по-русски: дай-то бог. Но я боюсь, — прибавляет Палеолог, — не обманывает ли Милюкова его оптимизм. Приезд Ленина представляется мне самым опасным испытанием, какому только могла подвергнуться русская революция».
Опасения трезвого француза оказались основательными. Уже 21 апреля ему пришлось записывать: «Когда Милюков уверял меня намедни, что Ленин безвозвратно скомпрометировал себя перед Советом своим утрированным пораженчеством, он лишний раз стал жертвою своего оптимизма, — наоборот, авторитет Ленина очень вырос в последние дни. В чем нет сомнения, это, что ему уже удалось объединить вокруг себя и под своей командой всех наиболее отчаянных революционеров; и он превратился теперь в страшного вождя».
Палеологу пришлось скоро уехать из России — приехавшие помогать стрясшейся с Антантою беде французские «социалисты» (во всяком случае, более храбрые, чем их российские собратья) нашли завсегдатая петроградских салонов слишком старомодным типом для того, чтобы представлять республиканскую Францию перед республиканской Россией. Он не мог, таким образом, записать в свой дневник точно характеристики «отчаянных революционеров». Они собрались в Питере 30 мая — первое собрание в России — приняли подавляющим большинством голосов (335 из 421) резолюцию Ленина и Зиновьева. То была первая конференция фабзавкомов. Несмотря на свист и улюлюканье справа и слева, пролетариат твердой стопой шел к своему вождю.
Остановить революцию было нельзя — но можно было вставить ей несколько палок в колеса. Палеолог с гордостью мог отметить, что самую крепкую нашел все же он, как ни плохо его ценили Альбер Тома с братией. Уже 15 марта, в день отречения Николая, он писал о «молодом депутате Керенском, самом активном и решительном из организаторов нового режима. Он имеет большое влияние на Совет. Мы должны попытаться завоевать этого человека для нашего дела. Он один может внушить Совету, как необходимо продолжать войну и поддерживать союз (с Антантой. — М.П.). Я поэтому телеграфирую Бриану (тогдашний премьер. — М.П.), чтобы внушить ему мысль о немедленном обращении французских социалистов, через Керенского, к социалистам русским, с воззванием к их патриотизму».
«Керенщину», как видим, не труднее было предугадать и понять, чем диктатуру пролетариата и социализацию земли — и приход к власти Ленина. Нужно было только смотреть не глазами обманутого буржуазными газетами обывателя, а глазами человека, профессия которого состоит в том, чтобы обманывать других.
Диктатура пролетариата «де-факто» была уже на лицо 12 марта 1917 года. Ей восемь месяцев понадобилось, чтобы завоевать себе «де-юре». Но зато это «де-юре» она сама себе создала, не обращаясь к кадетским учебникам.
[1-1]
Так назывался тогда Ленинград
(обратно)[1-2]
С 5 приблизительно миллионов пудов для пшеницы и для ржи в 1813 г., когда начался вывоз после снятия «континентальной блокады», до 22 милл. пудов пшеницы и 20 милл. пудов ржи в 1817 году.
(обратно)[2-1]
В газете «Рабочая Москва» от 18 декабря 1923 г. Данная лекция пришлась на 20-е.
(обратно)[2-2]
Эта хрестоматия была рекомендована слушателям как одно из основных пособий.
(обратно)[4-1]
Очень интересно, что Л. Г. Дейч не заметил, как сам Плеханов в статье «Начало с.-д. движения в России“, давным давно дало объяснение своего поворота к марксизму, аналогичное тому, какое дается выше. „Каждый из нас“, пишет там Плеханов, „привез с собой из России опыт, приобретенный в течение нeскольких лет революционной агитации, н более или менее ясное сознание, что этот опыт находится в резком противоречии с теорией „бунтарей“. Это сознание было особенно мучительно, и каждый из нас испытывал настоятельную потребность привести в порядок свои революционные идеи“. Л. Г. Дейч сам приводит эту цитату — я у него ее и беру („Группа Освобождения труда", сб. № 5, — стр. 272) — и продолжает яростно отстаивать свою точку зрения!..
(обратно)[5-1]
III часть "Сжатого очерка". Изд. "Красная Новь".
(обратно)[5-2]
Беглость этих замечаний о рабочем движении 1905—1907 годов не должна удивлять читателя: в программе курсов секретарей укомов рабочее движение отнесено к курсу истории РКП(6), в то же время автор настоящей книжки только что дал его фактический обзор в III части „Сжатого очерка“ (Глава „Рабочая революция").
(обратно)[6-1]
Она не наступила и в 1926 году — но все возможности маневрирования азглийской буржуазией, повидимому, уже исчерпаны.
(обратно)[6-2]
„Внешняя политика России в ХХ в.“. Изд. унив. Свердлова.
(обратно)[6-3]
В миллионах золотых рублей: 1900 г. 1910 г. 1912 г. 1913 г. Золотой запас России...... 755 1 305 1 430 1 631 Второй идет Франция....... 936 1 282 1 383 1 406 (обратно)[6-4]
Внешне-политическую связь событий, которая действовала сильнее, см. цитир. выше брошюре „Внешняя политика России в XX в.“.
(обратно)[7-1]
Два соседних германских города, в 1/4 часа езды один от другого.
(обратно)[9-1]
Процент больных паровозов в 1913 г. не превышал 9, в 1916 г. дошел до 13, а в 1917 г. до 23,4.
(обратно)[10-1]
Тогда, по проникшим в печать слухам, Вильгельм II предлагал Николаю объявить проливы нейтральными, а охрану нейтралитета поручить России. Это делало русский флот хозяином в проливах.
(обратно)[10-2]
Татьянин день — 12 января — в дореволюционное время день общестуденческого праздника.
(обратно)[10-3]
Тов. Шляпников, прочитав это место в 1-м издании настоящей книжки, сообщил мне, что он действовал таким образом, исполняя директиву ЦК нашей партии. Считаю себя обязанным привести здесь это сообщение тов. Шляпннкова. Сам я этой директнвы не видал, и точное ее содержание мне не известно.
(обратно)[A-1]
Перепечатываю эту статью из «Правды» от 12 марта 1924 г., так как на нее имеется ряд ссылок в тексте последнее лекции, а искать № газеты читателям было бы трудно. М. П.
(обратно)[A-2]
Палеолог. «Царская Россия во время войны». Запись под 12 марта 1917 г.
(обратно)[A-3]
Запись Палеолога под 17 марта.
(обратно)


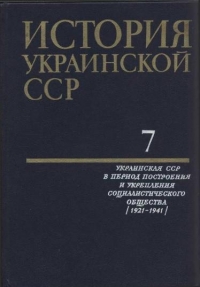

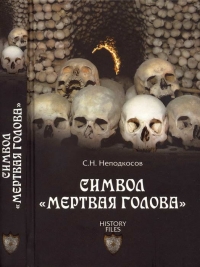

Комментарии к книге «Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв», Михаил Николаевич Покровский
Всего 0 комментариев