Реза Аслан Нет бога, кроме Бога. Истоки, эволюция и будущее ислама
Reza Aslan
NO GOD BUT GOD
The Origins, Evolution, and Future of Islam
© Reza Aslan, 2005, 2006, 2011
© David Lindroth, Inc., карты, 2011
© Колесникова М. А., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2019
КоЛибри®
* * *
Моей матери Сохейле и моему отцу Хассану
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Коран 1:1Предисловие к обновленному изданию
Десять лет спустя после событий 11 сентября антимусульманские настроения находились на рекордно высоком уровне по всей Европе и Северной Америке, намного выше, чем в тот же самый трагический день в 2001 году. Опросы показывают, что почти половина населения в Соединенных Штатах и Канаде отрицательно относится к исламу. В Европе среди мусульманских общин бытует мнение, что принятие законов, ограничивающих права и свободы мусульман, и успех откровенно антимусульманских политиков и политических партий приводят к их маргинализации и ущемлению гражданских прав.
Множество причин нашлось для объяснения такого внезапного всплеска антимусульманской истерии. Разумеется, глобальный финансовый кризис сыграл свою роль. Во времена экономических бедствий людям вполне свойственно искать козла отпущения, видя в нем источник своих страхов и тревог. Во многих частях Европы и Северной Америки страх перед исламом идет рука об руку с возрастающей обеспокоенностью по поводу иммиграции и все более безграничного, все более гетерогенного мира, в котором мы живем.
Верно и то, что через десять лет после начала так называемой войны против терроризма чувство усталости охватило Соединенные Штаты и их западных союзников. Теперь, когда патриотический пыл, которым сопровождалось начало конфликтов в Афганистане и Ираке, рассеялся, а инициатор нападений 11 сентября – Усама бен Ладен – убит, многие задаются вопросом: что именно было достигнуто ценой триллионов потраченных долларов и тысяч потерянных жизней в этой войне? В то же время поток террористических актов «местного производства» в Европе и Северной Америке вызвал повышенное чувство беспокойства даже в США, где экономически процветающая, социально интегрированная и в высшей степени мобильная мусульманская община больше не считается невосприимчивой к той воинствующей идеологии, которая нашла поддержку среди некоторых молодых мусульман в Европе.
Несмотря на то что все вышеобозначенное – это важные детерминанты, объясняющие волну антимусульманских настроений, которая омыла Европу и Северную Америку в последние годы, есть еще один, более фундаментальный фактор, на который следует обратить внимание. Он проявляется в итогах опроса 2010 года, которые продемонстрировали, что почти четверть американцев по-прежнему считали, что президент Барак Обама – сам мусульманин. Данные показатели на 10 % выше тех, что были получены в ходе аналогичного опроса в 2008 году. Среди республиканцев, принявших участие в опросе, это число составляет почти 40 %; среди так называемого «Движения чаепития» – более 60 %. На самом деле опросы последовательно показывали, что чем больше человек были не согласны с политикой президента Обамы, скажем в области здравоохранения или финансового регулирования, тем больший процент населения считал его мусульманином.
Проще говоря, ислам в Соединенных Штатах все более рассматривается как чужой. Он стал сосудом, куда могут быть брошены все страхи и опасения, которые люди испытывают относительно неустойчивой экономики, нового и незнакомого политического порядка, смещения культурных, расовых и религиозных ландшафтов, коренным образом изменивших мир. По всей Европе и Северной Америке все, что представляется страшным, чуждым, инородным и небезопасным, помечено ярлыком «ислам».
Такое развитие событий – не неожиданность, особенно для США. Действительно, все, что сейчас говорится о разнообразном мусульманском населении Америки – что они чужие, экзотические и не американцы, – было сказано и о католических и еврейских иммигрантах почти столетие назад. Как не является новым и феномен отчуждения ислама от западного мира. Напротив, от эпохи крестовых походов до выдвижения идеи о столкновении цивилизаций ислам всегда играл важную роль в качестве квинтэссенции образа «другого» на Западе. Тем не менее печально отмечать, что даже в стране, основанной на принципе свободы вероисповедания, широкий круг населения твердо убежден, что эта свобода не распространяется на мусульман, что мусульмане чем-то отличаются.
Когда я в 2005 году опубликовал книгу «Нет бога, кроме Бога», моя цель состояла в том, чтобы бросить вызов этому предположению. Я хотел продемонстрировать, что в исламе нет ничего исключительного или необычного, что те же исторические, культурные и географические факторы, которые повлияли на развитие каждой религии во всех частях мира, также повлияли и на развитие ислама, превратив его в одну из самых эклектичных, самых разнообразных конфессий в истории религий. И хотя этот посыл так же важен сегодня, как и тогда – возможно, сейчас даже еще важнее, – необходимо признать, что большей осведомленности об исламе недостаточно, чтобы изменить укоренившееся восприятие мусульман. Сознание не меняется только под воздействием получения данных или информации (если бы это было так, то не потребовалось бы значительных усилий, чтобы убедить американцев, что Обама – христианин). Скорее всего, благодаря медленному и устойчивому выстраиванию личных отношений обнаруживается фундаментальная истина: все люди во всем мире имеют одни и те же мечты и устремления, все люди борются с одними и теми же страхами и тревогами.
Конечно, такой процесс требует времени. Быть может, сменится не одно поколение, прежде чем люди оглянутся на эту эпоху антимусульманского безумия с таким же стыдом и насмешкой, с которым нынешнее поколение смотрит на антикатолическую и антиеврейскую истерию прошлого. Но этот день, несомненно, придет. Возможно, тогда мы осознаем, сколь тесные связи объединяют всех нас вне зависимости от культурной, этнической или религиозной принадлежности.
Иншалла. С божьей помощью.
Пролог. Столкновение монотеизмов
Полночь, и пять часов до Марракеша. У меня всегда были проблемы со сном в поездах. Есть что-то такое в неумолимом ритме перестука колес, катящихся по рельсам, что всегда не дает мне уснуть. Это похоже на доносящуюся издалека мелодию, слишком громкую, чтобы ее игнорировать. Даже темнота, заполняющая купе в ночное время, кажется, не помогает. Еще хуже ночью, когда светят звезды, единственные огни, видимые в огромной, безмолвной пустыне, которая со свистом проносится мимо моего окна.
Это довольно досадная причуда, потому что лучше всего путешествовать поездом через Марокко спящим. Поезда наводнены нелегальными faux guides[1], которые переходят из одного вагона в другой в поисках туристов, с которыми можно поделиться своими рекомендациями относительно лучших ресторанов, самых дешевых отелей и самых хорошеньких женщин. Эти faux guides в Марокко говорят на полдюжине языков, вследствие чего их сложно игнорировать. Обычно моя оливкового цвета кожа, густые брови и черные волосы держат их в страхе. Но единственное средство полностью избежать общения с ними – заснуть, чтобы у них не было другого выбора, кроме как перейти к следующему путешественнику.
Именно это я и подумал, когда услышал в купе по соседству разговор на повышенных тонах. Это был спор между тем, кто, как я предположил, был faux guide, и сопротивляющимся туристом. Я слышал неугомонное кудахтанье араба, слишком быстрое, чтобы я мог что-то понять, прерываемое несмелыми ответами американца.
Я был свидетелем такого общения и раньше: в городских такси, на базаре, очень часто в поездах. За несколько месяцев моего пребывания в Марокко я привык к внезапному неистовству местных жителей, врывающихся в разговор яростно, как гром среди ясного неба, а затем, когда вы уже настраиваетесь на бурю, так же молниеносно переходящих на негромкое ворчание и дружеское похлопывание по спине.
Голоса по соседству стали громче, и теперь мне казалось, что я понял, в чем дело. Это вовсе не faux guide. Кого-то отчитывали. Трудно было сказать точно, но я узнал искаженный берберский диалект, который иногда используют власти, когда хотят запугать иностранцев. Американец продолжал говорить: «Подождите минутку», а затем: Parlez-vous anglais? Parlez-vous français?[2] Марокканец, как я понял, требовал предъявить паспорт.
Заинтересовавшись, я встал и тихо перешагнул через колени храпящего бизнесмена, сгорбившегося рядом со мной. Я проскользнул мимо него, протиснулся в приоткрытую дверь и вышел в коридор. Когда мои глаза приспособились к свету, я увидел через стеклянную дверь, что знакомая красно-черная форма проводника мелькает в соседнем купе. Я легко постучал и вошел, не дожидаясь ответа.
– Salaam alay-kum, – сказал я. (Мир вам.)
Проводник прервал свою обличительную речь и повернулся ко мне с обычным: Walay-kum salaam. (И вам мир.) Его лицо раскраснелось, и глаза тоже были красными, похоже, что от гнева. Его несобранные волосы и тяжелые складки на униформе указывали на то, что он только проснулся. В его речи был какой-то ленивый выговор, который затруднял понимание. Проводник был ошеломлен моим присутствием.
– Уважаемый господин, – сказал он на чистом и предельно понятном арабском, – здесь не ночной клуб. Здесь дети. Здесь не ночной клуб.
Я не мог понять, о чем он.
Американец схватил меня за плечи и повернул к себе:
– Пожалуйста, скажите этому человеку, что мы спали!
Он был молодым и необычайно высоким, с большими зелеными глазами, светлые волосы копной свисали на его лицо, и он постоянно зачесывал их пальцами.
– Мы просто спали, – повторил он, проговаривая слова так, будто я читал по губам. – Comprendez-vous?[3]
Я повернулся к проводнику и перевел:
– Он говорит, что спал.
Проводник был очень сердит и, пребывая во взволнованном состоянии, снова перешел на непонятный берберский диалект. Он начал бешено жестикулировать, и это означало, что он не может сдерживать себя в этот момент. Я должен был понять, почему он в такой истерике от спящей пары. Он продолжал повторять, что у него дети. Что он отец; он мусульманин. Он продолжал говорить, но я уже не слушал его. Мое внимание полностью переключилось на другого человека в салоне – женщину.
Она сидела прямо за мужчиной, он специально закрывал ее собой: нога на ногу, руки скрещены на коленях. Ее волосы были растрепаны, щеки горели. Она не смотрела прямо на нас, а скорее наблюдала за сценой через искаженное отражение в окне.
– Вы сказали ему, что мы спали? – спросил меня американец.
– Я не думаю, что он вам поверит, – ответил я.
Хотя мужчина был поражен моим английским языком, еще более он был шокирован обвинениями в его адрес:
– Он мне не верит? Отлично. Что он собирается делать? Забросать нас камнями до смерти?
– Малькольм! – вскрикнула женщина, громче, чем, казалось, она того хотела. Она дотянулась до мужчины и потянула его к себе.
– Хорошо, – вздохнул Малькольм. – Просто спросите его, сколько он хочет, чтобы уйти.
Он пошарил в карманах рубашки и достал пачку потрепанных разноцветных банкнот. Прежде чем он смог разложить их веером, я заслонил его собой и протянул руку проводнику.
– Американец извиняется, – сказал я. – Ему очень, очень жаль.
Взяв проводника за руку, я осторожно повел его к двери, но он не принял извинений. Он снова потребовал паспорта. Я притворился, что не понимаю. Все это казалось мне немного театральным. Возможно, он поймал пару, которая вела себя ненадлежащим образом, но за этим мог последовать разве что резкий упрек. Они молоды; они иностранцы; они не понимали сложностей социальных приличий в мусульманском мире. Разумеется, проводник понял это. И все же он казался искренне обеспокоенным и лично оскорбленным поведением этой, казалось бы, безобидной пары. Вновь он настаивал на том, что он отец, мусульманин и добродетельный человек. Я сказал, что понимаю, и пообещал, что останусь с парой, пока мы не достигнем Марракеша.
– Да приумножит Аллах вашу доброту, – сказал я и открыл дверь.
Проводник неохотно прикоснулся рукой к груди и поблагодарил меня. Затем, уже почти выйдя в коридор, он развернулся и указал дрожащим пальцем на сидящую пару.
– Христиане! – бросил он на английском, в его голосе звучало презрение. Он закрыл двери, и мы услышали шум, с которым он стал пробираться по коридору.
Несколько секунд все хранили молчание. Я остался стоять у двери и, когда поезд накренился, совершая резкий поворот, схватился за багажную полку.
– Это было странно, – сказал я со смехом.
– Меня зовут Дженнифер, – произнесла девушка. – А это мой муж Малькольм. Спасибо, что помогли нам. Ситуация могла выйти из-под контроля.
– Я так не думаю, – сказал я. – Уверен, он уже забыл обо всем этом.
– Что ж, нечего было и забывать, – проговорил Малькольм.
– Конечно.
Внезапно Малкольм опять вскипел:
– Дело в том, что этот человек кружил вокруг нас с тех пор, как мы сели в поезд.
– Малькольм, – предостерегающе прошептала Дженнифер, сжимая руку мужа.
Я пытался поймать ее взгляд, но она не смотрела на меня. Малькольм дрожал от гнева.
– Зачем ему это? – спросил я.
– Вы слышали его, – ответил Малькольм, и его голос стал громче. – Потому что мы христиане.
Я вздрогнул. Это была непроизвольная реакция, просто дернулись брови, но Дженнифер заметила это и произнесла, почти извиняясь:
– Мы миссионеры. Мы едем в Западную Сахару, чтобы проповедовать Евангелие.
Вдруг я понял, почему проводник следил за этой парой; почему он был так жесток и неумолим, когда поймал их в компрометирующей ситуации. Только теперь я заметил небольшую открытую картонную коробку, расположенную между двумя рюкзаками на багажной полке. Коробка была заполнена зелеными покетбуками Нового Завета в арабском переводе. Трех или четырех экземпляров не хватало.
– Не хотите книгу? – спросила Дженнифер. – Мы их раздаем.
С момента событий 11 сентября 2001 года эксперты, политики и проповедники в Соединенных Штатах и Европе утверждают, используя теперь вездесущий термин Сэмюэля Хантингтона, что мир втянут в «столкновение цивилизаций» между современными, просвещенными, демократическими обществами Запада и архаичными, варварскими, автократическими обществами Ближнего Востока. Некоторые уважаемые ученые зашли еще дальше в развитии этой идеи, предполагая, что провал демократии в мусульманском мире во многом обусловлен мусульманской культурой, которая, по их утверждению, по своей сути несовместима с такими ценностями Просвещения, как либерализм, плюрализм, индивидуализм и права человека. Поэтому это был просто вопрос времени, когда эти две великие цивилизации, имеющие такие противоречивые идеологии, столкнутся друг с другом каким-то катастрофическим образом. И что может быть ярче, чем пример такой неизбежности – «война против терроризма»?
Но только за этой ошибочной и противоречивой риторикой скрывается более тонкое, хотя и гораздо более пагубное чувство: это не столько культурный конфликт, сколько религиозный; и мы находимся не посреди «столкновения цивилизаций», а скорее посреди «столкновения монотеизмов».
Концепцию столкновения монотеизмов можно услышать в религиозно-поляризующей риторике «добра против зла», с которой Соединенные Штаты начали войны в Афганистане и Ираке. Можно также наблюдать ее восприятие в растущих антимусульманских настроениях, которые стали столь значительной частью основного дискурса медиа о Ближнем Востоке. Об этом можно прочитать в колонках мнений правых идеологов, которые настаивают на том, что ислам представляет собой отсталую и жестокую религию и культуру, полностью противоречащую западным ценностям.
Конечно, в исламе нет недостатка в пропагандистских антихристианских и антиеврейских высказываниях. Иногда действительно кажется, что даже самые умеренные проповедники и политики в мусульманском мире не могут противостоять активизирующейся время от времени теории заговора в отношении «крестоносцев и евреев», которая всего лишь имеет в виду их: тех безликих, колониальных, сионистских, империалистических других, тех, кто не мы. Таким образом, столкновение монотеизмов – явление отнюдь не новое. Действительно, с самых первых дней исламской экспансии до кровавых войн, инквизиции, крестовых походов, трагических последствий колониализма и цикла насилия в Израиле/Палестине враждебность, недоверие и часто насильственная нетерпимость, которыми отмечены отношения между евреями, христианами и мусульманами, были одной из самых укоренившихся тем в западной истории.
Однако за последние несколько лет, поскольку международные конфликты в полной мере были облечены в апокалиптические термины, а политические повестки дня во всех измерениях сформулированы на богословском языке, стало невозможно игнорировать поразительные сходства между антагонистической и неосведомленной риторикой, которая подпитывала разрушительные религиозные войны прошлого, и тем, что движет текущими конфликтами на Ближнем Востоке. Когда преподобный Джерри Вайнс, бывший президент Южной баптистской конвенции, называет пророка Мухаммада «педофилом, одержимым демоном», его слова звучат столь же странно, как речи средневековых папских пропагандистов, для которых Мухаммад был антихристом, а исламская экспансия – признаком Апокалипсиса. Когда республиканский сенатор из Оклахомы Джеймс Инхоф выступает перед Конгрессом США и настаивает на том, что продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке – это битвы не за власть или территорию, а «борьба за то, истинно ли слово Бога», он говорит, сознательно или нет, на языке эпохи крестовых походов.
Можно утверждать, что столкновение монотеизмов – неизбежный результат самого монотеизма. В то время как религия многих богов содержит много мифов для описания состояния человека, религия одного бога имеет тенденцию быть мономифичной; она не только отвергает всех других богов, но и отвергает все другие объяснения Бога. Если есть только один Бог, тогда может быть только одна истина, и такое видение может легко привести к кровавым конфликтам непримиримых абсолютизмов. Миссионерская деятельность, хотя и заслуживает похвалы за обеспечение медицинской помощи и образования для обездоленных во всем мире, тем не менее основывается на вере в то, что есть только один путь к Богу и что все другие пути ведут к греху и проклятию.
Малькольм и Дженнифер, как я узнал по дороге в Марракеш, были частью быстрорастущего движения христианских миссионеров, которые все чаще стали сосредотачиваться на мусульманском мире. Поскольку христианский евангелизм зачастую резко порицается в мусульманских странах – в значительной степени из-за исторической памяти о действиях колониалистов, когда катастрофическая «цивилизационная миссия» Европы сопровождалась насильственной антиисламской «миссией по христианизации», – некоторые евангельские институты сейчас обучают своих миссионеров «проникать изнутри» в мусульманский мир, принимая мусульманскую личину, облачаясь в мусульманскую одежду (в том числе чадру), даже соблюдая пост и молясь как мусульмане. В то же время правительство США поощряет многочисленные христианские организации гуманитарной помощи активно участвовать в восстановлении инфраструктуры Ирака и Афганистана после двух войн, предоставляя боеприпасы тем, кто стремится изобразить оккупацию этих стран как еще один крестовый поход христиан против мусульман. Добавьте к этому убеждение, разделяемое многими в мусульманском мире, что между Соединенными Штатами и Израилем существует сговор, направленный против мусульманских интересов в целом и прав палестинцев в частности, и можно понять, почему возмущение и подозрительность мусульман на Западе только возрастают, приводя к катастрофическим последствиям.
Учитывая, насколько легко религиозная догма оказалась втянута в противоречие с политической идеологией, каким образом мы можем преодолеть концепцию столкновения монотеизмов, столь глубоко укоренившуюся в современном мире? Очевидно, что просвещение и терпимость весьма важны. Но то, в чем мы отчаянно нуждаемся, – это не столько лучшее понимание религии нашего соседа, сколько более широкое, более полное осмысление самого понятия «религия».
Следует осознать, что религия – это не вера. Религия – это история веры. Это институционализированная система символов и метафор (читайте: ритуалов и мифов), предоставляющая общий язык, на котором сообщество веры может делиться друг с другом своим духовным опытом встречи с Божественным. Религия касается не подлинной истории, а священной. Эта история не проходит сквозь время как река. Скорее она похожа на священное дерево, корни которого глубоко проникают в первозданное время и чьи ветви переплетаются с подлинной историей, не заботясь о границах пространства и времени. Действительно, именно в такие моменты, когда священная и подлинная история сталкиваются, рождаются религии. Столкновение монотеизмов происходит, когда вера, таинственная и невыразимая, избегающая любых категорий, запутывается в корявых ветвях религии.
Перед вами история ислама. Это история, закрепленная в воспоминаниях первого поколения мусульман и систематизированная самыми ранними биографами пророка Мухаммада – Ибн Исхаком (ум. 768), Ибн Хишамом (ум. 833), аль-Баладхури[4] (ум. 892) и ат-Табари (ум. 922). В основе повествования лежит Священный Коран – собрание божественных откровений, которые Мухаммад получил в течение примерно двадцати трех лет жизни в Мекке и Медине. В то время как Коран по причинам, которые станут ясны в дальнейшем, очень мало рассказывает о жизни Мухаммада (Мухаммад действительно редко упоминается в нем), он неоценим в раскрытии идеологии мусульманской веры в ее зачаточном состоянии, то есть до того, как вера стала религией, прежде чем религия стала институтом.
Тем не менее мы никогда не должны забывать, что как бы незаменимы и исторически ценны ни были Коран и предания о Пророке, они все же основаны на мифологии. Жаль, что это слово, миф, которое первоначально означало не что иное, как рассказы о сверхъестественном, стало рассматриваться как синоним ложности, тогда как на самом деле мифы всегда верны. По своей природе мифы обладают как законным обоснованием, так и правдоподобием. Какие бы истины они в себе ни заключали, они имеют мало общего с историческими фактами. Задаваться вопросами: действительно ли Моисей разделил Красное море, или действительно ли Иисус воскресил Лазаря из мертвых, или действительно ли слово Божие излилось через уста Мухаммада – значит задавать неуместные вопросы. Единственный вопрос, который имеет отношение к религии и ее мифологии: «Что означают эти истории?»
Дело в том, что ни один евангелист любой великой мировой религии не стал бы интересоваться записями своих объективных наблюдений за историческими событиями. Они вообще не записывали наблюдения! Скорее, они интерпретировали эти события, чтобы придать структуру и смысл мифам и обрядам своего сообщества, обеспечив будущим поколениям общую идентичность, общее стремление, общую историю. В конце концов, религия – это по определению интерпретация; и по определению все интерпретации действительны. Однако некоторые интерпретации более разумны, чем другие. И как еврейский философ и мистик Моисей Маймонид отмечал много лет назад, именно разум, а не воображение определяет то, что возможно, а что нет.
То, как ученые составляют разумную интерпретацию определенной религиозной традиции, проявляется в слиянии мифов этой религии со знаниями о духовном и политическом ландшафте, в котором эти мифы возникли. Опираясь на Коран и предания Пророка наряду с нашим пониманием культурной среды, в которой родился Мухаммад и в которой сформировалось его послание, мы можем более разумно восстановить истоки и эволюцию ислама. Это непростая задача, хотя она несколько облегчается тем, что Мухаммад, по-видимому, жил «в полном соответствии с историей», если говорить словами Эрнеста Ренана, и умер невероятно успешным пророком (и именно это его христианские и еврейские хулители никогда ему не простят).
Как только разумная интерпретация возникновения ислама в Аравии VI–VII вв. была сформирована, стало возможным проследить, как революционное послание Мухаммада о моральной ответственности и социальном эгалитаризме постепенно превращалось его преемниками в конкурирующие идеологии жесткой узаконенности и бескомпромиссной ортодоксии, которые раздробили мусульманскую общину и увеличили разрыв между основным течением, или суннитами, и двумя большими ветвями ислама – шиизмом и суфизмом. Несмотря на общую священную историю, каждая группа стремилась развивать собственное толкование Писания, собственные идеи о богословии и законе, а также собственное сообщество веры. И у каждого был разный ответ на явление колониализма в XVIII и XIX вв. Действительно, этот опыт заставил всю мусульманскую общину пересмотреть роль веры в современном обществе. В то время как некоторые мусульмане настаивали на создании национального исламского Просвещения, охотно развивая исламские альтернативы западным светским представлениям о демократии, другие выступали за отделение от западных культурных идеалов в пользу полной исламизации общества. С окончанием колониализма и рождением исламского государства[5] в ХХ в. эти две группы усовершенствовали свои аргументы на фоне продолжающихся дебатов в мусульманском мире о перспективах формирования подлинной исламской демократии. Но, как мы увидим, в центре дебатов по поводу ислама и демократии стоит гораздо более значительная внутренняя борьба за то, что получает определение исламской Реформации, которая уже началась в большей части мусульманского мира.
Христианская Реформация не была, как ее часто представляют, столкновением между протестантскими реформаторами и непримиримыми католиками. Скорее, христианская Реформация была спором о будущем веры – жестоким, кровавым спором, который держал Европу в состоянии опустошения и войны более века.
Исламская Реформация не отличается от христианской. Для большей части западного мира 11 сентября 2001 г., которое возвестило о начале всемирной борьбы между Исламом и Западом, стало окончательным проявлением столкновения цивилизаций. Однако с исламской точки зрения нападения на Нью-Йорк и Вашингтон были частью продолжающегося столкновения между теми мусульманами, которые стремятся примирить свои религиозные ценности с реалиями современного мира, и теми, кто реагирует на модернизм и реформаторство, возвращаясь – порой фанатично – к «основам» своей веры.
Эта книга – не просто критическое переосмысление истоков и эволюции ислама и не просто рассказ о сегодняшней борьбе между мусульманами за определение будущего этой великолепной, но непонятной веры. Эта книга прежде всего служит аргументом в пользу реформаторства. Некоторые назовут это отступничеством, но автора это не тревожит. Никто не говорит за Бога – даже пророки (говорящие о Боге). Некоторые назвали бы это извинением, но это едва ли плохо. Извинение – это защита, и нет более высокого призвания, чем защищать свою веру, особенно от невежества и ненависти, и таким образом помогать сформировать историю этой веры. Историю, которая в данном случае началась четырнадцать веков назад, в конце VI в. н. э., в священном городе Мекке, на земле, где родился Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб – Пророк и Посланник Бога. Мир ему и благословение.
1. Святилище в пустыне
Доисламская Аравия
Аравия. VI в. н. э.
В бесплодной заброшенной долине Мекки, окруженной со всех сторон голыми горами Аравийской пустыни, стоит маленькое невзрачное святилище, которое арабы-язычники называют Каабой, что в переводе означает «куб». Кааба представляет собой погруженную в песчаную долину приземистую каменную постройку без крыши. Ее четыре стены – настолько низкие, что, как говорят, молоденький козлик может с легкостью через них перепрыгнуть, – покрыты полосками тяжелой ткани, окрашенной в багровые и красные цвета. В ее основании в сером камне высечены две двери, служащие входом внутрь святилища. Именно здесь, в тесном пространстве священной постройки, находятся идолы богов доисламской Аравии: Хубал, сирийский бог Луны; аль-Узза, могущественная богиня, которую египтяне называли Исидой, а греки – Афродитой; аль-Кутба, набатейский бог письменности и прорицания; Иисус, воплощение бога у христиан, а также его мать – Святая Дева Мария.
Всего, как утверждается, внутри Каабы и вокруг нее располагаются 360 идолов, олицетворяющие все божества, которые признаны на Аравийском полуострове. В течение священных месяцев, когда ярмарки и базары наводняют Мекку, паломники со всего полуострова прокладывают свой путь к этой бесплодной земле, чтобы посетить племенных божественных покровителей. Они исполняют обрядовые песни и танцы перед идолами, совершают жертвоприношения и молятся о здоровье. Затем для участия в удивительном ритуале, происхождение которого остается загадкой, паломники собираются вместе и обходят Каабу семь раз, останавливаясь на мгновение для целования каждого угла святыни, прежде чем будут сметены потоком верующих.
Арабы-язычники, собравшиеся вокруг Каабы, убеждены в том, что это святилище было возведено первым человеком – Адамом. Они верят, что оригинальная постройка, сотворенная Адамом, была уничтожена Великим Потопом, а затем воссоздана Нухом. Верят они и в то, что затем в течение нескольких поколений Кааба была предана забвению, пока Ибрахим вновь не открыл ее во время посещения своего первенца Измаила и своей наложницы Хаджар, которые были высланы в пустыню по повелению жены Ибрахима Сары. Арабы также считают, что на этом самом месте произошло жертвоприношение Ибрахимом Измаила, которое было прервано дарованием обещания о том, что Измаил, как и его младший брат Исаак, даст начало великой нации, потомки которой сейчас крутятся над песчаной долиной Мекки как пустынный вихрь.
Конечно, это просто истории, стремящиеся передать, какое значение имеет Кааба, но никак не объясняющие, как она появилась. Правда заключается в том, что никто не знает, кто построил Каабу и как долго она существует. Вероятно, что первопричина святости этого места не связана с самим святилищем. Рядом с Каабой находится колодец Замзам, питаемый обильным подземным источником, который, по преданию, появился для того, чтобы напоить Хаджар и Измаила. Не нужно напрягать воображение, чтобы понять, как источник, расположенный в центре пустыни, мог стать священным местом для страждущих бедуинских племен Аравии. Сама Кааба могла быть воздвигнута много лет спустя, но не как подобие арабского пантеона, а как хранилище освященных предметов, используемых при совершении ритуалов, которые сформировались вокруг Замзама. Ранние предания о Каабе гласят, что внутри нее была вырытая в песке яма, в которой находились «сокровища» (ритуальные предметы), магически охраняемые змеей.
Возможно также, что подлинная священная постройка представляла некоторую космологическую значимость для древних арабов. Многие из 360 располагавшихся в Каабе идолов не только ассоциировались с планетами и звездами, но, как гласит легенда, все они предположительно имели астральное значение. Семикратный обход Каабы – по-прежнему основной ритуал ежегодного хаджа, называемый на арабском языке таваф, – мог иметь в своей основе стремление подражать движению небесных светил. В конце концов, среди древних народов царила общая вера в то, что их храмы и святилища были земной копией космической горы, с которой было положено начало акту Сотворения. Кааба, равно как и пирамиды в Египте и Храм в Иерусалиме, могла быть сооружена как axis mundus[6], иногда называемая «пуп Земли», то есть как служащее связующим звеном между Землей и небесным куполом священное место, вокруг которого вращается вселенная. Такое предположение могло бы объяснить, почему однажды в пол Каабы был вбит гвоздь, который древние арабы называли «пупом мира». Согласно преданиям, древние паломники иногда входили в святилище, снимали свою одежду и прикасались своим пупком к гвоздю, таким образом устанавливая связь с космосом.
Увы, несмотря на многочисленные сказания о Каабе, ее происхождение остается лишь объектом спекуляций. Единственное, что ученые могут констатировать наверняка, – к VI в. это маленькое святилище, построенное из земли и камня, стало центром религиозной жизни доисламской Аравии: эпохи язычества, заманчивой и пока недостаточно определенной, которую мусульмане обозначают словом Джахилийа – «Период невежества».
Традиционно Джахилийа определялась мусульманами как эра морального разврата и религиозного раздора – время, когда сыны Измаила затмили веру в одного истинного бога и повергли Аравийский полуостров во тьму идолопоклонства. Но затем, подобно восходящему рассвету, в начале VII в. в Мекке появился пророк Мухаммад, проповедовавший идею об абсолютном монотеизме и бескомпромиссной твердой морали. Распространяя знание о чудесных откровениях, полученных от Бога, Мухаммад положил конец язычеству арабов и ознаменовал переход от «Периода невежества» к господству универсальной религии ислама.
В действительности религиозный опыт арабов доисламской эпохи был гораздо более сложным, чем о том рассказывает предание. Справедливо утверждение, что до восхода ислама на Аравийском полуострове доминировало язычество. Но само слово «язычество», или «паганизм», представляет собой бессмысленный, пренебрежительный всеобъемлющий термин, придуманный теми, кто не относит себя к этой традиции, для упорядочивания того, что на самом деле представляет собой почти бесчисленное разнообразие верований и конфессиональных практик. Слово «паганус» (paganus) означает «сельский житель», «мужик» и изначально использовалось христианами для обозначения тех, кто придерживался другого, нежели они, вероисповедания. В некотором смысле это уместное название. В отличие от христианства паганизм представляет собой не столько унифицированную систему убеждений и практик, сколько религиозную перспективу на будущее, восприимчивую к многочисленным влияниям и интерпретациям. Как правило, хотя и не всегда, политеистический паганизм не стремится ни к универсализму, ни к моральному абсолютизму. Не существует таких понятий, как языческое вероучение или языческий канон. Не существует также и того, что можно было бы назвать «языческой правоверностью» или «языческой ересью».
Более того, обращаясь к религиозным традициям арабов доисламского периода, важно проводить различие между кочевыми бедуинами, которые скитались по аравийским пустыням, и оседлыми племенами, которые устраивались в таких густонаселенных центрах, как Мекка. Язычество бедуинов в Аравии VI в. могло заключать в себе разнообразие верований и практик – от фетишизма до тотемизма и манизма (культ предков), но оно не было настолько сосредоточено на метафизических вопросах, которые культивировались в более крупных общностях Аравии с оседлым образом жизни, в частности на вопросах о загробной жизни. Это не означает, что бедуины практиковали только примитивное идолопоклонство. Наоборот, есть все основания полагать, что бедуины доисламской Аравии были носителями богатой и разнообразной религиозной традиции. Однако специфика кочевого образа жизни такова, что требует от религии обращения к текущим запросам: какой бог может привести нас к воде? Какой бог может исцелить наши болезни?
В противоположность этому язычество оседлых сообществ Аравии прошло развитие от более ранних и простых проявлений к сложной форме неоанимизма, выделяющего роль божественного и полубожественного посредника, который стоит между богом-создателем и его творением. Этот бог-создатель был назван Аллахом. Данное слово – не имя собственное, а сокращенная форма от арабского аль-илах, что обозначает «бог». Как и Зевс в греческой традиции, Аллах исконно считался повелителем неба, грома и молний и также был возведен в роль высшего бога арабов в доисламский период. Благодаря своей могущественной природе чрезвычайно высокий статус Аллаха в арабском пантеоне ставил его, как и большинство высших божеств, в положение, исключавшее возможность обращения к нему с просьбами обычных людей. Только во времена величайшей опасности осмеливались взывать к нему. В других случаях гораздо более целесообразно было обратиться к менее значимым, но более доступным божествам, которые действовали как заступники перед Аллахом. Наиболее могущественными из них были три дочери Аллаха: аль-Лат («Богиня»), аль-Узза («Великая») и Манат (богиня судьбы, чье имя, вероятно, происходит от ивритского слова мана – «частица»). Эти божественные посредники не только были представлены в Каабе, но имели свои святилища на Аравийском полуострове: аль-Лат – в Таифе, аль-Узза – в Накле, Манат – в Кудайде. В этих храмах арабы молились о дожде и о здоровье больных детей, молились перед началом войны или отправляясь в странствие в глубь коварной пустыни, где жили джинны – умные, не воспринимаемые ни одним из человеческих органов чувств существа из бездымного пламени, которых на Западе называют духами и которые в арабской мифологии действуют как нимфы или волшебники.
В доисламской Аравии не было ни священников, ни языческих писаний, но это не означает, что боги оставались безмолвными. Они регулярно обнаруживали свое присутствие во время экстатических практик, совершаемых группой служителей культа, известных как кахины. Кахины были поэтами-предсказателями, которые за определенную плату, впадая в транс, передавали божественные послания в виде рифмованных двустиший. Поэты на тот момент уже играли важную роль в доисламской Аравии как барды, племенные историки, общественные комментаторы, распространители моральной философии и, по случаю, распорядители правосудия. Но кахины имели более духовное предназначение, нежели поэты. Представленные выходцами из каждой экономической и социальной страты, включая женщин, кахины занимались толкованием снов, раскрытием преступлений, нахождением потерявшихся животных, урегулированием споров и разъяснением этических постулатов. Исполнявшие такие же функции, как дельфийские оракулы, кахинские прорицатели, однако, изъяснялись очень пространно и намеренно неточно – так, чтобы решение о том, что же боги имели в виду, принимали в итоге сами вопрошающие.
Хотя кахины считались связующим звеном между человеком и богом, они напрямую не вступали в контакт с богами, а предпочитали получать доступ к ним через джиннов и других духов, составлявших неотделимую часть религиозной палитры Джахилийи. Несмотря на это, ни кахины, ни кто-либо еще в этом отношении не имели доступа к Аллаху. Фактически Он, создавший небо, землю и человека по своему образу и подобию, был единственным богом, не представленным в языческом пантеоне Каабы. Хотя Аллаха называли Королем Богов и Властелином Мира, Он не был центральным божеством в Каабе. Эта честь принадлежала сирийскому богу Хубалу, традиция почитания которого появилась в Мекке за несколько веков до возвышения ислама.
Несмотря на незначительную роль Аллаха в религиозном культе доисламской Аравии, его высокое положение в арабском пантеоне служит наглядным свидетельством того, как далеко язычество на Аравийском полуострове ушло в своем развитии от простых анимистических практик. Возможно, в качестве наиболее яркого примера такого развития можно рассматривать обрядовую песнь, которую, как гласит предание, исполняли языческие паломники при приближении к Каабе:
Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой. Нет у Тебя сотоварища, Кроме того, которым Ты владеешь. Ты владеешь им, и все это – его.Эти знаменательные строки, имеющие очевидное сходство с мусульманским свидетельством о вере – «Нет божества, кроме Аллаха», обнаруживают в доисламской Аравии ранний отпечаток традиций того, что немецкий филолог Макс Мюллер назвал генотеизмом – верой в одного верховного Бога без необходимого отрицания существования других подчиненных богов. Самое раннее свидетельство генотеизма в Аравии можно обнаружить, обратившись к истории племени амир, проживавшего вблизи территории современного Йемена во II в. до н. э. и поклонявшегося Верховному Богу, которого они называли Зу-Самави («Господь Небес»). В то время как подробности религиозной жизни амиров в истории утрачены, большинство ученых убеждены, что к VI в. н. э. генотеизм стал органичным убеждением значительного большинства оседлых арабов, которые не только приняли Аллаха как Верховного Бога, но и настаивали, что Аллах – это тот же еврейский бог Яхве.
Еврейское присутствие на Аравийском полуострове теоретически прослеживается с момента Вавилонского пленения, затем в 70 г., когда евреи были обречены на скитания после разграбления Иерусалимского Храма римлянами, и наконец в 132 г. после мессианского восстания Шимона Бар-Кохбы. По большому счету евреи представляли собой процветающую и очень влиятельную диаспору, чья культура и традиции были прочно вплетены в социальную и религиозную жизнь доисламской Аравии. Евреи, будь то обращенные в иудаизм арабы или иммигранты из Палестины, участвовали в жизни арабского общества на всех уровнях. Повсюду на полуострове можно было найти евреев-торговцев, евреев-бедуинов, евреев-фермеров, евреев-поэтов и евреев-воинов. Мужчины-евреи брали себе арабские имена, а женщины покрывали голову, как настоящие арабки. И хотя некоторые из них могли говорить на арамейском (или по меньшей мере на его искаженном диалекте), их первым языком был арабский.
Несмотря на то что иудаизм в Аравии развивался в сопряжении с крупными центрами этой религии на всем Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове появились свои трактовки традиционных еврейских верований и практик. Евреи и арабы-язычники во многих случаях разделяли одни религиозные идеалы, особенно в том, что касается так называемой народной религии – веры в магические обряды, использования талисманов, гаданий и т. п. Например, наряду с небольшими формальными раввинскими группами в некоторых регионах Аравийского полуострова существовали общества еврейских прорицателей, называемых коэны. В основном они исполняли роль жрецов, но вместе с тем увлекались спиритическими практиками оракулов, что роднило их с языческими кахинами.
Связь между евреями и арабами-язычниками можно было охарактеризовать как некий симбиоз, обусловленный не только тем, что евреи были сильно арабизированы, но и тем, что арабская культура также испытывала значительное влияние еврейских верований и духовных практик. Самое очевидное доказательство такого влияния – сама Кааба, предания о происхождении которой гласят, что это было семитское святилище (на арабском – харам), тесно связанное с еврейской традицией. Адам, Ной, Авраам, Моисей и Аарон так или иначе ассоциировались с Каабой задолго до зарождения ислама, а мистический Черный камень, расположенный и в настоящее время в юго-восточной стене святилища, как представляется, связан с камнем, который лежал под головой Иакова, когда тот увидел сон о лестнице (Быт. 28:11–19)[7].
Связь между арабами-язычниками и иудаизмом приобретает особое значение, если вспомнить, что арабы, как и евреи, считали себя последователями Авраама (Ибрахима), которого они ценили не только как пророка, вновь открывшего Каабу, но и как создателя паломнических обрядов, с ней связанных. Авраам был настолько почитаем в Аравии, что его идол находился в Каабе. Тот факт, что Авраам не был ни богом, ни язычником, был для арабов несущественным в такой же степени, как важна была для них связь между их богом Аллахом и еврейским богом Яхве. В VI в. в Аравии еврейский монотеизм не был проклятием для арабского язычества, которое, как уже отмечалось, могло легко прихлебывать из рога изобилия различных религиозных идеологий. Арабы-язычники, вероятно, рассматривали иудаизм как еще одну возможность выразить близкие и понятные им религиозные чувства.
То же самое можно сказать и в отношении восприятия арабами христианства, которое, как и иудаизм, занимало значительное место в жизни Аравийского полуострова. Арабские народы в географическом отношении были окружены христианами: от сирийцев на северо-западе до месопотамских христиан на северо-востоке и абиссинцев на юге. К VI в. Йемен стал средоточием христианских устремлений в Аравии; город Наджран был широко признанным центром арабского христианства, в то время как в Сане была построена огромная церковь, некоторое время соперничавшая с Меккой за звание главного паломнического места в регионе.
Будучи верой прозелитической, христианство не могло довольствоваться своим приграничным положением в арабских землях. Несколько арабских племен, благодаря совместным усилиям по распространению Евангелия на полуострове, массово перешли в христианство. Крупнейшей была царская династия Гассанидов: принадлежащие им территории находились на границе арабских и римских земель и исполняли роль буферной зоны между христианским Византийским царством и «нецивилизованными» бедуинами. Гассаниды активно поддерживали миссионерские усилия византийских императоров в Аравии, которые отправляли епископов в глубь пустыни, чтобы притянуть на свою сторону большинство арабов-язычников. И тем не менее Гассаниды и византийцы проповедовали два совершенно разных христианства.
Со времен Первого Никейского собора 325 г., объявившего Иисуса «единосущным Богу», и Халкидонского собора 451 г., закрепившего доктрину Святой Троицы в христианской теологии, римская ортодоксия осудила значительную часть христиан Ближнего Востока как еретиков. Поскольку концепция Троицы четко не упоминается в Новом Завете (этот термин был введен в оборот в начале III в. одним из старейших и наиболее выдающихся отцов церкви Тертуллианом Карфагенским), она не была широко принята и универсально истолкована ранними христианскими общинами. Христиане-монтанисты, такие как Тертуллиан, считали, что Иисус обладает теми же божественными качествами, что и Бог, но в другом количественном измерении. Христиане-модалисты рассматривали Троицу как отражение Бога в трех последовательных сущностных ипостасях: сначала как Отца, затем как Сына и «отныне и во веки веков» как Святого Духа. Христиане-несторианцы утверждали, что в Иисусе слиты две природы – божественная и человеческая, в то время как христиане-гностики, в особенности те, что называли себя докетистами, заявляли, что Иисус только выглядел как человек, но на самом деле был полностью Богом. И конечно же были и такие, как арианцы, которые совершенно отвергали Троицу.
После того как христианство стало главной религией Римской империи, на смену различным версиям, касающимся споров о природе Иисуса, пришла единая ортодоксальная позиция, наиболее четко изложенная Августином Гиппонским (ум. 430), заключающаяся в том, что Сын Божий единосущен с Богом-Отцом, составляющим единство в трех лицах. В одно мгновение монтанисты, модалисты, несторианцы, гностики и ариане были объявлены еретиками, а их учения – запрещенными.
Гассаниды, как и многие другие христиане, которые проживали за пределами жесткого контроля Константинополя, были монофизитами, то есть отрицали никейскую доктрину о двойственной природе Иисуса. Вместо этого они считали, что у Иисуса только одна природа, одновременно божественная и человеческая, хотя в зависимости от школы, к которой принадлежали, они склонны были выделять какую-то одну. Антиохийцы в основном делали акцент на человеческой природе, в то время как александрийцы – на божественной. Поэтому, хотя Гассаниды были христианами и выступали в качестве союзников Византийской империи, они не разделяли богословские представления своих наставников.
Опять-таки достаточно только заглянуть внутрь Каабы, чтобы понять, какое течение христианства укрепилось в Аравии. Согласно преданиям образ Иисуса, который располагался в Каабе, был помещен туда коптским (то есть александрийским монофизитом) христианином по имени Бакура. Если это так, то присутствие Иисуса в пантеоне Каабы можно расценивать как подтверждение веры монофизитов в абсолютно божественную природу Христа – позиция, которая полностью устраивала арабов-язычников.
На Аравийском полуострове христианство в его ортодоксальном и еретическом вариантах должно было оказать значительное влияние на арабов-язычников. Часто отмечалось, что библейские истории, упоминающиеся в Коране, в особенности связанные с Иисусом, имеют сходство с традициями христианской веры. Потрясающе похожи христианское и кораническое описания Апокалипсиса, Судного дня и рая, ожидающего тех, кто будет спасен. Эти общие черты необязательно противоречат мусульманскому убеждению о божественном происхождении Корана, но указывают на то, что язык символов и метафор, используемых в Коране при повествовании о последних днях, не был новым для арабов-язычников. И в некоторой степени этому способствовало распространение христианства в регионе.
В то время как Гассаниды защищали границы Византийской империи, другая арабская династия, Лахмиды, выполняла ту же функцию для государства Сасанидов. Сасаниды, наследники древнего иранского царства Кира Великого, которое доминировало в Малой Азии на протяжении почти тысячелетия, были зороастрийцами – последователями фундаментальной религии, берущей свое начало почти пятнадцать веков назад в откровении иранского пророка Заратустры, чьи идеи оказали огромное влияние на развитие других религий в регионе, в особенности иудаизма и христианства.
Более чем за тысячу лет до появления Христа Заратустра проповедовал идеи существования рая и ада, телесного воскрешения, пришествия Спасителя, который однажды чудесным образом появится на свет от юной девы, и ожидания финальной космической битвы, которая произойдет на исходе времен между силами Добра и Зла. В центре вероучения Заратустры – концепция монотеистической системы, основанной на вере в единого Бога, Ахура Мазду («Мудрого бога»), который создал небо и землю, ночь и день, свет и тьму. Но, как и большинство представителей древнего общества, Заратустра не мог представить своего бога как источник добра и зла одновременно. Поэтому он развивал идею этического дуализма, где соединились два противоборствующих начала – Спента Мину (дух созидания) и Ангра Мину (дух разрушения), которые олицетворяли добро и зло соответственно. Хотя их называли «детьми-близнецами» Мазды, эти два духа не были богами, но являли собой духовное воплощение Правды и Лжи.
Ко времени правления Сасанидов примитивный монотеизм Заратустры превратился в прочную дуалистическую систему, в которой два основных духа стали двумя божествами, сошедшимися в вечной борьбе за человеческие души: Ормазд (Ахура Мазда), Бог Света, и Ахриман, Бог Тьмы, архетип христианского образа Сатаны. Хотя эта религия чужда прозелитизма и крайне трудна для обращения в нее новых последователей (в силу жесткой иерархичности социальной структуры и почти фанатичной одержимости чистотой ритуалов), военное присутствие Сасанидов на Аравийском полуострове привело к тому, что некоторые народы перешли в зороастризм, в частности в наиболее доступные его секты – мазданизм и манихейство.
По итогам приведенного краткого описания религиозной жизни доисламской Аравии возникает следующая картина: эта эпоха, в которой хотя и смешались зороастризм, христианство и иудаизм на одной из древнейших земель Ближнего Востока, по-прежнему определялась языческим мировоззрением, пусть и строго генотеистическим по своей сути. Относительно близко расположенные друг к другу центры трех главных религий предоставляли свободу развития своих вероучений и ритуалов в духе обновления и преобразования. Особенно это было заметно в Мекке, центре Джахилийи. Здесь такая живая разнородная среда стала питательной почвой для новых смелых целей и религиозных экспериментов. Наиболее выделялось на этом фоне арабское монотеистическое движение ханифизм, возникшее приблизительно в VI в. и существовавшее, как утверждают некоторые, исключительно на территории Западной Аравии в Хиджазе.
Легендарные истоки ханифизма изложены в трудах одного из ранних биографов Мухаммада – Ибн Хишама. Однажды, когда жители Мекки отмечали языческий праздник у Каабы, четверо мужчин – Варака ибн Навфаль, Усман ибн Хуваирит, Убайдулла ибн Джахин и Зейд ибн Амр – отделились от толпы молящихся и тайно встретились в пустыне. Там они, связанные узами дружбы, условились, что никогда более не будут поклоняться идолам их предков. Они дали торжественную клятву вернуться к истинной религии Ибрахима, которого они считали не евреем и не христианином, а чистым монотеистом ханифом (от арабского «хнф» – «отворачиваться»), то есть тем, кто отвернулся от идолопоклонства. Вчетвером они покинули Мекку и разошлись по разным путям, чтобы проповедовать новую религию и искать новых последователей. В итоге Варака, Усман и Убайдулла перешли в христианство. Этот факт наглядно свидетельствует о степени влияния этой религии в регионе. Но Зейд продолжил свой путь, отринув религию своего народа и оставив практику поклонения, по его словам, «беспомощным и безвредным идолам» в святилище.
Стоя в тени Каабы, прижавшись спиной к ее стене, Зейд упрекал своих сограждан: «Я отрекаюсь от аль-Лат, аль-Уззы… Я не буду поклоняться Хубалу, хотя он и был нашим богом в те дни, когда я еще так мало смыслил». Заглушая шум многолюдного рынка, его голос раздался над торговым гамом: «Никто из вас не следует религии Ибрахима, кроме меня!»
Как и все проповедники его времени, Зейд был еще и поэтом, и строки, которые предание ему приписывает, содержат невероятное заявление: «Богу я воздаю мою хвалу и благодарность. Нет божества, кроме Него». И все же, несмотря на призыв к монотеизму и отречение от идолов, Зейд глубоко почитал саму Каабу, которая, по его мнению, была духовно связана с Ибрахимом. «Я нахожу себе убежище там, где Ибрахим нашел его».
Ханифизм получил распространение во всем Хиджазе, в особенности в таких густонаселенных центрах, как Таиф, где поэт Умайя ибн Абу-с-Сальт написал строки, превозносящие «религию Ибрахима», и Ятриб (Йасриб), бывший родиной двух влиятельных ханифских лидеров – Абу Амира ар-Рахиба и Абу Ке ибн аль-Аслата. Среди других пророков-ханифов стоит отметить Халида ибн Синана, которого называли «пророком, оставленным своим народом», и Каис ибн Саида, известного как «арабский мудрец». Невозможно сказать, сколько людей перешло в ханифизм во времена доисламской Аравии или насколько многочисленным было это движение. Вместе с тем известно, что многие на Аравийском полуострове активно боролись за превращение смутного понятия генотеистического язычества в то, что Джонатан Фуэк назвал «национальным арабским монотеизмом».
Однако ханифизм являл собой нечто большее, чем примитивную форму арабского монотеизма. Предания рассказывают о ханифах как о пророках деятельного Бога, который продолжал влиять на развитие природы и не нуждался в посредниках, стоящих между ним и людьми. В центре идеологии этого движения – горячая преданность абсолютной нравственности. Недостаточно просто отречься от идолопоклонства. Ханифы считали, что нужно стремиться быть морально порядочным. «Я служу моему сострадательному Богу, – говорил Зейд, – чтобы всепрощающий Бог мог отпустить мой грех».
Ханифы также весьма пространно выражались о Судном дне, когда каждый должен будет ответить за свой моральный выбор. «Остерегайся, о человек, того, что следует за смертью, – предупреждал Зейд своих сограждан. – Ничто вы не сможете укрыть от Бога». Это учение стало абсолютно новой концепцией для людей, которые не имели четкого представления о жизни после смерти, особенно учитывая то, что оно основывается на нравственном аспекте человеческой природы. И поскольку ханифизм, как и христианство, – вера прозелитическая, его идеология распространилась по всему Хиджазу. Большинство арабов, ведущих оседлый образ жизни, слышали о пророках-ханифах; жители Мекки, несомненно, были знакомы с идеологией ханифизма; и не может быть ни малейшего сомнения в том, что пророк Мухаммад знал о них.
Существует малоизвестное предание, повествующее об удивительной встрече ханифа Зейда и Мухаммада в его бытность подростком. История эта, как представляется, была рассказана Юнусом ибн Букайром со ссылкой на первого биографа Мухаммада – Ибн Исхака. Хотя, по-видимому, она была вычеркнута из рассказа Ибн Хишама о жизни Мухаммада, профессор Еврейского университета М. Дж. Кистер изучил не менее одиннадцати других преданий, которые почти в сходном ключе повествуют об этой истории.
Это случилось, как гласит летопись, «в один из жарких дней Мекки», когда Мухаммад и его друг детства Ибн Хариса возвращались домой из Таифа, где они убили и зажарили овцу в жертву одному из идолов (скорее всего, аль-Лату). Когда мальчики шли по верховью долины Мекки, они внезапно увидели Зейда. Вмиг его признав, Мухаммад и Ибн Хариса произнесли в адрес ханифа «приветствие Джахилийи» (ин’ам сабахан) и сели подле него, чтобы отдохнуть.
Мухаммад спросил: «Почему я встречаю тебя здесь, о сын Амра, ненавидимый твоим народом?»
«Я увидел, что они отождествляют божеств с Богом, а я не хотел этого делать, – ответил Зейд. – Я пожелал следовать религии Ибрахима».
Мухаммад выслушал это объяснение и, ничего не ответив, открыл свою сумку, в которой лежала жертвенная еда. «Съешь немного, о мой дядя», – сказал он.
Но Зейд ответил с отвращением: «Племянник, это то, что осталось от жертвоприношения твоим идолам, не так ли?» Мухаммад подтвердил. Зейд был возмущен. «Я никогда не ем то, что предназначено для жертвоприношений, и я не хочу ничего с ними делить! – закричал он. – Я не ем то, что было убито ради каких-то других божеств, кроме Бога».
Мухаммад был настолько поражен упреками Зейда, что спустя много лет, рассказывая эту историю, заявил, что никогда более не будет он ни поклоняться идолам, ни совершать жертвоприношения им до тех пор, «пока Бог не почтит» его «своим Апостолом».
Представление о том, что молодой Мухаммад-язычник мог быть обруган ханифом за свое идолопоклонство, противоречит взглядам мусульман о вечной монотеистической сущности Пророка. В исламе бытует общее убеждение, что даже до того, как быть призванным Аллахом, Мухаммад никогда не принимал участие в языческих ритуалах. В своей «Истории пророков и царей» ат-Табари отмечает, что Бог уберег Мухаммада от вовлечения в любые языческие ритуалы, чтобы не осквернить его этим участием. Но такой взгляд, напоминающий католическую веру в вечную непорочность Девы Марии, имеет мало оснований и в истории, и в Писании. Не только Коран признает, что Бог нашел Мухаммада заблудшим и направил на путь (93:7)[8], но и древние источники отчетливо показывают, насколько сильно Мухаммад был вовлечен в религиозные обычаи Мекки. Семикратный обход Каабы, совершение жертвоприношений, уединение на несколько дней в месяц – эта практика носит название таханнус. Действительно, когда языческое святилище было разрушено, Мухаммад принял активное участие в его реконструкции (была увеличена площадь, отстроена крыша).
Тем не менее учение о монотеистической природе Мухаммада – важная составляющая мусульманской религии, поскольку поддерживает веру в то, что откровение было получено им от божественного источника. Признание того факта, что Мухаммад мог поддаваться влиянию кого-то вроде Зейда, для некоторых мусульман равносильно отрицанию божественного происхождения посланий Пророка. Но такие убеждения основаны еще и на ошибочном суждении, что религия рождается в своеобразном культурном вакууме, в то время как это абсолютно не так.
Все религии неразрывно связаны с социальной, духовной и культурной средой, в которой они зародились и развивались. Не пророки создают религии. Пророки, помимо прочего, выступают в качестве преобразователей, которые заново определяют и интерпретируют существующие верования и духовные практики своих обществ, предоставляя набор символов и метафор, с помощью которых последующие поколения смогут объяснить природу сущего. Действительно, зачастую именно последователи пророков берут на себя ответственность по преобразованию слов и дел своих учителей в единую, доступную пониманию религиозную доктрину.
Как и многие пророки до него, Мухаммад никогда не заявлял, что изобрел новую религию. По его признанию, это учение было попыткой изменить существующие религиозные убеждения и культурные практики доисламской Аравии, чтобы открыть Бога евреев и христиан арабским народам. «Он [Бог] узаконил для вас [арабов] в религии то, что завещал Нуху, что открыли Мы тебе и что завещали Ибрахиму, и Мусе, и Исе», – сказано в Коране (42:13). И неудивительно, что молодой Мухаммад испытывал влияние уклада религиозной жизни доисламской Аравии. Как верно то, что исламское движение уникально и божественно по своей природе, так бесспорно и то, что его истоки берут начало в культуре мультиэтничного и мультирелигиозного общества, питавшей воображение молодого Мухаммада, позволив перевести его революционное учение на язык, понятный арабам-язычникам, до которых он отчаянно пытался донести проповедуемые им идеи. Мухаммад, кем бы его ни считали, бесспорно, был человеком своего времени, даже если это время обозначают словом Джахилийа – «Период невежества».
Согласно мусульманским источникам Мухаммад родился в 570 г. В том же году, когда Абраха, христианский правитель эфиопского происхождения, с войсками, в состав которых входили боевые слоны, атаковал Мекку, желая уничтожить Каабу и превратить церковь в Сане в религиозный центр Аравийского полуострова. Когда армия Абрахи приблизилась к городу, жители Мекки, испугавшись завезенных абессинцами из Африки огромных слонов, отступили в горы, оставив Каабу беззащитной. Но как только абиссинская армия попыталась атаковать Каабу, небо потемнело и стая птиц, каждая из которых несла в своем клюве по камушку, каменным дождем обрушила гнев Аллаха на вторгнувшихся неприятелей. В результате захватнической армии не оставалось ничего, кроме как вернуться в Йемен.
В обществе, где не было общепринятого календаря, этот год, известный как Год Слона, стал не только самой важной вехой в истории того времени, но и отправной точкой нового арабского летоисчисления. Именно поэтому ранние биографы в качестве года рождения Мухаммада упоминают 570 г. Но 570 г. не был ни годом рождения Мухаммада, ни годом, когда абиссинцы напали на Мекку (современные исследователи датируют это знаменательное событие 522 г.). Правда заключается в том, что никто до сих пор доподлинно не знает, когда Мухаммад появился на свет, поскольку в доисламской Аравии было совсем необязательно отмечать день рождения. Даже сам Мухаммад мог не знать, когда он родился. В любом случае никого не заботил этот вопрос до тех пор, пока Мухаммад не был признан Пророком, а возможно, даже до момента его смерти. Только тогда его последователи пожелали установить год его рождения, чтобы институционализировать исламское летоисчисление. Какой же другой год, более подходящий, чем Год Слона, они могли выбрать? Наиболее близкая дата, к которой пришли современные историки при определении времени рождения Мухаммада, – вторая половина VI в.
Как и в случае со многими пророками, появление Мухаммада предварялось различными предзнаменованиями и чудесными явлениями. Ат-Табари пишет, что, когда отец Мухаммада Абдулла направлялся к своей невесте, по дороге его остановила незнакомая женщина, которая попросила его провести с ней ночь, сказав, что видит от его лица сияние. Абдулла вежливо отказал ей и продолжил свой путь к дому Амины, где он завершил брачную церемонию, вследствие чего на свет появился Пророк. На следующий день, когда Абдулла вновь увидел ту женщину, он спросил ее: «Почему ты не предлагаешь мне сделать сегодня то, о чем просила вчера?» Женщина ответила: «Свет, который был с тобой вчера, покинул тебя. Сегодня ты мне не нужен».
Абдулла не имел возможности разгадать слова женщины; он умер до рождения Мухаммада, оставив после себя худое наследство, состоящее из нескольких верблюдов и овец. Но знаки о пророческом пути Мухаммада продолжились. Будучи беременной, Амина услышала голос, который сказал ей: «Ты носишь в своем чреве Господа этого народа. Когда он родится, скажи: “Я вверяю его на попечение Единому от зла каждого завистника”, – и назови его Мухаммадом». Временами Амина наблюдала свечение от своего живота, на котором могла различить «замки Сирии». Здесь, возможно, присутствует отсылка к идее продолжения Мухаммадом пророческого пути Иисуса (Сирия была значимым местом для христианства).
Ребенком Мухаммада отдали на попечение бедуинской кормилице. Это обычная практика среди арабов, ведущих оседлый образ жизни и желающих, чтобы их дети росли в пустыне согласно древним обычаям их предков. Поэтому именно в пустыне Мухаммад получил свое первое откровение. Когда он пас стадо баранов, к нему подошли двое мужчин в белых одеждах с золотой раковиной, наполненной снегом. Они прижали Мухаммада к земле, протянули руки к его груди и извлекли оттуда его сердце. Они выжали из сердца каплю черной жидкости, после чего омыли его в снегу и аккуратно поместили обратно в грудь Мухаммада, прежде чем исчезнуть.
Когда Мухаммаду было шесть лет, его мать умерла, и его отправили жить к его дедушке Абд аль-Мутталибу, который, будучи ответственным за обеспечение паломников водой из Замзама, занимал один из наиболее влиятельных постов в языческом обществе Мекки. Два года спустя Абд аль-Мутталиб скончался, и осиротевший Мухаммад вновь был отдан родственникам, на этот раз в дом своего влиятельного дяди Абу Талиба. Пожалев мальчика, Абу Талиб привлек его к своему прибыльному делу по снаряжению караванов. Именно в одной из таких торговых миссий, когда караван совершал путь в Сирию, открылась пророческая природа Мухаммада.
Абу Талиб подготовил масштабную торговую экспедицию в Сирию и в последний момент решил взять с собой и Мухаммада. Караван медленно шел по выжженной земле мимо монастыря в Басре, когда его увидел христианский монах Бахира. Бахира был ученым человеком и обладал секретной книгой пророчеств, передававшейся монахами из поколения в поколение в особом порядке. Днями и ночами согбенный Бахира сидел в своей келье над древней рукописью и однажды обнаружил на выцветших страницах известие о пришествии нового пророка. Именно по этой причине он решил остановить караван. Заметив на горизонте процессию, он обратил внимание, что только над одним из путников непрерывно парило небольшое облако, защищая его от безжалостно палящего солнца. Когда тот путник остановился, замерло и облако над ним, а когда он спешился с верблюда, чтобы отдохнуть под деревом, оно последовало за ним, затемняя скудную тень дерева, пока тонкие ветви не склонились так, чтобы укрыть юношу.
Понимая, что могли означать эти знаки, Бахира отправил срочную весточку главе каравана. «Я приготовил для вас еду, – было написано в послании. – Я очень хочу, чтобы вы пришли все – большие и малые, зависимые и свободные».
Участники каравана сильно удивились. Во время прежних походов в Сирию они не раз проходили мимо этого монастыря, но Бахира никогда не уделял им внимания. Тем не менее они решили остановиться на ночь у старого монаха. Когда путники трапезничали, Бахира обнаружил, что среди них нет того, кого он приметил издалека, того, о ком заботились облака и деревья. Он спросил мужчин, все ли участники каравана на месте: «Не позволяйте никому из вас остаться в стороне и не прийти на мой пир».
Мужчины ответили, что все, кто должен быть, присутствуют здесь, за исключением одного паренька, Мухаммада, которого они оставили сторожить груз. Бахира был в восторге. Он настоял, чтобы мальчик к ним присоединился. Когда Мухаммад вошел в монастырь, Бахира коротко расспросил его, а потом объявил всем, что это «посланник Господа». Мухаммаду было девять лет.
Если все истории о детстве Мухаммада кажутся похожими, то это потому, что они играют роль пророческого топоса – традиционного литературного сюжета, который можно найти в большинстве мифологий. Как и рассказы о младенце в Евангелиях, предполагается, что эти истории не должны соответствовать историческим событиям, они призваны пролить свет на тайну пророческого пути. Эти истории отвечают на такие вопросы, как: что значит быть пророком? Становятся ли пророком неожиданно или такая миссия заложена еще до рождения? Если это происходит позже, то должны же быть какие-то знаки, предвещающие появление пророка, – чудотворное зачатие, возможно, или какое-то предсказание, что человека ждет такое будущее.
История о беременной Амине невероятно схожа с христианским преданием о Марии, которая, будучи беременна Иисусом, услышала глас ангела Божьего, возвещающего: «…и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Лк. 1:31–32). История о Бахире напоминает еврейское сказание о Самуиле, которому было явлено божественное откровение о том, что один из сыновей Иессея станет следующим правителем Израиля. Тогда Самуил пригласил всю семью на трапезу, но младший сын Давид не пришел, поскольку был оставлен пасти овец. «Пошлите за ним, – попросил Самуил, когда понял, что не все сыновья Иессея на месте. – Мы не сядем за стол, пока он не придет». В тот момент, когда Давид вошел в комнату, он был помазан на царство (I Сам. 16:1–13).
Опять-таки историческая правда этих топосов не относится к делу. Необязательно, чтобы эти истории были правдивыми, вне зависимости от того, повествуют ли они о жизни Мухаммада, Иисуса или Давида. Что важно – эти истории рассказывают о наших пророках, наших мессиях, наших царях, об их священном призвании, дарованном Богом с момента Сотворения.
Тем не менее в сочетании с тем, что известно об обществе доисламской Аравии, из этих преданий можно выделить важную историческую информацию. Например, мы можем разумно заключить, что Мухаммад родился в Мекке и рано остался сиротой, что он работал с юных лет в караванных экспедициях дяди, что маршрут этих экспедиций зачастую пролегал через весь регион, а на его пути встречались христиане, зороастрийцы и иудеи, культура которых была тесно вплетена в арабскую. Наконец, мы можем узнать и то, что Мухаммад, очевидно, был знаком с идеологией ханифизма, проникшей в Мекку, которая, вероятно, и заложила основу для собственного духовного пути Мухаммада.
Действительно, как бы подчеркивая связь между ханифизмом и исламом, ранние биографы превратили Зейда в Иоанна Крестителя, приписав ему ожидание «пророка из потомков Измаила, в частности потомков Абд аль-Мутталиба».
«Я не думаю, что доживу до встречи с ним, – якобы говорил Зейд, – но я верю в него, провозглашаю истинность его учения и свидетельствую, что он – пророк».
Не исключено, что Зейд ошибался. Возможно, он действительно встретил этого пророка, хотя он и не мог знать, что юный сирота, которого он поучал не совершать жертвоприношения идолам, однажды встанет на то же место, где однажды стоял он сам, в тени Каабы, и его голос раздастся над гулом голосов паломников: «Видели ли вы аль-Лат, и аль-Уззу, и Манат?.. Они – только имена, которые вы сами придумали – вы и родители ваши… Я избираю общину Ибрахима, ханифа, ведь он не был из числа многобожников» (53:19, 23; 2:135).
2. Хранители ключей
Мухаммад в Мекке
С наступлением периода совершения паломничества – последние два месяца и первый месяц каждого года – древняя Мекка превращается из оживленной столицы пустыни в город, границы которого разрываются от паломников, торговцев и караванов, движущихся между крупными ярмарками в городах по соседству – в Указе и Дхуль-Маджазе. Все караваны, желающие войти в город, вне зависимости от того, состоят они из жителей Мекки или нет, должны сделать остановку на окраине Мекканской долины для переучета товара и внесения записи об их торговой миссии. Верблюдов освобождают от груза и помещают под охрану рабов, в то время как государственные чиновники Мекки оценивают стоимость текстиля или масел и фиксируют дату возвращения каравана с ярмарки. После этого взимается плата: скромный налог на все виды торговой деятельности, которая ведется в самом священном городе и вокруг него. Только по окончании этой процедуры работники каравана могут снять свои пыльные одежды и отправиться к Каабе.
Древняя Мекка имеет радиально-концентрическую планировку со святилищем в сердце города – узкие грязные улочки, словно кровеносные сосуды, переносят паломников к Каабе и от нее. Дома на внешних кольцах сделаны из грязи и соломы; такие недолговечные постройки неизбежно уничтожаются ежегодными наводнениями, которые затопляют долину. Ближе к центру города дома больше и прочнее, хотя и вылеплены по-прежнему из грязи (только Кааба сделана из камня). А вот и торговый квартал Мекки – сук, где воздух тяжел и пропитан дымом, а прилавки пахнут кровью и специями.
Работники караванов устало пробираются через многолюдный рынок мимо овечьих сердец и козьих языков, жарящихся на открытом огне, мимо шумных продавцов, торгующихся с паломниками, мимо женщин в хиджабах, ищущих укрытия во дворах домов, – пробираются до тех пор, пока наконец не достигнут порога святилища. Мужчины совершают омовение у колодца с водой из источника Замзам, затем объявляют о своем присутствии «Властелину Дома», прежде чем присоединиться к толпе паломников, обходящих Каабу.
Между тем внутри святилища старик в белоснежной тунике ходит между деревянными и каменными идолами, зажигая свечи. Этот старик – не священник, и не жрец, и даже не кахин. Он – некто более важный. Он – курайшит, представитель могущественного богатого племени, которое поселилось в Мекке столетиями ранее и известно во всей Аравии как ахл-Аллах, «племя Бога», Хранители Святилища.
Начало господству курайшитов в Мекке было положено в конце IV в., когда амбициозный молодой араб по имени Кусай установил контроль над Каабой, объединив ряд враждующих кланов под своим началом. Кланы на Аравийском полуострове в основном состояли из больших расширенных семей, которые называли себя или байт (домом), или бану (сыновьями) патриарха семьи. Клан Мухаммада был известен как Бану Хашим, «сыновья Хашима». Заключая между собой браки или политические союзы, группа кланов могла слиться воедино, став ахл, или каум, то есть народом, обычно называемым племенем.
Во времена ранних поселений Мекки ряд кланов, часть которых входила в один свободный союз, соперничал за право осуществлять контроль над городом. В сущности, Кусаю удалось объединить эти кланы, которые номинально были связаны между собой кровными брачными узами, в единое доминирующее племя курайшитов.
Гений Кусая проявился в том, что он осознавал: источник власти в Мекке заключался в ее святилище. Проще говоря, кто контролировал Каабу, тот контролировал город. Взывая к чувствам этнической общности своих родственников-курайшитов, которых он называл «самыми благородными и чистыми потомками Измаила», Кусай смог вырвать Каабу из рук соперничавших кланов и объявить себя «Королем Мекки». Хотя он разрешил оставить паломнические ритуалы неизменными, отныне только он мог выступать хранителем ключей от храма. В итоге он имел единоличную власть в том, что касалось предоставления доступа к воде для паломников, председательствования на собраниях вокруг Каабы, где проходили ритуалы заключения брака и обрезания, а также объявления войны и выдачи военного знамени. Как бы подчеркивая силу святилища по дарованию власти в дальнейшем, Кусай разделил Мекку на кварталы, разграничив внешнее и внутреннее кольцо поселений. Чем ближе к Каабе – тем большей властью обладали живущие там. Дом Кусая, казалось, был прикреплен к Каабе.
Значимость близкого расположения к святилищу сохранилась и в последующие годы. Сложно было бы игнорировать тот факт, что паломники, которые совершали обход вокруг Каабы, совершали обход также и вокруг дома Кусая. И поскольку внутрь Каабы можно было попасть только через дверь, расположенную в доме Кусая, никто не мог получить доступ к богам в святилище, не почтив вниманием хозяина. Таким образом Кусай закрепил за собой и политическую, и религиозную власть в городе. Он был не только «Королем Мекки», но и «хранителем ключей». «Его власть над племенем курайшитов при его жизни и после смерти была подобна религии, которой следовали люди», – рассказывает Ибн Исхак.
Самым важным нововведением Кусая стало заложение основ того, что впоследствии станет экономикой Мекки. Он начал с укрепления позиций города как центра паломничества на Аравийском полуострове, собрав всех идолов, чтимых соседними племенами – в особенности теми, что жили на священных холмах ас-Сафа и аль-Марва, – и поместив их в пантеон Каабы. Впредь, если кто-то хотел помолиться, скажем богам Исафу и Наиле, он мог сделать это только в Мекке и только после оплаты пошлины курайшитам за право доступа к святилищу. Как хранитель ключей, Кусай также удерживал монополию на покупку и продажу товаров и услуг для паломников, которые он оплачивал, облагая жителей Мекки налогом, а излишек оставляя себе. Через несколько лет система Кусая сделала его и тех представителей правящих кланов курайшитов, которые объединили свои состояния с его доходом, невероятными богачами. Но были в Мекке и другие источники прибыли.
Подобно другим семитским святилищам, Кааба превратила все пространство вокруг себя в святую землю, вследствие чего Мекка стала нейтральной зоной, где ведение военных действий между племенами и использование оружия были запрещены. Паломники во время посещения Мекки в особый сезон могли насладиться атмосферой мира и процветания в городе, привозя с собой товары на продажу. Для облегчения регулирования процесса периоды проведения крупных торговых ярмарок совпадали с циклом паломнических посещений, а правила первых дополняли правила вторых. Сейчас сложно установить, принадлежала ли идея по сбору налогов Кусаю. С этой точки зрения вполне вероятно, что курайшиты действовали только как распорядители торговли, которая велась в Мекке и вокруг нее, и взимали небольшую плату за обеспечение безопасности караванов в опасных и неконтролируемых регионах пустыни. Однако представляется очевидным, что через несколько поколений после Кусая, согласно постановлению его правнука (и прадеда Мухаммада) Хашима, курайшиты создали небольшую, но прибыльную торговую зону в Мекке, доходы которой почти полностью зависели от паломнического цикла и Каабы.
Вопрос о том, насколько дорогой была торговля в Мекке, остается объектом ожесточенных споров между учеными. Годами считалось аксиомой утверждение, что Мекка – связующее звено международного торгового пути, по которому из южных портов Йемена поступали золото, серебро и пряности, затем переправляемые в Византию и государство Сасанидов и приносящие огромную прибыль. Согласно такому видению, которое подтверждается подавляющим большинством арабских источников, курайшиты осуществляли контроль над естественным форпостом между южной и северной частями Аравийского полуострова, регионом, престиж которого в значительной степени обеспечивался за счет Каабы. Таким образом, как считает Монтгомери Уотт, Мекка была финансовым центром западной Аравии, а торговля, по словам Мухаммада Шабана, – raison d’être[9] Мекки.
Однако в недавнем прошлом ряд исследователей подвергли такую точку зрения сомнению, главным образом потому, что ни в одном источнике, написанном на отличном от арабского языке, не содержится подтверждения теории о Мекке как хабе международной торговой зоны. «Нигде, будь то греческая, латинская, арамейская или коптская литература, за пределами Аравии до эпохи завоеваний нет упоминания о курайшитах и статусе подвластных им территорий как центра торговли, – пишет Патрисия Кроун в своей книге «Торговля Мекки и возвышение ислама» (Meccan Trade and the Rise of Islam). – Такое молчание поразительно и имеет значение».
Кроун и ряд других ученых утверждали, что в отличие от иных общепринятых центров торговли, таких как Петра и Пальмира, в доисламской Мекке нет материальных признаков накопленного капитала. И, несмотря на данные арабских источников и исторические свидетельства, простого здравого смысла и знания географии достаточно для понимания, что Мекка не находилась на пересечении каких-либо известных торговых путей на Аравийском полуострове. «Зачем караванам спускаться глубоко вниз, в бесплодную долину Мекки, когда они могли остановиться в Таифе?» – задается вопросом Кроун.
Она права. Нет никакого смысла ни отправляться в Мекку, ни, если на то пошло, селиться там. Ни одной причины, кроме одной – Кааба.
Бесспорно, Мекка была в стороне от торговых путей. Естественный торговый маршрут в Хиджазе пролегал к востоку от города, и остановка в Мекке потребовала бы значительного отхода от основного транзитного пути международной торговли в доисламской Аравии, проходившего между Йеменом и Сирией. Определенно, Таиф, который располагался в непосредственной близости к торговому пути и где также находилось святилище (посвященное аль-Лат), представляется более логичным остановочным пунктом на пути. Но город Мекка был наделен особой святостью, которая выходила за пределы самой Каабы благодаря присутствию святилища и пантеона богов, расположенных внутри.
В отличие от других святилищ, рассеянных по Аравийскому полуострову, каждое из которых было посвящено местному божеству, уникальность Каабы состояла в том, что она представлялась как универсальная святыня. Каждый бог, почитаемый в доисламской Аравии, был представлен в этом уникальном святилище, что означало: несмотря на племенные религиозные убеждения, все народы Аравийского полуострова чувствовали глубокое духовное обязательство не только перед Каабой, но также перед городом, в котором она располагалась, и перед династией, которая ее охраняла. Объяснение, которое дает Кроун вопросу о расхождении между арабскими и неарабскими текстами, заключается в следующем: все, что мы знаем о Каабе доисламского периода, включая сведения о пророке Мухаммаде и возвышении ислама в Аравии VII в., следует считать абсолютной выдумкой, созданной арабскими сказителями VIII и IX вв., фантастикой, не содержащей ни крупицы исторической правды.
Правда, возможно, скрывается где-то посередине между теорией о центре международной торговли Уотта и убеждением Кроун о фикции. Неарабские тексты отчетливо опровергают представление о Мекке как о международном торговом хабе. Однако подавляющее число арабских источников, напротив, указывают, что по меньшей мере некоторые механизмы торговли получили свое развитие в Мекке до возвышения ислама. Даже если размеры и масштабы такой торговли были переоценены в арабских источниках, авторы которых, возможно, хотели преувеличить коммерческие способности своих предков, очевидно, что жители Мекки были вовлечены в то, что Ф. Э. Петерс называет «внутренней торгово-бартерной системой», которая была дополнена небольшой торговой зоной вдоль границ с Сирией и Ираком и основана почти исключительно на цикле торговых ярмарок, время проведения которых намеренно совпадало с сезоном паломничества в Мекке.
Дело в том, что такая торговля, какой бы, возможно, скромной она ни была, полностью зависела от Каабы, и другой причины прибыть в Мекку попросту не существовало. Это была пустынная земля, которая ничего не производила. Как отмечает Ричард Буллиет в своей замечательной книге «Верблюд и колесо» (The Camel and the Wheel), «единственная причина, по которой Мекка переросла в огромный центр торговли, заключается в том, что она каким-то образом смогла взять эту торговлю под свой контроль». Действительно, Мекке удалось именно это. Неразрывно связав религиозную и экономическую жизнь города, Кусай и его последователи создали новую систему, основанную на осуществлении контроля над Каабой и паломническими обрядами, в которых участвовало почти все население Аравии. Такая система была призвана гарантировать экономическое, религиозное и политическое верховенство единственного племени – курайшитов.
Именно поэтому абиссинцы пытались уничтожить Каабу в Год Слона. Построив собственный центр паломничества в Сане, рядом с процветающими торговыми портами Йемена, абиссинцы вознамерились разрушить святилище Мекки не потому, что Кааба представляла религиозную угрозу, а потому, что она была экономическим противником. Равно как и лидеры Таифа, Мины, Указа и почти всех остальных соседних регионов, абиссинцы желали перенять религиозно-экономическую систему Мекки для ее реализации на своих территориях и под своей властью. В конце концов, если эта система превратила такую свободную конфедерацию кланов, как курайшиты, в богачей, то она могла бы обогатить любого.
Но пока не все получали доход от установленного курайшитами порядка. Ограничения бедуинской жизни естественным образом препятствовали выстраиванию социальной и экономической иерархии, которая была распространена в обществах с преимущественно оседлым образом жизни – таких как Мекка. Единственным способом выжить в обществе, где движение – это норма, а накопление материального богатства считалось неограниченным, было поддержание сильной племенной солидарности путем равномерного распределения всех доступных ресурсов. Таким образом племенная этика основывалась на понимании, что каждый член сообщества, сила которого зависела от самого слабого человека в нем, исполнял важную функцию по поддержанию стабильности. Это не идеал социального равенства: представление о том, что каждый член племени одинаково ценен. Скорее племенная этика должна была поддерживать подобие социального эгалитаризма, чтобы независимо от чьей-либо позиции каждый член общества мог иметь доступ к социальным и экономическим правам и привилегиям, которые сохраняли единство племени.
В доисламской Аравии ответственность за соблюдение племенной этики ложилась на сайида, или шейха племени. Единогласно избранный как «первый среди равных» шейх (название означает «тот, кто имеет признаки старости») был самым уважаемым членом общества, представительской фигурой, которая олицетворяла силу и моральные установки племени. Хотя, по общему убеждению, качества лидера и благородство были присущи конкретным семьям, пост шейха не передавался по наследству; арабы испытывали презрение к такой форме передачи власти у византийских и сасанидских царей. Единственное требование, предъявляемое к шейху, помимо зрелости, – это воплощение идеалов мурува, кодекса племенного поведения, который включал в себя важные арабские благодетели, такие как смелость, благородство, гостеприимство, силу в сражениях, чувство справедливости и, помимо всего, высшую приверженность коллективному благу племени.
Поскольку арабы настороженно относились к концентрации всех полномочий в руках одного лидера, шейх обладал существенно ограниченной исполнительной властью. Все важные решения принимались коллективно в ходе обсуждения несколькими представителями племени, игравшими значительную роль в жизни общества. Это были каид, который выступал в качестве военачальника; кахин, или служитель культа; и хакам, арбитр в спорах. Шейх мог изредка выступать в одной или нескольких из этих ролей, но его первостепенной задачей было поддержание порядка в самом племени и в межплеменных отношениях путем обеспечения безопасности всех членов сообщества, в особенности тех, кто не мог защитить себя сам, – бедных и слабых, детей и стариков, сирот и вдов. Преданность шейху закреплялась клятвой верности, называемой байа, которая приносилась человеку, а не его должности. Если шейх не справлялся со своей обязанностью по обеспечению должной защиты всех людей племени, клятва считалась недействительной и избирался другой лидер.
В обществе, не имеющем понятия об абсолютной правовой морали, продиктованной божественным кодексом этики – десятью заповедями, если угодно, – у шейха был только один законный путь для поддержания порядка в его племени, – закон возмездия. Lex Talionis на латыни, закон возмездия более широко известен в виде грубой формулы «око за око». Далекий от варварской правовой системы закон возмездия был фактически предназначен для ограничения варварства. В соответствии с ним возмездие за увечье, нанесенное глазу другого человека, было ограничено причинением ответного вреда только глазу и ничему больше; кража соседского верблюда требовала платы только за одного этого верблюда; убийство сына соседа влекло за собой казнь сына убийцы. Для упрощения механизма возмездия была установлена денежная сумма, известная как «кровавые деньги», которая служила мерилом ценности товаров и имущества, равно как и каждого члена общества и фактически каждой части тела человека. Во времена Мухаммада жизнь свободного мужчины стоила около ста верблюдов, а жизнь свободной женщины – пятьдесят.
В зону ответственности шейха входило поддержание мира и стабильности в его сообществе посредством обеспечения должного возмездия за все преступления, совершенные в племени. Преступления же, совершаемые против тех, кто не был членом общины, злодеяниями не считались и не были наказуемы. Воровство, убийство или нанесение увечья другому человеку само по себе не считалось достойным морального осуждения. Такие акты насилия влекли за собой наказание только в том случае, если они ослабляли стабильность в племени.
Порой чувство баланса, присущее закону возмездия, искажалось из-за некоторых сложностей. Например, если украденная верблюдица оказывалась беременна, вор должен был пострадавшему одного верблюда или двух? Поскольку в племенных обществах не было формального законного принуждения и напрочь отсутствовала правовая система, в случаях, когда требовались переговоры, обе стороны обращались к хакаму – любому доверенному третьему лицу, который выступал в качестве арбитра в споре. Получив гарантии от обеих сторон, что они подчинятся его решению, которое технически не обеспечивалось какой-либо правовой санкцией, хакам делал авторитетное юридическое заявление: «Беременная верблюдица стоит два верблюда». По мере того как судебные решения хакама накапливались со временем, они составляли основу нормативной правовой традиции, или Сунны, которая выполняла функцию племенного законодательного кодекса. Другими словами, в будущем более не требовалось вновь проводить процедуру арбитража для решения вопроса о беременной верблюдице.
Однако, поскольку у каждого племени были свои хакамы и своя Сунна, законы и традиции одной общности необязательно совпадали с укладом другой. Зачастую человек не имел юридической защиты, никаких прав и никакой социальной идентичности за пределами своего племени. Как же арабы в доисламскую эпоху могли поддерживать межплеменные связи, когда с нравственной точки зрения не считалось неправильным убить или покалечить кого-то, кто не из твоего племени? Это сложный вопрос. Племена поддерживали отношения друг с другом через сложную сеть союзов и связей. Но самый простой ответ заключается в том, что если одно племя наносило вред члену другого племени, то пострадавшая сторона, будучи достаточно сильной, могла потребовать возмездия. Следовательно, в сферу ответственности шейха входило обеспечение понимания соседними племенами того факта, что любой акт агрессии против его людей встретит такое же противодействие. Если он не мог этого сделать, он больше не был шейхом.
Проблема в Мекке заключалась в том, что концентрация богатства в руках нескольких правящих семей не только изменяла социальный и экономический ландшафт города, но и разрушала этические нормы. Внезапное накопление личного богатства в Мекке уничтожило племенные идеалы социального эгалитаризма. Не было более никакого беспокойства о бедных и отверженных, не было и понятия о силе племени, равной силе самого слабого его члена. Шейхи курайшитов были гораздо более заинтересованы в поддержке торгового аппарата, чем в заботе об обездоленных. Как закон возмездия мог действовать должным образом, когда одна из сторон в споре была настолько богата и могущественна, что фактически становилась неприкасаемой? Как можно было поддерживать межплеменные отношения, когда постоянно усиливающаяся власть курайшитов ставила их, по существу, в положение, при котором против них нельзя было выдвинуть никаких обвинений? Конечно, не способствовало решению проблемы и то, что в Мекке власть курайшитов как хранителей ключей была не только политической и экономической, но еще и религиозной. Необходимо принять во внимание, что ханифы, которых предания описывают как строгих критиков ненасытной алчности правителей Мекки, тем не менее сохраняли непоколебимую преданность курайшитам, которых они считали «законными представителями авраамской святости Мекки и Каабы».
С крушением племенной этики общество Мекки стало строго стратифицированным. На верхушке иерархии находились лидеры правящих семей курайшитов. Если кто-то оказывался настолько удачливым, что приобретал достаточный капитал для открытия небольшого дела, он мог пользоваться всеми благами религиозно-экономической системы города. Большинству горожан же это было просто не под силу, особенно тем, у кого не было формальной защиты – сиротам и вдовам, не имевшим доступа к какому-либо наследству. Для таких людей единственным источником средств к существованию был заем денег у богатых под непомерные проценты, что неизбежно вело к долгу, который, в свою очередь, толкал к бедности и в конечном итоге к рабству.
Будучи сиротой, Мухаммад должен был хорошо понимать всю опасность исключения из религиозно-экономической системы Мекки. К счастью для него, его дядя и новый опекун Абу Талиб был также шейхом Бану Хашим – маленького, но очень богатого и уважаемого клана внутри могущественного племени курайшитов. Именно Абу Талиб спас Мухаммада от попадания в долги и рабство (судьбы, постигшей столь многих сирот Мекки), предоставив ему кров и возможность как-то существовать за счет караванного дела.
Бесспорно, Мухаммад хорошо справлялся со своей работой. Предания всячески подчеркивают его успех как умелого торговца, который знал, как совершить выгодную сделку. Несмотря на его скромный статус в обществе Мекки, он был широко известен по всему городу как порядочный и набожный человек. Его прозвище было аль-Амин, «достойный доверия», и в некоторых случаях его избирали хакамом в небольших спорах.
Мухаммад также был, по-видимому, привлекательным мужчиной. По описаниям, он был широкогрудым, с окладистой бородой и крючковатым носом, что придавало ему величественный вид. Многочисленные свидетельства говорят о его больших черных глазах и длинных густых волосах, которые он собирал в косички. И все же к наступлению VII в. двадцатипятилетний Мухаммад, несмотря на то, что он был честным и искусным в торговле человеком, еще не был женат, не имел капитала и своего дела. Он полностью полагался на щедрость дяди в вопросах заработка и обеспечения жильем. Фактически его перспективы были настолько ничтожны, что, когда он попросил руки дядиной дочери Умм Хани, она отвергла его, отдав предпочтение более преуспевающему жениху.
Все изменилось для Мухаммада, когда он привлек внимание удивительной сорокалетней вдовы Хадиджи. Она была загадкой: богатая купчиха в обществе, где женщина считалась вещью, которая принадлежала мужчине и которой запрещалось наследовать имущество мужа, Хадиджа каким-то образом смогла стать одним из наиболее уважаемых жителей Мекки. Она была владелицей процветающего караванного дела и, хотя была уже в летах и с детьми, оставалась объектом внимания многих мужчин, большинство из которых хотели бы приложить руку к ее богатству.
Как рассказывает Ибн Хишам, Хадиджа впервые увидела Мухаммада, когда нанимала его главой одного из своих караванов. Она была наслышана о его честности, верности, надежности и благородстве и решила поручить ему особую экспедицию в Сирию. Мухаммад ее не разочаровал. Он вернулся из поездки с прибылью, в два раза превысившей ожидания Хадиджи, и она наградила его предложением о женитьбе. Мухаммад его с благодарностью принял.
Женитьба на Хадидже проложила Мухаммаду дорогу к высшему обществу Мекки и ввела его в религиозно-экономическую систему города. Во всех отношениях он невероятно успешно вел дело своей жены, повышая статус и благосостояние семьи в ту пору, пока он еще не был частью правящей элиты, а принадлежал к той прослойке, которую анахронично можно рассматривать как средний класс. У него даже был раб.
Но, несмотря на успех, Мухаммад чувствовал глубокий внутренний конфликт, вызванный его двойственным статусом в обществе Мекки. С одной стороны, он был прославлен своими щедростью и беспристрастностью, с которыми вел дела. Уже будучи уважаемым и относительно богатым торговцем, он часто отправлялся в уединенное место для «самооправдания» (это языческая практика таханнус, о которой упоминалось в предыдущей главе) в горы, окружавшие долину Мекки, и регулярно раздавал деньги и еду беднякам, следуя религиозному ритуалу благотворительности, связанному с культом Каабы. С другой стороны, он, казалось, остро осознавал свою причастность к религиозно-экономической системе Мекки, которая эксплуатировала незащищенные массы населения для поддержания благосостояния и власти элиты. На протяжении пятнадцати лет он боролся с этим несоответствием между образом жизни и убеждениями и к сорока годам стал глубоко несчастным человеком.
Но однажды ночью в 610 г., когда Мухаммад медитировал на горе Хира во время религиозного уединения, произошла встреча, которая изменила мир.
Он сидел один в пещере, полностью погруженный в процесс медитации. Внезапно невидимая сила сдавила его в объятиях. Он изо всех сил пытался вырваться на свободу, но не мог пошевелиться. Его поглотила тьма. Давление в груди усиливалось до тех пор, пока он не перестал дышать. Он чувствовал, что умирает. Как только он испустил последний вздох, свет и ужасающий голос нахлынули на него «как рассвет».
«Читай!» – скомандовал голос.
«Что я должен читать?» – жадно глотая воздух, произнес Мухаммад.
Кто-то невидимый сжал его в объятиях: «Читай!»
«Что я должен читать?» – вновь спросил Мухаммад сдавленным голосом.
Снова неведомая сила крепко сдавила его, и голос повторил свою команду. Наконец, в тот момент, когда Мухаммад больше не мог вынести этой железной хватки, давление в его груди прекратилось, и в тишине, поглотившей пещеру, он почувствовал, что слова отпечатались в его сердце:
Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом, научил человека тому, чего он не знал (96:1–5).Это была «неопалимая купина» Мухаммада: момент, когда он перестал быть дельцом из Мекки, переживающим о бедствиях общества, и превратился в того, кого в авраамической традиции называют пророком. Тем не менее, как и его великие предшественники – пророки Авраам, Моисей, Давид и Иисус, – Мухаммад представлял собой нечто большее.
Ислам проповедует постоянное самооткровение Бога от Адама до всех пророков, когда-либо существовавших во всех религиях. Эти пророки называются на арабском наби, и они были избраны для того, чтобы передать божественное послание человечеству. Но иногда наби несут и бремя передачи священных текстов: Моисей явил миру Тору, Давид составил псалмы, проповеди Иисуса вдохновили на создание Евангелий. Такой человек больше чем просто пророк, он – посланник Божий, расул. Таким образом Мухаммад, торговец из Мекки, который на протяжении последующих 23 лет будет декламировать текст Корана (буквально – «чтение вслух»), станет отныне известен как Расул Аллах – «Посланник Аллаха».
Сложно поведать, каким был первый опыт откровения для Мухаммада. Источники весьма неопределенны, размыты, а порой и противоречат друг другу. Ибн Хишам отмечает, что Мухаммад спал, когда на него снизошло откровение будто сон, в то время как ат-Табари утверждает, что пророк стоял, когда сила откровения повалила его на колени, его плечи затряслись, и он предпринял попытку отползти. Команда (икра), которую Мухаммад слышал в пещере, отчетливо понимается в биографии ат-Табари как «декламация», хотя в труде Ибн Хишама совершенно очевидно другое значение – «чтение». На самом деле, согласно одному из преданий Ибн Хишама, первые строки были написаны на волшебной парче, размещенной перед Мухаммадом для чтения.
Мусульманская традиция тяготеет к определению понятия икра («декламация»), предложенному ат-Табари, в основном потому, что стремится подчеркнуть представление о том, что Пророк был неграмотным. Такое представление, как полагают некоторые, подтверждается эпитетом из Корана, данным Мухаммаду – ан-наби аль-умми, – традиционно понимаемым как «неграмотный Пророк». Но хотя неграмотность Мухаммада может усилить чудо Корана, конкретных исторических подтверждений этому факту нет. Как доказали многие исследователи и арабские лингвисты, ан-наби аль-умми правильнее понимать как «Пророк для неграмотных»; такой перевод не противоречит ни грамматике словосочетания, ни позиции Мухаммада о том, что Коран – это откровение для людей без священной книги: «Мы не давали им книг…» (34:44).
Весьма маловероятным представляется то, что такой успешный торговец, как Мухаммад, не умел читать и вести счета, связанные с его делом. Очевидно, что он не был ни писцом, ни ученым и уж точно не обладал мастерством поэта. Но он должен был уметь читать и писать основные арабские имена, даты, названия товаров и услуг, а учитывая, что многие его клиенты были евреями, он наверняка мог даже владеть элементарными знаниями арамейского.
Предания также расходятся в том, что касается возраста Мухаммада на момент явления ему первого откровения: некоторые хроники гласят, что ему было сорок лет, авторы других утверждают, что сорок три. Хотя нет возможности это установить доподлинно, Лоуренс Конрад отмечает, что среди древних арабов общепринятым было убеждение, что «мужчина только тогда достигает пика своей физической и интеллектуальной силы, когда становится сорокалетним». Коран подтверждает эту идею, отождествляя зрелость с достижением сорокалетия. Другими словами, ранние биографы, вероятно, лишь строили догадки, когда подсчитывали возраст Мухаммада во время откровения на горе Хира, подобно тому, как пытались угадать год его рождения.
Аналогично существует большая путаница в отношении точной даты первого откровения. Отмечается, что это могло произойти на 14, 17, 18 или 24 день месяца Рамадан. Не было единства и в представлении о том, что именно считать первым откровением: согласно некоторым хроникам, первым приказом Бога было не «декламируй» или «читай», а «встань и предупреди».
Возможно, причина столь пространных и противоречивых преданий кроется в том, что не было некоего выдающегося откровения, которое ознаменовало бы начало пророческого пути Мухаммада. Скорее это был ряд незначительных неописуемых явлений, которые достигли кульминации в последнем силовом столкновении с Божественным. Аиша, которая станет ближайшим и самым любимым соратником Пророка, утверждала, что первые знаки о пророческом пути проявились задолго до происшествия на горе Хира. Эти знаки являлись в форме видений, одолевали Мухаммада в его снах, и были они настолько тревожными, что заставляли его все чаще искать уединения. «Для него не было ничего лучше, чем быть одному», – вспоминала Аиша.
Тревожные видения Мухаммада сопровождались звуковыми ощущениями. Согласно Ибн Хишаму, когда Пророк остался один в «долинах Мекки», камни и деревья, мимо которых он проходил, говорили ему: «Мир тебе, о апостол Аллаха». Когда Мухаммад это слышал, он оборачивался и смотрел «направо, налево, позади себя и не видел ничего, кроме деревьев и камней». Эти звуковые и визуальные галлюцинации продолжались ровно до того момента, как он был призван Богом на горе Хира.
Очевидно, что никто, кроме самого Пророка, не может рассказать об опыте пророчества, но вполне уместно рассматривать достижение пророческого сознания как медленно развивающийся процесс. Требовал ли Иисус, чтобы небеса разверзлись и голубь опустился на его голову, подтверждая мессианский характер его пути? Или как быстро он понял, что был избран Богом для божественной миссии? Так ли внезапно, словно вспышка света, озарило просветление Сиддхартху, когда он сидел под деревом Бодхи, как о том рассказывает предание, или это просветление стало результатом непрерывно развивающегося убеждения об иллюзии реальности? Может быть, откровение сошло на Мухаммада «как рассвет», как о том гласят некоторые предания, а может, он постепенно постигал свое пророческое сознание через серию невыразимых сверхъестественных переживаний. Доподлинно это установить невозможно. Но несомненным кажется то, что Мухаммад, как и все другие пророки до него, не хотел быть связанным с Божьим призванием. Он был настолько подавлен тем, что ему довелось испытать, что первой его мыслью была мысль о самоубийстве.
В понимании Мухаммада только кахины, которых он презирал как достойных осуждения шарлатанов («Я не могу даже смотреть на них!» – однажды воскликнул он), получали послания с небес. Если то, что произошло с ним на горе Хира, означало, что он сам стал кахином и что соратники теперь будут рассматривать его в таком качестве, то лучше умереть.
«Никогда курайшиты не скажут мне об этом! – поклялся Мухаммад. – Я отправлюсь на вершину горы и сброшусь с нее, таким образом покончив с собой и обретя покой».
Мухаммад справедливо опасался сравнения с кахинами. Что невозможно не заметить в любом переводе тех первых строк откровения – это их изысканное поэтическое качество. Этот первый стих и другие, последовавшие за ним, были облечены в форму рифмованных двустиший, которые очень походили на экстатические высказывания кахинов. Это не было чем-то необычным: в конце концов, арабы привыкли слышать, как боги говорят поэтическими строками, что возвышало их язык к царству божественного. Но значительно позже, когда послания Мухаммада станут сталкиваться с интересами элиты Мекки, его враги ухватятся за сходства между изречениями оракулов-кахинов и Мухаммада, вопрошая с издевкой: «Разве мы в самом деле оставим богов наших из-за поэта одержимого?» (37:36).
Тот факт, что в Коране есть десятки стихов, опровергающих обвинение в том, что Мухаммад был кахином, показывает, насколько важен был этот вопрос для ранней мусульманской общины. По мере того как в регионе разрасталось движение сторонников Мухаммада, откровения постепенно становились все более прозаическими и в конечном итоге перестали напоминать пророческий стиль ранних стихов. Однако поначалу Мухаммад точно знал, что ему скажут, и сама мысль о том, что современники будут считать его кахином, была достаточным основанием, чтобы поставить его на грань между жизнью и смертью.
В конце концов Бог облегчил беспокойство Мухаммада, заверив его в собственном здравомыслии. Но можно с уверенностью сказать, что если бы не Хадиджа, Мухаммад мог бы воплотить свой план в реальность, и тогда история могла бы получить совершенно иное развитие.
«Через нее Бог облегчил бремя Своего Пророка, – пишет Ибн Хишам об удивительной Хадидже. – Пусть Бог Всемогущий помилует ее!»
По-прежнему напуганный и трясущийся от страха после произошедшего в пещере Мухаммад добрался домой, где буквально подполз к своей жене, плача: «Закутай меня! Оберни меня!»
Хадиджа немедленно накинула на него плащ и крепко прижала его к себе, не отпуская до тех пор, пока дрожь и судороги не прекратились. После этого Мухаммад разрыдался, пытаясь объяснить, что с ним произошло. «Хадиджа, – сказал он, – я думаю, что сошел с ума».
«Этого не может быть, мой дорогой, – ответила Хадиджа, поглаживая его по волосам. – Бог не станет к тебе так относиться, потому что Он знает твою верность, твою удивительную надежность, твой прекрасный характер и твою доброту».
Но поскольку Мухаммад оставался безутешным, Хадиджа облачилась в свои одежды и разыскала единственного знакомого ей человека, кто мог бы понять, что случилось с ее мужем, – своего двоюродного брата, христианина Вараку. Того самого Вараку, который был одним из первых ханифов, еще до того как перешел в христианство. Варака был достаточно знаком с Писаниями, чтобы распознать, что произошло с Мухаммадом.
«Он – Пророк этого народа, – заверил Варака свою двоюродную сестру, выслушав ее историю. – Вели ему быть добрым сердцем».
Тем не менее Мухаммад не был ни в чем уверен, он не знал, что ему предполагалось делать теперь, когда он был призван Богом. Ухудшало ситуацию и то, что, когда он особенно нуждался в заверении, Бог оставался немым. За откровением на горе Хира последовал длительный период молчания, после чего даже Хадиджа, которая никогда не сомневалась в действительности произошедшего, стала задаваться вопросом о его значении. «Я думаю, что твой Господь, должно быть, возненавидел тебя», – призналась она мужу.
Наконец, когда Мухаммад совсем уже отчаялся, с небес ему был послан таким же мучительно жестоким образом второй стих, возвещающий, что, хочет он того или нет, отныне он – посланник Бога:
Клянусь письменной тростью и тем, что пишут! Ты по милости Господа твоего не одержимый, и, поистине, для тебя – награда неистощимая, и, поистине, ты – великого нрава. И вот ты увидишь, и они увидят… (68:1–5)Теперь у Мухаммада больше не было другого выбора, кроме как «встать и предупреждать».
Ранние стихи, которые Мухаммад явил жителям Мекки, можно разделить на два основных тематических блока – религиозный и социальный, хотя используемый язык в обоих случаях был одинаков. В первом случае в потрясающе красивых стихах Мухаммад воспевал силу и славу Бога, который «из капли» (80:19). Это был не тот могущественный и далекий Верховный Бог, о котором большинство людей в Мекке уже знали. Это был хороший Бог, который глубоко любил свое Творение. Это был ар-Рахман, «милосердный» (55:1), аль-Акрам, «щедрейший» (96:3). Это был Бог, достойный благодарности и поклонения. «От скольких милостей вашего Бога вы откажетесь?» – вопрошал Мухаммад.
В ранних стихах отсутствуют идеи о силе и добре Бога, авторитарные заявления о монотеизме и критика политеизма. Поначалу Мухаммад, казалось, больше беспокоился о том, чтобы показать природу Аллаха, а не о том, сколько богов существует. Возможно, это объясняется тем, что, как ранее отмечалось, Мухаммад обращался к сообществу, которое уже обладало некоторыми чертами монотеистического мировоззрения – по крайней мере в нем присутствовали генотеистические тенденции. Курайшитам не нужно было объяснять, что есть только один Бог; они ранее слышали это неоднократно от евреев, христиан и ханифов, и необязательно, что они не соглашались с этим. В тот момент духовной миссии Мухаммада у него появилось гораздо более важное послание.
Это сообщение, отражающее вторую тему ранних стихов Мухаммада, было направлено на решение вопросов племенной этики в Мекке. В самых сильных выражениях Мухаммад осуждал плохое обращение со слабыми и беззащитными и их эксплуатацию. Он призывал покончить с ложными контрактами и практикой ростовщичества, приводившей к попаданию бедных людей в рабство. Он говорил о правах непривилегированной части населения и угнетенных и сделал поразительное заявление, что забота о таких социальных группах – это обязанность богатых и наделенных властью. «Сироту ты не притесняй, – гласит Коран, – а просящего не отгоняй» (93:9–10).
Это не дружеский совет, а предостережение. Бог видел жадность и нечестивость курайшитов и более этого не потерпит.
Горе всякому хулителю-поносителю, который собрал богатство и приготовил его! Думает он, что богатство его увековечит. Так нет же! Будет ввергнут он в… Огонь Аллаха воспламененный (104:1–6).Более всего Мухаммад считал себя посланником, предупреждающим тех, кто в его общине продолжал угнетать сирот, кто не призывал других давать еду нуждающимся, кто молился богам, забывая о своем моральном долге, и кто утаивал блага общего пользования от других (107:1–7). Его послание было простым: Судный день придет, «когда небо раскололось, и послушалось своего Господа, и обязалось, и когда земля растянулась» (84:1–3), и те, кто не «отпустит раба или не накормит в день голода сироту из родственников или бедняка оскудевшего», будут охвачены огнем (90:13–20).
Это было радикальное заявление, которое никогда ранее не слышали в Мекке. Мухаммад еще не устанавливал новую религию, он призывал к проведению социальных реформ. Он еще не проповедовал монотеизм, он требовал экономической справедливости. Но это революционное и принципиально новое по своему смысловому наполнению послание Мухаммада так или иначе другими игнорировалось.
Отчасти в этом была вина самого Мухаммада. Все предания повествуют, что поначалу он поверял откровение только своим ближайшим друзьям и членам семьи. Первым человеком, принявшим его послание, была, по понятным причинам, Хадиджа, которая с того момента, как его встретила, и вплоть до своей смерти всегда была рядом с ним. Особенно в то время, когда он находился в самом бедственном положении. Хотя между мусульманами ведутся межпарадигмальные споры о том, кто стал вторым человеком, которому Мухаммад поверял сообщения, можно с определенной долей уверенности предположить, что это был его двоюродный брат – Али, сын Абу Талиба. Поскольку они росли вместе с Пророком в одном доме, именно он был ближайшим человеком для него после жены.
То, что Али стал принимать откровения Мухаммада, оказалось для него большим облегчением, ведь Али стал уже не только его двоюродным братом, но и его ближайшим соратником – человеком, которого Пророк часто называл «братом». В конечном итоге Али, возмужав, превратится в самого уважаемого воина в исламе. Он женится на любимой дочери Мухаммада Фатиме и подарит Пророку легендарных внуков – Хасана и Хусейна. Почитаемый как источник эзотерического знания и отец исламской метафизики, Али однажды вдохновит своих последователей на создание нового течения в исламе. Однако в тот момент, когда он впервые стоял среди членов Бану Хашим, чтобы ответить на призыв Пророка, ему было только тринадцать лет.
Вслед за Али приверженцем идей, проповедуемых Мухаммадом, стал и его раб Зейд, которого он, естественно, освободил. Вскоре после этого его последователем стал и его дорогой друг – богатый торговец из числа курайшитов Абу Бакр. После принятия послания Мухаммада Абу Бакр, будучи глубоко преданным и горячо набожным человеком, первым делом потратил все состояние на выкуп и освобождение рабов знакомых торговцев, совсем ничего не оставив от своих сбережений. Через Абу Бакра послание распространилось по всему городу, поскольку, как свидетельствует Ибн Хишам, он был не из тех людей, кто все хранит при себе, и «открыто продемонстрировал свою веру и призвал других к Богу и его апостолу».
Здесь стоит ненадолго остановиться, чтобы отметить несколько знаменательных черт движения Мухаммада в Мекке. Как только его послание достигло практически каждой группы общества – от слабых и беззащитных, чьи права он отстаивал, до элиты города, против которой он проповедовал, – самым неожиданным моментом стало то, что число его последователей в ранние годы преимущественно состояло, по словам Монтгомери Уотта, из «наиболее влиятельных семей в наиболее влиятельных кланах». Это были молодые люди, в большинстве своем младше 30 лет, которые, так же как и Мухаммад, были недовольны социальным укладом. Среди них были не только мужчины: значительное число ранних последователей Мухаммада составляли женщины, многие из которых рискнули жизнью, отринув традиции своих отцов, мужей и братьев, чтобы присоединиться к движению.
Несмотря на это, скрытность Мухаммада в первые несколько лет привела к тому, что на тот момент вокруг него сплотилась лишь небольшая группа от 30 до 40 человек, которые называли себя Сподвижниками Мухаммада. Что касается остальных жителей Мекки, они считали, что общину Мухаммада и его Сподвижников лучше всего игнорировать.
Как отмечают ат-Табари и Ибн Хишам, даже после того, как Мухаммад начал пророчествовать публично, курайшиты «не препятствовали ему и – так или иначе – не отвергали его». Почему? Одно дело – приумножать богатство путем подчинения бедных и беззащитных, а другое – защищать подобную практику. Кроме того, в речах Мухаммада не было ничего такого, что напрямую угрожало бы их интересам – будь то в религиозном плане или в финансовом. До тех пор, пока движение Мухаммада не нарушало статус-кво в сфере экономики, курайшиты были готовы позволять ему и его Сподвижникам продолжать тайно молиться и проводить подпольные встречи.
Мухаммад, однако, был не из тех, кого можно не замечать.
В 613 г., через три года после первого откровения, послание Мухаммада по своей форме претерпело значительное изменение, которое лучше всего отражено в свидетельстве о вере, или в шахаде, наиболее отчетливо определяющем миссию и основные принципы движения: Нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Аллаха.
С этого момента в духовном служении Мухаммада идея монотеизма, которая в ранних текстах была достаточно завуалирована, стала доминирующей, заменив собой то, что прежде считалось просто социальными сообщениями. «Рассеки же, как тебе приказано, и отвернись от многобожников!» (15:94)
Хотя принято считать, что это был новый бескомпромиссный монотеизм, который в конечном итоге навлек гнев курайшитов на Мухаммада и его небольшую группу последователей («Он сводит всех богов в единого бога? – вероятно, вопрошали курайшиты. – Это воистину поразительная вещь!»), такой взгляд не может полностью объяснить социальные и экономические последствия, вызванные этим простым заявлением о вере.
Важно иметь в виду, что курайшиты были весьма искушенными в вопросах религии. В конце концов они на ней зарабатывали. Политеизм, генотеизм, монотеизм, христианство, иудаизм, зороастризм, ханифизм, язычество во всех проявлениях – курайшиты видели всякое. Сложно поверить, что монотеистические заявления Мухаммада стали для них потрясением. Не только ханифы распространяли похожие идеи на протяжении нескольких лет, предания перечисляют целый ряд других известных пророков, которые жили на Аравийском полуострове и также проповедовали монотеизм. Фактически ранние мусульмане почитали двух из таких «пророков» – Сувейда и Лукмана – как предшественников Мухаммада. Лукману даже отведена отдельная глава в Коране (31), в которой он назван человеком, которому Бог даровал мудрость. Таким образом, с теологической точки зрения утверждение, что «нет божества, кроме Аллаха», не было ни скандальным, ни оригинальным для Мекки.
Существовали, однако, два важных фактора, которые отличали Мухаммада от остальных его современников и которые вывели из себя курайшитов гораздо сильнее, чем его монотеистические убеждения.
Во-первых, в отличие от Лукмана и ханифов Мухаммад не выступал от своего лица. Кроме того, в качестве посредников для его откровений никогда не выступали джинны, как в случае с кахинами. Наоборот, Мухаммада особенным делало его объявление себя «Посланником Бога». Он даже неоднократно соотносил себя с еврейскими и христианскими пророками и посланниками прошлого, в частности с Ибрахимом, которого все жители Мекки – будь то язычники или нет – рассматривали как богодухновенного пророка. Проще говоря, отличие Мухаммада от ханифов было в том, что он не просто проповедовал «религию Ибрахима», он сам был новым Ибрахимом (6:83–86, 21:51–93). И именно этот созданный им образ значительно обеспокоил курайшитов. Объявив себя «Посланником Бога», Мухаммад вопиющим образом нарушил традиционный арабский уклад, на котором строился аппарат власти. Был отброшен данный Мухаммаду статус «первый среди равных». Мухаммаду не было равных.
Во-вторых, как уже отмечалось, проповедующие ханифы могли нападать на политеизм и жестко противостоять жадности своих сограждан, но они поддерживали принципы глубокого почитания Каабы и тех, кто действовал на правах хранителей ключей. Это объясняет, почему к ханифам в Мекке относились по большей части терпимо и почему они никогда массово не присоединялись к движению Мухаммада. Но, как предприниматель и торговец, Мухаммад понимал то, что не могли понять ханифы. Единственный способ воплотить коренные социальные и экономические реформы в Мекке – это сокрушить религиозно-экономическую систему, на которой была построена жизнь города, а единственная возможность это сделать – подвергнуть нападкам сам источник богатства и престижа курайшитов, то есть Каабу.
Слова «нет божества, кроме Аллаха» означали для Мухаммада гораздо больше, чем свидетельство о вере. Это заявление было сознательной и преднамеренной атакой как на Каабу, так и на священное право курайшитов управлять ею. А поскольку религиозная и экономическая сферы жизни Мекки были неразделимо связаны, любой выпад против одной из них автоматически означал выпад против другой.
Безусловно, шахада представляла собой важное богословское нововведение, но этим нововведением был не монотеизм. Этим простым свидетельством о вере Мухаммад заявлял, что между Богом на небесах и людьми на земле не требовались никакие посредники, каждый имел доступ к Нему. Таким образом, идолы в святилище и само святилище, поскольку оно использовалось как хранилище для изображений богов, были совершенно бесполезны. И если бесполезной была Кааба, следовательно, не было никакого основания для верховенства Мекки как религиозного и экономического центра Аравии.
Это сообщение курайшиты не могли оставить без внимания, особенно ввиду того, что приближался сезон паломничества. Они испробовали все, чтобы заставить Мухаммада и его Сподвижников замолчать. Они обратились за помощью к Абу Талибу, но шейх Бану Хашим, хотя он никогда бы не принял послания Мухаммада, продолжал защищать племянника. Курайшиты испытывали презрение к Мухаммаду и принижали тех из его Сподвижников, кто не имел счастья оказаться под покровительством шейха. Они даже предлагали Мухаммаду поддержку, власть, деньги – все, что он мог пожелать для мирного развития своего движения, – с условием, чтобы он прекратил оскорблять их предков, издеваться над их обычаями, разбивать их семьи и прежде всего проклинать других богов святилища. Но Мухаммад отказался, и по мере того, как близился сезон прибытия паломников в Мекку, в числе которых были молящиеся и торговцы, беспокойство курайшитов продолжало расти.
Курайшиты знали, что Мухаммад намеревался встать к Каабе и произнести свое послание лично паломникам, собравшимся со всего полуострова. И хотя это был не первый раз, когда какой-то проповедник обвинял курайшитов и заведенный ими порядок, впервые такое обвинение звучало из уст успешного и известного дельца-курайшита, «одного из них». Воспринимая это как угрозу, с которой невозможно не считаться, курайшиты приступили к реализации стратегии по пресечению плана Мухаммада. Их замысел заключался в том, чтобы расставить людей «на дорожках, по которым посетители приходят на ярмарку», чтобы они предупреждали всех проходящих, что около Каабы их ждет «колдун, получивший послание, с помощью которого он разлучает людей со своими отцами, братьями, женами или сразу со всей семьей», и что не следует придавать его словам значение.
На самом деле курайшиты не считали Мухаммада колдуном; они лишь публично признавали, что откровения, которые он получал, по-видимому, были связаны с колдовством. Но они были абсолютно искренни в своем убеждении, что Мухаммад был причиной разделения семей Мекки. Вспомним, что в доисламской Аравии социальное самоопределение человека полностью зависело от его принадлежности к племени, что обязательно влекло за собой участие во всех видах деятельности сообщества, в особенности тех, что были связаны с племенным культом. Однако присоединение к движению Мухаммада означало не только изменение веры, но также отделение человека от жизни племени – по сути, удаление из него.
Такое положение дел стало предметом серьезной озабоченности курайшитов, чья главная претензия к Мухаммаду (по крайней мере публично) не касалась ни его призыва к социальным и финансовым реформам, ни его идеи радикального монотеизма. Действительно, как отмечал Ричард Белл, во всем Коране нет ни одного упоминания о защите курайшитами многобожия, которая основывалась бы на искреннем убеждении в ее истинности. Курайшитов, как показывают их адресованные паломникам предупреждения, скорее больше беспокоило настойчивое высмеивание Мухаммадом их ритуалов и традиционных ценностей их предков, традиций, на которых основывалась социальная, религиозная и экономическая жизнь города, а не его послания о монотеизме.
Их предупреждения о необходимости игнорировать «колдуна», стоящего у стен Каабы, лишь предсказуемо подогрели интерес к посланию Мухаммада, так что к тому времени, как паломнический цикл и ярмарки были завершены и паломники отправились по своим домам, о Мухаммаде – человеке, так напугавшем неприкасаемых курайшитов, – говорила вся Аравия.
После неудачных попыток заставить Мухаммада замолчать на время проведения паломнических ярмарок курайшиты решили атаковать его же оружием – экономикой. Бойкот был объявлен не только Мухаммаду и его Сподвижникам, но и, в духе настоящих племенных законов, всему его клану. Вследствие этого никому в Мекке не разрешалось вступать в брак с кем-либо из членов Бану Хашим, покупать у них что-то или продавать им товары (включая еду и питье) независимо от их принадлежности к числу последователей Мухаммада. Бойкот не был попыткой заставить Мухаммада и его Сподвижников покинуть Мекку, это был просто способ продемонстрировать последствия отделения от племени. Если Мухаммад и его Сподвижники желали отделиться от социальной и религиозной жизни Мекки, тогда они должны быть готовы отделиться и от ее экономики. В конце концов, если религия и торговля были неразделимы в этом городе, никто не мог так нагло отрицать первое и все еще рассчитывать на участие во втором.
Как и ожидалось, бойкот разорил бунтовщиков, многие из которых, включая Мухаммада, по-прежнему зарабатывали на жизнь торговлей. Фактически последствия этого бойкота были настолько разрушительны, что он был опротестован видными членами курайшитов, которые отвергали Мухаммада, но не могли более «есть, пить и одеваться, когда Бану Хашим погибал». Спустя несколько месяцев бойкот был отменен, и Бану Хашим вновь было разрешено вести коммерческую деятельность в городе. Но как только Мухаммад, казалось, вновь приобрел в Мекке почву под ногами, череда трагедий сразила его – почти одновременно скончались его дядя и заступник Али Талиб и его жена и наперсница Хадиджа.
Значимость утраты Абу Талиба очевидна: Мухаммад более не мог рассчитывать на непоколебимую защиту своего дяди, который оберегал его от бед. Новый шейх Бану Хашим Абу Лахаб испытывал личную ненависть к Мухаммаду и официально лишил своего покровительства. Результаты не заставили себя ждать. Мухаммада открыто оскорбляли на улицах Мекки. Он более не мог проповедовать или молиться публично. Когда он предпринял попытку это сделать, один человек вылил ему на голову ушат грязи, а другой бросил в него внутренности овцы.
Потеря Абу Талиба пошатнула положение Мухаммада, но смерть Хадиджи совершенно опустошила его. Она ведь была не только его женой, но также человеком, в котором он нашел поддержку и отраду, человеком, который вытащил его из бедности и буквально спас ему жизнь. В полигамном обществе, где и мужчине и женщине разрешалось иметь неограниченное число супругов, моногамные отношения Мухаммада с женщиной на пятнадцать лет старше его были, мягко говоря, удивительны. Утверждение Максима Родинсона о том, что Мухаммад едва ли испытывал физическое влечение к Хадидже, учитывая ее возраст, необоснованно и оскорбительно. Потеря защиты Абу Талиба, безусловно, деморализовала Мухаммада и лишила его чувства безопасности. Но тот факт, что по возвращении домой после одного из болезненных силовых актов откровения или после страдания от унижения со стороны курайшитов – с покрытой грязью головой и в запачканной кровью тунике – он не находил там Хадиджи, которая закутала бы его в плащ и держала бы в своих руках до тех пор, пока ужас его не утихнет, стал невообразимым горем для Пророка.
После утраты двух людей, которые были его физической и эмоциональной опорой, Мухаммад не мог оставаться в Мекке. Чуть ранее он отправил малые группы своих последователей – тех, кто не имел какой-либо защиты в обществе Мекки, – временно в Абиссинию, отчасти для того, чтобы найти убежище у христианского императора, или «Негуса», а отчасти затем, чтобы попытаться сойтись с одним из главных торговых соперников курайшитов. Но в настоящий момент Мухаммад нуждался в постоянном доме, где он и его Сподвижники могли бы быть свободны от безудержного гнева курайшитов.
Он попробовал податься в город-побратим Мекки – Таиф, но лидеры местных племен были не намерены выступать против курайшитов, предоставив убежище их врагу. Он посетил ярмарки вокруг Мекки – места, где он был известен и как торговец, и как нарушитель спокойствия, – но напрасно. В конце концов он получил приглашение от маленького клана Хазрадж, который проживал в агрокультурном оазисе в 250 милях[10] к северу от Мекки, – это был конгломерат деревень, в совокупности известный как Ятриб. Хотя Ятриб был далеким и совершенно незнакомым городом, у Мухаммада не было другого выбора, кроме как принять приглашение и подготовить своих Сподвижников к немыслимому: отказаться от своих племен и семей ради неопределенного будущего там, где у них не будет никакой защиты.
Эмиграция в Ятриб проходила медленно и втайне, Сподвижники проделывали путь к оазису, разбившись на небольшие группки по несколько человек. К тому времени, когда курайшиты поняли, что происходит, в Мекке остались только Мухаммад, Абу Бакр и Али. Опасаясь, что Мухаммад покинет Мекку для того, чтобы собрать армию, шейхи разных кланов приняли решение выбрать по одному мужчине от каждой семьи – «молодых, могучих, благородных, аристократических воинов», – чтобы они пробрались в дом Мухаммада, пока тот будет спать, и одновременно вонзили мечи в его тело, тем самым возложив ответственность за его смерть на всех членов племени. Но когда убийцы прибыли в дом Мухаммада, они обнаружили спящего в его кровати Али, притворяющегося Пророком. Узнав накануне ночью о готовящемся покушении, Мухаммад и Абу Бакр ускользнули из дома через окно и бежали из города.
Курайшиты были в ярости. Они предложили огромное вознаграждение в сто верблюдов любому, кто сможет найти Мухаммада и доставить его в Мекку. Необычайно высокая награда привлекла десятки бедуинских племен, которые прочесывали окрестности днем и ночью в поисках Пророка и его друга.
Между тем Мухаммад и Абу Бакр укрылись в пещере недалеко от Мекки. Три дня они скрывались от чужих глаз в ожидании, когда охота на них утихнет и бедуины вернутся в свои лагеря. На третью ночь они осторожно выбрались из пещеры и, убедившись, что никто за ними не следует, сели на верблюдов, приведенных сочувствующим им заговорщиком. Затем они тихо исчезли в пустыне, прокладывая себе путь в Ятриб.
Чудо ли это – некоторые бы сказали, что чудо, – что этот самый человек, который был вынужден ускользнуть из своего дома под покровом ночи, чтобы присоединиться к семидесяти (или около того) своим последователям, беспокойно ожидавшим его в чужих землях за сотни миль, через несколько лет вернется, не тайно и не в темноте, а при ярком свете дня, в город, где он родился, с десятью тысячами людей, мирно следующих за ним; и что те же самые люди, которые однажды пытались убить его во сне, передадут ему и власть в священном городе, и ключи от Каабы – безоговорочно и без боя, как священную жертву?
3. Город Пророка
Первые мусульмане
По вечерам солнце в пустыне превращается в светящийся белый шар, низко висящий на небосклоне. Оно проваливается за горизонт, и его свет затмевается дюнами, из-за чего они издалека кажутся черной зыбью. На краю Ятриба изгиб высоких пальм образует границу, отделяющую оазис от наступающей пустыни. Здесь небольшая группа Сподвижников ждет, прикрыв глаза от солнца руками и пристально вглядываясь в огромные просторы пустыни, не появится ли какой-нибудь сигнал от Мухаммада. Они стоят на краю пустыни днями и ночами. Что еще они могли поделать? Многие из них не имели домов в Ятрибе. Большая часть их имущества осталась в Мекке. Их путешествие не было великим исходом через пустыню с верблюдами, нагруженными товарами. Хиджра, как именуется эта миграция из Мекки в Ятриб, была секретной операцией: дочери ускользали из отчих домов ночью, молодые люди собирали любую провизию, какую только могли унести на своих спинах в тяжелом многонедельном пути через бесплодную пустыню. То небольшое имущество, которое они взяли с собой, стало общинной собственностью, которое теперь никому из них лично не принадлежало.
Ситуация осложнялась тем, что Сподвижники – теперь более правильно называть их эмигрантами, или мухаджирами (буквально «те, кто совершил хиджру»), – в первую очередь были купцами, а Ятриб – не из тех городов, чья жизнь построена на торговле. Ятриб вообще не был городом. Это свободная конфедерация деревень, населенных фермерами, садоводами, земледельцами. Ятриб не имел ничего общего с тем шумным, процветающим городом, который покинули эмигранты. Даже если бы они смогли превратиться из торговцев в фермеров, лучшие сельскохозяйственные земли здесь были уже заняты.
Как они могут здесь выжить, опираясь лишь на благотворительность и добрую волю ансаров, или «помощников», той горстки сельских жителей Ятриба, которые также восприняли послание Мухаммада и перешли в его движение? И что произойдет с ними теперь, когда они отказались от защиты курайшитов? Позволит ли им самое могущественное племя в Аравии просто покинуть Мекку без последствий? Действительно ли они решили отказаться от своих домов, своих семей, своей самобытности – все по приказу экстраординарного, но непроверенного Пророка, которого теперь неизвестно где найти?
Перед тем как солнце совсем закатилось, показываются два слабо различимых силуэта, направляющихся в сторону Ятриба. Среди эмигрантов раздается крик: «Посланник здесь! Посланник пришел!» Мужчины бросаются навстречу Мухаммаду и Абу Бакру, пересекающим оазис. Женщины берутся за руки и начинают водить хороводы вокруг двух мужчин, их многоголосие от дома к дому возвещает о прибытии Пророка.
Мухаммад, измученный жаждой после длинного путешествия и покрывшийся волдырями от палящего солнца, сидит в седле, выпустив из рук поводья. Вокруг собирается толпа и предлагает ему еду и питье. Некоторые из ансаров силятся схватить поводья верблюда и направить его в сторону своих деревень. Они кричат: «Приди, о Посланник Божий, в поселение, где много защитников, оно хорошо обеспечено и неприступно!»
Но Мухаммад, не желая связывать себя с каким-то отдельным кланом в Ятрибе, отказывается от их предложений. «Отпустите поводья», – приказывает он.
Толпа отступает, и верблюд Мухаммада делает еще несколько шагов вперед. Он обходит кругом заброшенный могильник, который теперь используется для сушки фиников, затем останавливается и встает на колени, опуская шею, чтобы Пророк спешился. Отыскав владельцев земли, Мухаммад спрашивает ее цену.
«Мы не хотим денег, – отвечают хозяева, – только вознаграждение, которое мы получим от Бога».
Благодарный за их великодушие Мухаммад приказывает выровнять землю, вскопать могилы и вырубить пальмы на древесный материал для постройки скромных жилищ. Он рисует в воображении внутренний двор, крытый сверху пальмовыми листьями, с жилыми помещениями, сделанными из дерева и глины, облицовывающей стены. Но это будет нечто большее, чем дом. Это преобразованное пространство на высушенной земле и кладбище станут первым масджидом, или мечетью нового типа сообщества, настолько революционного, что много лет спустя, когда мусульманские ученые будут стараться установить четкий исламский календарь, они начнут отсчет времени не с года рождения Пророка, не с момента его первого откровения, а именно с того времени, когда Мухаммад и его Сподвижники прибыли в эту маленькую конфедерацию деревень. Тот год, 622 г., станет известен как 1 г. п. х. (после хиджры); а оазис, который на протяжении столетий назывался Ятриб, с этих пор будет прославляться как Мединат ан-Наби («Город Пророка»), или проще – Медина.
Существует устойчивая мифология о времени пребывания Мухаммада в этом городе, который стал носить его имя; мифология, которая определила религию и политику ислама на четырнадцать сотен лет вперед. Именно в Медине зародилось мусульманское сообщество, и именно там движение Мухаммада по проведению социальных реформ в арабском обществе превратилось в универсальную религиозную идеологию.
Сочетание «Мухаммад в Медине» стало парадигмой развития арабской империи, которая распространилась на весь Ближний Восток после кончины Пророка, и определенным стандартом, к которому стремились все исламские королевства и султанаты на протяжении Средних веков. Идеал общества, заложенный в Медине, вдохновил различные исламские возрожденческие движения XVIII и XIX вв. Все они стремились вернуться к первоначальным ценностям сообщества Мухаммада в чистом виде, видя в этом средство, которое могло помочь вырвать мусульманские земли из-под контроля колониального господства (правда, определялись эти первоначальные ценности по-разному). И с ослаблением колониализма в ХХ в. именно память о Мухаммаде в Медине способствовала установлению понятия «исламское государство», применительно к типу организации социальной жизни.
Сегодня Медина, однако, представляет собой и архетип исламской демократии, и импульс к развитию исламской воинственности. Исламские модернисты, подобные египетскому писателю и политическому философу Али Абд ар-Радику (ум. 1966), указывали на сообщество Мухаммада в Медине как на доказательство того, что ислам выступал за разделение религиозной и светской власти, в то время как мусульманские экстремисты в Афганистане и Иране использовали тот же пример для формирования разных моделей исламской теократии. В свободной борьбе за равные права мусульманские феминистки последовательно черпали вдохновение из правовых реформ Мухаммада, начало которым было положено в Мекке, в то же время мусульманские традиционалисты толковали те же самые правовые реформы как основание для сохранения подчинительного положения женщины в исламском обществе. Для одних действия Мухаммада в Медине служат образцом для мусульмано-иудейских отношений, для других они демонстрируют непреодолимый конфликт, который всегда существовал и будет существовать между двумя сыновьями Ибрахима. Но все мусульмане, независимо от того, традиционалисты они или модернисты, реформисты или фундаменталисты, феминисты или шовинисты, рассматривают Медину как модель исламского совершенства. Проще говоря, тот порядок, который был установлен в Медине, – это, по их мнению, то, чем ислам должен быть.
Как и во всех мифологиях такого масштаба, зачастую трудно отделить фактическую историю от священной. Отчасти это происходит оттого, что исторические традиции, связанные со временем пребывания Мухаммада в Медине, были написаны через сотни лет после смерти Пророка мусульманскими исследователями, которые стремились подчеркнуть всеобщее признание и мгновенный успех божественной миссии Мухаммада. Вспомним, что биографы Мухаммада жили в то время, когда мусульманское сообщество уже стало огромной могущественной империей. В результате их описания чаще всего отражают политическую и религиозную идеологию Дамаска IX в. или Багдада XI в., а не Медины VII в.
Для понимания того, что действительно произошло в Медине и почему, следует тщательно рассмотреть эти источники, чтобы открыть для себя не священный город, который станет столицей мусульманской общины, а отдаленный оазис в пустыне, который питал и поддерживал развитие этой общины на раннем этапе ее зарождения. В конце концов, задолго до того, как стать городом Пророка, это был только Ятриб.
Ятриб в VII в. был процветающим агрокультурным оазисом с пальмовыми садами и обширными пахотными полями. Многие из них контролировались двадцатью еврейскими кланами разного размера. В отличие от евреев, поселившихся в Западной Аравии (Хиджазе), большую часть которых составляли иммигранты из Палестины, евреи Ятриба в основном были арабами, перешедшими в иудаизм. За исключением своего религиозного звания иудеев, они мало чем отличались от своих соседей-язычников. Как и все арабы, иудеи Ятриба в первую очередь считали себя скорее членами своих отдельных кланов (каждый из которых действовал как суверенная единица), нежели частью единого сообщества иудеев. И хотя некоторые еврейские кланы заключали союзы друг с другом, даже они никоим образом не составляли единое еврейское племя.
На правах первых поселенцев евреи заняли в регионе самые плодородные сельскохозяйственные земли Ятриба, называемые «высотными», быстро став владельцами наиболее ценной аравийской культуры – фиников. Евреи также были квалифицированными ювелирами, торговцами одежды, производителями оружия и виноделами (еврейское вино считалось лучшим на полуострове). Но именно финики Ятриба, столь востребованные на территории всего Хиджаза, превратили их в богачей. Собственно говоря, пять крупнейших еврейских кланов оазиса – Бану Талабах, Бану Хади, Бану Курайза, Бану Надир и Бану Кайнука (которые также контролировали единственный городской рынок) – установили почти абсолютную монополию в экономике Ятриба.
К тому времени, когда ряд бедуинских племен отказался от кочевнического существования и также поселился в Ятрибе, все самые плодородные земли уже находились в собственности. Остались только едва пригодные для возделывания участки, расположенные в регионе, называемом «Дно». Борьба за ограниченные ресурсы не только породила некоторого рода конфликт между языческими (то есть арабскими) и еврейскими кланами, но и привела к постепенному снижению еврейского влияния в Ятрибе. По большей части, однако, эти две группы жили в относительном мире, который достигался за счет стратегических межплеменных связей и заключенных экономических союзов. Евреи регулярно нанимали арабов для транспортировки фиников на близлежащие торговые рынки (в особенности в Мекку), в то время как арабы высоко ценили ученость, мастерство и наследие своих еврейских соседей. Они, по словам арабского летописца аль-Вакиди, были «людьми высокого происхождения и большого достатка», тогда как арабы – «племенем, у которого в распоряжении не было ни пальм, ни виноградников, а только овцы да верблюды».
Настоящий конфликт в оазисе происходил не между евреями и арабами, а внутри арабской среды между ними самими и в особенности между двумя крупнейшими арабскими племенами – ауситами и хазраджитами, племенем, которое изначально пригласило Мухаммада и его Сподвижников в Ятриб. И хотя истоки этого конфликта в истории утрачены, представляется ясным, что закон возмездия, целью которого было сдерживание именно такого рода продолжающихся племенных распрей, не смог прекратить эту давнюю ссору. Вероятно, к тому времени, когда Мухаммад прибыл в Ятриб, несогласие по поводу распределения контроля над ограниченными ресурсами переросло в кровавую вражду, которая распространилась и на еврейские кланы, так как Бану Надир и Бану Курайза поддерживали ауситов, а Бану Кайнука приняли сторону хазраджитов. Проще говоря, этот конфликт расколол оазис надвое.
В чем ауситы и хазраджиты отчаянно нуждались, так это в хакаме, или арбитре. Но не каждый подходил на эту роль: требовался человек авторитетный, заслуживающий доверия и абсолютно нейтральный, совершенно не связанный с кем-либо в Ятрибе. Рассудить два племени мог лишь некто, обладавший властью, а еще лучше – божественной властью. Какая удача, что безупречный по своим качествам, подходящий для этой роли человек сам отчаянно нуждался в месте для жизни!
Мухаммад, несомненно, прибыл в Ятриб с несколько более значительной миссией, чем быть хакамом в споре между ауситами и хазражитами. Предания представляют Мухаммада как могущественного Пророка новой и прочно утвердившейся религии, он – бесспорный лидер всего Ятриба. Такое видение отчасти вытекает из известного документа, называемого Мединской конституцией, проект которого Мухаммад создал, поселившись в оазисе. Этот документ, часто отмечаемый как первая в мире писанная конституция, представляет собой серию официальных соглашений о ненападении между Мухаммадом, новоприбывшими эмигрантами, ансарами в Медине, которые перешли в движение Мухаммада, и остальными кланами Ятриба – и еврейскими, и языческими.
Однако конституция эта спорна, поскольку она, как считается, предоставляет Мухаммаду беспрецедентную религиозную и политическую власть над всем населением оазиса, включая евреев. Этот документ указывает, что Мухаммад имел исключительное право на разрешение всех споров в Ятрибе, а не только конфликта между ауситами и хазраджитами. Конституция заявила о нем как о единственном лидере Ятриба (каиде) и недвусмысленно признала его Посланником Бога. И хотя она подразумевала, что первичная роль Мухаммада – быть «шейхом» своего «клана» эмигрантов, она также отчетливо поставила его выше всех шейхов других племен и кланов в Ятрибе.
Проблема лежит в плоскости точного определения времени написания Мединской конституции. В традиционных источниках, включая труды ат-Табари и Ибн Хишама, ее создание датируется периодом первых действий Пророка при входе в оазис, то есть 622 г. Но это очень маловероятно, учитывая слабые позиции Мухаммада в те первые несколько лет в Ятрибе. Он был вынужден бежать из Мекки, и за ним охотились по всему Хиджазу, как за преступником. Как показал Майкл Леккер, этот документ был создан только после битвы при Бадре в 624 г. (событие, которое будет рассмотрено в следующей главе), а возможно, даже после 627 г. – по прошествии пяти лет после эмиграции (хиджры) в Ятриб, когда большинство членов племени ауситов перешло в ислам. До этого времени лишь некоторые не из числа ансаров (которые на тот момент состояли из горстки членов хазраджитов) знали, кто такой Мухаммад, не говоря уже о том, чтобы подчиниться его власти. Его движение охватывало наименьшую часть населения Ятриба, в то время как численность одних лишь евреев достигала нескольких тысяч. Когда Мухаммад прибыл в оазис, он привел с собой меньше сотни мужчин, женщин и детей.
Конституция, быть может, отражала некоторые ранние пакты о ненападении, заключенные между Мухаммадом, арабскими кланами и их клиентами-евреями. Она воспроизводила некоторые элементы арбитража Мухаммада между племенами Аус и Хазрадж. Но просто невозможно считать ее завершенной до 624 г. Только после битвы при Бадре Мухаммад мог мечтать о полномочиях, приписываемых ему Мединской конституцией; да и собственно Ятриб только после Бадра мог считаться Мединой.
В течение первых двух лет в Ятрибе Мухаммад, весьма вероятно, всего лишь исполнял роль хакама (хоть и могущественного и богодухновенного), арбитраж которого был ограничен решением споров между ауситами и хазраджитами. Его власть как шейха распространялась только на «клан» эмигрантов: один клан из многих, один шейх из многих. Утверждение Мухаммада о том, что он – Посланник Бога, не должно было быть ни принято, ни отклонено для должного исполнения им обеих ролей. И арабы-язычники, и евреи Ятриба считали пророческую природу Мухаммада доказательством его сверхъестественной мудрости, тем более что идеалу хакама почти всегда соответствовал кахин, или предсказатель, чья связь с Божественным была незаменима в особенно сложных спорах, таких как конфликт между ауситами и хазраджитами.
Хотя другие жители Ятриба, быть может, узрели в Мухаммаде не более, чем хакама или шейха, совсем по-другому он представлялся небольшой группе его последователей. Для них Мухаммад был Пророком, наделенным властью, данной Богом, и проповедующим Божью волю. По сути, он пришел в Ятриб, чтобы установить новый тип социально-религиозного сообщества, но еще не было определено, как это сообщество должно быть организовано и кто мог бы считаться его членом.
Может возникнуть соблазн назвать членов нового сообщества мусульманами (буквально: «те, кто подчиняется» Богу). Но нет основания полагать, что это понятие сразу было введено для обозначения отдельного религиозного движения, возможно, оно не использовалось вплоть до смерти Мухаммада. Вероятно, при обращении к последователям Мухаммада более точно использовать термин из Корана – умма. Однако проблема, связанная с этим понятием, заключается в том, что никто не в состоянии уверенно сказать, что оно обозначало и откуда появилось. Это могло быть слово арабского, ивритского или арамейского происхождения, и, соответственно, значения его могли быть разными – «сообщество», «нация», «народ». Некоторые ученые предполагают, что умма происходит от арабского слова «мать» (умм), но хотя эта гипотеза кажется эстетически приятной, никакого лингвистического доказательства ей нет. Усложняет проблему и то, что слово умма необъяснимым образом перестает употребляться в Коране после 625 г., когда оно заменяется на понятие каум, в переводе с арабского – «племя».
Но что-то должно было послужить причиной такого изменения в терминах. Несмотря на изобретательность своих идей, сообщество Мухаммада по-прежнему представляло собой в первую очередь арабский институт, основанный на арабских представлениях о племенном обществе. В Аравии VII в. не было другой модели социальной организации, кроме монархии. Действительно, между ранним мусульманским и традиционным племенным сообществами проводится такое число параллелей, что создается отчетливое впечатление, что по крайней мере в сознании Мухаммада умма действительно была племенем, хоть и новым, радикально инновационным.
Отсылка в Мединской конституции к роли Мухаммада как шейха своего «клана» эмигрантов указывает, что, несмотря на статус Пророка, его светский авторитет мог значительно упасть в рамках традиционной парадигмы доисламского племенного общества. Более того, как членство в племени обязывало участвовать в ритуалах племенного культа, так и членство в сообществе Мухаммада требовало ритуального вовлечения в то, что могло бы называться племенным культом, а именно в зарождающейся религии ислама. Общественные ритуалы, такие как общинная молитва, подаяние милостыни и коллективный пост – первые три практики, предусмотренные исламом и объединенные с общими для всех диетическими правилами и требованиями к чистоте, – выполняли в умме во многом такую же функцию, как и действия племенных культов в языческих общинах: обеспечение общей социальной религиозной идентичности, которая позволяла одной группе отличать себя от другой.
Но умма была уникальным экспериментом по части социальной организации: в Ятрибе, вдали от социальной и религиозной гегемонии курайшитов, Мухаммад наконец имел возможность воплощать в жизнь те реформы, которые он безрезультатно проповедовал в Мекке. Претворяя в реальность серию коренных религиозных, социальных и экономических реформ, он смог установить новый тип общества, подобного которому не было во всей Аравии.
Например, тогда как полномочия в племени были распределены между несколькими фигурами, ни одна из которых не имела реальной исполнительной власти, Мухаммад вместо этого объединил все доисламские позиции в своих руках. Он был не только шейхом сообщества, но также и его хакамом, его каидом и, как единственный связующий с Божественным, его кахином. Его власть как Пророка (Законодателя) была абсолютной.
К тому же стать членом племени можно было, только родившись в нем, тогда как любой мог присоединиться к сообществу Мухаммада, просто заявив: «Нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Аллаха». Шахада, или свидетельство о вере, таким образом превратилась в Ятрибе из теологического утверждения с явным социальным и политическим подтекстом в новый вариант присяги на верность – байа, которую племя давало шейху. И поскольку принадлежность ни к этносу, ни к культуре, ни к расе, ни к той или иной родословной не имела для Мухаммада какого-либо значения, умма, в отличие от традиционного племени, обладала практически неограниченной возможностью для численного роста, принимая все новых и новых членов.
Таким образом, можно назвать сообщество Мухаммада в Ятрибе уммой, но только в той мере, в какой этот термин понимается как обозначение того, что исследователь-ориенталист Бертрам Томас назвал «суперплеменем», а историк Маршалл Ходжсон выразился более точно, описав его как «неоплемя». Это был кардинально новый тип социальной организации, который тем не менее основывался на традиционной племенной парадигме.
Как и в случае со всеми шейхами племен, первичная задача Мухаммада как главы уммы заключалась в том, чтобы обеспечить защиту всем членам сообщества. Достигал он этого, используя главное средство, которое было в его распоряжении, – закон возмездия. Но в то время, как инструмент возмездия сохранялся в качестве законного ответа на причиненный ущерб, Мухаммад призывал верующих к прощению. «И воздаянием зла – зло, подобное ему, – гласит Коран. – Но кто простит и уладит – награда его у Аллаха. Он ведь не любит несправедливых!» (42:40). Аналогичным образом Мединская конституция одобряет возмездие в качестве основного средства сдерживания от совершения преступления, но с тем беспрецедентным условием, что все сообщество может быть «единодушно против [преступника] и ничего не может сделать, кроме как противостоять ему». Такое положение – свидетельство явной отмены племенной традиции и отчетливое указание на то, что Мухаммад уже приступил к заложению основ общества, построенного на моральных, а не на утилитарных принципах. Но это было только начало.
Для продвижения эгалитарных идеалов Мухаммад уравнял между собой всех членов сообщества вне зависимости от происхождения: таким образом, жизнь одного человека отныне не могла быть более или менее ценной, чем жизнь другого. Это было еще одним нововведением в арабской правовой системе, в которой хоть и действовало правило, согласно которому нанесение вреда оку жертвы в доисламской Аравии требовало симметричного ответа, но никто не мог рассматривать око шейха как равное по ценности оку сироты. Мухаммад все это подверг пересмотру, серьезно нарушив социальные порядки. Предания повествуют о занимательном эпизоде, связанном с одним представителем благородной семьи по имени Джабал ибн аль-Айхам, ранним последователем Мухаммада, которого ударил в лицо некий простолюдин из скромного племени Музайна в Аравии. Ожидая, что на обидчика более низкого происхождения будет наложено суровое наказание, что обозначило бы его низкий статус в обществе, аль-Айхам был поражен, узнав, что возмездие, которого он ожидал, сводилось лишь к возможности ответно ударить этого простолюдина. Возмущенный таким «правосудием» аль-Айхам тут же вышел из ислама и стал христианином.
Переход Мухаммада к эгалитаризму не закончился реформированием закона возмездия. В Ятрибе он категорично объявил вне закона ростовщичество, злоупотребление которым было одной из главных претензий к религиозно-экономической системе Мекки. Для содействия становлению новой экономики он создал собственный рынок, на котором в отличие от контролируемого рынка Бану Кайнука не взимался налог за совершение транзакций и отсутствовал ссудный процент. Хотя деятельность этого безналогового рынка стала отправной точкой для конфликта между Мухаммадом и Бану Кайнука, такое решение Пророка было не средством противодействия богатому и могущественному еврейскому племени, а следующим шагом к смягчению разрыва между невероятно богатыми и необычайно бедными.
Пользуясь своим бесспорным религиозным авторитетом, Мухаммад ввел обязательную десятину, именуемую закят, которую каждый член уммы должен был выплачивать в соответствии с имеющимися в его распоряжении средствами. После сбора деньги распределялись как милостыня среди самых нуждающихся членов сообщества. Закят, что буквально означает «очищение», представлял собой не акт благотворительности, а проявление религиозной преданности: благожелательность и забота о бедных были первыми и самыми важными добродетелями, проповедуемыми Мухаммадом в Мекке. Благочестие, напоминает верующим Коран, заключается «не в том, чтобы обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, и в последний день, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал молитву, и давал очищение, – и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастии и бедствии и во время беды, – это те, которые были правдивы, это они – богоязненные» (2:177).
Возможно, нигде усилия Мухаммада в экономическом перераспределении и социальном равенстве не были более очевидными, чем в сфере борьбы за права и привилегии, которые он в своем сообществе даровал женщинам. Начиная с противоречащего Библии убеждения в том, что мужчина и женщина были созданы вместе и одновременно из единой души (4:1; 7:189), Коран идет гораздо дальше, подчеркивая равенство полов в глазах Господа: «Поистине, мусульмане и мусульманки, верующие и верующия, обратившиеся и обратившияся, верные и верныя, покорные и покорныя, дающие и дающия милостыню, постящиеся и постящияся, хранящие свое целомудрие и хранящия, поминающие и поминающия Аллаха много, – уготовал им Аллах прощение и великую награду!» (33:35).
В то же время Коран признает, что мужчины и женщины имеют отличные друг от друга роли в обществе; в Аравии VII в. было бы нелепо заявлять иначе. Таким образом, «мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И порядочные женщины – благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их. И если они повинятся вам, то не ищите пути против них, – поистине, Аллах возвышен, велик!» (4:34).
За некоторыми известными исключениями (как в случае с Хадиджей) женщины в доисламской Аравии не могли ни иметь имущество, ни наследовать его от своего мужа. Фактически жена сама по себе считалась имуществом, таким образом, и она, и ее приданое переходили наследнику ее покойного мужа по мужской линии. Если он не проявлял интереса к вдове, он передавал ее своему родственнику – брату или племяннику, который мог на ней жениться и взять под свой контроль имущество, оставленное покойным. Но если она была слишком стара для того, чтобы выйти замуж еще раз, или никто не хотел брать ее в жены, то она сама и ее приданое переходили к клану. Такое же правило действовало в отношении сироток и сирот, которые, как и Мухаммад в то время, когда его родители умерли, считались слишком юными для наследования имущества.
Однако Мухаммад, который в значительной степени выиграл от богатства и стабильности, полученных благодаря браку с Хадиджей, стремился предоставить женщинам возможность достигнуть определенного уровня равенства и независимости в обществе путем внесения поправок к арабским традиционным законам, регулирующим вопросы брака и порядка наследования, чтобы устранить препятствия, запрещающие женщинам наследовать и распоряжаться собственным богатством. Хотя подробное рассмотрение новшеств, привнесенных Мухаммадом в эту традицию, в рамках нашей книги затруднительно, достаточно отметить, что в умме женщинам впервые дали право как наследовать имущество мужа, так и сохранять свое приданое как личное имущество на протяжении всего брака. Мухаммад также запретил мужчинам распоряжаться приданым их жен, заставляя их вместо этого обеспечивать семью на собственные средства. Если мужчина умирал, его жена наследовала часть его имущества; если он с ней разводился, все приданое принадлежало ей и возвращалось в ее семью.
Как и следовало ожидать, нововведения Мухаммада не были благожелательно приняты мужчинами сообщества. Если женщины больше не считались собственностью, жаловались они, тогда не только резко сокращалось их богатство, это также означало, что скудное наследство теперь должно быть разделено с их сестрами и дочерьми – членами сообщества, которые, по их утверждению, не несли равное с мужчинами бремя. Ат-Табари рассказывает, как некоторые из этих мужчин выражали свое недовольство Мухаммаду, вопрошая: «Как можно давать право наследования женщинам и детям, которые не работают и не зарабатывают себе на жизнь? И теперь они тоже будут наследовать наравне с мужчинами, которые своим трудом зарабатывали эти деньги?»
Ответ Мухаммада на эти жалобы был жестким и поразительно непреклонным: «А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику и преступает Его границы, того Он введет в огонь вечно пребывающим там, и для него – унижающее наказание» (4:14).
Если новые законы о праве наследования вызвали у мужчин из числа последователей Мухаммада недовольство, то они должны были прийти в ярость, когда одним революционным решением он ограничил количество женщин, на которых мужчина мог жениться, и предоставил им право на развод.
В некотором смысле доисламский арабский обычай был удивительно нестрогим, когда речь шла о браке и разводе. В бедуинских обществах и мужчины, и женщины практиковали полигамию, прибегали к разводу: мужчина просто заявлял: «Я с тобой развожусь», а женщина, которая оставалась в семье своего отца во время брака, переворачивала палатку так, чтобы ее вход перестал быть доступным для ее мужа. Поскольку в бедуинских обществах отцовство не имело значения (родство передавалось по линии матери), было совершенно не важно, сколько мужей имела женщина или кто отец ее детей. Однако в обществах с оседлым образом жизни, таких как в Мекке, где от накопления богатства зависело наследство и, следовательно, фактор отцовства был гораздо более важным, приоритет от материнской линии постепенно переходил к отцовской. В результате такого сдвига женщины в обществах с оседлым образом жизни постепенно лишились прав на развод и полиандрию (право иметь несколько мужей).
Хотя взгляды Мухаммада на брак изменились в большей степени под влиянием еврейских традиций, нежели обычаев доисламской Аравии, он оставался выходцем из общества Мекки. Поэтому, хотя он ограничил права мужчин на развод, установив срок в три месяца для примирения до того, как заявление о разводе вступит в силу, и предоставил право на развод женщинам, если они опасались «суровости или уклонения» (4:128) со стороны их мужей, он тем не менее закрепил главенство отцовской линии в обществе, раз и навсегда положив конец всем полиандрийным союзам. Теперь мусульманки не могли иметь более одного мужа. Однако вопрос о том, может ли мусульманин брать в жены более чем одну женщину (полигиния), и по сегодняшний день остается спорным.
С одной стороны, Мухаммад открыто принял полигинию (в определенных пределах) как необходимость для выживания уммы, особенно после войны с курайшитами, которая оставила после себя сотни вдов и сирот, нуждавшихся в обеспечении и защите со стороны сообщества. «Женитесь на тех, что приятны вам, женщинах – и двух, и трех, и четырех, – гласит Коран. – А если боитесь, что не будете справедливы, то – на одной» (4:3; выделено автором). С другой стороны, Коран ясно свидетельствует несколько стихов спустя, что моногамия – это предпочтительная модель брака, заявляя, что «никогда вы не в состоянии быть справедливыми между женами, хотя бы и хотели этого» (4:129; вновь выделено автором). Это кажущееся противоречие предлагает некоторое понимание дилеммы, которая преследовала сообщество в его ранний период развития. По существу, в то время как отдельный верующий должен стремиться к моногамии, сообщество, которое Мухаммад старался построить, было бы обречено без полигинии.
Для подавляющего большинства мусульман во всем мире нет никаких сомнений в том, что два приведенных выше стиха при объединении и рассмотрении их в историческом контексте следует толковать как отказ от многоженства во всех его формах. Но по-прежнему есть среди мусульман и те, в особенности в таких племенных сообществах, как Саудовская Аравия и Афганистан, кто оправдывает свое многоженство, необязательно ссылаясь на Коран, но указывая на пример, поданный Мухаммадом, на которого ни ограничения на полигинию, ни выбор в пользу моногамии никак не повлияли.
После того как он более двадцати пяти лет провел в моногамном браке с Хадиджей, Мухаммад за десять лет пребывания в Ятрибе был женат на девяти разных женщинах. За редкими исключениями эти браки были не сексуальными, а политическими союзами. Это не означает, что Мухаммад не интересовался половыми отношениями; наоборот, предания представляют его как мужчину с сильным и здоровым либидо. Но как шейх уммы Мухаммад был обязан укреплять связи внутри сообщества и за его пределами, используя при этом единственное средство, которое было в его распоряжении, – брак. Таким образом, его союзы с Аишей и Хафсой связали его с двумя наиболее важными и влиятельными лидерами раннего мусульманского сообщества – Абу Бакром и Умаром соответственно. Его женитьба на Умм Саламе через год привела к установлению важных отношений с одним из самых могущественных кланов Мекки – Махзум. Его союз с Савдой, пожилой вдовой, давно вышедшей из возраста замужества, послужил для уммы примером женитьбы на тех женщинах, которые нуждались в материальной поддержке. Его брак с Райханой связал его с еврейским племенем Бану Курайза, в то время как брак с Марией, коптской христианкой, привел к созданию важного политического союза с христианским правителем Египта.
Тем не менее на протяжении четырнадцати веков – от средневековых пап времен крестовых походов до европейских философов Просвещения и евангелических проповедников в США – сюжет о женах Мухаммада оставался источником многочисленных яростных атак на Пророка и религию ислама. В ответ современные ученые – мусульмане и немусульмане – проделали значительную работу по защите браков Мухаммада, в особенности его союза с Аишей, которой не было и девяти лет на момент обручения с Пророком. Хотя эти ученые достойны высшей похвалы за свою работу по развенчанию фанатичной и невежественной критики антиисламских проповедников и знатоков, все дело в том, что Мухаммад не нуждается в защите по этому вопросу.
Как и великие еврейские патриархи Авраам и Иаков, как пророки Моисей и Осия, как цари Израилевы Саул, Давид и Соломон и как почти все христианские (византийские) и зороастрийские (сасанидские) монархи, все шейхи в Аравии, включая Мухаммада, имели несколько жен или несколько наложниц, либо и то и другое. В Аравии VII в. власть шейха и его авторитет в значительной степени определялись размером его гарема. И хотя союз Мухаммада с девятилетней девочкой может показаться шокирующим с точки зрения современных представлений, его помолвка с Аишей была именно помолвкой. Аиша не вступала в брачные отношения с Мухаммадом до достижения половой зрелости, то есть возраста, когда каждая без исключения девушка в Аравии имела право вступить в брак. Самым поразительным в истории с браками Мухаммада было не то, что он десять лет в Ятрибе был полигамен, а то, что он двадцать пять лет прожил в браке с одной женщиной в Мекке – нечто неслыханное по тем временам. На самом деле, если в браках Мухаммада есть что-то интересное или необычное, это не то, сколько у него было жен, а те правила, которые были наложены на них, особенно в связи покрытием лица.
Хотя вуаль долгое время считалась самой отличительной эмблемой ислама, удивительно, что нигде в Коране она не упоминается в контексте обязательного ношения. Традиция покрывать лицо вуалью и традиция уединения (вместе известные как хиджаб) были введены в жизнь Аравии задолго до Мухаммада, прежде всего через арабские контакты с Сирией и Ираном, где хиджаб был знаком социального статуса. В конце концов, только женщина, которая не должна была работать в полях, могла позволить себе оставаться в уединении и покрывать лицо вуалью.
В умме традиция покрывать лицо не существовала почти до 627 г., когда сообществу был неожиданно явлен так называемый стих о хиджабе. Этот стих, однако, был адресован не всем женщинам в целом, а исключительно женам Мухаммада: «О те, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, если только не будет разрешена вам еда… Но когда вас позовут, то входите, а когда покушаете, то расходитесь, не вступая дружески в беседу… А когда просите их о какой-нибудь утвари, то просите их через завесу. Это вам чище для ваших сердец и их сердец» (33:53).
Это ограничение имеет большой смысл, если вспомнить, что дом Мухаммада был так же мечетью общины – центром религии и социальной жизни в умме. Люди постоянно сновали здесь туда-сюда в любое время дня. Когда делегации от других племен приходили побеседовать с Мухаммадом, они устанавливали свои палатки на несколько дней на территории открытого двора, всего в нескольких шагах от покоев, где спали жены Мухаммада. Те, кто прибывал в Ятриб, чтобы поселиться здесь, также зачастую останавливались в стенах мечети до тех пор, пока не находили подходящие жилища.
Когда Мухаммад был по статусу сродни шейху племени, такая постоянная возня могла быть терпима. Но к 627 г., когда он стал в высшей степени могущественным лидером все более разрастающейся общины, возникла необходимость установить некоторое разделение для поддержания неприкосновенности его жен. Таким образом, укоренилась традиция, заимствованная от женщин высшего общества Ирана и Сирии, по вуалированию и сокрытию от посторонних глаз наиболее важных персон женского пола.
То, что распоряжение по ношению вуали применялось только в отношении жен Мухаммада, подкрепляется тем фактом, что термин для обозначения процесса надевания вуали, дарабат аль-хиджаб, использовался как взаимозаменяемый синоним выражению «становиться женой Мухаммада». По этой причине при жизни Пророка ни одна другая женщина в умме не соблюдала традицию ношения хиджаба. Конечно, скромность предписывалась как верующим мужчинам, так и женщинам, в то время как последним было дано указание следовать по стопам жен Пророка: «…пусть они сближают на себе свои покрывала. Это лучше, чем их узнают; и не испытают они оскорбления» (33:59). В частности, в присутствии незнакомых мужчин женщины должны были поступать следующим образом: «пусть они охраняют свои члены и… пусть набрасывают свои покрывала на разрезы на груди» (24:31–32; отметим, что слово, используемое для существительного «покрывала», – это хамр, а не хиджаб). Однако, как верно замечает Лейла Ахмед, во всем Коране понятие «хиджаб» ни разу не употребляется в отношении каких-либо других женщин, кроме жен Мухаммада.
Сложно сказать определенно, когда вуаль была принята к ношению остальной частью уммы, скорее всего, это произошло значительно позже смерти Мухаммада. Мусульманки, вероятно, начали носить вуаль в подражание женам Пророка, которые почитались как «матери уммы». Но на протяжении поколений после смерти Мухаммада вуаль не была ни обязательной, ни, если на то пошло, широко принятой, когда значительное число мужчин – писателей и ученых – начали использовать свой религиозный и политический авторитет для восстановления господства в обществе, которое они утратили в результате эгалитарной реформы Пророка.
Эпоха, последовавшая сразу за смертью Мухаммада, как станет очевидно, была бурным временем для мусульманской общины. Росла численность населения уммы и с поразительной скоростью увеличивались ее благосостояние и сила. Всего через пятьдесят лет после кончины Пророка крошечная община, которую Мухаммад основал в Ятрибе, разрослась за пределы Аравийского полуострова и поглотила всю огромную Сасанидскую империю в Иране. Полвека спустя она закрепилась в большей части северо-западной Индии, охватила всю Северную Африку и низвела христианскую Византийскую империю до положения чахнущей региональной державы.
Поскольку маленькая община арабских последователей Мухаммада превратилась в одну из крупнейших империй, которую когда-либо видел мир, ей пришлось столкнуться со многими юридическими и религиозными проблемами, которые прямо не упоминались в Коране. Если бы Мухаммад был жив, решение этих вопросов можно было бы передать ему. Но без Пророка постепенно становилось все труднее определять Божью волю по вопросам, которые выходили за рамки накопленных знаний и опыта группы арабских соплеменников.
В первую очередь умма, естественно, обратилась с предложением возглавить сообщество к ранним Сподвижникам Мухаммада. Как представители первого поколения мусульман Сподвижники, люди, которые скитались с Пророком и говорили с ним, пользовались авторитетом в принятии решений по юридическим и духовным вопросам благодаря непосредственному знанию жизни и учения Мухаммада. Они были живым источником хадисов – устных историй, передающих слова и дела Пророка.
Хадисы, поскольку они обращались к вопросам, не затронутым в Коране, стали незаменимыми в формировании исламского права. Однако на ранних этапах они были очень путаны и абсолютно не регламентированы, что делало установление их подлинности почти невозможным. Усугубило ситуацию то, что с уходом первого поколения общине пришлось все больше полагаться на рассказы второго поколения мусульман (известных как табиун), полученные ими от своих предшественников. Когда умерли представители второго поколения, община еще на один шаг отдалилась от знания истинных слов и деяний Пророка.
Таким образом, с каждым последующим поколением «цепочка передачи», или иснад, которая, как предполагалось, должна была установить подлинность хадисов, становилась все длиннее и запутаннее, поэтому менее чем за два века после смерти Мухаммада появилось уже около 700 000 хадисов, распространившихся на всей территории мусульманских земель. Большинство из этих хадисов, несомненно, были сфабрикованы теми лицами, которые стремились придать юридическую силу собственным убеждениям и практикам, связав их с именем Пророка. Через несколько поколений почти любая история могла получить статус хадиса, если кто-то заявлял, что ее истоки восходят к Мухаммаду. Венгерский ученый Игназ Голдзихер задокументировал многочисленные хадисы, которые были объявлены как полученные от Мухаммада, но на самом деле представляли собой стихи из Торы и Евангелий, строки из раввинских высказываний, древних персидских максим, отрывки из греческой философии, индийские пословицы и даже почти дословное воспроизведение «Отче наш». В IX в., когда исламское право уже было сформировано, существовало так много неправдивых хадисов, циркулирующих в общинной среде, что мусульманские ученые-правоведы несколько причудливо классифицировали их на две категории: ложь, рассказанная с целью получения материальной выгоды, и ложь по идеологическим соображениям.
В IX и X вв. была проделана значительная работа по просеиванию огромного числа хадисов, чтобы отделить те, что заслуживают доверия, от остальных. Тем не менее в течение сотен лет человеку, имевшему власть и богатство, необходимые для воздействия на общественное мнение по конкретному вопросу, и желавшему оправдать свои идеи, скажем о роли женщины в обществе, достаточно было просто сослаться на хадис, который он слышал от кого-то, а тот слышал от кого-то еще, кто, в свою очередь, слышал эту историю от Сподвижника, который слышал ее от Пророка.
Поэтому не будет преувеличением сказать, что весьма скоро после смерти Мухаммада люди, которые взяли на себя задачу по толкованию Божьей воли в Коране и воли Мухаммада в хадисах, люди, которые по совпадению считались самыми могущественными и богатыми членами уммы, были не столько заинтересованы в точности своих рассказов или объективности толкования, сколько стремились вернуть себе финансовое и социальное господство, которое потеряли вследствие реформ Пророка. Как отмечает Фатима Мернисси, следует всегда помнить, что за каждым хадисом лежит укоренившаяся борьба за власть и конфликтующие интересы, которые можно ожидать в обществе, «где социальная мобильность (и) географическая экспансия (были) повесткой дня».
Таким образом, тогда как Коран предостерегал верующих не передавать «богатство и собственность слабоумным (суфаха)», первые составители комментариев к Корану – все они были мужчинами – заявили, несмотря на предупреждения Корана по этому вопросу, что «суфаха – это женщины и дети… и они должны быть лишены права наследования» (выделено автором).
Когда богатый и знаменитый торговец из Басры Абу Бакра (не путать с Абу Бакром) объявил через двадцать пять лет после смерти Мухаммада, что он однажды слышал, как Пророк сказал: «Те, кто доверяют свои дела женщине, никогда не узнают благополучия», его авторитет как Сподвижника стал несомненным.
Мнение Ибн Маджи, хотя и противоречило требованиям, изложенным в Коране, стало бесспорным, когда он в своем собрании хадисов сообщил, что Пророк, отвечая на вопрос о том, какие права имеет женщина по сравнению со своим мужем, якобы заявил, что ее единственное право – получать еду, «когда вы сами едите», и быть одетой, «когда вы сами одеваетесь».
Когда Абу Саид аль-Худри поклялся, что слышал, как Пророк говорил группе женщин: «Я никогда не видел более глупых и слабых в своей вере, чем вы», его воспоминания не были подвергнуты сомнению, несмотря на тот факт, что биографы Мухаммада неоднократно представляли Пророка как интересующегося мнением своих жен и следующего их советам даже в военных вопросах.
И наконец, когда прославленный составитель комментариев к Корану Фахруддин ар-Рази (1149–1209) истолковал строку «Он создал для вас из вас самих жен, чтобы вы жили с ними, устроил между вами любовь и милость» (30:21) как «доказательство того, что женщины были созданы подобно животным, растениям и другим (и не) для поклонения и исполнения заповедей Бога… поскольку женщина слаба, глупа и, в каком-то смысле, как ребенок», его комментарий стал (и продолжает быть) одним из широко почитаемых в мусульманском мире.
Дело в том, что на протяжении четырнадцати веков наука о комментариях к Корану была исключительно прерогативой мусульманских мужчин. И поскольку каждый из этих толкователей неизбежно привносил в текст Корана собственные убеждения и предвзятые понятия, не стоит удивляться тому, что некоторые стихи зачастую читаются в высшей степени женоненавистнической интерпретации. Рассмотрим, например, как строки (4:34) об обязательствах мужчин перед женщинами были переведены на английский язык двумя разными, но равным образом широко известными современными переводчиками Корана. Первая версия издана Ахмедом Али при поддержке Принстонского университета, вторая – Маджидом Фахри (Нью-Йоркский университет).
Мужчины – опора женщин [каввамуна ала ан-ниса], поскольку Бог дает больше средств, чем другие, и потому что они тратят свое богатство (чтобы обеспечить их)… В отношении тех женщин, которые, как вы чувствуете, к вам неохотны, говорите с ними сурово, затем оставьте их на ложе одних (не досаждая им) и ложитесь с ними в постель (когда они того захотят).
Мужчины в ответе за женщин, потому что Аллах сделал некоторых из них превосходящими других и потому что они тратят часть своего богатства. А в отношении тех [женщин], которые, вы опасаетесь, могут взбунтоваться, увещевайте их и покидайте их на ложе, и побивайте их [адрибухунна].
Из-за вариативности арабского языка оба эти перевода грамматически и лексически верны. Фраза каввамуна ала ан-ниса может быть истолкована как охранять, защищать, поддерживать женщин, уделять им внимание, заботиться о них или быть ответственным за них. Последнее слово в этом стихе адрибухунна, которое Фахри перевел как «побивайте их», в равной степени может означать «отворачивайтесь от них», «идите вместе с ними» и, что примечательно, даже «вступайте с ними в сексуальный контакт». Если религия – это действительно толкование, то выбор значения, которое тот или иной человек принимает и которому следует, зависит от того, что он хочет извлечь из текста. Если один рассматривает Коран как инструмент, наделяющей женщин полнотой прав, тогда для него правомерен перевод Али; если для другого Коран служит для оправдания насилия над женщинами, тогда уместен вариант Фахри.
Исламская история знает несколько женщин, которые боролись за поддержание своего авторитета как хранительниц хадисов и толкователей Корана. Карима бинт Ахмад (ум. 1069) и Фатима бинт Али (ум. 1087), например, рассматриваются как одни из наиболее важных передатчиков преданий Пророка, в то время как Зейнаб бинт аль-Шаари (ум. 1220) и Дакика бинт Муршид (ум. 1345), исследовательницы текста, заняли видное место в раннем исламском академическом сообществе. И сложно игнорировать тот факт, что почти 1/6 всех «надежных» хадисов можно проследить до жены Мухаммада Аиши.
Однако эти женщины, прославленные такими, какие они есть, не были бесспорным авторитетом для людей из числа ранних Сподвижников Мухаммада, таких, например, как Умар – молодой дерзкий представитель элиты курайшитов, который в конечном итоге взял на себя руководство мусульманской общиной после смерти Мухаммада. Пророк всегда восхищался Умаром: не только его физической силой воина, но и его безупречной нравственной добродетелью и усердием, с помощью которых он приблизился к своему служению Богу. Во многих отношениях Умар был простым, достойным и благочестивым человеком, но он также обладал взрывным характером и был склонен к гневу и насилию, особенно в отношении женщин. Настолько позорно было его женоненавистничество, что, когда он попросил руки сестры Аиши, он был категорически отвергнут из-за грубого поведения с женщинами.
Склонность Умара к женоненавистничеству стала очевидна с того момента, когда он вознесся на руководящую позицию в мусульманской общине. Он пытался (безуспешно) ограничить жизнь женщин домом и хотел помешать им посещать богослужения в мечети. Он установил разделение молящихся и в прямое нарушение примера Пророка заставил женщин обучаться у религиозных лидеров-мужчин. Невероятно, но он запретил вдовам Мухаммада совершать паломничество и принял ряд декретов о строгих наказаниях, нацеленных главным образом на женщин. Основным среди них было избиение до смерти камнями за супружескую измену – наказание, которое абсолютно не имело никаких оснований в Коране, но которое было узаконено Умаром. Он заявил, что такое наказание было первоначально частью откровения, но каким-то образом было исключено из утвержденного текста. Конечно, Умар никогда не объяснял, как стало возможным, что стих, подобный этому, «случайно» исчез из божественного откровения. Но, впрочем, он и не должен был объяснять. Достаточно того, что он ссылался на авторитет Пророка.
Нет никаких сомнений в том, что Коран, как и все священные писания, был в значительной степени подвергнут влиянию культурных норм общества, в котором он появился, общества, где, как мы уже видели, женщину не считали равноправным членом племени. В результате в Коране мы находим множество стихов, которые наряду с еврейскими и христианскими писаниями ясно отражают подчиненное положение женщин в обществе древнего мира, где закреплено мужское доминирование. Но именно такое видение стало отправной точкой для нападок на протяжении последнего столетия со стороны разрастающегося мусульманского феминистского движения. Его представительницы доказывали, что религиозное послание Корана – послание о революционном социальном равенстве – должно быть отделено от культурных предрассудков общества Аравии VII в. И впервые в истории они инкорпорируют свои взгляды в мир толкований Корана, где доминируют мужчины.
Во всем исламском мире группы современных исследовательниц восстанавливают текст Корана с точки зрения, которой очень не хватает в исламоведении. Начиная с представления о том, что не моральные постулаты Корана, а социальные условия Аравии VII в. и безудержное женоненавистничество многих мужчин – толкователей Корана – привели к закреплению исторически сложившегося низшего статуса женщины в мусульманском обществе, исследовательницы стремятся освободить Коран от ограничений, заданных традиционными гендерными рамками. Мусульманские феминистки во всем мире работают в направлении достижения более гендерно-нейтрального толкования Корана и более сбалансированного применения исламского права. Первый перевод Корана на английский язык, выполненный женщиной – Лалех Бахтияр, был недавно опубликован и высоко оценен критиками в США и Европе, в то время как новая череда женщин-имамов, совершающих богослужения, в настоящее время руководит мусульманскими общинами в различных частях света от Торонто до Шанхая. Вместе с тем наблюдается постепенный численный рост женщин на посту глав государств и лидеров политических партий в странах с преобладающим мусульманским населением: Маме Мадиор Бойе в Сенегале, Тансу Чиллер в Турции, Качуша Яшари в Косово, Мегавати Сукарнопутри в Индонезии, Нурул Изза Анвар в Малайзии, Беназир Бхутто в Пакистане (была трагически убита террористом-смертником в 2007 г.), Халеда Зиа и Шейх Хасина в Бангладеш. За последние несколько лет исламский мир произвел больше президентов и премьер-министров из числа женщин, чем Европа и Северная Америка, вместе взятые.
Конечно, существует много государств с преобладающим мусульманским населением, где женщины по-прежнему не имеют равных с мужчинами юридических прав; то же самое можно сказать и о большинстве развивающихся стран во всех частях света – мусульманских и немусульманских. И без сомнения, незавидное положение женщин в таких государствах, как Иран, Афганистан, Судан и Сомали, ужасающе и требует срочного внимания. Тем не менее использование опыта жизни женщин в этих странах для широкого обобщения представлений об отношении к женщинам в исламе будет грубым упрощением. К сожалению, именно это и происходит во всем западном мире, где образ мусульманки, как несомненно угнетаемой и деградирующей из-за положений ислама, не только настойчиво сохраняется, но и выражается почти исключительно в единственном символе – хиджабе. В сущности, порой кажется, что для многих в Европе и Северной Америке вся жизнь мусульманских женщин определяется куском ткани, в отношении которого она вольна или не вольна выбирать – покрывать ли ей им голову.
Бесспорно, это не новое явление. Несмотря на тот факт, что покрытие головы – это обычай, который существует в бесчисленном количестве культур на протяжении тысяч лет как среди мужчин, так и среди женщин, в глазах многих на Западе вуаль долгое время рассматривалась как наиболее выдающаяся эмблема «инаковости» ислама. Европейцы, в частности, были одержимы вуалью еще с момента эротических путешествий писателей-ориенталистов, таких как Густав Флобер и сэр Ричард Бертон, которые создали фетиш из образа мусульманской женщины как восточной femme fatale[11]. Этот образ получил новую жизнь в работах европейских колониалистов, таких как Альфред, лорд Кромер, британский генеральный консул в Египте, для которого хиджаб был символом «деградации женщин» и окончательным доказательством того, что «ислам как социальная система потерпел абсолютное поражение». Примечательно, что джентльмен, представляющий колониальную страну, был при этом основателем Мужской лиги противостояния женскому движению суфражисток в Англии. Кромер не интересовался тяжелым положением мусульманских женщин как таковым; хиджаб для него был иконой «отсталости ислама» и наиболее заметным оправданием «цивилизаторской миссии» Европы на Ближнем Востоке.
В современном мире хиджаб стал символом не только овеществления мусульманской женщины, но также широкой пропасти в ценностях и нравах, которая, как настаивают многие, разделяет ислам и Запад. Отсюда недавно вступившие в силу законы, запрещающие мусульманкам ношение отдельных видов хиджаба во Франции и других странах Европы. Сторонники таких запретов утверждают, что хиджаб – это оскорбление принципов Просвещения, на которых основана Европа. Они заявляют, что хиджаб по определению является проклятием концепции освобождения женщины. Как сказал французский президент Николя Саркози, подписывая соответствующий закон: «В нашей стране мы не можем считаться с тем, чтобы женщины были заключенными за завесой, чтобы они были отрезаны от всех проявлений общественной жизни, лишены идентичности». Конечно, в центре его утверждения – абсолютно женоненавистническое убеждение в том, что ни одна мусульманка добровольно не выберет ношение хиджаба, что ее заставляют его носить (муж, или отец, или социальные ограничения, установленные ее религией), что фактически мусульманки не способны сами решать, что они должны носить, а что – нет, поэтому именно государство должно решить за них.
Это не значит, как полагают столь многие либеральные мусульманские реформаторы, что хиджаб в действительности – символ расширения прав мусульманских женщин. Это аргумент, ставший известным благодаря выдающемуся иранскому политическому философу Али Шариати (1933–1977) и его знаменитой книге «Фатима – дочь Пророка». Для Шариати и других людей, разделяющих его точку зрения, хиджаб – это не символ угнетения женщин, а скорее знак усиленного противодействия западному женскому образу. Но, какой бы привлекательной эта идея ни была, она по-прежнему трагически грешит недостатком, связанным с тем, что Шариати описывает нечто, о чем не имеет никакого представления.
Правда заключается в том, что традиционный образ закрытой чадрой мусульманской женщины как защищенной и послушной сексуальной собственности своего мужа настолько же обманчивый и глупый, как и постмодернистское изображение вуали как эмблемы расширения прав и женской свободы от культурной гегемонии Запада. Вуаль может быть и тем и другим или ничем из этого, но решение зависит исключительно от самих мусульманок. Каким бы ни был выбор в отношении одежды, это выбор самой женщины, и только ее. Ни мужчина, ни государство не определяют правильную «женскость» в исламе. Те, кто относится к мусульманке не как к личности, а как к символу исламского целомудрия или светского либерализма, повинны в том же грехе – в овеществлении женщины.
Это, по сути, служит основой так называемого мусульманского женского движения, которое зиждется на идее о том, что именно общество, где доминируют мужчины, а не ислам, несет ответственность за подавление женщин в столь многих государствах с преобладающим мусульманским населением. По этой причине мусульманские феминистки по всему миру выступают за возвращение к тем основам общества, которые Мухаммад изначально завещал своим последователям. Несмотря на различия в культуре, национальности и убеждениях, они считают, что тот урок, который был получен от Пророка, те беспрецедентные права и привилегии, которыми он наделил женщин, доказывают, что ислам прежде всего – религия равенства. Медина в представлении феминисток – это общество, в котором Мухаммад назначал женщин наподобие Умм Варака духовными руководителями уммы; где самому Пророку публично делали замечания его жены; где женщины молились и сражались наравне с мужчинами; где женщины, как Аиша и Умм Салама, действовали не только как религиозные, но и как политические – а в некоторых случаях и как военные – лидеры; и где призыв к молитве, раздававшийся с крыши дома Мухаммада, собирал мужчин и женщин вместе, без разделения, и они благословлялись как представители единой общины.
Этот революционный эксперимент по построению социального равенства был настолько успешным, что в период с 622 по 624 г. число членов уммы очень быстро возросло как за счет вступления новых ансаров в Медину, так и за счет наплыва эмигрантов, желающих присоединиться к тому, что происходит в городе Пророка. Хотя, по правде говоря, это по-прежнему еще был Ятриб. Он не мог должным образом называться Мединой до тех пор, пока Мухаммад не переключил внимание от своих эгалитарных реформ вновь к святому городу Мекка и могущественному племени, которое распространяло власть на всю Аравию.
4. Усердие на пути Аллаха
Значение джихада
Посланнику Бога в Ятрибе снится сон. Он стоит на широком лугу. Рядом пасется скот. Пророк держит в руке обнаженный меч, сверкающий на солнце. На лезвии клинка сделан дол. Приближается война. Но на мирном лугу, среди пасущихся животных, при теплом свете царит спокойствие. И кажется, это хорошее предзнаменование. Пророк, осмотрев себя с головы до ног, видит, что облачен в неуязвимую кольчугу. Не о чем волноваться. В его руке меч. Он смотрит прямо на необъятный горизонт, высокий и уверенный, ожидая начала боя.
Когда Мухаммад просыпается, он сразу понимает значение этого сна: курайшиты близко. Однако то, что они в настоящий момент направляются в сторону Ятриба с хорошо вооруженным трехтысячным войском и двумястами единицами кавалерии, чтобы положить конец деятельности Мухаммада и его движению раз и навсегда, он знать не может. Согласно обычаю, за солдатами следует небольшая группа женщин, украшенных драгоценностями и облаченных в свои лучшие туники. Эту группу ведет сильная и загадочная женщина по имени Хинд, это жена Абу Суфьяна, нового шейха курайшитов. Годом ранее, в 624 г., когда курайшиты в первый раз столкнулись с Мухаммадом и его последователями при Бадре, брат и отец Хинд были убиты дядей Мухаммада по имени Хамза. Сейчас, проделывая трудный и долгий путь через всю пустыню, крепко ухватив подол своей развевающейся белой туники руками, она служит живым напоминанием того, что именно сподвигло курайшитов наконец довести борьбу за контроль над Аравией до порога дома Мухаммада.
«Утолите мою жажду мести! – кричит она мужчинам, марширующим перед ней. – И утолите свою!»
В это же время Ятриб полнится слухами о надвигающемся нападении. Еврейские кланы, которые не хотят быть вовлеченными в эту борьбу между Мухаммадом и Меккой, выстраивают фортификационные сооружения, в то время как умма начинает неистово собирать оружие и провизию, какие только можно найти, готовясь к осаде. На рассвете звучит призыв к молитве в мечети для всей общины, где Мухаммад сдержанно подтверждает слухи.
Это правда, что курайшиты надвигаются на Ятриб, объявляет он; но вместо того, чтобы выйти и сойтись с ними в битве, он предлагает остаться на месте и ждать, когда враги сами придут к ним. Он убежден, что кольчуга, в которую он был облачен во сне, обозначает неуязвимые оборонительные укрепления Ятриба. Если курайшиты действительно достаточно глупы, чтобы атаковать этот оазис, заявляет он, тогда мужчины будут сражаться с ними на улицах и в переулках, в то время как женщины и дети будут бросать в них камни с верхушек пальмовых деревьев.
Последователи Мухаммада скептически отнеслись к его плану. Они хорошо помнили урок, который они преподали курайшитам при Бадре. Значительно уступая в численности, небольшая группа Мухаммада нанесла тяжелые потери могущественной армии Мекки, заставив ее отступить в полном унижении. Конечно, они вновь уничтожат их в битве.
«О, Посланник Бога, – провозгласили они, – веди нас прямиком к нашим врагам, иначе они подумают, что мы слишком трусливы и слабы, чтобы встретиться с ними лицом к лицу».
Этот ответ смутил Мухаммада, который считал, что его сон был посланием Бога. И чем больше убеждали его выйти навстречу врагу, тем больше он колеблется. Даже его самые доверенные советники разделились во мнении, как поступить. Наконец, изведенный спорами, понимая, что решение должно быть принято, Мухаммад встает и приказывает принести ему кольчугу. Они встретятся с курайшитами в открытой пустыне.
Всего с несколькими сотнями мужчин и горсткой женщин, включая Аишу и Умм Саламу, которые почти всегда сопровождали его в битвах, Мухаммад выдвигается к открытой местности, расположенной в нескольких милях к северо-западу от Ятриба, у подножия горы Ухуд, где, как он слышал, курайшиты разбили лагерь, планируя нападение. У горы Ухуд он пробирается вниз к ущелью и разбивает свой лагерь на противоположной по руслу реки стороне недалеко от армии Мекки. Отсюда он может различить палатки курайшитов. Мухаммад оценивает их превосходство в численности и количестве оружия. Его сердце замирает, когда он видит сотни лошадей и верблюдов, пасущихся на близлежащем пастбище. Его люди привели только две лошади; верблюдов же у них нет совсем.
Мухаммад приказывает своим последователям разбить лагерь и ждать рассвета. Утром, когда небо начинает розоветь, он вскакивает на коня и осматривает свои войска в последний раз. Среди мужчин он видит детей, вооруженных мечами. Встав на цыпочки, они стараются влиться в строй. Он сердито выводит их из рядов и отправляет домой к их семьям, хотя некоторым удается укрыться от его пристального ока и вернуться на поле боя. Затем Мухаммад размещает лучников на вершине горы рядом со своим флангом, приказывая им «крепко держаться на месте, чтобы не быть атакованными с этого направления». Остальным мужчинам он выкрикивает свои последние наставления: «Никому не вступать в бой, пока я не дам такую команду!» Затем, словно чувствуя, что он не прислушался к предзнаменованию своего сна, Мухаммад надевает вторую кольчугу и приказывает армии атаковать.
Почти в тот же момент курайшиты вступают в бой. Лучники Мухаммада выпускают град стрел на поле боя, защищая свои скудные войска и заставляя армию Мекки отступать с их позиций. Но по мере того, как курайшиты отходят, лучники – в прямое нарушение приказа Мухаммада не покидать своих мест – сбегают с горы, чтобы забрать добычу, оставленную отступающей армией. За небольшое время курайшиты перегруппировываются, и с незащищенным флангом Пророк и его воины быстро оказываются в окружении. Битва превращается в массовую резню.
Огромная армия Мекки быстро расправляется с войском Мухаммада. Поле боя усеяно телами погибших. Курайшиты все ближе и ближе, и несколько людей Мухаммада образуют плотный круг вокруг него, чтобы оградить Пророка от наступающей армии и дождя стрел, льющегося со всех сторон. Одно за другим изрешеченные стрелами тела мужчин падают к ногам Мухаммада, пока в живых не остается последний воин. Но вот сражен и он.
Оставшись один, Мухаммад встает на колени рядом со своими мертвыми воинами и продолжает вслепую пускать стрелы по курайшитам до тех пор, пока лук не ломается в его руках. Он беззащитен и серьезно ранен: его челюсть сломана, зубы выбиты, губа рассечена, лоб изранен и покрыт кровью. На мгновение Пророк замирает, пытаясь собраться с последними силами и атаковать противника, и вдруг один из его людей – здоровенный воин по имени Абу Дуджана – выбегает на поле боя, хватает Мухаммада и тащит его в ущелье, куда стянулись выжившие.
Внезапное исчезновение Пророка с поля сражения порождает слухи о том, что он убит, и, по иронии, это именно та отсрочка, которая нужна людям Мухаммада. Узнав о его смерти, курайшиты прекращают нападение – битва закончена. Остатки армии Мухаммада, окровавленные и униженные, тихо отступают к Ятрибу, а Абу Суфьян поднимается на вершину горы и, победоносно подняв свой изогнутый меч к небу, кричит: «Превозносим Тебя, Хубал! Превозносим!»
Позже, когда при Ухуде воцаряется спокойствие, Хинд и остальные женщины курайшитов бродят по полю битвы, нанося увечья телам мертвых: обычная практика в доисламской Аравии. Женщины отрезают носы и уши павшим воинам Мухаммада, чтобы сделать из них браслеты и ожерелья. Но у Хинд более важная цель. Она отделяется от остальных, чтобы найти тело дяди Мухаммада, Хамзы, – человека, убившего ее отца и брата при Бадре. Наконец отыскав его тело, она опускается на колени рядом с ним, вскрывает ему живот, извлекает оттуда голыми руками печень и впивается в нее зубами, тем самым завершая месть в отношении Посланника Бога.
* * *
Ислам так часто изображался даже современными учеными как «воинственная религия, последователи которой – воины-фанатики, занимающиеся распространением своей веры и своего закона силой оружия», цитируя историка Бернарда Льюиса, что образ мусульманских полчищ, словно рой саранчи исступленно бросающихся в битву, стал одним из самых прочных стереотипов в западном мире. «Ислам никогда в действительности не был религией спасения, – писал выдающийся социолог Макс Вебер. – Ислам – это религия воинов». Это религия, которую Сэмюэль Хантингтон назвал погруженной «в кровавые границы».
Этот глубоко укоренившийся стереотип об исламе как о религии воинов берет свое начало в папской пропаганде эпохи крестовых походов, когда мусульмане изображались как солдаты Антихриста, богохульно оккупировавшие святые земли (и, что более важно, территории, по которым пролегал шелковый путь в Китай). В Средние века, в то время как мусульманские философы, ученые и математики сохраняли знание о прошлом и определяли развитие науки будущего, воинственная и раздробленная Священная Римская империя, пытаясь оградить себя от натиска турок, которые душили ее со всех сторон, назвала ислам «религией меча», будто в ту эпоху были другие средства территориальной экспансии, кроме войны. А европейские колонизаторы XVIII и XIX вв., систематически изымая природные ресурсы Ближнего Востока и Северной Африки, непреднамеренно создали бешеный политический и религиозный резонанс, который и породил то, что теперь принято называть исламским фундаментализмом. Образ страшного мусульманского воина, «одетого в длинный халат и размахивающего ятаганом, готового убить любого неверного, который встанет у него на пути», стал широко популярным литературным клише. И продолжает им быть.
В настоящее время традиционный образ мусульманской орды так или иначе был заменен новым образом исламского террориста, опоясанного взрывчаткой, готового на смерть во имя Аллаха и стремящегося забрать с собой как можно больше невинных людей. Остается неизменным представление о том, что ислам – это религия, последователи которой втянуты в вечную священную войну, или джихад, со времен Мухаммада и по сей день.
Однако доктрина джихада, как и многие доктрины в исламе, не была полностью развита в идеологическом плане даже многие годы спустя после смерти Мухаммада, до тех пор пока мусульманские завоеватели не столкнулись с другими культурами и практиками народов Ближнего Востока. Следует помнить, что ислам зародился в эпоху существования огромных империй и глобальных завоеваний, в то время когда Византия и Сасанидское государство – теократические державы – находились в состоянии непрекращающейся религиозной войны за территориальную экспансию. Армии мусульман, которые распространились по всему Аравийскому полуострову, попросту присоединились к существующим распрям; они их не изобрели и не определили, хотя и быстро стали в них доминировать. Несмотря на общепринятое представление на Западе, мусульманские завоеватели не принуждали народы переходить в ислам; в действительности они это даже не поощряли. Дело в том, что финансовые и социальные преимущества арабских мусульман в VIII и IX вв. были таковы, что ислам быстро стал религией для элиты, в которую человек неарабского происхождения мог перейти, только пройдя все этапы сложного процесса, в первую очередь включавшего в себя обязательство приобретать товары только у арабов.
Эта эпоха характеризовалась также единением религии и государства. За исключением отдельных примеров (и мужчин и женщин), ни еврей, ни христианин, ни зороастриец, ни мусульманин того времени не определяли свою религиозную принадлежность через собственный конфессиональный опыт. Наоборот. Религия была этничностью, культурой и социальной идентичностью; она определяла политические, экономические и этические взгляды. Религия в большей степени, чем что-либо другое, была гражданством. Таким образом, Священная Римская империя имела свою официально санкционированную и юридически утвержденную версию христианства, равно как и империя Сасанидов – версию зороастризма. На Индийском субконтиненте вайшнавистские королевства (последователи Вишну и его воплощений) соперничали с шиваистскими королевствами (последователями Шивы) за осуществление контроля над территориями, в то время как в Китае буддистские и даосские правители сражались за политическое господство. В каждом из этих регионов, но особенно на Ближнем Востоке, где религия напрямую утверждалась государством, территориальная экспансия приравнивалась к религиозному прозелитизму. Словом, каждая религия была «религией меча».
Когда мусульманские завоеватели приступили к изучению механизмов ведения войны в исламе, в их распоряжении были блестяще разработанные и на высшем уровне утвержденные идеалы религиозной войны в том виде, в каком они были определены и воплощены на практике в Сасанидской и Византийской империях. Фактически термин «священная война» появляется не в связи с исламом. Он возник в эпоху христианских крестоносцев, которые первыми стали использовать это понятие для придания законного основания тому, что в действительности было борьбой за территории и торговые пути. Термин «священная война» не использовался мусульманскими завоевателями, и ни в коем случае его нельзя считать подходящим определением для слова «джихад». В арабском языке множество слов, которые можно перевести как «война», и «джихад» к ним не относится.
Слово джихад буквально обозначает борьбу, стремление или большое усилие. В своей первоначальной религиозной коннотации (иногда называемой «большой джихад») под этим словом понимается усердие души по преодолению греховных препятствий, которые удерживают человека от Бога. Именно поэтому за словом «джихад» почти всегда в Коране следует фраза «на пути Аллаха». Однако поскольку ислам эту внутреннюю борьбу за святость и подчинение считает неотделимой от внешней борьбы за благо человечества, «джихад» чаще ассоциируется со своим вторичным значением (так называемый «меньший джихад»): то есть это любое усилие – военное или какое-либо другое – против угнетения и тирании. И в то время как такое определение джихада порой служит инструментом манипуляций борцов и экстремистов для придания религиозного обоснования тому, что стоит на социальной и политической повестке дня, оно не отражает в должной степени того, как понимал этот термин Мухаммад.
Война, согласно Корану, может быть справедливой или несправедливой, но никогда «священной». В действительности джихад лучше всего трактовать как первозданную «теорию справедливой войны» – теорию, возникшую из необходимости и получившую свое развитие в разгар кровавой и зачастую хаотичной войны, которая разразилась в 624 г. между малочисленными, но растущими силами общины Мухаммада и всемогущими и вездесущими курайшитами.
Что странно, казалось, курайшиты поначалу совершенно не волновались об успехе общины Мухаммада в Ятрибе. Определенно они знали, что происходило. Курайшиты сохраняли свои лидирующие позиции в Аравии, поддерживая работу сети шпионов на всей территории полуострова; ничто, угрожавшее их авторитету или их прибыли, не могло остаться незамеченным. И хотя они, возможно, были обеспокоены ростом числа последователей Пророка, до тех пор, пока деятельность его общины территориально ограничивалась Ятрибом, Мекка была рада позабыть о Мухаммаде. Но Мухаммад не желал забывать о Мекке.
Возможно, величайшее преобразование, произошедшее в Ятрибе, было связано не с традиционной племенной системой, а с самим Пророком. По мере того как менялась природа откровения от общих утверждений о добре и силе Бога к конкретным правовым и гражданским правилам для построения и поддержания справедливого и равноправного общества, менялось и пророческое сознание Мухаммада. Его послание отныне предназначалось не только для «матери городов [Мекки] и тех, кто кругом ее» (6:92). Огромный успех уммы в Ятрибе убедил Мухаммада в том, что Бог призвал его не только для того, чтобы предупредить его племя и ближайшую родню (26:214). Он отныне осознавал свою роль как «милость для миров» (21:107) и Посланника «всему человечеству» (12:104, 81:27).
Конечно, вне зависимости от того, насколько популярной и успешной стала его община, она никогда не могла надеяться на расширение за пределы границ Ятриба, если бы религиозный, экономический и социальный центр Аравии продолжал выступать против. В конце концов Мухаммаду пришлось бы ему противостоять и попытаться перетянуть курайшитов на свою сторону. Но для начала он должен был привлечь их внимание.
Узнав в Мекке, что единственный действенный путь противостояния курайшитам лежит через их кошелек, Мухаммад принял необычайно смелое решение объявить Ятриб священным городом (харам). Такое объявление, закрепленное в Мединской конституции, означало, что Ятриб отныне мог стать местом паломничества и законным центром торговли (две эти ипостаси были почти неразделимы в древней Аравии). Это было не только финансовым решением. Провозгласив Ятриб священным, Мухаммад намеренно бросал вызов религиозной и культурной гегемонии Мекки на полуострове. И чтобы удостовериться, что курайшиты получили его послание, он отправил своих последователей в пустыню для участия в вековой арабской традиции караванных рейдов.
В доисламской Аравии караванные рейды были законным средством малых кланов урвать часть богатства более крупных кланов. Это никоим образом не считалось воровством, и до тех пор, пока не произошло никакого насилия и не пролилась кровь, не было необходимости в возмездии. Нападающие внезапно набрасывались на караван – обычно с тыла – и забирали все, что могли унести в руках, прежде чем их опознают. Такие периодически совершаемые рейды определенно доставляли неприятности лидерам караванов, но в целом считались частью того комплекса естественных опасностей, которые поджидали путников, везущих большое количество товаров, на их пути через обширную и незащищенную пустыню.
Хотя поначалу такие рейды совершались от случая к случаю и приносили небольшую добычу, они обеспечивали умму остро необходимым и эффективно подрывали торговые потоки, идущие в Мекку и из нее. Незадолго до этого лидеры караванов, входящих в священный город, начали жаловаться курайшитам, что они более не чувствуют себя в безопасности, путешествуя по региону. Некоторые из них даже предпочли отправиться в Ятриб, чтобы получить защиту Мухаммада и его людей. Объемы торговли в Мекке стали сокращаться, прибыль была утрачена, и Мухаммад наконец привлек то внимание, к которому он стремился.
В 624 г., за год до сокрушительного поражения при Ухуде, Мухаммад получил новость о том, что огромный караван направляется в Мекку из Палестины, и размер его был слишком заманчивым, чтобы упустить такую возможность. Собрав группу из трехсот добровольцев (в основном эмигрантов), он приказал совершить набег. Но как только его группа вышла за пределы Бадра, она внезапно столкнулась с тысячью воинов курайшитов. Произошла утечка информации о планах Мухаммада, и теперь курайшиты были готовы преподать небольшой группе повстанцев урок, который те не смогут забыть.
На протяжении нескольких дней две армии изучали друг друга с противоположных сторон обширной долины. Курайшиты, облаченные в белые туники, восседали на богато украшенных лошадях и высоких мускулистых верблюдах; члены уммы, одетые в лохмотья, были готовы к рейду, а не к войне. По правде говоря, ни одна из сторон не желала битвы. Курайшиты, вероятно, допускали, что их превосходство в численности приведет к незамедлительной капитуляции или по меньшей мере к покаянию противника. А Мухаммад, который должен был знать, что сражение с курайшитами не только окончится его смертью, но и положит конец существованию всей уммы, тревожно ожидал указаний от Бога.
«О Аллах, – продолжал он молиться, – если эти люди погибнут, тебе более не будут поклоняться».
Но было еще кое-что, что удерживало Мухаммада от наступления при Бадре, помимо угрозы уничтожения. Он отдавал себе отчет в том, что его послание не могло распространиться за пределы Аравии без капитуляции курайшитов, и знал, что эта капитуляция могла произойти только в условиях военного столкновения. Но вместе с тем Мухаммад понимал и то, что как откровение навсегда преобразовало социально-экономический ландшафт доисламской Аравии, так оно должно и изменить методы и нравы войны.
Это не означало, что в Аравии был недостаток «правил ведения войны». Их у языческих племен существовало целое множество с указанием того, когда и где должна происходить битва. Но по большей части эти правила были призваны сдерживать и ограничивать боевые действия, чтобы обеспечить выживание племени, а не устанавливать кодекс поведения. Ровно так же, как абсолютная мораль не играла значительной роли в племенной концепции закона и порядка, не влияла она и на становление таких понятий, как война и мир.
Доктрина джихада, по мере того как она медленно развивалась в Коране, была специально предназначена для разделения понятий войны в доисламском и исламском обществах и для наполнения последнего тем, что Мустансшер Мир называет «идеологически-этическим измерением», которое до этого не существовало на Аравийском полуострове. В центре доктрины джихада находилось ранее непризнанное различие между воюющими и теми, кто не участвует в боевых действиях. Таким образом, убийство женщин, детей, монахов, раввинов, стариков или любого другого, не принимающего участия в сражении, было категорически запрещено вне зависимости от обстоятельств. В конечном итоге мусульманский закон распространил этот запрет на пытки военнопленных, нанесение увечий мертвым, изнасилования, домогательства или любое сексуальное насилие во время боевых действий, убийство дипломатов, своевольное уничтожение собственности и снос религиозных и медицинских учреждений. Все эти правила столетия спустя будут включены в систему современных международных правовых норм о войне.
Но возможно, самым важным новшеством в доктрине джихада стало запрещение всех видов войн, кроме оборонительных. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, – гласит Коран, – но не преступайте – поистине, Аллах не любит преступающих!» (2:190). В другом отрывке Коран еще более прямолинеен: «Дозволено тем, с которыми сражаются, за то, что они обижены… тем, которые изгнаны из своих домов без права, разве только за то, что они говорили “Господь наш – Аллах”» (22:39; выделено автором).
Правда, некоторые строки в Коране наставляют Мухаммада и его последователей: «избивайте многобожников, где их найдете» (9:5), «боритесь с неверными и лицемерами» (9:73) и в особенности «сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день» (9:29). Однако нужно понимать, что эти строки были направлены конкретно против курайшитов и их скрытых сторонников в Ятрибе, именуемых в Коране «многобожниками» и «лицемерами» соответственно, из-за которых умма оказалась вовлечена в ужасную войну.
Тем не менее эти строки с давних пор используются в равной степени мусульманами и немусульманами как свидетельство того, что ислам выступает за борьбу с неверующими до тех пор, пока они не перейдут в религию Мухаммада. Но такая точка зрения не поддерживалась ни Кораном, ни Мухаммадом. Она была выдвинута в период расцвета эпохи крестовых походов, а отчасти и в ответ на них, более поздними поколениями исламских юристов, которые разработали то, что сейчас называют «классической доктриной джихада». Это доктрина, которая, помимо прочего, разделила мир на две сферы – территорию ислама (дар аль-ислам) и территорию войны (дар аль-харб), – причем первая постоянно стремится распространить свое влияние на вторую.
Когда эпоха крестовых походов подошла к концу, а внимание Рима переключилось с мусульманской угрозы на христианские реформаторские движения, которые стали возникать по всей Европе, классической доктрине джихада был брошен вызов новым поколением мусульманских ученых. Одним из них был Ибн Таймия (Таймиййа) (1263–1328), чье влияние на процесс формирования мусульманской идеологии сравнимо только с влиянием святого Августина на идеологию христианства. Ибн Таймия утверждал, что идея об убиении неверующих, отказавшихся переходить в ислам, – основа классической доктрины джихада – не только игнорирует пример самого Мухаммада, но также нарушает один из наиболее важных принципов Корана: «нет принуждения в религии» (2:256). Действительно, в этом отношении Коран непреклонен: «Истина – от вашего Господа: кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует» (18:29). Коран также риторически вопрошает: «Разве ж ты вынудишь людей к тому, что они станут верующими?» (10:100). Очевидно, что нет; поэтому Коран повелевает верующим говорить тем, кто не верит: «У вас – ваша вера, и у меня – моя вера!» (109:6).
Отрицание Ибн Таймией классической доктрины джихада спровоцировало появление ряда работ мусульманских политических и религиозных мыслителей в XVIII и XIX вв. В Индии Саид Ахмад-хан (1817–1898) использовал аргументы Ибн Таймии для утверждения неправомерности употребления понятия джихада в контексте борьбы за независимость от британской оккупации, поскольку британцы не подавляли религиозную свободу мусульманской общины Индии, то есть не было соблюдено требование Корана для санкционирования джихада (как можно себе представить, этот аргумент не пользовался популярностью в колониальной Индии). Чирак Али (1844–1895), протеже Ахмад-хана и один из первых мусульманских исследователей, продвинувших изучение Корана в сторону рациональной контекстуализации, утверждал, что современная мусульманская община не может воспринимать историческую умму Мухаммада как законный пример того, как и когда нужно вести войну, поскольку умма развивалась в то время, когда, как отмечалось, весь доступный для изучения мир был в состоянии перманентного конфликта. В начале ХХ в. египетский реформатор Махмуд Шалтут (1897–1963) использовал механизмы контекстуализации Корана Чирака Али, чтобы показать, что ислам объявляет вне закона не только те войны, которые ведутся не в ответ на прямую агрессию, но также и те, которые официально не санкционированы квалифицированным мусульманским юристом, или муджтахидом.
Но на протяжении последнего столетия, особенно после того как колониальный опыт привел к появлению нового типа исламского радикализма на Ближнем Востоке, классическая доктрина джихада возродилась на кафедрах и в аудиториях некоторых мусульманских интеллектуалов. В Иране аятолла Хомейни (1902–1989) избрал воинственную интерпретацию джихада: сначала для того, чтобы активизировать антиимпериалистическую революцию 1979 года, а затем чтобы подпитывать разрушительную восьмилетнюю войну с Ираком. Именно такое видение джихада как орудия войны способствовало основанию исламской военной группировки «Хезболла»[12], тактически использовавшей смертников, что дало начало ужасной новой эре международного терроризма.
В Саудовской Аравии Абдулла Юсуф Аззам (1941–1989), профессор исламской философии в Университете короля Сауда, использовал свое влияние среди молодежи, чтобы продвигать бескомпромиссную воинственную интерпретацию джихада, миссия по осуществлению которого, как он утверждал, была возложена на всех мусульман. Взгляды Аззама легли в основу деятельности палестинской военной группировки ХАМАС, которая приняла на вооружение тактику «Хезболлы» в своем противостоянии израильской оккупации. Его учение оказало исключительное влияние на одного студента – Усаму бен Ладена, в конечном итоге воплотившего в жизнь идеологию своего наставника и призвавшего к всемирной мусульманской кампании джихада против Запада, тем самым запустив ужасающую волну терроризма, которая привела к гибели нескольких тысяч невинных людей.
Кровавая террористическая организация, которую в конечном счете основал Усама бен Ладен, «Аль-Каида»[13] – лишь одно из проявлений значительно более широкого движения воинствующего исламского пуританства, обычно называемого джихадизмом (джихадия). Для этого движения характерна радикальная реинтерпретация концепции джихада. То, что на протяжении столетий определялось как коллективный долг, который может быть воплощен только в защите жизни, веры и собственности, в джихадизме было преобразовано в радикально индивидуалистическое обязательство, полностью отделенное от какой-либо институциональной власти. В руках «Аль-Каиды» и подобных ей джихадистских организаций по всему миру джихад с ужасающими последствиями стал наступательным оружием, которое согласно такому образу мышления применимо против всех, кто воспринимается как «враги» ислама, вне зависимости от того, мусульмане они или нет. Один из докладов Центра по борьбе с терроризмом при Военной академии США (Вест-Пойнт) показал, что в период с 2004 по 2006 г. 85 % из числа жертв атак «Аль-Каиды» составили мусульмане (в период с 2006 по 2008 г. это число выросло до 98 %!). Женщины, дети, старики, больные – все они стали объектами нападения со стороны джихадистов, несмотря на ясно прописанный в Коране запрет на нанесение вреда не принимающим участие в военных действиях. Именно поэтому действия джихадистских группировок наподобие «Аль-Каиды» столь широко осуждаются не только большинством мусульман во всем мире, но даже другими военными группировками, такими как палестинский ХАМАС и ливанская «Хезболла».
Почти каждый пятый человек в мире – мусульманин, и мало кто разделяет такую интерпретацию джихада. Этой доктриной манипулируют для оправдания личных предрассудков и политических идеологий, но джихад не представляет собой ни общепризнанную, ни единогласно определенную концепцию в мусульманском мире.
Правдиво утверждение, что борьба против несправедливости и тирании – это обязанность, возложенная на всех мусульман. В конце концов, если бы не было никого, кто мог бы противостоять деспотам и тиранам, тогда, как утверждает Коран, «скиты, и церкви, и места молитвы, и места поклонения, в которых поминается имя Аллаха, были бы разрушены» (22:40). Но тем не менее кораническое видение джихада может трактоваться исключительно как защитный ответ на угнетение и несправедливость и только в пределах четких правил этического поведения в битве. Ибо если, как утверждает политический теоретик Майкл Уолтцер, определяющий фактор «справедливой войны» – это установление конкретных правил, охватывающих как jus in bello[14], так и jus ad bellum[15], то нет лучшего способа описать доктрину Мухаммада о джихаде, кроме как представить ее древнеарабской теорией «справедливой войны».
Битва при Бадре в 624 г. стала первой возможностью для Мухаммада реализовать эту теорию джихада на практике. По мере того как шли дни, а две армии постепенно, дюйм за дюймом, продвигались ближе друг к другу, Мухаммад отказывался наступать прежде, чем его войско атакуют. Даже когда военные действия начались – в традиционной арабской манере с рукопашного боя между двумя-тремя воинами с обеих сторон, по завершении которого поле очищалось, а затем следующие бойцы избирались для сражения, – Мухаммад оставался стоять на коленях, ожидая послания от Аллаха. Наконец Абу Бакр, который не выдержал нерешительности Пророка, заставил его подняться и вступить в битву, которая, несмотря на нежелание Мухаммада, уже началась.
«О Пророк Аллаха, – сказал Абу Бакр, – не взывай так к своему Господу; ибо Бог непременно выполнит то, что Он обещал тебе».
Мухаммад согласился. Поднявшись с колен, он наконец призвал небольшую группу своих последователей довериться Богу и двинуться навстречу врагу.
Последовала жестокая схватка, которую итальянский историк Франческо Габриели назвал «большой перепалкой». Может быть, это была перепалка, но, когда бой прекратился и поле очистили от тел, не было никакого сомнения относительно того, кто оказался победителем. Поразительно, но Мухаммад потерял только дюжину своих людей, в то время как курайшиты были совершенно разбиты. Новости о победе Пророка над самым крупным и могущественным племенем Аравии достигли Ятриба задолго до того, как туда добрались сами победители. Умма ликовала. Битва при Бадре доказала, что Господь благословил Посланника. Стали распространяться слухи о том, что ангелы спустились на боле битвы, чтобы умертвить врагов Мухаммада. После Бадра Мухаммад не был более просто шейхом или хакамом, он и его последователи теперь являли собой новую политическую власть в Хиджазе. А Ятриб отныне был не просто агрокультурным оазисом, но и центром этой власти: городом Пророка, Мединой.
Битва при Бадре, по существу, привела к появлению двух противоположных групп в Аравии: тех, кто благосклонно относился к Мухаммаду, и тех, кто оставался преданным курайшитам. Стороны были выбраны. Представители кланов со всего полуострова наводнили Медину, чтобы стать союзниками Мухаммада, в то время как потоки курайшитских лоялистов стремительно покидали город с целью вернуться в Мекку. Интересно, что многие из числа этих лоялистов были ханифами, которые отказались примкнуть к движению Мухаммада, несмотря на свою связь с «религией Ибрахима», в первую очередь потому, что ханифизм требовал верности Каабе и ее хранителям – курайшитам.
Однако ни «обратная миграция» из Медины в Мекку, ни дезертирство ханифов не беспокоило Мухаммада. Он был озабочен гораздо более важным вопросом: в Медине есть предатель. Кто-то, кто сообщил курайшитам о планируемом налете на караван. И хотя вариантов было много, подозрения Мухаммада сразу пали на Бану Кайнука, один из крупнейших и самых богатых еврейских кланов в оазисе, и он осаждал укрепления этого клана пятнадцать дней, пока Кайнука наконец не сдался.
Опасения Мухаммада о предательстве Бану Кайнука не могли быть необоснованными. Большинство еврейских кланов в Медине имели жизненно важные коммерческие связи с курайшитами и не хотели принимать участие в войне между двумя городами, которая, как они полагали, станет затяжной. Присутствие Мухаммада в оазисе уже привело к некоторым финансовым трудностям. Политический союз между арабскими племенами и набирающим силу движением Мухаммада решительно подтачивал власть и авторитет еврейских кланов Медины. Бану Кайнука терпел особый урон в связи с решением Пророка об отмене рыночных пошлин, что привело к искоренению экономической монополии клана в Медине и значительно сократило его богатство. Война с Меккой только бы усугубила ситуацию еврейских кланов Медины, навсегда разрубив их экономические связи с курайшитами, которые были первичными потребителями поставляемых ими фиников, вина и оружия. Несмотря на победу при Бадре, по-прежнему не было причины верить в то, что Мухаммад сможет наконец одолеть курайшитов. В конце концов жители Мекки перегруппируются и вернутся, чтобы победить Пророка. И когда это произойдет, еврейские кланы должны будут абсолютно открыто присягнуть на верность курайшитам.
После битвы при Бадре Мухаммад также был глубоко обеспокоен вопросом верности своих соратников, и именно по этой причине он укрепил соглашения о взаимной защите в оазисе, оформив Мединскую конституцию. Этот документ, который Моше Гил метко назвал «актом подготовки к войне», ясно дал понять, что защита Медины – или по крайней мере разделение бремени по защите – это общая для всех жителей ответственность. И хотя конституция внесла ясность относительно религиозных и социальных свобод еврейских кланов Медины, заявив, что «евреям – своя религия, а мусульманам – своя», она тем не менее недвусмысленно предусматривала предоставление этими кланами помощи, «кто бы ни сражался против людей, поддерживающих этот документ». Проще говоря, конституция обеспечила механизмы, посредством которых Мухаммад мог выяснить, кто был на его стороне, а кто нет. Поэтому, когда он заподозрил, что клан Кайнука нарушил клятву о взаимной защите, он стал действовать быстро.
В соответствии с арабской традицией наказание за измену было четко определено: мужчины должны быть убиты, женщины и дети – проданы в рабство, а их имущество подлежало разделению как добыча. В Медине все предполагали, что именно эта участь и постигнет Бану Кайнука, поэтому они были потрясены, когда Мухаммад отверг традиционный закон и решил вместо этого изгнать клан из Медины. Более того, он пошел дальше, разрешив им взять с собой большую часть своего имущества. Со стороны Мухаммада это было великодушное решение, во многом навязанное ему союзниками в Медине, которые не хотели, чтобы кровь клиентов осталась на их руках. Но через год, после гибельного поражения его самоуверенной армии при Ухуде он был вынужден вновь принять подобное решение.
Исход битвы при Ухуде морально сломил умму. Что еще более важно, она, как казалось, подтвердила ожидания еврейских кланов Медины относительно того, что победа курайшитов над Мухаммадом – лишь вопрос времени. Бану Надир и Бану Курайза, два господствующих еврейских клана, оставшихся в оазисе, были особенно рады исходу битвы при Ухуде. Клан Бану Надир, шейх которого тайно встречался с лидером курайшитов Абу Суфьяном, задумал извлечь выгоду из слабости Мухаммада и убить его. Но, еще не оправившись от ран, Мухаммад прознал об этом и, как только расквитался с Кайнука, стремительно собрал оставшиеся силы своей разбитой армии, чтобы начать осаду крепости Надир. Когда клан обратился к своим собратьям-евреям за помощью, шейх Бану Курайза Кааб ибн Асад дал четко понять, что они должны рассчитывать только на себя. Получив такой ответ, Бану Надир ничего не оставалось, кроме как сдаться Мухаммаду, но только с тем условием, что им будет предоставлена такая же возможность, как и Бану Кайнука, сложить свое оружие и покинуть Медину мирно. Вновь, к огромному недовольству своих последователей, многие из которых были серьезно ранены в ходе битвы, Мухаммад согласился. Бану Надир покинул Медину и отправился в Хайбар, взяв с собой все свое богатство и имущество.
После битвы при Ухуде столкновения между Меккой и Мединой продолжались еще два года. Это были кровавые времена, сопровождавшиеся секретными переговорами, тайными убийствами и ужасными актами насилия с обеих сторон. Наконец в 627 г. курайшиты, уставшие от продолжающегося конфликта, сформировали огромную коалицию из числа бедуинов и направились к Медине, надеясь положить конец затяжной войне. В этот раз, однако, Мухаммад решил дождаться того момента, когда курайшиты сами придут к нему. Следуя новой военной тактике, которая столетия спустя будет взята на вооружение, он поручил своим последователям вырыть траншею вокруг Медины, изнутри которой он мог защищать оазис неограниченное количество времени. После почти месяца попыток преодолеть эту искусную траншейную защиту курайшиты и их большая бедуинская коалиция сдались и вернулись домой, измученные и опустошенные.
Хотя до победы еще было далеко, Мухаммад не мог быть недоволен результатом, особенно учитывая то, как прошла битва при Ухуде. Военных сражений было не так много; людские потери с обеих сторон незначительны. На самом деле промежуточные результаты были скромны. Но битва у рва, как она будет прозвана, известна не тем, что произошло во время боя, а тем, что произошло после него.
Во время месячной осады, когда армия Медины боролась за то, чтобы сдержать натиск захватчиков Мекки, Бану Курайза – в то время крупнейший еврейский клан в оазисе – активно поддерживал силы курайшитов, вплоть до поставок им оружия и припасов. Невозможно сказать, почему Курайза столь открыто предали Мухаммада. Наглость, с которой они вели переговоры с бедуинской коалицией – даже когда вокруг них бушевала битва, – указывает на то, что они, возможно, думали, что это был конец движению Мухаммада, и хотели оказаться на правильной стороне, когда пыль сражения уляжется. Быть может, Курайза понимали, что, даже если Мухаммад выиграет битву, в худшем случае они будут изгнаны из Медины, как Кайнука и Надир, при этом последние уже процветали среди многочисленного еврейского населения в Хайбаре. Но щедрость Мухаммада имела пределы, и он более не намерен был миловать.
Дольше месяца он удерживал Бану Курайза в их крепости, обдумывая со своими советниками, как стоит поступить. В конце концов он обратился к арабской традиции. Это был спор, который мог быть решен только посредством арбитража, совершаемого хакамом. Но поскольку разногласия затрагивали интересы Мухаммада, который, очевидно, не был нейтральной стороной, роль арбитра перешла к Сааду ибн Муазу, шейху ауситов.
На первый взгляд казалось, что Саад не был по-настоящему нейтральной стороной в данном споре. В конце концов, Бану Курайза были клиентами ауситов и таким образом технически попадали под прямую защиту Саада. Это могло послужить объяснением, почему Курайза так хотели заполучить его в качестве хакама. Но когда Саад вышел из своей палатки, где восстанавливался после полученных в битве ран, его решение стало самым явным признаком того, что старые социальные порядки утратили силу.
«Я выношу им приговор, – заявил Саад, – согласно которому их бойцы будут убиты, их дети [и жены] будут заключены в плен, а их имущество будет разделено».
По понятным причинам казнь Бану Курайза была удостоена особого исследовательского внимания со стороны ученых различных направлений. Генрих Грец, писавший в XIX в., обрисовал это событие как варварский акт геноцида, отражающий свойственные исламу антисемитские настроения. С. У. Барон в своем труде «Социальная и религиозная история евреев» каким-то фантастическим образом связал Бану Курайза с восставшими в Масаде – легендарными евреями, которые сделали героический выбор в пользу совершения массового самоубийства вместо повиновения римлянам в 72 г. В начале ХХ в. ряд ориенталистов указывали на этот эпизод в исламской истории как на доказательство того, что ислам – жестокая и отсталая религия. В работе «Мухаммад и завоевания ислама» (Muhammad and the Conquests of Islam) Франческо Габриели заявил, что казнь Курайза Мухаммадом подтверждает «наше представление как христиан и цивилизованных людей, что этот Бог или по крайней мере это Его проявление не относится к нам».
В ответ на эти обвинения некоторые мусульманские ученые провели значительное исследование для подтверждения того, что казни Бану Курайза никогда не было, по крайней мере в том виде, как это было описано. И Баракат Ахмад, и В. Н. Арафат, например, отмечали, что история Курайза не только несовместима с кораническими ценностями и исламским прецедентом, но и основывается на весьма сомнительных и противоречивых записях, полученных от еврейских летописцев, которые хотели изобразить Курайза как героических божественных мучеников.
В последние годы современные исследователи ислама, утверждая, что действия Мухаммада нельзя оценивать в соответствии с нашими современными этическими стандартами, стремились поместить казнь Курайза в рамки исторического контекста. Карен Армстронг, в ее прекрасной биографии Пророка, отмечает, что та резня, хоть и отвратительна современным людям, не была ни незаконной, ни аморальной согласно племенной этике того времени. Аналогично Норман Стиллман в работе «Евреи арабских земель» (The Jews of Arab Lands) утверждает, что участь Бану Курайза не была «необычной согласно жестким правилам войны в тот период». Стиллман также пишет, что тот факт, что ни один другой еврейский клан в Медине не стал ни возражать против действий Мухаммада, ни пытаться вмешаться каким-либо образом от имени Курайза, служит доказательством того, что сами евреи рассматривали это событие как «племенное и политическое дело традиционно арабского рода».
И все же даже Армстронг и Стиллман продолжают выступать за давно бытующую точку зрения, согласно которой казнь Курайза, хотя и понятная в историческом и культурном контексте, тем не менее стала трагическим результатом глубоко укоренившегося идеологического конфликта между мусульманами и евреями Медины, конфликта, который по-прежнему можно наблюдать на современном Ближнем Востоке. Шведский исследователь Тор Андре наиболее четко отстаивает эту позицию, утверждая, что казнь явилась результатом убеждения Мухаммада в том, что «евреи были заклятыми врагами Аллаха и Его откровения. [Поэтому] ни о какой милости по отношению к ним не могло быть и речи».
Но точка зрения Андре и многих других, кто согласен с ним, – это в лучшем случае пример незнания мусульманской истории и религии, а в худшем – пример фанатичности и тупости. Дело в том, что казнь Бану Курайза – бесспорно кошмарный эпизод в истории, – не была ни актом геноцида, ни частью некоей всеобъемлющей антисемитской повестки дня со стороны Мухаммада. И, что совершенно точно, она не была результатом укоренившегося природного религиозного конфликта между исламом и иудаизмом. Ничто не может быть более далеким от истины, чем подобное утверждение.
Следует начать с того, что Бану Курайза казнены не за то, что они были евреями. Как продемонстрировал Майкл Лекер, значительное число Бану Килаб – арабских клиентов Курайза, которые состояли с ними в союзе как вспомогательная сила за пределами Медины, – были также казнены за измену. И хотя итоговое число убитых мужчин колеблется от 400 до 700 (в зависимости от источника), самые высокие цифры по-прежнему представляют собой не более чем крошечную долю всего населения евреев, проживавших в Медине и ее окрестностях. Даже если исключить кланы Кайнука и Надир, тысячи евреев оставались в оазисе, живя дружно со своими мусульманскими соседями в течение многих лет после казни Курайза. Только под руководством Умара, приблизительно в конце VII в., оставшиеся еврейские кланы были изгнаны – мирно – в контексте более крупного процесса исламизации на всем Аравийском полуострове. Описывать смерть чуть более 1 % еврейского населения Медины как «акт геноцида» – это не только преувеличение, это оскорбление памяти тех миллионов евреев, которые пострадали от ужасов Холокоста.
К тому же, как почти единогласно утверждают ученые, казнь Бану Курайза никоим образом не создавала прецедент для выстраивания отношений с евреями на исламских территориях в будущем. Наоборот, жизнь евреев процветала под мусульманским правлением, в особенности после того, как ислам распространился на византийские земли, где православные властители регулярно преследовали как евреев, так и неправославных христиан за их религиозные убеждения, часто заставляя их обращаться в имперское христианство под страхом смертной казни. В противовес этому мусульманское право, в котором евреи и христиане считались «защищенными народами» (зимми), не требовало и не заставляло переходить в ислам. (Язычники и многобожники, однако, зачастую стояли перед выбором между переходом в ислам и смертью.)
Преследование мусульманами зимми не только было запрещено исламским правом, но и напрямую нарушало приказ Мухаммада, который он дал своей расширяющейся армии, возбраняя когда-либо препятствовать евреям в совершении их иудейских практик и призывая всегда способствовать сохранению христианских традиций. Таким образом, когда Умар приказал снести мечеть в Дамаске, которая была незаконно построена вследствие принудительной экспроприации дома одного еврея, он просто следовал предупреждению Пророка о том, что «против того, кто плохо поступает с евреем или христианином, я выступлю обвинителем в Судный день».
В обмен на специальный «налог на защиту», названный джизйа (джизья), мусульманское право предоставляло евреям и христианам религиозную автономию и возможность участвовать в работе социальных и экономических институтов мусульманского мира. Нигде такая толерантность не была более очевидной, чем в средневековой Испании, ставшей высшим примером сотрудничества мусульман, евреев и христиан, где в особенности евреи могли достигнуть высоких позиций в обществе и правительстве. Действительно, одним из наиболее могущественных людей в мусульманской Испании был еврей по имени Хасдай ибн Шапрут, который в течение многих десятилетий служил доверенным советником халифа Абд ар-Рахмана III. Поэтому неудивительно, что еврейские документы, созданные в этот период, относятся к исламу как к «акту Божьей милости».
Конечно, даже в истории мусульманской Испании были периоды нетерпимости и преследований по религиозному признаку. Более того, исламское право настоятельно запрещало евреям и христианам открыто обращать в свою веру в общественных местах. Но, как отмечает Мария Менокал, такие запреты в большей степени касались христиан, нежели евреев, которые исторически не склонны к прозелитизму и публичной демонстрации своих религиозных ритуалов. Это может послужить объяснением, почему христианство постепенно исчезло с большинства территорий, где господствовал ислам, в то время как еврейские общины разрастались и процветали. В любом случае даже в периоды наибольших угнетений в исламской истории под властью мусульман к евреям относились гораздо лучше и предоставляли им гораздо больше прав, чем в эпоху христианского правления. Не случайно, что через несколько месяцев после того, как мусульманская Испания пала под натиском христианской армии Фердинанда в 1492 году, большинство испанских евреев были бесцеремонно изгнаны из королевства. О тех, кто остался, позаботилась Инквизиция.
Наконец, и это самое важное, казнь Бану Курайза не была, как это часто представляется, отражением природного религиозного конфликта между Мухаммадом и евреями. Эта теория, которая иногда преподносится как неоспоримая истина в исламских и иудейских исследованиях, основана на убеждении, что Мухаммад, считавший свое послание продолжением иудейско-христианской пророческой традиции, прибыл в Медину в абсолютной уверенности в том, что евреи подтвердят пророческую природу его личности. Предположительно для того, чтобы облегчить процесс принятия его евреями как Пророка, Мухаммад постарался сблизить две общины путем заимствования мусульманами ряда еврейских ритуалов и практик. Однако, к его удивлению, евреи не только отвергли его, но и яро выступили против утверждения о подлинности Корана как источника божественного откровения. Обеспокоенный тем, что такой отказ евреев некоторым образом дискредитирует его пророческие заявления, Мухаммад не имел другого выбора, кроме как жестко выступить против евреев, отделив от них свою общину, и, по словам Ф. Е. Петерса, «перемоделировать ислам в качестве альтернативы иудаизму».
У этой теории есть два слабых места. Прежде всего она недооценивает религиозную и политическую проницательность Мухаммада. Неправильно представлять Пророка как невежественного бедуина, воздававшего милости стихиям и склонявшегося перед каменными плитами. Это был человек, который почти полвека прожил в религиозной столице Аравийского полуострова, где состоялся как успешный торговец, имевший прочные экономические и культурные связи как с еврейскими, так и с христианскими общинами. Было бы до смешного наивным для Мухаммада считать, что его пророческая миссия будет «столь же очевидна для евреев, как для него самого», цитируя Монтгомери Уотта. Мухаммаду достаточно было только ознакомиться с азами иудаизма, чтобы понять, что он совершенно необязательно будет принят как один из их пророков. Безусловно, он знал, что евреи не признавали в качестве пророка Иисуса; почему же тогда он должен был считать, что в этом качестве примут его?
Но самый вопиющий недостаток этой теории заключается не в том, сколь мало доверия оказывают ее приверженцы Мухаммаду, а в том, каким доверием у них пользуются евреи Медины. Как отмечалось, еврейские кланы в Медине – а их члены были арабами по происхождению, обращенными в иудаизм, – едва отличались от язычников как в культурном плане, так и, если на то пошло, в религиозном. У них не было своей литературной традиции. Арабские источники повествуют, что еврейские кланы Медины говорили на своем языке, называемом ратан, который ат-Табари назвал персидским, но который, вероятно, представлял собой гибрид арабского и арамейского. Нет никаких свидетельств, подтверждающих, что они говорили или понимали иврит. На самом деле их знание еврейских писаний было, вероятно, ограничено лишь несколькими свитками законов, несколькими молитвенниками и незначительным числом фрагментарных арабских переводов Торы – то, что С. У. Барон называет «искаженной устной традицией».
Их познания в иудаизме были настолько невелики, что некоторые ученые не верят, что они были настоящими евреями. Д. С. Марголиус считает, что евреи Медины ненамного отличались от свободных групп монотеистов – за исключением ханифов, которых правильнее всего назвать «рахманисты» (Рахман – второе имя Аллаха). Хотя многие не согласны с анализом Марголиуса, существуют и другие причины задать вопрос о том, в какой степени еврейские кланы Медины отождествляли себя с носителями еврейской веры. Примем во внимание, например, что к VI в. было установлено, как отмечал Х. Г. Рейсснер, соглашение между еврейскими общинами диаспоры о том, что неизраэлит мог считаться евреем только в том случае, если он был «последователем закона Моисея… в соответствии с принципами, изложенными в Талмуде». Такое ограничение автоматически бы исключало еврейские кланы Медины, члены которых не были израэлитами, не соблюдали строго закон Моисея и, казалось, не обладали серьезными знаниями Талмуда. Более того, бросается в глаза отсутствие в Медине легко идентифицируемого археологического доказательства значительного еврейского присутствия. Согласно Джонатану Риду, определенные археологические находки (остатки каменных сосудов, руины водных резервуаров для омовения (миква), захоронения оссуариев) должны присутствовать в этих местах для подтверждения существовавшей там общины – носителя еврейской религиозной идентичности. Насколько нам известно, ничего из этого не было обнаружено в Медине.
Естественно, есть те, кто продолжает говорить о религиозной идентичности еврейских кланов Медины. Гордон Ньюби, например, считает, что еврейское сообщество Медины могло включать разрозненные общины, у которых были свои школы и книги, хотя никаких археологических свидетельств, которые бы подтверждали эту гипотезу, нет. В любом случае и Ньюби признает, что в отношении культуры, этики и даже религии евреи Медины не только отличались от членов других еврейских общин на Аравийском полуострове, но и были практически идентичны представителям языческих общин Медины, с которыми свободно взаимодействовали и (вопреки закону Моисея) часто связывали себя узами брака.
Проще говоря, еврейские кланы Медины никоим образом не были группой, соблюдающей религиозные правила; возможно, они даже не были евреями, если Марголиус и другие ученые правы. Поэтому весьма сомнительно, что они были вовлечены в сложные полемические споры с Мухаммадом о соотношении Корана с еврейскими писаниями, если они не могли ни читать, ни обладать этими знаниями.
Дело в том, что Мухаммад ничего не говорил и не делал из того, что было бы совершенно неприемлемо в отношении евреев Медины. Как пишет Ньюби в книге «История евреев Аравии» (A History of the Jews of Arabia), ислам и иудаизм в этом регионе в VII в. существовали в рамках «одного религиозного дискурса», следовательно, обе конфессии чтили одних и тех же религиозных героев, одинаковые истории и притчи, обсуждали те же фундаментальные вопросы с позиции схожих перспектив и имели почти идентичные моральные и этические ценности. В чем было разногласие между исламом и иудаизмом, как полагает Ньюби, так это «в интерпретации общих тем, а не в существовании двух взаимоисключающих взглядов на мир». Как писал С. Д. Гойтен, «в проповедях Мухаммада не было ничего, что противоречило бы религии евреев».
Даже заявление Мухаммада о себе как о Пророке и Апостоле Господа на манер величайших еврейских патриархов отнюдь не было категорически неприемлемым для евреев Медины. Не только его слова и действия полностью соответствовали общепринятой модели мистицизма арабских евреев, но и сам Мухаммад был не единственным человеком в Медине, который распространял подобные пророческие речи. Медина была также домом для еврейского мистика и кахина по имени Ибн Сайад, который, как и Мухаммад, облачил себя в мантию пророка, цитировал божественные послания с Небес и называл себя «Апостолом Бога». Примечательно, что не только большинство еврейских кланов в Медине приняли пророчествования Ибн Сайада, но и он сам, как утверждается в источниках, открыто признал Мухаммада как Апостола и Пророка.
Было бы упрощением утверждать, что никакого полемического конфликта между Мухаммадом и евреями в то время не существовало. Но этот конфликт в большей степени был вызван политическими и экономическими причинами, нежели теологическим спором о писаниях. Это был конфликт, разгоревшийся в первую очередь из-за партнерских межплеменных связей и безналогового режима в системе рынка, а не религиозного усердия. И хотя биографы Мухаммада любят изображать его как теолога, спорящего с воинствующими группами «раввинов», которые выказывают «враждебность к апостолу, зависть, ненависть и злобу, потому что Бог избрал Своего апостола из числа арабов», сходства как по расстановке акцентов, так и по манере повествования между этими историями и таковыми об Иисусе и фарисеях указывают на то, что этот сюжет служит топосом, а не историческим фактом. И правда, ученым на протяжении веков было известно о той связи, которую мусульмане намеренно проводили между Иисусом и Мухаммадом, пытаясь соединить миссии и послания двух пророков.
Не будем забывать, что биографии Мухаммада были написаны в то время, когда еврейское меньшинство в мусульманском государстве оставалось единственным теологическим соперником ислама. Неудивительно, что мусульманские историки и богословы подкрепляли свои аргументы против раввинов того времени, вкладывая собственные слова в уста Мухаммада. Если биографии Мухаммада хоть что-то и демонстрируют, так это антисемитские настроения биографов Пророка, а не самого Пророка. Чтобы понять истинное мнение Мухаммада в отношении евреев и христиан того периода, стоит посмотреть не на те слова, которые летописцы приписали ему столетия спустя после его смерти, а на то, что сам Господь вложил в уста Пророка при жизни.
Коран, как святое писание, явившееся откровением, неоднократно напоминает мусульманам: то, что они слышат, – это не новое послание, а «подтверждение истинности того, что ниспослано до него» (12:111). Фактически Коран предлагает беспрецедентное представление о том, что все явленные ранее писания произошли от единственной скрытой на небесах книги, названной умм аль-китаб, или «Мать книг» (13:39). Это означает, что в понимании Мухаммада Тора, Евангелия и Коран должны быть прочитаны как единое целостное повествование об отношениях человечества и Бога, в процессе развития которых пророческое сознание духовно переходит от одного пророка к следующему – от Адама к Мухаммаду. По этой причине Коран советует мусульманам говорить евреям и христианам: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу, и коленам, и в то, что было даровано Мусе, и Исе, и пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся» (3:84).
Конечно, мусульмане убеждены, что Коран – это последнее откровение в череде священных писаний, равно как и Мухаммад – «последний из Пророков». Но Коран не отменяет предыдущие писания, он их только дополняет. И хотя представление, что одно писание служит залогом подлинности других, являет собой по меньшей мере замечательное событие в истории религий, понятие умм аль-китаб может указывать на более глубокий смысл.
Как неоднократно упоминается в Коране (и что недвусмысленно подтверждает Мединская конституция), Мухаммад мог понимать концепцию умм аль-китаб не только в том ключе, что евреи, христиане и мусульмане делили между собой одно священное писание, но также и в том смысле, что они составляли единую божественную умму. По убеждению Мухаммада, евреи и христиане были «людьми Писания» (ахл аль-китаб), духовными братьями, которые, противостоя язычникам Аравии, поклонялись одному Богу, читали те же писания и разделяли те же нравственные ценности, что и мусульманская община. Хотя каждая вера подразумевала существование своей отдельной религиозной общины (собственную умму), вместе они образовывали единую умму – такую необычную идею Мохаммед Бамье назвал «монотеистическим плюрализмом». Таким образом, Коран обещает, что «те, кто уверовал и которые исповедуют иудейство, и сабии, и христиане, – кто уверовал в Аллаха в последний день и творил благое, – нет страха над ними, и не будут они печальны!» (5:69; выделено автором).
Именно это убеждение в существовании единой монотеистической уммы привело Мухаммада к идее связать его общину с евреями, а вовсе не чувство необходимости подражать еврейским кланам или желание облегчить процесс принятия ими его как Пророка. Мухаммад уравнял членов своей общины с евреями в Медине, потому что считал их, как и христиан, частью своей уммы. Следовательно, когда он пришел в Медину, он объявил Иерусалим (где находился давно разрушенный Храм), в направлении которого евреи обращались во время своей молитвы, местом для паломничества, или кибла, для всех мусульман. Он постановил в своей общине обязательное соблюдение поста, который начинался ежегодно на десятый день (Ашура) первого месяца еврейского календаря, в день, более известный как Йом Кипур. Он намеренно назначил в качестве дня сбора мусульманской паствы полдень пятницы, чтобы это время совпадало с подготовкой евреев к шаббату, но не нарушало ее. Он принял многие из еврейских правил, касающихся потребления пищи и требований к чистоте, а также своим примером поощрял последователей к заключению браков с евреями.
И хотя спустя несколько лет Мухаммад перенес киблу из Иерусалима в Мекку и установил правило ежегодного поста в Рамадан (месяц, когда Коран был впервые явлен Мухаммаду как божественное откровение) вместо Йом Кипур, эти решения не должны быть истолкованы как «разрыв с евреями». Их следует интерпретировать как становление ислама в качестве независимой религии. Несмотря на эти изменения, Мухаммад продолжал поддерживать среди своих последователей идею поста в Йом Кипур и никогда не прекращал почитать Иерусалим как священный город; после Мекки и Медины Иерусалим – самый почитаемый священный город во всем мусульманском мире. Более того, Пророк поддерживал практику соблюдения особых требований относительно приема пищи, чистоты и ограничений, связанных с браком, которые он воспринял от евреев. И вплоть до дня своей смерти Мухаммад продолжал быть сторонником мирного дискурса, а не богословских дебатов в отношениях с еврейскими общинами Аравии, именно так, как предписывал ему Коран: «и не препирайтесь с обладателями книги, иначе как чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, которые несправедливы» (29:46). Пример Мухаммада на длительное время возымел влияние на его ранних последователей: как отмечала Набиа Абботт, в течение первых двух веков существования ислама мусульмане регулярно читали Тору наравне с Кораном.
Безусловно, Мухаммад понимал, что существовали очевидные богословские различия между исламом и религиями других народов Книги. Но он рассматривал эти различия как часть божественного плана Господа, который бы мог создать единую умму, если бы пожелал, но вместо этого предпочел, чтобы у «каждого народа был свой посланник» (10:47). Поэтому евреям Господь послал Тору, «в которой руководство и свет», христианам – Иисуса «с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе», и, наконец, арабам Господь даровал Коран «для подтверждения истинности того, что ниспослано до него». В этом смысле идеологические различия между людьми Книги объясняются в Коране как подтверждение желания Бога дать каждому народу свой закон и путь (5:42–48).
При этом Мухаммад отвергал то, что считал богословскими нововведениями. Главной из них была концепция Троицы. «Аллах един, – вразрез с христианской концепцией Троицы утверждается в Коране. – Аллах вечный; не родил и не был рожден» (112:1–3). Этот стих, как и многие подобные ему в Коране, никоим образом не осуждает христианство per se[16]. С самого начала своего служения Мухаммад почитал Иисуса как величайшего из посланников Господа. Большая часть повествований в Евангелиях пересказана в Коране, но в несколько сокращенном варианте, включая непорочное зачатие Иисуса (3:47), творимые им чудеса (3:49), его мессианское предназначение (3:45) и ожидание суда над всем человечеством на исходе времен (4:159). Коран, однако, не разделяет убеждений последователей учения о Троице, которые утверждают, что Иисус сам был Богом. «Не веровали те, которые говорили: “Ведь Аллах – третий из трех”, – сказано в Коране, – тогда как нет другого божества, кроме единого Бога» (5:73). По убеждению Мухаммада Иисус никогда не объявлял о своей божественности и никогда не призывал ему поклоняться (5:116–18).
В то же время Мухаммад набросился с критикой на тех евреев Аравии, кто «отвратился от толка Ибрахима» (2:130), и на тех, «кому было дано нести Тору, а они ее не понесли» (62:5). Опять-таки это не было осуждением иудаизма. Об уважении и почитании, которое выказывал Мухаммад величайшим еврейским патриархам, свидетельствует тот факт, что почти все библейские пророки упоминаются в Коране (Моисей – почти сто сорок раз!). Скорее, Мухаммад обращался к тем евреям, проживавшим на Аравийском полуострове – и только на нем, – которые как в своей вере, так и на практике «нарушили свой договор [с Аллахом]» (5:13).
Недовольство Мухаммада в Коране не было обращено напрямую на иудаизм и христианство, которые он считал религиями, близкими к исламу. «Мы уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам [евреям и христианам], – сказано в Коране. – И наш Бог един, и ваш Бог един, и мы Ему предаемся» (29:46). Его недовольство касалось тех евреев и христиан, с которыми он столкнулся в Аравии и которые, по его мнению, оставили свой завет с Богом и извратили учение Торы и Евангелий. Это были неверные, от союза с которыми Коран предостерегал мусульман: «О вы, которые уверовали! Не берите друзьями тех, которые вашу религию принимают как насмешку и забаву… Скажи: “О обладатели писания! Неужели вы мстите нам только за то, что мы уверовали в Аллаха, и что было низведено нам [Коран], и что было низведено раньше [Тора и Евангелия], и за то, что большая часть вас – распутники?”» (5:57–59).
Дело в том, что, когда Мухаммад напоминал евреям Аравии о милости Господа, – «которую оказал вам… и превознес вас над мирами» (2:47), – когда он негодовал по поводу христиан, отказавшихся от своей веры и разрушивших истину своих священных писаний, когда он жаловался на обе группы, говоря, что «если бы они держали прямо Тору и Евангелие и то, что низведено им от их Господа, то они бы питались и от того, что сверху них, и от того, что у них под ногами» (5:66), он просто следовал по стопам пророков, которые были до него. Он был, другими словами, Исаией, который называл евреев так: «Народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!» (Ис. 1:4); он был Иоанном Крестителем, который с критикой набрасывался на «порождения ехидны», которые полагали, что статус «детей Авраама» позволит им избежать Судного дня (Лк. 3:7–8); он был Иисусом, обещавшим проклятие тем лицемерам, которые могут «не почтить отца своего и мать свою, таким образом» устранить «заповедь Божию преданием» (Мф. 15:6). В конце концов, не это ли и было посланием, которое пророк должен был нести людям?
Не случайно, что, как только были отменены многие из реформ Мухаммада, нацеленные на расширение прав женщин, мусульманские исследователи писания и юристы последующих столетий отвергли идею о том, что евреи и христиане были частью уммы, а вместо этого представили членов двух этих общностей как неверных. Эти исследователи переосмыслили откровение, чтобы заявить, что Коран заменял, а не дополнял Тору и Евангелия, а также призвали мусульман отделить себя от людей Книги. Это была в значительной степени попытка отличить зарождающуюся религию ислама от остальных общин, чтобы стало возможным установление собственной религиозной независимости, в особенности по мере того, как христианство постепенно отдалялось от еврейских практик и ритуалов, которые и породили христианское видение, демонизируя при этом образ евреев как убийц Иисуса.
Тем не менее действия этих исследователей писания напрямую нарушали заветы Мухаммада и учение Корана. Ибо, хотя Мухаммад признавал богословские различия, существовавшие между людьми Книги, он никогда не призывал к разделению конфессий. Более того, евреям, которые заявляли, что «христиане не правы!», и тем христианам, которые говорили, что «евреи не правы!» (2:113), и обеим группам, которые считали, что «никогда никто не войдет в рай, кроме иудеев или христиан» (2:111), Мухаммад предлагал компромисс. «Приходите к слову, равному для нас и для вас, – сказано в Коране, – чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не придавать Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо Аллаха» (3:64).
Трагедия заключается в том, что четырнадцать веков спустя этот простой компромисс так и не преодолел порой мелкие, но зачастую переплетенные между собой идеологические различия между тремя авраамическими религиями.
После битвы у рва, когда Медина окончательно перешла под контроль Мухаммада, он вновь обратил свое внимание на Мекку, но не как Посланник Бога, а как паломник – то есть в той роли, в которой курайшиты как хранители ключей отказать ему не могли.
В 628 г. он неожиданно объявил, что собирается совершить паломничество к Каабе. Учитывая, что это происходило в разгар кровавой и длительной войны с Меккой, такое решение было абсурдным. Мухаммад не мог думать, что курайшиты, которые провели последние шесть лет в попытках убить его, просто так сойдут с этого пути, позволив ему и его последователям совершить церемониальный обход вокруг святилища. Но Мухаммад оставался неустрашимым. Вместе с тысячей последователей, идущих за ним, он пересек пустыню, по дороге в город своего рождения бесстрашно крича на манер паломнических песнопений: «Вот и я, о Аллах! Вот и я!»
Весть о приближении Мухаммада и его последователей, безоружных, облаченных в одежды паломников и громко провозглашавших о своем присутствии врагам, должно быть, прозвучала погребальным звоном в Мекке. Определенно конец был близок, если этот человек оказался достаточно дерзким, чтобы подумать, что сможет войти в священный город и при этом не пострадать. Курайшиты, бросившиеся принимать меры, чтобы остановить Мухаммада, прежде чем он войдет в Мекку, были сбиты с толку. Встретившись с ним за пределами города, в местечке под названием Худайбийа, они решили использовать последнюю попытку по сохранению контроля над Меккой, предложив Пророку прекращение огня. Но эти условия настолько противоречили интересам Мухаммада, что могли быть восприняты мусульманами только как шутка.
Худайбийский мирный договор предполагал, что в обмен на немедленный уход и безусловное прекращение набегов на караваны в окрестностях Мекки Мухаммаду будет разрешено вернуться в следующий сезон паломничества, когда святилище ненадолго будет освобождено от других паломников для того, чтобы он и его последователи могли спокойно совершить ритуал посещения святыни. Дополнительным оскорблением явилось то, что Мухаммад должен был подписать договор не как Апостол Божий, а как племенной глава общины. Если принять во внимание стремительно растущий авторитет Мухаммада в Хиджазе, договор был просто нелепым; было очевидно, что поражение Мекки неизбежно. Тем сильнее было возмущение последователей Мухаммада, почувствовавших победу, лежавшую всего в нескольких километрах от них, когда Пророк неожиданно принял эти условия.
Умар, самый импульсивный, едва мог сдержать себя. Он вскочил и побежал к Абу Бакру. «Абу Бакр, – спросил он, указывая на Мухаммада, – разве он не Посланник Божий?»
«Да», – ответил Абу Бакр.
«Разве мы не мусульмане?»
«Да».
«А они разве не многобожники?»
«Да».
После этого Умар закричал: «Тогда почему мы должны принимать то, что вредит нашей религии?»
Абу Бакр, который, возможно, думал так же, ответил только теми словами, в которых он мог найти утешение: «Я свидетельствую, что он – Посланник Бога».
Сложно сказать, почему Мухаммад принял условия Худайбийского договора. Возможно, он надеялся, что умма сможет перегруппироваться и дождаться момента, чтобы вернуться и завоевать Мекку силой. Возможно, он соблюдал предписание Корана: «…сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а (вся) религия будет принадлежать Аллаху. А если они [враги] удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным!» (2:193). Как бы то ни было, решение о прекращении огня и возвращении в святилище на следующий год стало определяющим моментом в борьбе между Меккой и Мединой. Поскольку обычные жители Мекки увидели уважение и преданность, с которыми их предполагаемый враг со своей группой «религиозных фанатиков» вошел в город и совершил обход вокруг Каабы, то показалось бессмысленным поддерживать курс на войну. Действительно, год спустя после паломничества, в 630 г., когда Мухаммад истолковал схватку между курайшитами и некоторыми его последователями как нарушение положения о прекращении огня, он вновь выдвинулся в сторону Мекки, на этот раз с 10 000 последователей, но обнаружил, что жители города встречают его с распростертыми объятиями.
После принятия капитуляции Мекки Мухаммад объявил об амнистии большинства врагов, включая тех, с которыми он сражался в бою. Несмотря на то что согласно закону племени курайшиты становились его рабами, Мухаммад провозгласил всех жителей города (в том числе рабов) свободными людьми. Только шесть мужчин и четыре женщины были казнены по обвинению в ряде преступлений, но никого насильно не обращали в ислам, хотя каждый должен был принести клятву никогда больше не развязывать войну против Пророка. Среди последних курайшитов, давших эту клятву, были шейх Абу Суфьян и его жена Хинд, которая, хотя официально и перешла в ислам, вела себя очень вызывающе, едва скрывая свое отвращение к Мухаммаду и его «провинциальной» вере.
Когда с этими вопросами было покончено, Мухаммад занялся Каабой. С помощью своего двоюродного брата и зятя Али он снял тяжелую ткань, которая закрывала вход в святилище, и вошел внутрь. Один за другим он выносил идолов из святилища, поднимал их над головой и перед собравшейся толпой разбивал о землю. Различные изображения богов и пророков были сметены водой Замзама; все, за исключением Иисуса и его матери Марии. Его Пророк благоговейно выпустил из рук, сказав: «Смойте все, кроме того, что находится под моими руками».
Наконец Мухаммад вынес идола, представляющего великого сирийского бога Хубала. По свидетельствам Абу Суфьяна, Пророк обнажил меч и разбил идола на много осколков, навсегда покончив с культом поклонения языческим божествам в Мекке. Тем, что осталось от статуи Хубала, Мухаммад выложил порог, ведущий к новой освященной Каабе, святилищу, которое впредь будет известно как «Дом Бога», центра совершенно новой и универсальной религии – ислама.
5. Праведные халифы
Последователи Мухаммада
Среди прихожан волнение, все взгляды обращены в том направлении, откуда должен выйти Мухаммад из покоев Аиши, чтобы пройти и встать во внутреннем дворе мечети, как только начнется пятничная молитва. Кто-то видел его на улице. Слухи о состоянии его здоровья носились по всей Мекке на протяжении нескольких недель. То долгое время, что он не появлялся на публике, Абу Бакр вел пятничные службы, а остальные Сподвижники занимались ведением экспедиций, управлением государством, раздачей десятины и наставлением в области этики и совершения ритуалов новообращенных в мусульманскую веру. Никто не осмеливался произнести вслух то, о чем думал каждый: Посланник при смерти; может быть, он уже мертв.
Идет 632 г. Прошло два года с тех пор, как Мухаммад триумфально вошел в Мекку и очистил Каабу во имя Единого Бога. В то время он был крепким мужчиной, находящимся на пике свой политической и духовной власти, бесспорно, самым влиятельным лидером в Аравии. По иронии судьбы движение, начавшееся как попытка восстановить племенную этику кочевого прошлого Аравии, во многом нанесло последний удар по традиционной племенной системе. Вскоре останутся только мусульманская община, враги мусульманской общины (включая Византию и Сасанидскую империю), племена-партнеры мусульманской общины и зимми (христиане, евреи и другие немусульмане, защищаемые мусульманской общиной). Однако, несмотря на огромную власть, которую он приобрел после поражения курайшитов, Мухаммад отказался заменить аристократический строй Мекки мусульманской монархией; он стал хранителем ключей, но отказался быть королем Мекки. Таким образом, как только административные дела были урегулированы, а делегации – военные и дипломатические – направлены, чтобы известить остальные арабские племена об установлении нового политического порядка на Аравийском полуострове, Мухаммад сделал то, чего от него совершенно не ожидали, – отбыл в Медину.
Возвращение Мухаммада в Медину означало признание ансаров, «помощников», которые предоставили ему убежище и защиту, чего не сделал никто другой. Но также это было послание всей общине о том, что, хотя сейчас Мекка – сердце ислама, Медина навсегда останется его душой.
Именно в Медине соберутся представители общин со всего полуострова, которые дадут обет, что «нет божества, кроме Аллаха» (хотя, как мы увидим, для многих эта клятва заключала в себе обращение не столько к Аллаху, сколько к Мухаммеду). Именно в Медине будут заложены столпы мусульманской веры и основы мусульманского права. И наконец, именно в Медине Пророк сделает свой последний вздох.
Но сейчас всем своим видом Мухаммад, стоящий у входа в мечеть с улыбкой на бронзового цвета лице, рассеивает все беспокойные слухи о состоянии его здоровья. Он худощав, но выглядит на удивление бравым для человека его лет. Длинные черные волосы, которые он заплетал в косички, теперь поредели и покрылись серебром. Его спина слегка согнулась, а плечи опущены. Но лицо сияет так же, как и всегда, а глаза по-прежнему таят в себе свет Бога.
Когда Абу Бакр видит Мухаммада, пробирающегося через сидящих и хватающегося за плечи друзей в поисках поддержки, он немедленно поднимается с минбара – приподнятого сиденья, которое служит кафедрой в мечетях, – чтобы позволить Пророку занять свое законное место на правах главы паствы. Но Мухаммад подает сигнал старому другу, чтобы тот продолжал службу. Молитвы возобновляются, и Мухаммад находит тихий уголок, где можно сесть. Он плотно закутывается в плащ и наблюдает, как вся его община молится. Молится так, как он учил много лет назад: совершать движения, словно все члены общины – единый организм, и говорить так, словно у них один голос на всех.
Он присутствует на пятничной молитве недолго. Прежде чем паства разойдется, Мухаммад встает и тихо выходит из мечети, направляясь обратно в покои Аиши, где падает на кровать. Даже такой короткий путь очень ослабил его. Ему трудно дышать. Пророк зовет любимую жену.
Когда Аиша наконец появляется, он едва в сознании. Она просит всех быстро покинуть комнату и закрывает за ними дверь. Аиша садится рядом с мужем и кладет его голову к себе на колени, нежно поглаживая его длинные волосы и шепча успокаивающие слова. Его глаза мерцают, а затем медленно закрываются.
Новость о смерти Мухаммада быстро распространяется по всей Медине. Для большинства непостижимо, что Посланник Бога мог умереть. Умар, например, отказывается верить в это. Он настолько обезумел, что сразу бежит в мечеть, где уже собралась вся община, и угрожает избить любого, кто посмеет сказать, что Мухаммад мертв.
Нормализация ситуации теперь зависит от Абу Бакра. Увидев тело Мухаммада, он тоже отправляется в мечеть. Там он замечает Умара, который бессвязно бормочет, что Пророк жив.
«Это только кажется, что он умер! – срывается на крик Умар. – Он был взят на небеса, как Моисей; он скоро вернется».
«Спокойно, Умар, – говорит Абу Бакр, заходя в мечеть. – Успокойся».
Но Умара не заставить замолчать. Он непреклонно талдычит, что те, кто принял известие о смерти Мухаммада, лишатся рук и ног за свою неверность, когда Пророк вернется с небес.
Наконец терпению Абу Бакра приходит конец. Он воздевает руки над паствой и заглушает причитания Умара своим криком: «О люди, если кто-то поклоняется Мухаммаду, он мертв; если кто-то поклоняется Аллаху, Он жив, Он бессмертен!»
Когда Умар слышит эти слова, он падает на землю и заходится в рыданиях.
* * *
Одной из причин обеспокоенности общины кончиной Мухаммада было то, что он практически никак не подготовил своих соратников к этому событию. Он не выступил с официальным заявлением, кто должен стать его преемником как лидер уммы или хотя бы каким должен быть этот лидер. Возможно, он ожидал откровения, которое так и не было явлено; а возможно, он хотел, чтобы сама умма определила для себя того, кто заменит Мухаммада после его ухода. Или, например, как некоторые шептались, Пророк все же назначил преемника, кого-то, кто не смог воспользоваться своим законным правом стать главой общины в условиях развернувшейся в среде мусульманского руководства междоусобной борьбы за власть.
Между тем мусульманская община росла и расширялась быстрее, чем кто-либо мог себе вообразить, и подвергалась серьезной опасности стать неуправляемой. Смерть Мухаммада только осложнила положение дел, теперь некоторые сотрудничающие с уммой племена открыто восставали против мусульманского контроля и отказывались платить десятину (закят) Медине. По убеждению этих племен, смерть Мухаммада, как и смерть любого шейха, аннулировала клятву верности и отменяла ответственность перед уммой.
Волновало также то, что видение Мухаммада о богодухновенном государстве оказалось настолько популярным, что на всем Аравийском полуострове другие «лидеры» начали копировать эту модель, задействуя собственный ресурс власти с учетом собственной идеологии. В Йемене мужчина по имени аль-Асвад, объявивший, что он получил божественное послание от бога, которого называл Рахман (эпитет для Аллаха), установил свою государственную систему, независимую от Мекки и Медины. В Восточной Аравии другой мужчина по имени Маслама (или Мусайлима) настолько успешно подражал опыту Мухаммада, что собрал тысячи последователей в Ямаме, который объявил священным городом. По мнению таких современных исследователей, как Дейл Эйкельман, внезапный наплыв «лжепророков» служит доказательством того, что движение Мухаммада заполнило определенный социальный и религиозный вакуум в жизни Аравии. Но, как считают мусульмане, это стало сигналом о серьезной угрозе религиозной легитимности и политической стабильности уммы.
И все же главным вызовом, с которым столкнулась мусульманская община после смерти Мухаммада, были не воинственные племена или лжепророки, а вопрос о том, как построить монолитную религиозную систему, покоящуюся на заветах и практических примерах из жизни Пророка, большинство из которых существовали только в памяти его Сподвижников. Сложилась тенденция рассматривать ислам полностью сформировавшимся к концу жизни Мухаммада. Но хотя это утверждение может быть справедливым относительно откровений, которые закончились с последним вздохом Пророка, совершенно ошибочно считать ислам в 632 г. некой единой системой верований и практик. Это было совсем не так. Как и в случае со всеми мировыми религиями, понадобились поколения для развития богословия, чтобы, по словам Игнаца Гольдциера, «раскрытие исламской мысли, установление методов исламских практик, [и] утверждение исламских институтов» приняло законченную форму.
Это не значит, что, согласно известному и спорному заявлению американского историка Джона Уонсбро, ислам таким, каким мы его знаем, возник за пределами Аравии столетия спустя после смерти Мухаммада (если такой человек вообще существовал). Уонсбро и его коллеги проделали потрясающую работу по прослеживанию эволюции ислама и его развития в иудейско-христианской сектантской среде в Аравии VII–IX вв. и в ее окрестностях. Но настойчивое преувеличение Уонсбро роли неарабоязычных источников (в основном на иврите) об исламе и его неуместное пренебрежение историческими реалиями периода жизни Мухаммада зачастую приводят к тому, что его аргументы в большей степени воспринимаются как «замаскированная полемика, стремящаяся лишить ислам и Пророка всего, за исключением минимума самобытности», если цитировать Р. Б. Сержанта.
Если оставить спорные аргументы, не может быть никаких сомнений в том, что ислам по-прежнему находился в процессе своего формирования, когда Мухаммад умер. К 632 г. Коран не существовал ни в письменном виде, ни в кодифицированном, не говоря уже о его канонизации. Религиозные идеалы, которые составят основу исламской теологии, существовали тогда только в зачаточном состоянии. Вопросы о правильном совершении ритуалов или соответствии поведения принятым юридическим и моральным нормам на тот момент едва регулировались; впрочем, они и не должны были регулироваться. Какими бы ни были вопросы, какие бы ни возникали проблемы, будь то внутриобщинные конфликты или сфера внешних контактов, они могли быть просто переданы на рассмотрение Пророку для вынесения решения. Но с кончиной Мухаммада умма столкнулась с почти невыполнимой задачей: определить, что бы сказал Пророк в том или ином затруднительном случае.
Очевидно, первостепенная забота заключалась в том, чтобы выбрать кого-то, кто мог бы возглавить умму вместо Мухаммада, кого-то, кто был бы способен поддерживать стабильность и целостность общины перед лицом многочисленных внутренних и внешних вызовов. К сожалению, сложно было добиться консенсуса по данному вопросу. Ансары в Медине уже взяли на себя инициативу по выбору лидера из их числа, им стал набожный житель Медины, в числе первых обращенный в ислам, по имени Саад ибн Убада, шейх племени Хазрадж. Но в то время как жители Медины, возможно, думали, что факт предоставления убежища Пророку давал им превосходство над всеми остальными в умме, население Мекки и в особенности представители аристократии курайшитов, которые все еще господствовали в этом городе, никогда не стали бы подчиняться управлению кого-то из Медины. Некоторые ансары попытались предложить компромисс, заключавшийся в совместном руководстве уммой, где один лидер был бы из Мекки, а другой из Медины, но такая идея была совершенно неприемлема для курайшитов.
Быстро стало ясно, что существует всего один способ сохранить чувство единства и в некоторой степени историческую преемственность в умме – выбрать члена курайшитов, который был последователем Мухаммада, и лучше, если он будет из числа тех Сподвижников, которые выполнили первую хиджру в Медину в 622 г. (имелись в виду мухаджиры). Клан Мухаммада Бану Хашим, теперь окрещенный как ахл аль-байт, или «люди Дома [Пророка]», согласился, что только член курайшитов мог руководить уммой, хотя и считал, что Пророк пожелал бы выбрать одного из них в качестве своего преемника. В действительности значительное число мусульман было убеждено, что во время своего последнего паломничества в Мекку Мухаммад публично назначил преемником своего двоюродного брата и зятя по имени Али. Согласно преданиям, на обратном пути в Медину Мухаммад остановился в оазисе Гадир-Хум и объявил: «Кто считает своим покровителем меня, считает таковым и Али (маула)». Однако, возможно, равное количество мусульман не только отрицает события в Гадир-Хуме, но также решительно отвергает привилегированный статус Бану Хашим как «людей Дома Пророка».
Для решения этих вопросов раз и навсегда Абу Бакр, Умар и известный Сподвижник по имени Абу Убайда встретились с группой лидеров ансаров для проведения традиционного племенного совета шура (по сути, трое мужчин «ворвались без приглашения» на этот совет, который уже проходил среди ансаров). И хотя огромное количество чернил было пролито для описания этой исторической встречи, до сих пор остается неясным, кто на ней присутствовал и что там точно произошло. Единственное, в чем уверены исследователи: на этой встрече Абу Бакр, поддерживаемый Умаром и Абу Убайдой, был выбран следующим лидером мусульманской общины, и ему был дан меткий, но весьма расплывчатый по своей формулировке титул Халифат Расул Аллах, «Преемник Посланника Бога», или халиф.
Такой титул Абу Бакра был приемлемым, поскольку никто точно не был уверен, что он должен обозначать. Коран делает отсылку к Адаму и Давиду как халифам Бога (2:30; 38:26), в том смысле, что они служили как «доверенные лица» или «вице-регенты» Бога на земле, но, как представляется, это не то значение, которое соответствовало титулу Абу Бакра. Несмотря на аргументы Патрисии Кроун и Мартина Хиндса об обратном, данные свидетельствуют, что позиция халифа не подразумевала оказания большого религиозного влияния. Конечно, халиф должен быть ответственен за поддержание институтов мусульманской веры, но он не будет играть значительную роль в определении порядка совершения религиозных практик. Другими словами, Абу Бакр заменит Мухаммада как лидер уммы, но он не будет обладать авторитетом Пророка. Пророк умер, и его статус Посланника Бога умер вместе с ним.
Намеренная двойственность статуса была значительным преимуществом для Абу Бакра и его преемников, поскольку давала возможность самостоятельно определять свою позицию и полномочия в весьма широком контексте. По убеждению Абу Бакра, должность халифа была светской, что очень похоже на позицию шейха в традиционном племенном укладе – «первый среди равных», хотя на нем также лежала ответственность военного руководителя (каида) и главы правосудия (хакама) – обе эти обязанности были унаследованы от Мухаммада. Однако даже светская власть Абу Бакра была строго ограниченна. Как любой другой шейх, большинство решений он принимал, проводя коллективные консультации, и, став халифом, продолжал промышлять и как торговец. Задача Абу Бакра как руководителя, в его понимании, заключалась в поддержании единства и стабильности уммы, чтобы мусульмане, находящиеся под его опекой, могли свободно поклоняться Богу в мирных условиях. Но поскольку тот факт, что его полномочия были ограничены светской властью, не позволял в точности определить, как именно следовало поклоняться Богу, окно возможностей было открыто для нового класса ученых, называемых улемами, «знающими», которые приняли на себя ответственность за руководство уммой на праведном пути.
Как мы увидим, улемы в конце концов сформируют всеобъемлющий кодекс поведения, предназначенный для регулирования всех аспектов жизни верующего. И хотя было бы ошибкой считать этих религиозных служителей и схоластических богословов создателями единственной монолитной традиции, власть улемов и их влияние на формирование верований и практик в исламе трудно переоценить. Халифы придут и уйдут, халифат как гражданский институт претерпит взлет и упадок, а авторитет улемов и сила религиозных институтов будут со временем только возрастать.
Абу Бакр по многим соображениям был прекрасным выбором в качестве преемника Мухаммада. Прозванный ас-Сиддик, «правоверный», он был очень набожным и уважаемым человеком, одним из первых обращенных в ислам, и дражайшим другом Мухаммада. Тот факт, что он занял место на пятничной молитве во время длительной болезни Мухаммада, в умах многих был воспринят как доказательство того, что Пророк благословил его стать своим преемником.
Как халиф Абу Бакр объединил общину под одним знаменем и ввел ее в эпоху военного триумфа и социального согласия, которая станет известна в мусульманском мире как Золотой век ислама. Именно Абу Бакр и его ближайшие наследники – первые четыре халифа, которых вместе называли Рашидун, «праведные халифы», – заботились о семенах, которые Мухаммад посадил в землю Хиджаза, до тех пор пока из них не произросла господствующая и далеко простирающаяся империя. В то время как умма расширялась до Северной Африки, Индийского субконтинента и огромных просторов Европы, праведные халифы стремились направлять развитие общины в соответствии с принципами, заложенными Мухаммадом (борьба за справедливость, равенство всех верующих, забота о бедных и обездоленных). Однако гражданские беспорядки и непрекращающаяся борьба за власть между первыми Сподвижниками Мухаммада в конечном итоге разделили общину на конкурирующие группировки и превратили халифат в ту форму правления, которую более всего критиковали древние арабы, – в абсолютную монархию.
Но, как и в большинстве священных историй, истина об эпохе праведных халифов значительно более сложна, чем о том повествуют предания. Действительно, так называемый Золотой век ислама был не чем иным, как временем религиозного согласия и политической гармонии. С того момента как Мухаммад умер, возникло множество противоречивых идей обо всем: начиная с того, как следует толковать слова и действия Пророка, вплоть до того, кто должен этим заниматься, от вопроса о путях выбора лидера общины до обсуждений способов управления этой общиной. Совершенно неясным было и то, кто мог считаться членом уммы или даже что должен был сделать человек, чтобы его продолжали считать таковым.
Опять-таки, как и в случае со всеми мировыми религиями, именно аргументы, разногласия, а иногда и кровавые конфликты, возникавшие в результате попыток понять волю Господа в отсутствие Его Пророка, породили различные и невероятно разнообразные институты мусульманской веры. Фактически в той же мере, насколько уместно называть «христианствами» движения, которые последовали за смертью Иисуса (от мессианского иудаизма Петра до эллинской религии спасения Павла, гностицизма египтян и еще более мистических течений на Востоке), в равной степени целесообразно называть «исламами» то, что последовало за кончиной Мухаммада, как бы неуклюже это ни звучало. Конечно, ранний ислам не был настолько доктринально разделен, как раннее христианство. Но тем не менее важно признавать и политические, и (как будет рассмотрено в следующей главе) религиозные разделения в раннемусульманской общине, которые очень важны в определении и развитии веры.
Начнем с того, что выбор Абу Бакра халифом отнюдь не был единодушным. По всем показателям только горстка самых известных Сподвижников присутствовала на шуре. Единственный серьезный соперник в борьбе за лидерство в мусульманской общине даже был извещен о встрече только тогда, когда она подошла к концу. В то время когда Абу Бакр принимал присягу на верность, или байа, Али омывал тело Мухаммада для подготовки к захоронению. Клан Мухаммада Бану Хашим вскипел от гнева, когда узнал об этом, заявив, что без Али шура прошла не по правилам, поскольку на ней была представлена не вся умма. Аналогичные горькие жалобы об исключении Али поступали и от ансаров из Медины, которые считали его и Мухаммада в равной степени и мединцами, и мекканцами, другими словами – «одними из своих». Обе группы публично отказались присягать на верность новому халифу.
Многие из числа мусульманского руководства – в особенности Абу Бакр и Умар – оправдывали исключение Али тем, что он был слишком молод, чтобы править уммой, а также тем, что такая преемственность была бы слишком похожа на наследственное царствование (мулк). Эти аргументы и сейчас используют мусульманские ученые и историки. В первом томе «Исламской истории» (Islamic History) М. А. Шабан утверждает, что Али никогда не был серьезным кандидатом на роль первого халифа из-за нежелания арабов доверять «большую ответственность молодому и непроверенному человеку». Генри Ламменс соглашается с этим утверждением, ссылаясь на то, что арабы питали отвращение к наследственной форме управления, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Али не мог стать законным преемником Мухаммада. В результате большинство ученых соглашаются с Монтгомери Уоттом в том, что Абу Бакр был «очевидной [и единственной] кандидатурой на должность преемника».
Но такие аргументы неубедительны. Во-первых, хотя Али и мог считаться молодым (ему было 30 лет, когда Мухаммад умер), его никоим образом нельзя было назвать «непроверенным». Как первый мужчина, обращенный в ислам, и один из величайших воинов ислама Али был широко почитаем за свою духовную зрелость и военную доблесть. В Медине Али действовал как личный помощник Мухаммада и его знаменосец в ряде важных сражений. Его часто назначали ответственным за умму в отсутствие Мухаммада, и, как отмечает Муджан Момен, он был единственным человеком, которому можно было свободно бывать, когда он того захочет, в Доме Пророка. И никто в общине никогда не забудет то, что только Али было разрешено помогать Пророку, когда тот очищал Каабу от идолов во имя Бога.
Доказательство того, что Али высоко ценили за его качества, несмотря на возраст, основывается на том факте, что не только Бану Хашим настаивали на избрании его халифом. Двоюродного брата Пророка и его зятя поддерживали большинство ансаров из Бану Аус и Бану Хазрадж (один из немногих вопросов, по которым два враждующих племени были едины в своем согласии). Выражали ему поддержку Абд Шамс и Абд Манаф, два могущественных и влиятельных клана курайшитов, а также значительное число известных Сподвижников.
Во-вторых, как отмечает Вилферд Маделунг в незаменимой книге «Преемственность от Мухаммада» (The Succession to Muhammad), наследственная преемственность, возможно, была отвратительна арабам-бедуинам, но такое отношение редко встречалось среди аристократической прослойки курайшитов. В действительности курайшиты зачастую избирали членов семьи как своих преемников на руководящем посту, поскольку, как уже отмечалось, было распространено убеждение, что благородные качества передавались по наследству от поколения к поколению. Сам Коран неоднократно подчеркивает значимость кровных отношений (2:177, 215) и наделяет семью Мухаммада – ахл аль-байт – выдающимся положением в умме, несколько сродни тому, которое занимали семьи других пророков.
Это важный аспект, который необходимо иметь в виду. Независимо от мнений касательно качеств Али ни один мусульманин не мог спорить с тем, что преемниками значительного числа пророков и патриархов Библии выступали члены их семьи: от Авраама власть перешла к Исааку и Измаилу, от Исаака – к Якову, от Моисея – к Аарону, от Давида – к Соломону и т. д. Столкнувшись с этим фактом, оппоненты Бану Хашим объявили, что последний из пророков Мухаммад не мог иметь наследника. Но, принимая во внимание, что в Коране подчеркивается связь между Мухаммадом и его пророками-предшественниками, а также признаются многочисленные предания, которые позволяют провести параллель между отношениями Али и Мухаммада и Аарона и Моисея, было бы трудно игнорировать кандидатуру Али просто на том основании, что такой выбор противоречил бы негативному отношению арабов к наследственной форме управления.
Правда заключается в том, что намеренное исключение Али из шуры, которая привела к избранию Абу Бакра, произошло не по причине его возраста или неприятия арабами наследственного лидерства. Али не был допущен из-за растущего страха, бытовавшего среди наиболее крупных и богатых кланов курайшитов, что сосредоточение духовной (как Пророка) и светской (как халифа) власти в руках одного клана (особенно Бану Хашим) приведет к значительному изменению баланса сил в умме. Более того, как представляется, отдельные члены общины, в первую очередь Абу Бакр и Умар, были охвачены некоторым беспокойством по поводу того, что поддержание порядка передачи власти по наследственному признаку в клане Мухаммада в течение длительного времени размоет различие между религиозной властью Пророка и светской властью халифа.
Какими бы ни были оправдания, невозможно было заставить замолчать сторонников Али, поэтому это должен был сделать сам Умар. Буквально избив лидера ансаров Саада ибн Убада и принудив его к покорности, Умар отправился к Фатиме, жене Али и дочери Мухаммада, и угрожал сжечь ее дом, если она сама и остальная часть Бану Хашим не примут волю шуры. К счастью, Абу Бакр сдержал его напор в последний момент, но его послание было ясным: состояние уммы было слишком нестабильным, а политическая ситуация в Аравии слишком изменчивой, чтобы мириться с такого рода открытым инакомыслием. Али согласился. Ради общины он и вся его семья отказались от претензий на лидерство и торжественно присягнули на верность Абу Бакру, хотя для этого потребовалось еще шесть месяцев уговоров.
* * *
Процесс определения преемственности от Мухаммада проходил очень бурно, но нельзя в этой суматохе и путанице потерять еще одну важную деталь, которая привела к избранию Абу Бакра халифом. В основе конфликта по поводу того, кто должен стать главой уммы, лежало также представление о достижении единодушного убеждения, разделяемого всеми мусульманами, в том, что для одобрения кандидата требовалось общенародное решение. Конечно, это был отнюдь не демократический процесс; Абу Бакр был назначен вследствие проведения консультаций между избранными группами старейшин, а не уммой. Но то значительное усилие, которое предприняли Сподвижники, чтобы достичь некоего подобия единодушия, служит доказательством того, что назначение Абу Бакра оказалось бы бессмысленным без достижения консенсуса внутри общины. Таким образом, став халифом, Абу Бакр предстал перед уммой и смиренно провозгласил: «Узрите меня, ответственного за заботы управления. Я не самый лучший среди вас. Я нуждаюсь в вашем совете и вашей помощи. Если я все делаю хорошо, поддержите меня; если совершаю ошибку – помогите советом… Пока я подчиняюсь Богу и Пророку, слушайтесь меня; если я пренебрегаю законами Бога и Пророка, я не имею права на ваше послушание». Если судить с наших современных позиций, выбор преемника Мухаммада может показаться делом хаотичным, сопровождавшимся угрозами и беспорядками, или даже сфальсифицированным процессом. Но тем не менее это действительно был процесс; на всем пространстве от Нила до Окса и дальше нигде больше нельзя было и вообразить себе подобный опыт народной демократии, не говоря уже о попытках его реализации.
Правление Абу Бакра было весьма успешным, но непродолжительным – всего два с половиной года. Его главные достижения как халифа связаны с военными кампаниями против «лжепророков» и тех племен, которые перестали выплачивать налог на десятину, утверждая, согласно племенным традициям, что клятву на верность они приносили Мухаммаду, «шейху» уммы. Эти племена считали, что с его кончиной их обещание становилось недействительным, что означало прекращение обязательств по выплатам. Признавая, что отступление этих племен значительно ослабило бы политическую стабильность уммы и экономически подорвало бы неустойчивый мусульманский режим в Медине, Абу Бакр послал войска, чтобы беспощадно расквитаться с бунтарями. Войны с вероотступниками, как станет называться эта кампания, послужили важным сигналом арабским племенам о том, что их клятва была дана не какому-то смертному шейху, а бессмертной общине Бога. Таким образом, отступничество расценивалось как предательство против уммы и как грех против Бога.
Войны с вероотступниками (Риддские войны) представляли собой сознательные усилия Абу Бакра по поддержанию единства арабов под вечным знаменем ислама и централизованной власти Медины и сохранению общины Мухаммада вне старой племенной системы порядков. Но не следует принимать это за религиозные войны, кампании велись исключительно за укрепление политических позиций Медины. Тем не менее эти события, к сожалению, постоянно связывают с борьбой против отступничества (отрицание веры) и измены (отрицание власти халифа). Поскольку религиозная и гражданская принадлежность были почти идентичными понятиями в Аравии VII в., отступничество и измена считались по сути одним и тем же. Однако взаимосвязь между этими двумя терминами перешла и в ислам, поэтому даже сегодня некоторые мусульмане продолжают безоговорочно и необоснованно утверждать, что два греха – отступничество и измена – заслуживают одинакового наказания: смерти. Именно это убеждение дает право улемам в некоторых мусульманских странах устанавливать смертную казнь в отношении отступников, под которыми они подразумевают любого, кто не согласен с их частным толкованием ислама. И это несмотря на то, что нигде в Коране нет упоминания о каком бы то ни было наказании за отступничество (такое наказание, как неоднократно подчеркивает Коран, может назначать только Бог в загробной жизни (3:86–87; 4:137; 5:54; 16:106; 47:25–28; 73:11)).
Абу Бакр запомнился еще одним решением, которое он принял на посту халифа. Заявив однажды, что он слышал от Мухаммада, как тот сказал: «Мы [Пророки] не имеем наследников. Все, что мы оставляем, – это милостыня», халиф лишил Али и Фатиму имущества, унаследованного от Мухаммада. Отныне семья Пророка кормилась и одевалась только за счет милостыни, предоставляемой общиной. Принимая во внимание, что никакого другого свидетельства этому изречению Мухаммада не было, это невиданное решение. Еще более сомнительным оно представляется потому, что Абу Бакр щедро одарил жен Мухаммада, отдав им дом их супруга как перешедший по наследству. Он даже собственной дочери Аише передал кое-что из имущества в Медине, в прошлом принадлежащего Мухаммаду.
Действия Абу Бакра часто интерпретируются как попытка ослабить Бану Хашим и лишить ахл аль-байт их привилегированного статуса родственников Мухаммада. Но также представляется вероятным, что, обеспечивая жен Мухаммада и утверждая, что их чистота останется нерушимой, Абу Бакр тем самым демонстрировал общине, что именно Аиша и все остальные «матери правоверных» были настоящими наследниками Пророка.
Али был ошеломлен решением Абу Бакра, но он принял свою судьбу безропотно. Фатима, напротив, была безутешна. За несколько месяцев она потеряла отца, свое наследство и средства к существованию. Она никогда более не разговаривала с Абу Бакром, а когда она умерла спустя совсем короткое время, Али тихо похоронил ее ночью, не беспокоя халифа сообщением о ее кончине.
Ученые спорят о наличии и других причин, которые побудили Абу Бакра принять решение лишить Али наследства, а клан Мухаммада – власти. Действительно, в течение своего недолгого правления Абу Бакр, казалось, делал все, чтобы предотвратить рост авторитета Али в умме, во многом потому, что был убежден: духовная и светская власть не должны оставаться в руках одного клана, чтобы не превратиться в неделимое целое. Но сказать, что между Абу Бакром и Али не существовало никакой личной вражды, было бы неправдой. Даже когда Мухаммад был жив, между двумя мужчинами были значительные трения, о чем свидетельствует печально известная «история с ожерельем».
Как гласит легенда, возвращаясь из рейда на Бану аль-Мусталик, Аиша, которая почти всегда следовала за Мухаммадом независимо от того, отправлялся ли он в бой или на заключение договора, неожиданно отстала в одном из палаточных лагерей. Она ускользнула, чтобы справить нужду, и при этом потеряла ожерелье, подаренное ей Мухаммадом. Пока она искала его, караван ушел, и никто не заметил ее отсутствия до следующего утра. Когда мужчины неистово спорили, пытаясь выяснить, что предпринять в связи с потерей любимой жены Мухаммада, в лагерь внезапно вошел верблюд, везя на себе Аишу и красивого молодого араба (ее друга детства) по имени Сафван ибн аль-Муатталь.
Сафван столкнулся с Аишей в пустыне и, несмотря на то что ее лицо было закрыто (недавно был явлен стих о хиджабе), он сразу ее узнал. «Что явилось причиной того, что ты отстала?» – спросил он.
Аиша не ответила, она бы не сняла хиджаб.
Сафван понял, с чем связано ее замешательство, но не собирался бросать жену Мухаммада в пустыне. Он подъехал к ней и протянул руку. «Взбирайся! – сказал он. – И пусть Господь помилует тебя». Аиша колебалась мгновение, а затем взобралась на верблюда. Вдвоем они мчались, чтобы догнать караван, но до утра не добрались и до следующего палаточного лагеря. Вид жены Мухаммада в хиджабе, прильнувшей к Сафвану верхом на верблюде, породил волну слухов по всей Медине. Когда эта история впервые достигла Мухаммада, он отреагировал неопределенно. Он не верил в то, что что-то могло произойти между Аишей и Сафваном, но скандал назревал серьезный. Его враги уже сочинили несколько восхитительно непристойных стихов об этом событии. Дни шли, а Мухаммад становился все более холодным и отрешенным по отношению к жене. Когда он попросил ее покаяться Богу, чтобы этот случай был прощен, Аиша впала в ярость. «Клянусь Богом, – сказала она, – я никогда не буду раскаиваться перед Ним за то, о чем ты говоришь». Обиженная и непримиримая, она выбежала из дома Мухаммада и отправилась к своей матери.
Отсутствие любимой жены мучило Мухаммада. Однажды он стоял среди народа и, явно расстроенный, вопрошал: «Почему некоторые люди причиняют мне боль, затрагивая членов моей семьи и произнося ложь о них?»
Хотя большинство его советников были уверены в виновности Аиши, они перекрикивали друг друга, пытаясь превзойти в воздаянии похвалы ее целомудрию. «Мы не знаем ничего, кроме хорошего о [ваших женах]», – заявляли они. Только Али оставался непреклонным, полагая, что независимо от того, виновна Аиша или нет, этот скандал нанес достаточный вред репутации Мухаммада, чтобы привести к разводу. Можно себе представить, насколько этот совет разгневал отца Аиши Абу Бакра.
Наконец Мухаммад получил откровение, освобождающее Аишу от обвинений в прелюбодеянии. Переполненный радостью, он бросился к жене, закричав: «Радуйся, Аиша! Господь явил твою невиновность!»
Аиша, которая, как свидетельствуют предания, была единственным человеком, который мог уйти от разговоров с Мухаммадом, ответила: «Слава Богу и твоей вине!» Тем не менее она была оправдана, а дело забыто. Но ни Аиша, ни Абу Бакр так никогда и не простили Али.
Раздор между двумя мужчинами разросся еще больше, когда, не советуясь ни с кем, Абу Бакр единолично решил назначить Умара своим преемником без созыва шуры. Есть только одно правдоподобное объяснение такому поступку Абу Бакра: шура бы, несомненно, подняла вопрос о правах семьи Пророка. Действительно, шура могла бы назначить наследником Али, который за последние два года стал невероятно популярным. Поддержка, которую он уже получил от ряда влиятельных кланов Сподвижников, могла бы привести неприсоединившиеся кланы к мысли об утверждении его кандидатуры. Разумеется, личные интересы аристократии из числа курайшитов в поддержании статуса-кво не способствовали принятию решения в пользу Али. Но если бы дело дошло до борьбы между чрезвычайно популярным Али и вспыльчивым, жестким женоненавистником Умаром, последний не был бы так уверен в своей победе. Во избежание такого результата Абу Бакр проигнорировал племенную традицию и прецедент в мусульманском праве и просто сам избрал Умара, хотя опять-таки кандидатура нового халифа должна была быть одобрена консенсусом в общине.
На позиции халифа Умар был именно тем, кем, как считал Мухаммад, он и должен быть, – блестящим и энергичным лидером. Высокий, мускулистый и абсолютно лысый Умар имел гордую осанку и устрашающий вид, и когда он шел, то «возвышался над людьми, словно был на коне». Воин сердцем, он поддерживал светскость халифата, но подчеркивал свою роль как военного лидера, приняв титул амир аль-муминин, «повелитель правоверных». Его превосходные навыки ведения боя привели к поражению византийской армии на юге Сирии в 634 г. и взятию Дамаска год спустя. С помощью угнетаемой еврейской общины Сирии, которую он освободил от византийского контроля, Умар разгромил иранские силы в битве при Кадисии на пути к покорению Сасанидской империи. Египет и Ливия быстро пали под натиском армии Умара, равно как и Иерусалим – венец достижений его военных кампаний.
На удивление Умар оказался гораздо лучшим дипломатом, чем кто-либо мог себе представить. Признавая важность дарования мира и спокойствия новообращенным в ислам неарабского происхождения, которые в то время начали превосходить своим числом арабов, халиф относился к побежденным врагам как к равным членам уммы и стремился ликвидировать все этнические различия между арабами и неарабами (на тот момент, однако, последние по-прежнему находились в подчиненном положении по отношению к первым в вопросах, касающихся обращения в ислам). Богатство, которое хлынуло в Медину в результате одержанных военных побед, распределялось поровну между всеми в общине, включая детей. Умар закончил свой военный путь, чтобы обуздать бывшую курайшитскую аристократию и укрепить свою центральную власть, назначив управляющих, или эмиров, для осуществления контроля в мусульманских провинциях, как ближних, так и дальних. В то же время он давал своим эмирам строгие указания уважать существующие в провинциях традиции и нравы, а также не вводить никаких коренных изменений в ранее установленные правила управления этими народами. Он преобразовал систему налогообложения, что принесло умме невероятное экономическое процветание, и создал постоянную армию обученных солдат, которые располагались в гарнизонах вдали от провинций, чтобы не беспокоить местных жителей.
Умар даже попытался восстановить отношения с Али, обратившись к Бану Хашим. Хотя он отказался вернуть наследство Али, он передал имения Мухаммада в Медине в качестве пожертвования родственникам Мухаммада для управления. Он связал себя с Бану Хашим, женившись на дочери Али, и поощрял участие Али в его системе правления, регулярно консультируясь с ним по важным вопросам. Фактически Умар редко делал что-либо, не советуясь с группой влиятельных Сподвижников, которых он постоянно держал в своем окружении. Возможно, это происходило потому, что он признавал, что его позиция халифа хотя и утверждена уммой, но достигнута нетрадиционными средствами. Именно поэтому он стремился не казаться деспотичным в своих решениях и однажды, как ему приписывают, сказал: «Если я король, то это страшно».
Несмотря на свои попытки установить связь с Бану Хашим, Умар все же продолжал придерживаться той точки зрения, что в вопросах религиозной догматики духовная и светская власть не должны быть сосредоточены в руках одного клана. Действительно, признание об утверждении и принятии изречения Мухаммада об отсутствии наследников стало частью присяги на верность Умару. Как и Абу Бакр, Умар был убежден, что такая власть под контролем Бану Хашим окажется пагубной для мусульманской общины. Тем не менее он не мог игнорировать возрастающую популярность Али. Не желая совершить такую же ошибку, как и Абу Бакр, продолжая курс на отчуждение Бану Хашим, Умар отказался от практики определения преемника, а предпочел вместо этого традиционный созыв шуры.
На смертном одре (Умар был ранен персидским рабом Фирузом) он собрал вместе шесть главных кандидатов на роль халифа, включая наконец и Али, и дал им три дня, чтобы решить между собой, кто будет руководить общиной после его смерти. Незадолго до этого рядом с ним остались только двое: Али, отпрыск Бану Хашим, и некий непримечательный семидесятилетний старик по имени Усман ибн Аффан.
Богатый член клана Омейядов, клана ожесточенных врагов Мухаммада, Абу Суфьяна и Хинды, Усман был курайшитом. Хотя он был в числе первых обращенных в ислам, он никогда не проявлял никаких лидерских качеств; он был торговцем, но не воином. Мухаммад очень любил Усмана, но никогда не доверял ему руководить набегами на караваны или армией от его имени – то, что почти каждый мужчина, присутствующий на шуре, совершал не один раз. Но именно его неопытность и отсутствие политических амбиций делали его столь привлекательным для избрания. Он был идеальной альтернативой Али: разумный, надежный старик, который не стал бы раскачивать лодку.
В конце концов и Али и Усману задал по два вопроса Абд ар-Рахман, который, несмотря на то что был шурином Усмана, был избран на роль хакама в споре между двумя мужчинами. Первый вопрос был таким: будет ли каждый из них управлять в соответствии с принципами, изложенными в Коране, и согласно личному примеру Мухаммада? Оба ответили утвердительно. Второй вопрос оказался неожиданным: будет ли каждый из них, став халифом, строго следовать тем установкам, которые были заложены двумя предыдущими халифами – Абу Бакром и Умаром?
Это было не только совершенно беспрецедентное требование к способу управления общиной, но и было очевидно, что оно предназначалось одному конкретному кандидату. В то время как Усман ответил, что он будет следовать примеру предшественников в моменты принятия решений на посту халифа, Али окинул присутствующих тяжелым взглядом и спокойно ответил: «Нет». Он будет следовать только заветам Бога и собственным суждениям.
Ответ Али решил исход дела. Усман стал третьим халифом и в 644 г. был незамедлительно одобрен уммой.
Члены Бану Хашим вскипели от гнева, когда Али оказался отстранен в пользу Абу Бакра. Но Абу Бакр был высокоуважаемым мусульманином с безупречным реноме. Хашим был в ярости на Абу Бакра за то, что он проигнорировал Али и просто выбрал Умара в качестве своего преемника. Но опять же, Умар был сильным лидером, и, не имея соответствующих каналов влияния, члены клана мало что могли сделать, кроме того, как выразить свое несогласие. Однако то, что Усман был избран халифом, потеснив Али, переполнило чашу терпения Бану Хашим.
Для многих в общине стало совершенно ясно, что утверждение Усмана на роль руководителя уммы было намеренной попыткой удержать у власти курайшитов из числа старой аристократии, которые стремились вернуть себе прежний статус элиты арабского общества. С избранием Усмана Дом Умайя вновь стал центральным в Аравии, ровно так, как это было до завоевания ее Мухаммадом во имя ислама. Положение ухудшалось тем, что вместо попыток предотвращения всеразрастающегося раскола в общине Усман только усугублял ситуацию своим предприимчивым кумовством и неумелым руководством.
Усман отстранил почти всех эмиров в мусульманских землях, поставив вместо них своих ближайших родственников, как будто демонстрируя всем превосходство своего клана. Затем он начал вникать в вопросы управления государственной казной, чтобы перераспределить огромные суммы денег между членами своей семьи. Наконец, и это самое важное, он порвал с прежней традицией, даровав себе до сей поры немыслимый титул Халифат Аллах, «Преемник Бога», титул, который Абу Бакр категорически отклонил. Для многих врагов Усмана это решение явилось признаком самовозвеличивания. Халиф, как казалось, рассматривал себя не только исполняющим обязанности Посланника, но и представителем Бога на земле.
Действия Усмана привели к тому, что его все яро возненавидели. Не только Бану Хашим и ансары в Медине восстали против халифа, но и некоторые соперничающие с Умайя кланы – Бану Зухра, Бану Макзум и Абд Шамс – вместе с наиболее влиятельными Сподвижниками, включая Аишу и даже Абд ар-Рахмана, шурина Усмана и человека, который, выступив на шуре арбитром, поспособствовал присуждению Усману титула халифа. К концу своего правления Усман принял так много безрассудных решений, что даже самое значительное его достижение – собрание стихов и канонизация Корана – не позволило ему укрыться от гнева мусульманской общины.
При жизни Мухаммада содержание Корана никогда не было кодифицировано в один том; фактически стихи никогда не собирались воедино. Как и любая личная декламация, льющаяся из уст Пророка, эти строки тщательно заучивались наизусть и фиксировались новым классом ученых, которых лично наставлял Мухаммад, и назывались они курра, или чтецы Корана. Только самые важные высказывания – те, которые касались правовых вопросов, – записывались, поначалу на фрагментах костей, обрывках кожи, пальмовых листьях.
После смерти Пророка курра рассеялись по всей общине как уполномоченные преподаватели Корана. Но с быстрым ростом уммы и уходом первого поколения чтецов Корана стали появляться некоторые расхождения в декламациях. Это были в основном незначительные различия, отражающие местные культурные особенности мусульманских общин в Ираке, Сирии, Египте; они были несущественными с точки зрения значения и смыслового наполнения Корана. Тем не менее политическая элита Медины была серьезно встревожена этими расхождениями и поэтому начала строить планы в отношении того, о чем Мухаммад никогда не беспокоился, – создания единого, кодифицированного, универсального текста Корана.
Некоторые исследовательские традиции утверждают, что Коран таким, каким мы знаем его сейчас, был сформирован Абу Бакром в период его правления. Это позиция Теодора Нёльдеке, хотя даже он признает, что редакция Абу Бакра не обладала авторитетом действительно канонического текста. Большинство ученых, однако, согласны с тем, что именно Усман в качестве Преемника Бога утвердил единый универсальный обязательный текст Корана примерно в 650 г. Но при этом Усману снова удалось оттолкнуть от себя важных членов общины, когда он решил собрать все другие версии Корана, привезти их в Медину и сжечь.
Это решение привело в ярость ведущих мусульман Ирака, Сирии и Египта не потому, что они считали, что их редакции Корана были в некоторой степени лучше и целостнее, чем у Усмана, – как отмечалось, различия были совершенно несущественными, – но потому, что они стали осознавать, что Усман выходит за пределы границ своей светской власти халифа. Ответ Усмана на их недовольства был следующим: он распорядился считать неверующим любого, кто подвергал сомнению авторитет официальной версии Корана.
Волнения против Усмана достигли своего пика в 655 г., когда на всех территориях, где проживали мусульмане, вспыхнули восстания против некомпетентного халифа и других коррумпированных эмиров. В Медине Усмана открыто презирали. Однажды, когда он вел пятничную молитву в мечети, молящиеся с задних рядов начали бросать в него камни. Один камень попал ему в лоб, и он без сознания упал с минбара на пол. В конце концов ситуация стала настолько ужасной, что некоторые известные Сподвижники из Мекки объединились, чтобы умолять халифа отозвать своих коррумпированных правителей, прекратить систему кумовства и покаяться перед всей общиной. Однако члены его клана, и особенно его влиятельный и властолюбивый двоюродный брат Марван, надавили на Усмана, призывая его не показывать свою слабость, внимая чьим-то просьбам.
Год спустя вопрос решился насильственным путем, когда огромная делегация из Египта, Басры и Куфы отправилась в Медину, чтобы представить свои жалобы непосредственно халифу. Отказавшись принять их лично, Усман направил к ним Али, чтобы попросить делегацию вернуться домой, пообещав, что их недовольство будет передано адресату.
Что произошло дальше – неясно; данные источников весьма путаны и противоречивы. Каким-то образом на обратном пути египетская делегация перехватила посланника к представителю Усмана в Египте, который нес с собой официальное письмо с требованием немедленно наказать лидеров повстанцев за их неповиновение. Письмо было заверено печатью халифа. Разгневанная делегация тут же вернулась в Медину. Вместе с повстанцами из Басры и Куфы они взяли в осаду дом Усмана, а потом захватили и самого халифа.
Большинство историков убеждены, что Усман не писал это письмо: он мог быть неважным политическим лидером, но он не был самоубийцей. Он должен был знать, что лидеры повстанцев не примут наказание без боя. Некоторые ученые, такие как Леоне Каэтани, обвинили Али в написании письма, утверждая, что он хотел сместить Усмана и объявить халифом себя; но это обвинение совершенно безосновательно. Возможно, между двумя мужчинами была вражда и Али не отказался от своих стремлений руководить халифатом. Но дело в том, что он добросовестно служил Усману и был одним из его наиболее доверенных советников, он делал все, что было в его власти, чтобы утихомирить мятежников. В конце концов именно Али убедил делегацию отправиться домой. Даже когда повстанцы окружили дом Усмана, обнажив мечи, Али оказал халифу свою поддержку. Действительно, старший сын Али Хасан был в числе горстки охранников, которые продолжали защищать Усмана, когда восставшие ворвались в его дом, а его второй сын, Хусейн, доставлял воду и пищу халифу, пробираясь через осаду с большим риском для собственной жизни.
Большинство ученых сходятся в том, что истинным виновником произошедшего был Марван, который, как считали многие в кругу Усмана, и написал это письмо. Именно Марван посоветовал Усману жестко расквитаться с повстанцами, когда они в первый раз прибыли со своими жалобами. Именно под его влиянием Усман воздержался от публичного раскаяния в таких пагубных действиях, как накопление богатства за счет государственной казны в руках членов его семьи. Ведь когда Сподвижники критиковали Усмана за такое неподобающее поведение, именно Марван, который в наибольшей степени выиграл от системы кумовства, обнажил свой меч и пригрозил убить самых уважаемых членов уммы в присутствии преемника Пророка.
Независимо от того, кто написал это письмо, восставшие из Египта, Басры и Куфы – и почти все в Медине – были убеждены, что Усман потерпел неудачу на посту руководителя по всем статьям и несомненно должен добровольно уйти. Он в некотором смысле осквернил данную им присягу на верность как шейх уммы и нарушил завет Абу Бакра о том, что если халиф пренебрегает законами Бога и Пророка, то он не имеет права на повиновение уммы.
Но была также небольшая группа мусульман, которая призывала к отставке Усмана не потому, что он осквернил присягу на верность. Они считали, что только халиф, свободный от греха, достоин возглавлять святую общину Господа. Эта группа станет известна как хариджиты, и, несмотря на их малочисленность, они и их бескомпромиссные убеждения в дальнейшем сыграют важную роль в определении судьбы мусульманской общины.
Даже когда почти все отвернулись от него, Усман по-прежнему отказывался отдавать власть. Он был уверен, что должность Халифат Аллах была дарована ему Богом, а не человеком и только Бог мог снять с него мантию правителя. Однако как набожный мусульманин Усман отказался атаковать мятежников, осаждавших его обитель, надеясь, что он сможет сохранить контроль над халифатом без пролития мусульманской крови. Он приказал своим сторонникам не вступать в бой, а отправиться домой и ждать, когда порядок восстановится сам по себе. Но было уже слишком поздно.
Восставшие, спровоцированные потасовкой за пределами дома Усмана, ворвались во внутренние покои халифа, где застали его сидящим на подушках и читающим Коран, который он сам и кодифицировал. Пропущенные Сподвижниками и практически не встретившие сопротивления охранников повстанцы в последний раз попросили Усмана отречься. Когда халиф отказался, они обнажили мечи и вонзили их в его грудь. Усман упал на открытый Коран; его кровь сочилась на золотые листы Книги.
Смерть халифа от рук мусульман повергла умму в смятение. Поскольку мятежники по-прежнему оставались под контролем Медины, было неясно, что произойдет в дальнейшем. В Мекке и Медине образовалось значительное количество мусульман, которые желали воспользоваться возможностью стать преемником Усмана; среди них были и два известных Сподвижника из Мекки – Тальха ибн Убайдуллах и Зубайр ибн аль-Аввам, избранные Мухаммадом за свое благочестие.
Среди них был, конечно, и Али.
Али молился в мечети, когда услышал весть об убийстве Усмана. Предчувствуя хаос, который последует за этим событием, он быстро вернулся домой, чтобы убедиться, что с семьей все в порядке, и особенно с его сыном Хасаном, который остался защищать Усмана. На следующий день, когда в городе установился хрупкий мир, он вернулся в мечеть, где застал внушительную делегацию мусульман, умолявших его принять присягу на верность и стать новым халифом. Почти четверть века Али преследовала идея о руководстве халифатом, но сейчас, когда ему преподнесли эту возможность, он отказался. Учитывая обстоятельства, нежелание Али неудивительно. Если кончина Усмана и доказала что-то, так это то, что для поддержания авторитета халифа по-прежнему было необходимо определенное народное согласие. Но, принимая во внимание активность мятежников из Медины, Египта и Ирака в восстании, невозможно себе представить, чтобы инициатива Мекки по восстановлению халифата в том изначальном варианте, каким его видели Абу Бакр, Умар и клан Усмана Бану Умайя, а также требования о немедленном возмездии за смерть халифа получили народную поддержку. И все же существовал многочисленный и значительный по своему весу контингент мусульман, которые выражали безусловную, не ослабевавшую с годами поддержку Али. Эта группа состояла из членов ансар в Медине, клана Мухаммада Бану Хашим, некоторых выдающихся кланов курайшитов, нескольких ведущих Сподвижников и представителей ряда крупных органов управления среди мусульман неарабского происхождения (особенно в Басре и Куфе), которые все вместе обозначили себя как шиату Али, или «Партия Али», – шииты.
Несмотря на такую поддержку, только после того, как его политические соперники в Мекке, включая Тальху и Зубайра, заверили Али в своей преданности, он наконец сдался и принял мантию руководства. Настояв на том, чтобы клятва верности была дана публично в мечети в присутствии всей мусульманской общины, Али ибн Аби Талиб, двоюродный брат и зять Пророка, наконец занял свое место главы уммы. Примечательно, что Али отказался от титула халифа, который, как он считал, был уже навсегда осквернен Усманом. Вместо этого он избрал эпитет, предложенный Умаром, – амир аль-муминин, «повелитель правоверных».
При поддержке своей партии Али восстановил порядок в Медине, объявив о всеобщей амнистии всем, кто так или иначе был причастен к смерти Усмана. Это было время прощения и примирения, а не возмездия. Старым племенным порядкам, заявил Али, пришел конец. Он также принес мир на территории, где зрели мятежные настроения, отстранив почти всех родственников Усмана от постов эмиров и утвердив на эти должности квалифицированных местных лидеров. Однако действия Али, особенно его решение об амнистии мятежников, не только разгневали Бану Умайя, но и проложили дорожку для Аиши, вокруг которой сплачивались силы, недовольные выбором нового халифа, на которого была возложена ответственность за убийство Усмана.
Аиша в действительности не верила, что Али был виновен в смерти Усмана; а даже если бы она так и считала, то вряд ли бы ее это особенно заботило. Аиша ненавидела Усмана и сыграла значительную роль в восстании против него. Фактически ее брат Мухаммад был напрямую вовлечен в убийство халифа. Но, усвоив от своего отца Абу Бакра, что никогда не следует доверять управление халифатом клану Мухаммада, чтобы оставалось незыблемым различие между религиозной и политической властью в умме, Аиша рассматривала убийство Усмана как возможность заменить Али на руководящем посту кем-то другим, более подходящим. Наиболее вероятными претендентами были ее близкие союзники – Тальха и Зубайр. Именно с их помощью она объединила большое количество жителей Мекки и, оседлав верблюда, лично повела их в бой против сил Али в Медине.
Верблюжья битва, как она впоследствии будет названа, стала первой в истории ислама гражданской войной, или фитной (в течение следующих полутора веков их будет гораздо больше). В некотором смысле этот конфликт был неизбежен не только из-за продолжающегося антагонизма между сторонниками Али и Аиши, но и по причине постепенно разрастающихся споров внутри сообщества о роли халифа и природе уммы. Слишком часто этот спор изображался как четко разделяющий тех, кто считал позицию халифа чисто светской, и тех, кто был убежден, что этот пост должен включать как светские, так и религиозные обязанности Пророка. Но эта простая дихотомия маскирует разнообразие религиозно-политических взглядов, которые существовали в Аравии в VII–VIII вв., на природу халифата и полномочия его правителя.
Поразительно быстрая экспансия ислама до территорий Византийской и Сасанидской империй, которые считались неприступными, для большинства мусульман стала доказательством милости Божьей. В то же время встреча с иностранными народами и правительствами заставляла мусульман пересматривать свои идеалы, которые регулировали политическую структуру сообщества. И хотя все согласились с тем, что умма может по-прежнему управляться только одним лидером, до сих пор не был достигнут консенсус относительно того, кто должен быть этим лидером и как он должен управлять.
С одной стороны, в числе мусульман были такие, как Аиша и ее сторонники, которые, признавая важность построения общества на основе Божьих заповедей, тем не менее склонны были поддерживать светский характер халифата. Эта фракция называлась шиату Усман, «Партия Усмана», хотя следует помнить, что Аиша никоим образом не считала себя продолжательницей дела Усмана, который, по ее мнению, опорочил систему халифата, созданную ее отцом и ее протеже Умаром.
С другой стороны, были и такие, как Бану Умайя, которые в свете временного господства Усмана на посту халифа сохранили убеждение, что халифат был наследственной собственностью их клана. По этой причине после смерти Усмана его ближайший родственник Муавия, правитель Дамаска и отпрыск Умайя, решил игнорировать события, происходившие в Медине, и вместо этого стал строить планы по захвату халифата в единоличное правление. В некотором смысле шиату Муавия – так эта фракция была названа – представляла традиционный идеал племенного правления, хотя сам Муавия, казалось, пытался руководить уммой, опираясь на опыт великих империй – Византийской и Сасанидской. Никто еще не призывал к созданию мусульманского королевства, но уже становилось ясно, что умма слишком огромна и богата, чтобы можно было поддерживать ее единство в соответствии с укладом «неоплеменной» системы, установленной Мухаммадом в Медине.
На противоположном конце политического спектра была шиату Али, члены которой выражали приверженность сохранению устройства уммы таким, каким его видел Мухаммад, независимо от социальных или политических последствий. Хотя верно утверждение, что некоторые фракции внутри этой группы считали, что институт власти халифа должен включать и религиозную составляющую, как это было в случае Мухаммада, не нужно определять эту точку зрения как закрепленную шиитскую позицию, какой она станет впоследствии. На тот момент не существовало значительных религиозных различий между шиитами и остальными членами мусульманского сообщества, которые затем будут названы суннитами, или «ортодоксальными». Партия Али была не более чем политической фракцией, которая поддерживала право клана Мухаммада на управление сообществом вместо самого Мухаммада.
Однако внутри группы приверженцев Али существовала небольшая фракция, которая придерживалась более крайних взглядов, полагая, что умма была божественно учрежденным институтом, который может управляться только самым благочестивым человеком в сообществе, независимо от его принадлежности к племени, родственных связей и происхождения. Впоследствии названная хариджитами, эта группа уже была отмечена в связи с оправданием убийства Усмана на том основании, что он нарушил заповеди Бога и отверг пример Пророка, что привело к тому, что он стал более недостоин звания халифа. Поскольку хариджиты подчеркивали необходимость религиозного авторитета халифа, их часто называют первыми мусульманскими теократами. Но это была крошечная, раздробленная группа, чья радикальная теократическая позиция была отвергнута почти всеми другими фракциями, борющимися за осуществление контроля над мусульманским сообществом.
Важный вклад хариджитов в историю ислама заключается, однако, в том, что они предприняли первые осознанные попытки по определению отличной от других мусульманской идентичности. Члены этой группы были одержимы установлением того, кто мог считаться мусульманином, а кто нет. Согласно мнению хариджитов, любой, кто не подчинился какому-либо из предписаний Корана или нарушил каким-то образом пример пророка Мухаммада, считался кафиром, или неверным, и моментально исключался из уммы.
Эта небольшая группа в долгосрочной перспективе внесла значительный вклад в развитие мусульманской мысли, утверждая, что спасение придет исключительно к членам уммы, которую, в свою очередь, считала харизматическим и божественным сообществом Аллаха. Члены группы разделяли всех мусульман на два лагеря: «Люди Рая», как говорили хариджиты о себе, и «Люди Ада», под которыми они подразумевали всех остальных. В этом отношении хариджитов можно считать первыми мусульманскими «экстремистами», и хотя существование самой группы продлилось всего пару столетий, ее суровые доктрины были восприняты последующими поколениями экстремистов, чтобы дать религиозное обоснование своим политическим восстаниям против как мусульманских, так и немусульманских правительств.
Последнее замечание: важно признать, что, невзирая на свои взгляды относительно природы халифата и полномочий правителя, ни один мусульманин в Аравии VII в. не признал бы того различия, которое современные сообщества проводят между светским и религиозным. Первичное отличие в философском плане между шиату Усман и хариджитами заключалось не в ответе на вопрос, должна ли религия влиять на управление, а в разнице оценок того, до каких пределов может быть расширено это влияние. Таким образом, хотя шиату Али, шиату Усман, шиату Муавия и хариджиты были прежде всего политическими фракциями, все эти четыре группы можно было также описать, используя более религиозно-ориентированные термины – с применением слова дин, или «религия» (например, дин Али, дин Усман и т. д.).
Трудно понять, какую позицию занимал Али в этой дискуссии о природе халифата и полномочиях правителя, потому что, как вскоре станет очевидно, он никогда не имел возможности полностью встать на ту или иную сторону. Как видно из решений, которые он принял по вопросу о преемнике Усмана, Али согласился с позицией хариджитов и признал, что умма – это сообщество, создание которого было вдохновлено Богом и которое более не может существовать по имперским идеалам шиату Муавия или по неоплеменным правилам Абу Бакра и Умара, как это предусматривали сторонники шиату Усман. Другой вопрос – думал ли Али о том, что халиф должен обладать религиозным авторитетом Мухаммада?
Али однозначно не был хариджитом, он глубоко чувствовал связь с Пророком, которого знал всю свою жизнь. Они вместе выросли, словно братья, в одном доме, и Али редко покидал жилую половину Мухаммада как в детском возрасте, так и будучи взрослым. Было бы понятно, если бы Али считал, что его отношения с Мухаммадом одарили его религиозными и политическими качествами, необходимыми для того, чтобы вести божественную общину дорогой, отмеченной Пророком. Но это не значит, что Али считал себя назначенным Богом продолжать пророческое дело Мухаммада, как в конечном итоге будут утверждать его последователи. Не означает это и то, что он был убежден в обязательной религиозной природе халифата.
Принимая во внимание хитрые политические маневры, которые разворачивались вокруг Али, его попытки по преобразованию халифата – если не в теократию, то в систему религиозного благочестия – казались обреченными с самого начала. Тем не менее Али был привержен идее объединения уммы под эгидой ахл аль-байта и на основе эгалитарных принципов Мухаммада. Поэтому, после того как его силы быстро сокрушили армию Аиши в Верблюжьей битве, во время которой Тальха и Зубайр были убиты, а Аиша серьезно ранена стрелой, вместо того, чтобы наказать повстанцев, как это сделал Абу Бакр после войн с вероотступниками, Али помиловал Аишу и ее окружение, позволив им беспрепятственно вернуться в Мекку.
После того как Мекка и Медина покорились, Али перевел столицу халифата в Куфу (современный Ирак), чтобы сосредоточить свое внимание на Муавии, который, будучи сыном Абу Суфьяна и двоюродным братом Усмана, обратился к старым племенным чувствам своих родственников из числа курайшитов, чтобы поднять армию против Али и отомстить ему за убийство Усмана. В 657 г. Али и его куфанская армия встретились с Муавией и его сирийской армией в местечке под названием Сиффин. После долгой и кровавой битвы войска Али были уже на грани победы, когда, предчувствуя свое поражение, Муавия приказал своей армии поднять копья с листами Корана: знак, сигнализирующий о желании сдаться на суд победителя.
Большая часть армии Али, и особенно хариджиты, которые в тот момент были ему преданы, умоляли его проигнорировать этот жест и продолжать сражение до тех пор, пока повстанцы не будут наказаны за свое неповиновение. Но хотя Али чувствовал, что со стороны Муавии уготовано предательство, он отказался оставить без внимания заповедь Господа: «Если они [враги] удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным» (2:193). Приказав своей армии сложить оружие, Али принял капитуляцию Муавии и призвал хакама разрешить спор между ними.
Это был фатальный шаг. Суд, последовавший за Сиффинской битвой, постановил признать убийство Усмана несправедливым и достойным возмездия. Это решение, казалось, оправдывало восстание Муавии. Однако гораздо более роковым стал тот факт, что хариджиты посчитали решение Али подчиниться арбитражу, а не назначить Божий суд над мятежниками серьезным грехом, карающимся исключением из святой общины. Рассерженные хариджиты бросили Али на поле боя еще до начала арбитража под крики: «Нет суда, кроме Божьего!»
Али вряд ли успел осознать последствия такого решения суда. После Сиффина он с большой неохотой был вынужден отправить армию, чтобы разобраться с хариджитами, которые отделились от его партии. Не успел он подчинить хариджитов (что произошло вследствие скорее не битвы, а бойни), как ему вновь пришлось обратить внимание на Муавию, который во время длительного судебного процесса смог мобилизовать военные силы, захватить Египет и в 600 г. объявить себя халифом Иерусалима. Когда войска Али разбежались, а его сторонники разделились на идеологические направления, он мобилизовал оставшиеся силы и в следующем году подготовил заключительную кампанию против Муавии и его сирийских повстанцев.
Утром накануне кампании Али вошел в мечеть в Куфе, чтобы помолиться. Там его встретил Абдуррахман ибн Мулджам, хариджит, который пробивал себе дорогу через толпу в мечети, крича: «Суд принадлежит Богу, Али, а не тебе!»
Выхватив отравленный меч, ибн Мулджам нанес удар по голове Али. Это была поверхностная рана, но яд сделал свое дело. Через два дня Али скончался, а вместе с ним и мечта Бану Хашим объединить святую общину Бога под знаменем семьи Пророка.
В проповеди, которую Али произнес за несколько лет до того, как его убили, он отметил, что «добродетельный человек признается таковым по тем благим поступкам, которые говорят за него, и по тем похвалам, которые Бог предназначает ему получать от других». Это были пророческие слова, поскольку Али мог умереть, но не мог оказаться забытым. Для миллионов шиитов по всему миру Али остается образцом мусульманского благочестия, он – свет, который освещает прямой путь к Богу. Он, по словам Али Шариати, «лучший в речи… лучший в поклонении… лучший в вере».
Именно это героическое восприятие Али было прочно заложено в сердца тех, кто обращается к нему как к человеку, который, по их убеждению, был единственным преемником Мухаммада не как четвертый халиф, а как нечто большее.
Али, как утверждают шииты, был первым имамом: живым доказательством Бога на земле.
Халифат, как пишет сэр Томас Арнольд, «вырос без какого-либо предвидения». Это было образование, которое смогло развиться не столько благодаря сознательной решимости праведных халифов, сколько в результате противодействия уммы условиям внешней среды в процессе ее роста из крошечной общины в Хиджазе до обширной империи, простирающейся от Атласских гор в Западной Африке до восточных окраин Индийского субконтинента. Поэтому неудивительно, что разногласия по поводу полномочий халифа и природы уммы в конечном итоге раздробили мусульманскую общину, навсегда разрушив надежду на сохранение единства и гармонии – дело, которое Мухаммад завещал своим последователям. Также неудивительно, что трое из четырех первых лидеров ислама были убиты другими мусульманами, хотя важно признать, что и повстанцы, убившие Усмана, и хариджиты, убившие Али, были, как и их духовные преемники среди сегодняшних джихадистов, гораздо более заинтересованы в сохранении своего личного идеала общины Мухаммада, чем в защите сообщества от внешних врагов.
После смерти Али Муавия смог установить абсолютный контроль над всеми мусульманскими территориями. Переместив столицу из Куфы в Дамаск, Муавия закрепил престол за династией Омейядов, завершив тем самым процесс преобразования халифа в короля, а уммы – в империю. Арабская династия Муавии правила совсем недолго – с 661 по 750 г. Она была смещена династией Аббасидов, пришедшей к власти с помощью обращенных в ислам неарабов (в основном персов), которые значительно превзошли в численности арабские элиты. Аббасиды заявили, что их род происходит от дяди Мухаммада аль-Аббаса, и получили поддержку от шиитских фракций, переместив свою столицу в Багдад и устроив массовые убийства всех членов Умайя, которых смогли найти. Но шииты отвергли утверждения Аббасидов об их легитимности и в результате были безжалостно преследуемы новыми халифами.
Продолжая править как светские короли, халифы Аббасидов гораздо глубже вовлекались в религиозные вопросы, чем их предшественники Омейяды. Как мы увидим, седьмой халиф Аббасидов аль-Мамун (ум. 833) даже попытался установить для мусульман, которые находились под его властью, закон о непреложном толковании ислама, начав краткосрочную и, как показало время, безуспешную религиозную инквизицию против тех улемов, которые не соглашались с его богословскими убеждениями.
Хотя их династия правила вплоть до XII в., последние аббасидские халифы были не более чем номинальными фигурами, которые не обладали прямой властью над мусульманскими землями. Даже Багдад, столица их империи, находился под контролем шиитского конгломерата аристократических иранских семей, называемых Буиды, которые в период с 932 по 1062 г. управляли всеми делами государства, но все же позволяли аббасидскому халифу оставаться на своем не имеющем реальной власти троне. Между тем в Каире Фатимиды (909–1171) – шиитская династия, представители которой заявляли, что их корни восходят к жене Али и дочери Мухаммада Фатиме, – утвердились как соперники Багдада, поддерживая политический контроль над всеми землями от Туниса до Палестины. А в Испании Умайя Абд ар-Рахман, которому удалось спастись бегством от устроенной в Сирии резни, основал династию, которая просуществовала до XV в., а проводимая ею политика стала парадигмой мусульманско-иудейско-христианских отношений.
Руководители персидских Буидов были в итоге смещены их же рабами-тюрками, которые основали династию Газневидов (977–1186), объявившую сюзеренитет над Северо-Восточным Ираном, Афганистаном и Северной Индией, а также династию Сельджуков (1038–1194), правившую на большей части восточных земель. Именно тюрки, проникая в различные султанаты в качестве наемных ополченцев, много лет спустя смогли воссоединить большинство мусульманских земель под властью единственного халифата Османов – суннитской династии, которая правила из своей столицы Стамбула с 1453 до 1924 г., когда Османская империя пала и халифат был упразднен.
Более не существует такого понятия, как халиф. С возвышением современного национального государства на Ближнем Востоке мусульмане изо всех сил стремятся примирить свою двойственную идентичность как граждан независимых государств и как членов единого мирового сообщества. Некоторые утверждают, и часть из них – необычайно жестко, что халифат должен быть восстановлен как эмблема мусульманского единства. Эти мусульмане убеждены, что идеалы ислама и национализма противоположны друг другу. В частности, Абул Ала Маудуди, основатель пакистанского социально-политического движения «Джамаат-и-Ислами»[17], считал, что единственно легитимное исламское государство должно быть мировым государством, в котором не будет места расовым и национальным предрассудкам.
XX век стал свидетелем трансформации исторического спора о полномочиях халифа и природе уммы в дебаты об оптимальном пути сочетания религиозных и социальных принципов ислама, которые были определены Мухаммадом и развиты праведными халифами, с современными идеалами конституционализма и демократических прав. И все же эти современные дебаты по-прежнему глубоко погрязли в тех же вопросах религиозной и политической власти, с которыми умма боролась в течение нескольких первых столетий ислама.
Так в 1934 г. реформатор-модернист Али Абдель Разик (1888–1966) выступал в своей книге «Ислам и основы управления» (Islam and the Bases of Government) за разделение религии и государства в Египте, проводя четкое различие между властью Пророка, которая, по его мнению, была ограничена исключительно религиозными полномочиями Посланника Бога, и чисто светской функцией халифата, являвшегося просто гражданским институтом, который все мусульмане были вправе подвергать сомнению, находясь в оппозиции или даже восставая против власти. Али Абдель Разик утверждал, что универсальность ислама может основываться только на его религиозных и нравственных принципах, которые не имеют никакого отношения к политическому порядку отдельных государств. Несколько лет спустя египетский ученый и активист Сейид (Саййид) Кутб[18] (1906–1966) высказался против аргумента Разика, считая, что сфера полномочий Мухаммада в Медине охватывала как религиозную, так и политическую составляющую, поэтому единственно законным исламским государством является то, которое заботится как о материальных, так и моральных потребностях своих граждан.
В 1970-х гг. аятолла Рухолла Хомейни применил на практике явно шиитскую интерпретацию аргумента Кутба, чтобы обрести контроль над социальной революцией, которая уже шла против иранской деспотической проамериканской монархии. Обращаясь как к историческим чувствам шиитского большинства страны, так и к демократическим устремлениям недовольных масс, Хомейни утверждал, что только высшая религиозная власть сможет управлять социальными и политическими делами людей так, как это делал Пророк.
Все эти трое мыслителей так или иначе пытались вернуть некоторое чувство единства тому, что стало сильно раздробленным мировым сообществом мусульман. Тем не менее без централизованного политического авторитета (скажем, халифа) или централизованного религиозного авторитета (как папа римский, например) единственными институтами в современном мире, которые хоть как-то преуспели в объединении мусульманского сообщества под единым знаменем, были религиозные учреждения улемов.
На протяжении всей исламской истории, когда мусульманские династии сменяли одна другую, мусульманские правители были коронованы, а затем свергнуты с престола, а исламские парламенты избирались и распускались, и только улемы как связующее звено с традициями прошлого сумели сохранить добровольно взятую на себя роль лидеров мусульманского сообщества. В результате за последние четырнадцать столетий ислам почти всецело определялся небольшой, непреклонной и зачастую глубоко традиционалистской группой людей, считавших себя непоколебимыми столпами, на которых покоятся религиозные, социальные и политические основы религии. Как они добились такого авторитета и что они сделали с обретенной властью – это, пожалуй, самая важная глава в истории ислама.
6. Религия как наука
Развитие исламской теологии и права
Инквизиция начинается с простого вопроса: «Коран создан Богом или он не сотворен, а вечно сосуществует наравне с Богом?»
Сидя на своем троне из блестящего золота и драгоценных камней, молодой Аббасидский халиф аль-Мутасим (ум. 842) остается безразличным к тому, как одного за другим «ученых Бога», улемов, тащат к нему в кандалах, чтобы ответить на вопрос инквизитора. Если они признают, что Коран был создан (доминирующая богословская позиция в среде тех, кого называют «рационалистами»), они вольны вернуться в свои дома и продолжить преподавание. Если, однако, они продолжают утверждать, что Коран не создан (позиция «традиционалистов»), их ждет порка, а затем тюрьма.
Процесс над улемами продолжается часами, при этом аль-Мутасим сохраняет молчание, слушая богословские аргументы, которые сам едва понимает. Ему скучно и заметно не по себе. Споры о том, был ли Коран создан Богом или нет, не интересуют его. Он военачальник, а не ученый. Его ждут восстания, которые надо подавить, и битвы, в которых надо сразиться. Но он вынужден сидеть здесь в окружении облаченных в алые одежды визирей (сами они богословы, а не солдаты) и командовать не армией, а инквизицией, которая была навязана ему старшим братом, седьмым Аббасидским халифом аль-Мамуном.
«Встаньте вместе, все вы, и говорите обо мне хорошо, если можете, – вспоминает аль-Мутасим то, что его старший брат бормотал на смертном одре, – если вы знаете о каком-то зле, совершенном мной, воздержитесь от упоминания о нем, потому что меня заберут [и будут судить] по тому, что вы скажете».
Столько всего можно было сказать, думает аль-Мутасим, в то время как его охранники уводят очередного богослова, чтобы подвергнуть пыткам. Тем не менее всегда покорный, всегда верный своей семье аль-Мутасим хранит молчание ради бессмертной души брата и дозволяет войти следующему ученому.
Это темнокожий старик с грубым белым тюрбаном на голове и грязной набедренной повязкой. По его длинной бороде, окрашенной хной, на грудь сочится кровь. На его лице синяки, глаза почернели. Его уже пытали, и не один раз. Как и все остальные, он закован в цепи. Но он стоит ровно и смотрит в лицо халифу бесстрашно. Он бывал здесь уже много раз, защищая свою позицию по Корану перед прошлым халифом аль-Мамуном. Но это первый раз, когда он предстал перед его преемником.
Сухой старик вынужден сидеть, пока его имя оглашает суд. Когда объявляют, что он не кто иной, как Ахмад ибн Ханбал – чрезвычайно популярный схоластический теолог и основатель традиционной ханбалийской школы права, – аль-Мутасим деревенеет. Встав со своего трона, он сердито указывает пальцем на своего главного инквизитора Ибн Аби Дуада (еще одного человека, навязанного ему братом) и кричит: «Разве ты не утверждал, что Ибн Ханбал – молодой человек? Разве это не шейх среднего возраста?!»
Инквизитор пытается успокоить аль-Мутасима, объясняя, что осужденный уже был допрошен аль-Мамуном по ряду вопросов и в свете его известности ему давали много возможностей пересмотреть свою позицию относительно природы Корана. Однако он отверг все попытки пойти с ним на компромисс, настаивая на своей еретической позиции, заключающейся в том, что Коран – речь Бога – един с Ним.
Слишком раздраженный, чтобы спорить, аль-Мутасим вновь садится на трон и позволяет своему инквизитору начать допрос. «Ахмад ибн Ханбал, – начинает Ибн Аби Дуад, – считаешь ли ты Коран созданным или несозданным?»
Халиф наклоняется вперед, глядя на старика и ожидая, что он ответит. Но Ибн Ханбал игнорирует вопрос инквизитора, как он уже делал это неоднократно, и говорит с легкой улыбкой: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха».
Аль-Мутасим откидывается на спинку трона, проклиная втайне своего брата, а Ибн Ханбала вытаскивают из зала, подвешивают между двумя столбами и секут.
Аль-Мамун стал халифом, осадив Багдад – столицу Аббасидского халифата – и убив своего сводного брата аль-Амина. Но поскольку аль-Мамун и аль-Амин были назначены соуправленцами халифатом своим отцом, бесславным Гаруном ар-Рашидом (ум. 809), аль-Мамун был вынужден оправдать то, что, по существу, было незаконной узурпацией власти, объявив, что на такие действия было дано божественное одобрение. Бог вверил ему правление халифатом, провозгласил аль-Мамун, и он должен подчиниться Богу.
Конечно, в этом не было ничего нового: жестокий междоусобный раздор стал характерной чертой всех мусульманских династий, и большинство узурпаторов были вынуждены узаконивать свое правление, заявляя о божественном одобрении. Аббасидская династия оправдала свой захват власти и безрассудную бойню, учиненную над Омейядами, объявив себя служителями Бога. Но аль-Мамуна от его предшественников отличало то, что он, казалось, искренне полагал, будто Бог передал ему халифат в управление, чтобы он мог вести мусульманскую общину в том направлении, которое он считал правильным согласно своему видению ислама.
«Я – праведный халиф», – заявил он в послании своей армии, сообщая о новом политическом и религиозном порядке в Багдаде и требуя абсолютного повиновения его руководству, которое даровано Богом.
Это было поразительное заявление. С тех пор как Муавия превратил халифат в монархию, вопрос о природе власти халифа был более или менее решен: халиф ведал гражданскими делами общества, в то время как улемы выступали в роли лидеров на духовном пути верующих к Богу. Конечно, были такие халифы, которые пытались оказывать религиозное влияние на умму. Но никто из них никогда не осмеливался позиционировать себя как своего рода «мусульманского папу», требуя беспрекословного религиозного послушания от всех членов общины. И все же именно к этому и стремился аль-Мамун, который всегда считал себя в первую очередь богословом и только потом – политическим лидером.
Будучи мальчиком, аль-Мамун, как и подобает, обучался наукам о религии и отличился как знаток исламского права и теологии, в особенности рационалистской традиции (о которой более подробно будет сказано далее). Когда он стал халифом, он окружил себя единомышленниками из числа улемов. С ними он регулярно обсуждал вопросы, касающиеся сущности Бога, свободы воли и, что самое важное, природы происхождения Корана, который, как считал аль-Мамун, был созданным творением и полностью отделен от сущности Бога.
До того времени позиция аль-Мамуна в отношении Корана отражала мнение меньшинства улемов; большая часть религиозных священнослужителей была убеждена, что Коран соизначален Богу. Однако в последний год своего царствования халиф заявил, что отныне все преподаватели и знатоки религиозного учения обязаны придерживаться доктрины о создании Корана. В противном случае им более не разрешалось продолжать свою деятельность.
Опять же, хотя представление о том, что халиф может влиять на религиозные вопросы, не было новым, это был первый случай, когда халиф сделал себя единственным арбитром в этой сфере. Невозможно сказать, что произошло бы, если бы аль-Мамун преуспел в своих попытках «переформулировать [халифальную] легитимность», как справедливо назвал это Ричард Буллиет. Весьма вероятно, что ислам сегодня был бы совершенно другой религией. Халифат, возможно, стал бы папством; религиозная власть в государстве могла бы стать централизованной, и в результате сложилась бы ортодоксальная мусульманская церковь.
Но аль-Мамун в реализации своих задумок не преуспел. Фактически несколько лет спустя в период правления сына аль-Мутасима аль-Мутаваккиля (ум. 861) инквизиция была отменена с осознанием того, что никогда более халиф не должен быть столь явно вовлечен в религиозные дела. В действительности аль-Мутаваккиль раскачал маятник богословия в сторону традиционалистов, щедро вознаграждая улемов, которые были сторонниками этой парадигмы, и преследуя тех самых рационалистов, которые до его царствования пользовались благосклонностью суда. К моменту воцарения халифа аль-Кадира (ум. 1031) подавляющее большинство улемов-традиционалистов, особенно влиятельные ханбалиты, были объединены одной доктриной.
Освобожденные государством от оков, улемы отныне могли подняться до уровня бесспорных религиозных лидеров в умме, и эту позицию они использовали не только для институционализации своих мнений в правовом и богословском поле в форме отдельных исследовательских школ мысли, но также для того, чтобы сформулировать обязательный, всеобъемлющий кодекс поведения, названный шариатом, навсегда превративший ислам из религии в образ жизни и охвативший все сферы деятельности, – только улемы имели право утвердить нечто подобное. Как однажды заметил живший в IX в. правовед Малик ибн Анас, основатель маликитской правовой школы: «Ислам – это наука, поэтому обращайте пристальное внимание на тех, от кого вы получаете знание о ней».
Религии становятся институтами, когда мифы и ритуалы, которые когда-то формировали их священную историю, трансформируются в авторитетные модели ортодоксии (правильной интерпретации мифов) и ортопраксии (правильного толкования ритуалов), хотя одно часто превалирует над другим. Христианство может выступать в качестве высшего примера «ортодоксальной» религии; это в основном определенные убеждения, выраженные через вероучение, которые делают человека правоверным христианином. На обратном конце спектра находится иудаизм, квинтэссенция «ортопраксической» религии, где главная роль отведена действиям, выраженным через Закон, которые создают богопослушного еврея. Это не означает, что убеждения не имеют отношения к иудаизму или действия не важны для христианства. Скорее речь о том, что при сравнении этих двух религий иудаизм придает гораздо большее значение ортопраксическому поведению, нежели христианство.
Подобно иудаизму, ислам в первую очередь – ортопраксическая религия, настолько, что Уилфред Кантуэлл Смит предложил переводить слово сунниты как «ортопраксы», а не «ортодоксы». Однако, поскольку улемы склонны рассматривать исламские практики как обоснование исламской теологии, ортопраксия и ортодоксия тесно связаны друг с другом в исламе, и это означает, что вопросы богословия, или калам, невозможно отделить от вопросов права, или фикха.
По этой причине улемы зачастую отвергают практику чисто умозрительного богословского познания как незначительный лепет (калам означает «говорить», или «речь», а к мусульманским богословам часто обращались как ахл аль-калам, «люди слова»). Не теологические аргументы в споре о сущности Бога больше всего беспокоили улемов с самых первых дней исламской экспансии (хотя, как мы увидим, этот вопрос в конечном итоге станет активно обсуждаемым среди ученых), особенно учитывая, что умма была все более рассеяна по разным территориям, а разнообразие языков и культур народов, в нее входивших, все возрастало. Скорее предметом их забот был процесс формализации конкретных способов выражения веры через ритуалы. Конечной целью улемов было формирование строгих руководящих принципов, согласно которым будет установлен точный механизм по определению, кто может считаться мусульманином, а кто нет. Результатом их трудов стало то, что сейчас широко известно как пять столпов ислама.
Пять столпов ислама заключают в себе основные ритуалы мусульманской веры. Тем не менее, по замечанию Джона Ренара, следование столпам не означает «ограничение жизни личности и сложного глобального сообщества до целого ряда религиозных практик». Более того, пять столпов подразумеваются как метафора ислама; они не только резюмируют требования, предъявляемые к тем, кто хочет стать членом уммы, но также постулируют, что значит быть мусульманином.
Вопреки распространенному мнению столпы – это не насильственные обязательства. Совсем наоборот. Это очень прагматические ритуалы, во время совершения которых верующий несет ответственность только за те действия, которые он способен выполнить. Это и не показательные действия. Единственный важный фактор в исполнении любого мусульманского ритуала – это намерение верующего, которое должно быть сознательно озвучено до того, как ритуальная процедура начнется. В конце концов, столпы должны быть «совокупностью действий», которые, по словам Мохамеда А. Абу Риды, не просто «вербальные и физические, но прежде всего умственные и моральные, исполненные в соответствии с определенными условиями сознательного намерения, внешней и внутренней чистоты, состояния разума, смирения и покорности сердца, что создает в душе верующего настоящую жизнь религиозной преданности и духовности».
За исключением основного столпа, шахада, или свидетельства о вере (который мы обсудим последним), все они в основном регулируют общественную деятельность. Фактически первичная цель пяти столпов – помочь верующим четко заявить посредством выполнения определенных действий о их членстве в мусульманском сообществе. Древний идеал уммы хариджитов как харизматической и богодухновенной общины, через членство в которой достигается спасение, стал общепринятой (ортодоксальной) доктриной подавляющего большинства мусульман в мире, которые без всякой централизованной религиозной власти и какой-либо Церкви или стандартизированной религиозной иерархии рассматривают сообщество как ядро мусульманской веры.
Проще говоря, сообщество – это Церковь в исламе, «носитель ценностей», если использовать часто цитируемую фразу Монтгомери Уотта. Умма дает смысл и цель верующему, чья национальная, этническая, расовая и половая принадлежность всегда второстепенна по отношению к его членству во всемирном сообществе мусульман, – сообществе, не связанном никакими границами, географическими или временными. Таким образом, когда кто-то постится в течение месяца Рамадан или присоединяется к пятничной молитве, он делает это со знанием того, что все мусульмане – с первых дней проповедей Мухаммада до сегодняшнего дня – во всех уголках мира соблюдают пост и молятся точно так же и в то же самое время.
Первый столп и первая отчетливо мусульманская практика, принятая Мухаммадом в Мекке, – это салат, или ритуальная молитва. В исламе существуют два вида молитвы: дуа, которая относится к личному неформальному общению верующего с Богом; и салат, ритуальная обязательная молитва, которую необходимо выполнять пять раз в день: на рассвете, в полдень, после полудня, на закате и поздним вечером. Салат, что означает «поклониться, преклониться или растянуться», состоит из серии йогических движений, которые включают стояние, поклоны, вставание, сидение, повороты на восток и запад, падение ниц, – и все это повторяется в цикле (называющемся ракаат) и сопровождается определенными стихами из Корана.
Как и в случае со всеми мусульманскими ритуалами, приступать к исполнению салата можно, только озвучив намерение молиться и только обратившись к Мекке – в избранном направлении молитвы, или кибла. Хотя салат можно выполнять индивидуально, ибо он служит средством очищения души, все-таки он призван быть общинным актом, который объединяет умму. По этой причине всегда лучше выполнять салат в местах общего сбора людей. К тому же один особый салат – полуденная молитва по пятницам (салат аль-джума) – должен проводиться в мечети в присутствии всей общины. И поскольку ежедневное пятикратное моление может показаться тяжелым бременем, это обязательство не распространяется на больных, путников, а также всех тех, кто не может его выполнить по какой-то уважительной причине; по желанию пропущенные салаты могут быть всегда совершены позднее.
Второй столп также был создан в первые годы зарождения движения Мухаммада в Мекке. Это выплата милостыни, или закят. Как объяснялось ранее, закят – это милостыня, данная в виде налога общине, который затем распространяется среди бедных, чтобы обеспечить им уход и защиту. Это не добровольно пожертвованная десятина, это религиозное обязательство. Закят буквально обозначает «очищение» и служит напоминанием всем мусульманам об их социальной и экономической ответственности перед уммой. Конечно, закят выплачивают только те, кто может себе это позволить; в противном случае его получают.
По мере того как умма преобразовывалась в империю, закят превратился из обязательной к уплате милостыни в некий вид государственного налога, взимаемый со всех мусульман (как отмечалось ранее, немусульмане, например христиане и иудеи, выплачивали другой «налог на защиту», называемый джизйа). В период наибольшего расцвета халифата использование закята для финансирования армии стало общепринятой практикой, которая вызывала возмущение у многих в мусульманском обществе. С окончанием периода халифатов и становлением современных национальных государств мусульманские правительства стали все чаще брать на себя обязательство по сбору и распределению закята. Действительно, выплата закята, хотя и преднамеренно отделенного от регулярных государственных налогов, стала обязательной в ряде мусульманских стран, включая Пакистан, Ливию, Йемен и Саудовскую Аравию; при этом последняя налагает закят как на физических лиц, так и на представителей бизнеса. Однако большинство мусульман придерживаются традиционной практики выплаты закята от каждого индивидуально в местной мечети или ином религиозном институте, где затем распределяют денежные средства между нуждающимися членами сообщества.
Третий столп – мусульманский пост длиною в месяц (саум по-арабски), который происходит во время Рамадана, – не был четко установлен как мусульманский ритуал вплоть до завершения эмиграции в Медину. Учитывая, что идея поста была совершенно чужда образу жизни бедуинов – было бы абсурдно преодолевать расстояния в условиях пустыни, добровольно отказавшись от пищи и воды, – не может быть никаких сомнений в том, что Мухаммад воспринял этот ритуал от евреев Аравии. Коран это признает, постулируя: «Предписан вам пост, так же как он предписан тем, кто был до вас» (2:183; выделено автором). И ат-Табари отмечает, что первый мусульманский пост совпал с праздником Йом Кипур; Мухаммад специально приказал своим последователям поститься вместе с евреями в ознаменование их исхода из Египта. Только потом время поста было перенесено на Рамадан, месяц, в который, как убеждены мусульмане, Коран был в первый раз явлен Мухаммаду.
В течение месяца Рамадан никто не может есть, пить или иметь половые сношения от восхода солнца до заката. Опять же, главная цель поста – объединить сообщество. Это напоминание о страданиях и бедности тех, кто голодает весь год. По этой причине мусульмане, которые не обязаны поститься, – старые и больные, беременные и кормящие женщины, путешественники и те, кто выполняют тяжелый ручной труд, – вместо этого должны, согласно требованиям Корана, накормить голодных (2:184). И хотя соблюдение поста в течение целого месяца может звучать как весьма мрачная практика, Рамадан на самом деле – это время для духовного самоанализа и праздничного торжества. Друзья, семьи, все соседи в округе проводят долгие ночи, разговляясь вместе, а последняя ночь Рамадана Ид аль-Фитр (Ураза Байрам) – самый широко отмечаемый праздник во всем исламском мире.
Четвертый, и, возможно, самый известный, столп – это ежегодный хадж (паломничество) в Мекку. Все мусульмане должны по возможности отправиться в Мекку хотя бы один раз в своей жизни, чтобы принять участие в священных обрядах, связанных с Каабой. Технически обряды вокруг Каабы можно совершать в любое время, что известно под названием «малое паломничество», или умра. Однако сам хадж происходит только в течение последнего месяца лунного года, когда священный город разбухает, чтобы вместить толпы паломников, подобно «матке матери, которая чудесным образом дает место своему ребенку», цитируя знаменитого испанского ученого и поэта Ибн Джубайра, жившего в XII в.
Как и паломники-язычники, мусульмане отправляются в Мекку, чтобы испытать преобразовательную силу Каабы. Но в отличие от языческого святилища мусульманская Кааба не служит хранилищем для идолов богов. Скорее это символ живого присутствия одного и единственного Бога. Кааба, и это нужно понимать, не представляет архитектурной ценности. Это куб – простейшая форма здания, какая только может быть, – покрытый черным покрывалом, на котором вышиты слова Господа. Это не храм в традиционном смысле этого слова. Кааба более не обладает подлинной святостью; несколько раз ее сносили и перестраивали. Хотя ее и прозвали «Домом Божьим», она ничего в себе не хранит, за исключением нескольких образцов Корана и некоторых древних реликвий. Но в своей абсолютной простоте Кааба и связанные с ней обряды действуют как инструменты всеобщей медитации во имя Единого и Неделимого Бога (эта концепция будет более подробно рассмотрена позже).
Хадж начинается, когда паломники пересекают освященный порог Большой Мечети, которая окружает Каабу, отделяя священное пространство от мирского. Чтобы войти в святилище, паломники должны снять с себя обычное одеяние и надеть освященные одежды – два бесшовных белых куска ткани для мужчин и любое подобное простое облачение для женщин, – что символизирует состояние чистоты (ихрам). Мужчины бреют головы и обрезают бороды и ногти; женщины состригают несколько прядей волос.
Как только это состояние чистоты достигнуто и намерение приступить к обрядам озвучено, паломник отправляется на совершение таваф: семикратный обход вокруг святилища по-прежнему остается основным ритуалом паломничества. В каждом уголке мира – от самых дальних окраин Африки к югу от Сахары до богатых пригородов Чикаго – мусульмане поворачиваются лицом по направлению к Каабе во время молитвы, но, когда они собираются в Мекке, Кааба становится осью мира, и каждое направление здесь – это направление молитвы. Это, можно сказать, центробежная сила молитвы в присутствии Святыни, которая заставляет молящегося вращаться вокруг Нее.
Когда обходы завершены, паломник переходит к исполнению серии ритуалов, которые согласно традиции были установлены Мухаммадом в последний год его жизни. Они включают в себя семикратный бег между холмами-близнецами ас-Сафа и аль-Марва, что знаменует поиск Хаджар источника воды; путешествие к горе Арафат (убежище Адама и Евы после того, как они были изгнаны из Эдема, а также место последней проповеди Мухаммада); забивание камнями трех столпов в долине Мина, которые символизируют дьявола; и наконец, принесение в жертву овец, коров или ягнят, чтобы отметить окончание паломничества (мясо затем раздается бедным). Когда обряды выполнены, паломник снимает священные одежды и вновь входит в светский мир как хаджи; в следующий раз эта одежда будет использована в качестве погребального савана.
Хадж – это высшее общинное событие в исламе. Это единственный основной мусульманский ритуал, в котором мужчины и женщины участвуют без проведения между ними каких-либо различий. В освященном состоянии, когда все паломники одеты одинаково, не существует ни рангов, ни классов, ни статусов; нет и деления по половому, этническому или расовому принципу, – нет никакой идентичности вообще, за исключением принадлежности к мусульманам. Именно это и был тот самый общинный дух, о котором упоминал Малкольм Икс, когда писал о своем опыте совершения хаджа: «Я никогда ранее не видел столь искреннего и истинного братства, практикуемого всеми, независимо от цвета кожи».
Эти четыре ритуала – общинная молитва, выплата милостыни, пост в Рамадан и совершение хаджа – придают смысл мусульманской вере и единству с мусульманской общиной. Однако можно утверждать, что основная функция этих четырех правил заключается в том, чтобы выразить пятый, и самый важный, столп (и единственный, требующий веры, а не действия) – шахада, или свидетельство о вере, которое посвящает каждого обращенного в мусульманскую религию.
«Нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Аллаха».
Это на первый взгляд простое утверждение не только служит основой всех догматов веры в исламе, оно в какой-то мере подводит итог всему исламскому богословию. Это обусловлено тем, что шахада означает признание чрезвычайно сложной теологической доктрины, известной как таухид.
Доктрина таухида настолько важна для развития исламского богословия, что понятие «Наука Калама» (ильм аль-калам) служит синонимом к выражению «Наука Таухида» (ильм аль-таухид). Но таухид, который буквально означает «делать что-либо единым», подразумевает не только монотеизм. Действительно, есть лишь один Бог, но не менее важно то, что Бог Един. Бог есть Единство: полностью неделимое, совершенно уникальное и абсолютно неопределяемое. Бог никоим образом не похож ни на свою сущность, ни на свои атрибуты.
Бог, как неоднократно напоминает Коран верующим, «возвышенный». Он «выдающийся». Когда мусульмане выкрикивают «Аллаху Акбар!» (буквально – «Аллах велик!»), они имеют в виду не то, что Бог более великий в сравнении с чем-то, а то, что он просто величайший.
Очевидно, что у людей не было другого выбора, кроме как говорить о Боге понятным им языком, используя общепринятые среди людей символы и метафоры. Поэтому некоторые, говоря о Его атрибутах, могли использовать такие понятия, как «Добро» или «Бытие», в классическом философском значении, но только признавая, что эти термины бессмысленны, когда они применяются по отношению к Богу, которого нельзя выразить ни через вещественные характеристики, ни через свойства действия. Действительно, таухид предполагает, что Бог – вне всякого описания и вне человеческого знания. «Воображение Его не достигает, – подчеркивал египетский богослов ат-Тахави (ум. 933), – и разум не понимает Его». Бог, другими словами, совершенно Иной: Mysterium tremendum[19], если использовать знаменитое высказывание Рудольфа Отто.
Поскольку таухид настаивает на том, что Бог Един, группа мусульманских мистиков, названных суфиями, утверждает, что не может быть ничего, кроме Бога. Бог, согласно мнению суфийского учителя Ибн Араби, единственное бытие, которое действительно существует: единственная реальность. Для ученого и мистика Абу Хамида аль-Газали Бог – это аль-Аввал, «Первый, до которого нет ничего», и аль-Ахир, «Последний, за которым ничего нет». Следует понимать, что аль-Газали не приводит ни онтологических, ни теологических аргументов в пользу существования Бога; Бог – не «первопричина», как у Фомы Аквинского, не «главный движитель», как у Аристотеля. Бог – единственная причина, Бог – это само движение.
Если таухид – основа ислама, тогда его противоположность ширк – это величайший грех, за совершение которого, как утверждают некоторые мусульмане, не может быть прощения (2:116). В своем простейшем определении ширк означает «связывать что-либо с Богом». Но, как и в случае с таухидом, концепция ширка не так проста. Политеизм – это очевидный ширк, но лишь до тех пор, пока скрывает Единство Бога каким бы то ни было способом. Для мусульман Троица – это ширк, ибо Бог Един, и никак иначе. Любая попытка антропоморфизации Бога путем наделения Божественного человеческими атрибутами, тем самым ведущая к ограничению Божественного владычества, тоже может расцениваться как ширк. Но ширк также может определяться как размещение препятствий на пути к Богу, будь то жадность, или распитие спиртных напитков, или гордость, или ложное благочестие, или любой другой серьезный грех, который удерживает верующего вдали от Бога.
В конечном счете таухид подразумевает признание Творения как «универсального единства», цитируя Али Шариати, без деления на «этот мир и тот, естественное и сверхъестественное, физическую сущность и смысл, духовное и телесное». Другими словами, отношение между Творением и Богом подобно связи между «светом и лампой, которая его излучает». Один Бог, одно Творение. Один Бог.
Один Бог.
* * *
Как отправная точка для доктринальных дискуссий в исламе, вопрос о Единстве и Неделимости Бога отчетливо несет в себе некоторые богословские проблемы. Например, если Бог всемогущ, лежит ли на Нем ответственность за зло? Имеет ли человечество свободную волю выбирать между тем, что правильно и нет, или всем нам заранее предопределено спасение или проклятие? И как можно интерпретировать атрибуты Господа – Божье знание, Божью силу и в особенности речь Бога, как она записана в Коране? Сосуществует ли слово Божье с Богом или это созданное понятие, как природа и космос? Разве ответы на эти вопросы в любом случае не ведут непременно к постановке под сомнение Божественного единства?
Принимая во внимание взаимосвязь в раннем исламе между религией и политикой, неудивительно, что эти определенно богословские вопросы имели также и важное политическое смысловое наполнение. Халифы Омейядов, например, стремились использовать аргумент, подтверждающий могущественную власть Бога, для того чтобы утвердить свою абсолютную власть над уммой. В конце концов, если Омейяды были избранными доверенными Бога, то все их действия, по сути, были подготовлены Им. Эта идея была воспринята выдающимся богословом Хасаном аль-Басри (642–728), который утверждал, что даже грешному халифу следует подчиняться, потому что он был возведен на престол Богом.
И все же аль-Басри не был сторонником веры в предопределение: его позиция в отношении системы халифата отражала его политический квиетизм и его антихариджитское отношение, а не его теологические взгляды. Подобно богословской школе кадаритов, с которой он зачастую ассоциируется, аль-Басри считал, что предвидение Богом событий необязательно соответствовало предопределению: Бог может знать, что тот или иной человек собирается совершить, но это не означает, что Он заставляет это делать. Некоторые богословы в числе кадаритов пошли еще дальше, заявив, что Бог не может знать о наших действиях до тех пор, пока они не произойдут. Такое представление по понятным причинам больше обидело богословов-традиционалистов, которые были убеждены, что доктрина таухида обусловила веру в определенную божественную силу. Если Творец и Творение – едины, то как тогда, спорили они, человечество может противоречить воле Бога?
Но сторонники идеи предопределенности были разделены на тех, кто, как радикальная секта джахмитов, считали все действия людей (включая спасение) предопределенными Богом, и тех, кто, как последователи вышеупомянутого правоведа Ахмада ибн Ханбала (780–855), принимали идею об абсолютном контроле Бога над человеческой деятельностью, но поддерживали мнение об ответственности человека за то, как он отреагирует на обстоятельства, предложенные Богом.
К IX и Х вв. в рамках этого спора о детерминизме и свободной воле выделились два направления мысли: «рационалистическая позиция», наиболее четко представленная мутазилитами, и «традиционалистская», преобладающая среди ашаритов. Улемы мутазилитов утверждали, что Бог, будучи принципиально неопределимым, тем не менее существует в границах человеческого разума. Оспаривая представление о том, что религиозная истина может быть достигнута только через божественное откровение, мутазилиты обнародовали доктрину, согласно которой все теологические аргументы должны придерживаться принципов рационального мышления. Даже толкование Корана и предания, или Сунна, о Пророке были, по мнению рационалистов, подчинены человеческому разуму. Как утверждал Абд аль-Джаббар (ум. 1024), самый влиятельный богослов-мутазилит своего времени, «правдивость» Божьего слова не может основываться исключительно на божественном откровении, ибо это замкнутый круг причинно-следственных связей.
Испанский философ и врач Ибн Рушд (1126–1198), более известный на Западе как Аверроэс, свел концепцию аль-Джаббара к теории знания «двух истин», где религия и философия противопоставлены друг другу. Согласно Ибн Рушду, религия упрощает истину для масс, прибегая к легко понимаемым знакам и символам, несмотря на доктринальные противоречия и логические несоответствия, которые неизбежно вытекают из образования и жесткой интерпретации догмы. Но философия – истина сама по себе; ее цель – просто выразить действительность через способности человеческого разума.
Именно эта приверженность, которую Биньямин Абрахамов называет «подавляющей силой разума над откровением», позволила современным ученым назвать мутазилитов первыми богословами в исламе. И именно в отношении такого акцента на первенстве человеческого разума улемы-традиционалисты из числа ашаритов выступают категорически против.
Ашариты утверждали, что человеческий разум, хотя, безусловно, важен, тем не менее должен подчиняться Корану и Сунне Пророка. Если бы религиозные знания могли быть получены только посредством разума, как полагали мутазилиты, то не было бы необходимости в пророках и откровениях; результатом стала бы путаница теологического разнообразия, которая позволила бы людям следовать собственным желаниям, а не воле Господа. Ашариты считали, что разум неустойчив и изменчив, в то время как пророческие предания и тексты священных писаний – в особенности в толковании их улемами-традиционалистами – были стабильными и зафиксированными.
Что касается вопроса о свободной воле, богословы-рационалисты приняли и расширили мнение о том, что человечество совершенно свободно в своих действиях на стороне добра или зла, и это означает, что ответственность за спасение полностью лежит на верующем. В конце концов, было бы нерационально для Бога вести себя так несправедливо, предоставляя человечеству волю выбирать, быть верующим или нет, а потом награждать одних и наказывать других. Многие традиционалисты отклонили этот аргумент на том основании, что такая логика ставит поведение Бога в рамки рационального, а следовательно, человеческого рассуждения. Это, по мнению ашаритов, ширк. Всемогущий Создатель Бог должен быть прародителем «добра и зла, малого и большого, внешнего и внутреннего, сладкого и горького, приятного и неприятного, хорошего и плохого, передового и последнего», цитируя вероучение ханбалитов, бесспорно самой влиятельной из всех исламских школ мысли.
Рационалисты и традиционалисты не сошлись во мнениях и относительно атрибутов Бога. Оба лагеря считали, что Бог – вечен и уникален, и оба неохотно признавали антропоморфное описание Бога, представленное в Коране. Однако большинство рационалистов толковали эти описания как исключительно образные выражения, предназначенные для поэтических целей, тогда как большинство традиционалистов отвергали все символические интерпретации откровения, заявляя, что кораническое описание рук и лица Господа, хотя и нельзя уподоблять словесному изображению рук и лица человека, все же следует воспринимать буквально.
У Бога есть лицо, утверждал Абуль Хасан аль-Ашари (873–935), основатель школы ашаритов, потому что так гласит Коран («и остается лик твоего Господа со славой и достоинством»; 55:27), и мы не должны задаваться вопросом почему. В самом деле, аль-Ашари часто отвечал на претензии, связанные с рациональными несоответствиями и внутренними противоречиями, вызванными жестким толкованием религиозной доктрины, придерживаясь формулы била кайфа, что можно свободно перевести как «не спрашивайте почему».
Эта формула ужасала рационалистов, и в особенности таких ученых, как Ибн Сина (Авиценна на Западе; 980–1037), который считал, что атрибуты Бога – божественное знание, речь и т. д. – не более чем «путеводители», которые просто отражают понимание Божественного человеческим разумом, но не само Божественное. Рационалисты утверждали, что атрибуты Бога не могли действительно существовать с Ним, но должны быть частью Его Творения. Приписывание вечных атрибутов Богу будет, согласно Василу абн Ате (ум. 748), основателю школы мутазилитов, равносильно утверждению о существовании более чем одной вечной сущности.
Улемы-традиционалисты отвергли аргумент Васила, противопоставляя ему идею о том, что, хотя божественные атрибуты могут быть отдельными сущностями, они тем не менее представляют собой включенные составляющие сущности Бога и, следовательно, тоже вечны. «Его атрибуты – от вечности, – заявил Абу Ханифа, традиционалист, основатель Ханафитского мазхаба (крупнейшей школы права в современном мусульманском мире). – Кто говорит, что они созданы или порождены… неверующий».
Конечно, когда обсуждается взаимосвязь между сущностью Бога и божественными атрибутами, и рационалисты и традиционалисты имеют в виду один особо важный атрибут – речь Бога, то есть Коран.
Обращение халифа Умара в ислам сопровождалось чудом. Жестокая гордость Умара, унаследованная им от родственников-язычников и племенной системы, изначально побудила его наброситься на Мухаммада и его последователей. Умар действительно когда-то планировал убить Мухаммада, чтобы положить конец его разрушительному движению. Но когда он собирался отправиться на поиски Пророка, друг сообщил ему, что его сестра приняла новую религию и в тот самый момент встречается с одним из верующих в своем доме. В ярости Умар обнажил меч и бросился домой к сестре, намереваясь убить ее за предательство семьи и племени. Но перед тем как войти в дом, он услышал священные слова Корана, доносившиеся изнутри. Сила и изящество этих слов заставили его замереть на месте. Он уронил свой меч.
«Как прекрасна и благородна эта речь!» – воскликнул он, а глаза его наполнились слезами. И подобно апостолу Павлу, который был ослеплен видением Иисуса, увещевавшим его прекратить преследование христиан, Умар изменился под действием божественного вмешательства – не потому, что узрел Бога, а потому, что услышал Его.
Уже было сказано, что среда, через которую человечество познает «чудесное», может резко меняться в зависимости от времени и места. В эпоху Моисея, например, чудо в основном познавалось через магию. Моисей был вынужден доказывать свое пророческое предназначение, превращая прут в змею или, что выглядело более впечатляюще, разделяя Красное море. К тому времени когда жил Иисус, познание чуда по большей части перешло в область медицины, которая также включала экзорцизм. Ученики верили, что Иисус – обещанный Мессия, но остальное население Иудеи рассматривало его просто как очередного блуждающего целителя; почти везде, где проходил Иисус, от него требовали продемонстрировать его пророческую природу, но не путем представления магических превращений, а через способность исцелять больных и хромых.
Во времена Мухаммада считалось, что чудо познается не посредством магии или медицины, а через речь. Члены таких обществ, как то, к которому принадлежал Мухаммад, где были распространены устные традиции, зачастую рассматривали слова как нечто наполненное мистической силой. Древнегреческий бард, который пел о странствиях Одиссея, и индийский поэт, скандировавший священные стихи Рамаяны, были больше чем просто сказители: они были рупором богов. Когда в начале каждого года шаман коренного населения Америки рассказывает мифы о создании своего племени, его слова не только повествуют о прошлом, но и формируют будущее. Общины, которые не полагаются на письменные источники, склонны верить, что мир непрерывно обновляется и создается через их мифы и ритуалы. В этих обществах поэты и барды – зачастую еще священники и шаманы; и считается, что поэзия, как искусное манипулирование общим языком, обладает божественной властью, необходимой для выражения фундаментальных истин.
Это было особенно справедливо для доисламской Аравии, где поэты обладали чрезвычайно высоким статусом в обществе. Как отмечает Майкл Селлс в труде «Следы в пустыне» (Desert Tracings), в начале каждого сезона паломничества стихи лучших поэтов древней Мекки вышивались золотом на стягах из дорогих египетских тканей и подвешивались на Каабе, но не потому, что оды носили религиозный характер (по большей части они были о красоте и величии верблюда поэта!), а потому, что они обладали внутренней силой, которая естественным образом ассоциировалась с Божественным. Это была та самая заряженная изнутри божественность слов, которая побудила кахинов представлять свои пророческие высказывания через поэзию: было бы немыслимо для богов говорить на другом языке, кроме как на поэтическом.
Очевидно, что не знающим арабский трудно оценить изысканное качество языка Корана. Но возможно, будет достаточно отметить, что Коран широко признается как высший образец поэтического слога. Действительно, сведя воедино идиомы и диалекты Хиджаза, Коран, по существу, создал арабский язык. Как текст Коран означает гораздо больше, чем основа исламской религии, это источник арабской грамматики. Для арабского Коран означает то же самое, что Гомер для греческого, а Чосер для английского, – снимок развивающегося языка, навсегда замороженный во времени.
Как «высшее арабское событие», цитируя Кеннета Крэгга, Коран считается большинством мусульман единственным чудом Мухаммада. Как и пророков, которые были до него, Мухаммада неоднократно призывали доказать его божественную миссию, продемонстрировав какие-нибудь чудеса. Но когда бы его об этом ни просили, он настаивал на том, что он не более чем посланник и его послание – единственное чудо, которое он мог предложить. И в отличие от чудес других пророков, которые ограничены конкретной эпохой, чудо Корана Мухаммада, выражаясь словами мистика XII столетия по имени Наджм ад-Дин Рази Дая (1177–1256), «остается таковым до конца света».
Дая обращался к фундаментальному убеждению в исламе о том, что как по форме, так и по содержанию Коран несравним с каким бы то ни было другим религиозным или светским писанием, которое когда-либо видел мир. Сам Мухаммад часто призывал поэтов-язычников к тому, чтобы качество их произведений соответствовало великолепию Корана: «А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали… то принесите суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы. Если же вы этого не сделаете, – а вы никогда этого не сделаете! – то побойтесь огня, топливом для которого люди и камни, уготованного неверным» (2:23–24, также 16:101).
Хотя концепция умм аль-китаб («Мать книг») означает, что Коран духовно связан с другими священными писаниями, в отличие от Торы и Евангелий – которые состоят из отдельных книг, написанных многими разными писателями за сотни лет, передающими опыт встречи с Божественным в истории, – Коран считается прямым откровением (танзил), в котором собраны действительные слова Бога, переданные через Мухаммада, ставшего пассивным каналом приема. В чисто литературных терминах Коран – это драматический монолог Бога. Он не рассказывает об общении Бога с человечеством; он и есть это общение. Он не раскрывает волю Бога, он раскрывает самого Бога. И если доктрина таухида запрещает любое деление в Божественном Единстве, то Коран – не просто Слово Бога, он – сам Бог.
Именно это и утверждали улемы из числа традиционалистов. Если Бог вечен, то вечны и его божественные атрибуты, которые нельзя отделить от Бога. Это означает, что Коран, как и Слово Бога, нечто вечное и несотворенное. Улемы-рационалисты считали это необоснованной точкой зрения, которая приведет к ряду неразрешимых богословских проблем (Говорит ли Бог по-арабски? Любая ли копия Корана – копия Бога?). Рационалисты вместо этого утверждали, что Слово Бога отражает Его, но Богом само по себе не является.
Некоторые из числа улемов, такие как Абу Ханифа, пытались объединить доводы в дебатах между рационалистами и традиционалистами, заявив, что «наше произношение Корана создано, наше письменное выражение Корана создано, наше изложение его стихов создано, но сам Коран – не создан». Ибн Куллаб (ум. 855) согласился с этим, утверждая, что традиционалисты были правы, считая слово Бога «единственной вещью в Боге», но только в том случае, если оно не передается в виде физических букв и слов. Теория Ибн Куллаба была усовершенствована Ибн Хазмом (994–1064), который постулировал существование «преждеявленного» Корана (как подразумевается концепцией умм аль-китаб), при этом то, что содержится «на страницах этой книги… имитация [физического] Корана». Однако опять-таки именно влиятельный Ахмад ибн Ханбал укрепил традиционалистскую доктрину, утверждая: то, что читает мусульманин между физическими обложками Корана – каждое его слово и каждая буква, – само по себе истинное слово Бога, вечное и несотворенное.
Спор между рационалистами и традиционалистами продолжался несколько сотен лет, и влияние каждой из школ чередовалось до конца XIII в., когда отчасти в ответ на гибельную инквизицию аль-Мамуна традиционалистская позиция стала преобладающей в исламе суннитского толка. Большинство рационалистов были заклеймены как еретики, и их теории постепенно утратили влияние во всех основных школах права и богословия, за исключением школ шиитов (которые будут рассмотрены в следующей главе). И хотя дискуссия о природе Корана продолжается до сегодняшнего дня, влияние толкований традиционалистов привело к ряду необычных теологических и правовых изменений в исламе.
Например, вера в вечное и несотворенное слово Божье привело к широко распространенному убеждению среди мусульман, что Коран не может быть переведен со своего оригинального языка. Перевод на любой другой язык сотрет прямую речь Бога, превратив ее в толкование Корана, а не в сам Коран. По мере того как ислам распространился с Аравийского полуострова на весь мир, каждый новообращенный – будь то араб, перс, европеец, африканец или индус – должен был учить арабский язык, чтобы читать священные тексты ислама. Даже сегодня мусульмане независимо от их культурной и этнической принадлежности должны читать Коран на арабском, понимают они его или нет. Послание Корана важно, чтобы жить праведной жизнью мусульманина, но именно сами слова – фактическая речь единственного Бога – обладают духовной силой, известной как барака.
Хотя барака можно испытать несколькими способами, наиболее ярко эта сила раскрывается в непревзойденной исламской традиции каллиграфии. Отчасти из-за первоначала слова в исламе, а отчасти из-за отвращения религии к иконографии и, следовательно, фигуральному искусству каллиграфия стала высшим художественным выражением в мусульманском мире. Однако исламская каллиграфия – это нечто большее, чем просто форма искусства; это визуальное представление вечного Корана, символ жизненного присутствия Бога на земле.
Слова из Корана записаны на мечетях, гробницах и молитвенных коврах, чтобы освятить их. Ими расписаны предметы быта – чашки, миски и лампы, – чтобы тот, кто ест из тарелки, украшенной божественным изречением, или зажигает лампу с выгравированными на ней кораническими строками, мог вкусить бараку или освятить себя ею. Точно так же, как считалось, будто доисламская поэзия передавала божественную власть, так и слова Корана действуют как талисман, который передает божественную силу. Неудивительно, что, после того как Кааба была очищена и переделана, языческие оды, надписи которых были начертаны на ткани, покрывавшей Каабу, сменились строками из Корана, которые по-прежнему золотом обрамляют святыню.
Еще один способ, с помощью которого мусульмане могут познать барака, – это искусство или скорее наука коранических декламаций. Как отметил Уильям Грэм, ранняя мусульманская община, несомненно, воспринимала Коран как устное священное писание, которое предназначено для декламирования вслух в общине, а не для тихого чтения наедине с собой. Напомним, что слово «Коран» буквально означает «чтение вслух», и именно поэтому так много строк начинается с команды куль, или «скажи».
Первые усилия курры, или чтецов Корана, по запоминанию и сохранению священного писания в конечном итоге привели к созданию технической дисциплины о чтении Корана, названной таджвид, строгие правила которой регулируют, когда разрешено останавливаться во время чтения, а когда запрещено, когда падать ниц, а когда подниматься, когда делать вдох, а когда затаить дыхание, какие согласные подчеркнуть и как долго удерживать каждую гласную. Поскольку ислам традиционно подозрительно относился к использованию музыки во время богослужения, опасаясь поставить под угрозу божественную природу текста, чтение никогда не может быть откровенно музыкальным. Однако использование спонтанной мелодии поощряется, и некоторые современные чтецы Корана демонстрируют необычайную степень музыкальной виртуозности. Их чтение сродни рок-концертам, на которых тысячам шумных слушателей предлагается ответить на звучащие строки от исполнителя со сцены, реагируя какими-нибудь своими выкриками – положительными или отрицательными.
Но было бы совершенно неправильно называть эти чтения «концертами» или даже «представлениями». Это духовные собрания, на которых чтец передает бараку Божьего слова тем, кто, по существу, составляет паству. И хотя Коран может быть драматическим монологом Господа, когда он читается вслух, он чудесным образом превращается в диалог между Создателем и Творением, диалог, в котором Бог присутствует физически.
Безусловно, самое значительное развитие позиции традиционалистов в отношении вечного Корана можно наблюдать в таком разделе науки, как кораническая экзегетика. Поначалу было необычайно трудно заниматься интерпретацией значения и послания Корана. Как прямая речь Бога Коран был записан без толкований или комментариев, практически без соблюдения хронологии и почти при полном отсутствии повествования. Чтобы помочь мусульманам в решении вопросов толкования, первые улемы разделили откровение на два отдельных периода – стихи, которые были явлены в Мекке, и стихи, явленные в Медине, – таким образом была создана свободная хронология, которая способствовала прояснению толкования текста.
Однако неофита такая систематизация Корана сбивает с толку. Текст, собранный Усманом, разделен на 114 глав, называемых сурами, каждая из которых содержит разное количество стихов, или айатов. За несколькими исключениями, каждая сура начинается с призыва Басмала: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». Возможно, чтобы подчеркнуть статус Корана как прямого откровения, суры расположены не в хронологическом или тематическом порядке, а от самой длинной главы к самой короткой; единственное исключение составляет первая и самая важная глава, сура аль-Фатиха: «Открывающая Книгу».
Существует два разных метода по толкованию Корана. Первый, тафсир, в первую очередь занимается установлением буквального значения текста, в то время как второй, тавиль (тавил), в большей степени сосредоточивает внимание на скрытом эзотерическом значении Корана. Тафсир отвечает на вопросы, связанные с контекстом и хронологией, предоставляя мусульманам понятные правила праведной жизни. Тавиль проникает в скрытое послание текста, которое из-за своей мистической природы понятно только избранным. Хотя оба подхода считаются равно уместными, напряжение между приверженцами тафсира и тавиля – одно из неизбежных последствий попыток истолковать вечное и несотворенное писание, которое тем не менее прочно основано на особом историческом контексте.
Для рационалистов, которые отвергли понятие несотворенного Корана, единственный разумный метод толкования – тот, который учитывает временный характер природы откровения. По этой причине рационалисты подчеркивали первичность человеческого разума в определении не только сущности Корана, но также его значения и, что наиболее важно, его исторического контекста. По мнению традиционалистов, вечная и несотворенная природа Корана делала бессмысленным разговор об историческом контексте или первичном намерении его интерпретации. Коран никогда не менялся и никогда не изменится; не должны меняться и его толкования.
Как можно догадаться, позиция традиционалистов оказала сильнейшее влияние на кораническую экзегетику. Во-первых, она предоставила ортодоксальным улемам уникальную власть по толкованию того, что в настоящее время широко признано как установленный и неизменный текст, раскрывающий волю Бога. Во-вторых, поскольку вечный, несотворенный Коран невозможно рассматривать как продукт развития общества Мухаммада, исторический контекст не мог сыграть какую бы то ни было роль в процессе его интерпретации. Что было уместно для общины Мухаммада в VII в., то уместно и для всех появляющихся мусульманских общин вне зависимости от обстоятельств. Такой взгляд на Коран как на нечто статичное и неизменное становился все более проблематичным, поскольку откровение постепенно претерпевало изменения от простого принципа нравственного поведения в мусульманской общине до первого источника священного закона ислама – шариата.
Названный Джозефом Шахтом «ядром и зерном ислама» шариат был разработан улемами как основа для оценивания всех действий в исламе – как хороших, так и плохих, – чтобы вознаградить или наказать. Если говорить более конкретно, то шариат признает пять категорий поведения: (1) действия, которые обязательны, поэтому их выполнение вознаграждается, а уклонение – наказывается; (2) действия, которые заслуживают похвалы, поэтому их выполнение может быть вознаграждено, но уклонение от них не наказуемо; (3) нейтральные действия; (4) действия, которые считаются предосудительными, хотя они и необязательно наказуемы; (5) действия, которые запрещены и наказуемы.
Эти пять категорий призваны продемонстрировать всеобъемлющее внимание ислама не только к запрещенным порокам, но также и к активно поощряемым добродетелям.
Как всеобъемлющий свод правил, определяющий жизнь всех мусульман, шариат делится на две категории: правила, касающиеся религиозных обязанностей, включая надлежащий способ поклонения; и правила чисто юридического характера (хотя две эти категории зачастую пересекаются). В любом случае шариат предназначен для регулирования действий, связанных с внешними проявлениями; он практически не связан с внутренней духовной сферой. В результате те верующие, которые следуют мистическим традициям ислама (суфии), склонны рассматривать шариат только как отправную точку на пути праведности; истинная вера, говорят они, требует выхода за рамки закона.
Положения шариата, касающиеся морали, созданы предельно конкретными в дисциплине фикх, или исламской юриспруденции, где Коран – ее первый и самый главный источник. Проблема, однако, заключается в том, что Коран – это не свод законов. Хотя есть около восьмидесяти стихов, которые имеют прямое отношение к правовым вопросам – таким, как наследование и статус женщин, – в дополнение к горстке уголовных предписаний Коран не предпринимает никаких попыток по созданию системы законов, регулирующих внешнее поведение общины, как то делает Тора для евреев. Таким образом, имея дело с бесчисленными правовыми вопросами, по которым Коран безмолвен, улемы обращаются к преданиям, или Сунне, Пророка.
Сунна состоит из тысяч и тысяч историй, или хадисов, которые пересказывают слова и деяния Мухаммада, равно как и самых первых его Сподвижников. Как было рассмотрено в третьей главе, по мере того как эти хадисы передавались из поколения в поколение, они становились все более запутанными и недостоверными, так что некоторое время спустя почти любое мнение по юридическим и религиозным вопросам – независимо от того, насколько оно радикально или эксцентрично, – могло быть узаконено авторитетом Пророка. К IX в. ситуация настолько вышла из-под контроля, что группа ученых-правоведов, работавших независимо друг от друга, попыталась создать авторитетные своды хадисов, наиболее достойных доверия. Самыми уважаемыми из них считаются каноны Мухаммада аль-Бухари (ум. 870) и Муслима ибн аль-Хаджжаджа (ум. 875).
Основной критерий, по которому проводилась аутентификация этих сводов, – наличие цепочки ссылок (иснад), которая зачастую сопровождала каждый хадис. Те хадисы, чей иснад можно проследить до самого раннего и надежного источника, считались «убедительными» и принимались как подлинные, в то время как те, которые не соответствовали данному критерию, отвергались как «неубедительные». Основная проблема этого метода, однако, заключается в том, что вплоть до IX в., когда процесс составления этих сводов был завершен, надлежащий и полный иснад никоим образом не считался существенным элементом в распространении хадисов. Многочисленные исследования Джозефа Шахта о развитии шариата показали, насколько большому количеству широко признанных хадисов предположительно приписывались цепочки ссылок, чтобы придать им более высокий статус подлинности. Отсюда причудливая, но точная максима Шахта: «Чем более совершенен иснад, тем с более поздними преданиями он связан».
Но существует еще большее препятствие для использования Сунны Пророка в качестве основного источника права. После того как аль-Бухари и аль-Хаджжадж предельно строго изучили каждый хадис на предмет правильных ссылок, выяснилось, что их метод грешил отсутствием какой бы то ни было попытки придерживаться политической или религиозной объективности. Основная часть тех преданий, которые считались убедительными, были названы таковыми не потому, что их иснады были достаточно серьезными, а потому, что они отражали большинство верований и практик общины. Другими словами, хадисы были упорядочены, а Сунна разработана для того, чтобы придать смысл исламской ортодоксии и ортопраксии путем узаконивания тех верований и практик, которые уже были широко приняты большинством улемов, и ликвидацией тех, которые приняты не были. Хотя некоторые хадисы могут на самом деле содержать подлинное историческое ядро, истоки которого можно проследить вплоть до Пророка и его первых Сподвижников, правда заключается в том, что Сунна в большей степени отражает мнение улемов IX в., нежели уммы VII в. В конце концов, цитируя Джонатана Берки, «не сам Мухаммад определил Сунну, а скорее память о нем».
Достойная доверия или нет, Сунна была крайне бессильна при обращении к ней по множеству правовых вопросов, которые возникали по мере расширения ислама и превращения уммы в империю. Для решения этих проблем, о которых напрямую не говорится в Коране и Сунне, необходимо было разработать ряд других источников. Главным среди них было использование суждений по аналогии, или кийас, которое позволяло улемам проводить параллели между своим сообществом и общиной Мухаммада при выработке решений по новым и незнакомым дилеммам. Разумеется, пределы проведения аналогий практически не знали границ, и во многих случаях школы права, основанные на традиционалистском подходе, с осторожностью относились к тому большому значению, которое придавалось рассуждениям об откровении. Так что, пока кийас оставался жизненно важным инструментом в развитии шариата, улемы все в большей степени зависели от четвертого источника права – иджмы, или «юридического согласия».
Опираясь на высказывание Пророка о том, что «моя община никогда не согласится на ошибку», улемы полагали, что единодушное согласие правоведов одного периода по конкретному вопросу может создать обязательные юридические решения, даже если эти решения, по-видимому, нарушат коранические предписания (как это было с практикой забрасывания камнями за прелюбодеяние). Подобно Сунне, иджма была разработана специально для создания ортодоксии в мусульманском сообществе. Но что более важно, иджма служила для закрепления авторитета улемов как единственных, кто определял приемлемое поведение и убеждения мусульман. Действительно, прежде всего на основе иджмы были сформированы школы права.
К сожалению, поскольку юридические суждения этих школ прочно закрепились в мусульманском мире, в конечном итоге консенсус одного поколения ученых стал обязательным для последующих, в результате чего улемы стали все меньше уделять внимания разработке новых решений современных правовых проблем и все более погрузились в то, что в исламе насмешливо упоминается как таклид – слепое принятие юридического прецедента.
Следует упомянуть еще один важный источник права. На протяжении этапов формирования шариата бытовало общепринятое убеждение, что в случае, когда в Коране и Сунне не было ничего сказано по какому-то вопросу, а аналогия и консенсус не могли привести к решению, то квалифицированный правовед мог использовать собственное независимое юридическое обоснование для вынесения юридического решения, или фетвы, которая затем могла быть принята или отвергнута сообществом по желанию. Этот источник права, известный как иджтихад, был исключительно важным вплоть до конца X в., когда улемы-традиционалисты, которые в то время преобладали почти во всех основных школах права, отказались от него как законного инструмента толкования. «Закрытие ворот иджтихада», как было названо это решение, означало серьезную (хотя и временную) неудачу для тех, кто считал, что религиозная истина, до тех пор пока она не вступала в явное противоречие с откровением, могла быть познана силой человеческого разума.
К началу XI в. то, что зарождалось как собрания улемов-единомышленников ad hoc[20], превратилось в правовые институты, наделенные полномочиями Божьего закона. В современном суннитском мире существуют четыре основные школы. Шафиитский мазхаб, который в настоящее время преобладает в Юго-Восточной Азии, был основан на принципах Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии (ум. 820), считавшего Сунну самым важным источником права. Маликитский мазхаб, который в основном распространен в Западной Африке, был основан Маликом ибн Анасом (ум. 795), полагавшимся при формировании своего мнения исключительно на традиции Медины. Ханафитский мазхаб Абу Ханифы (ум. 767), который доминирует в большинстве стран Центральной Азии и Индийского субконтинента, – безусловно, самая большая и самая разнообразная правовая традиция относительно широты интерпретаций. И наконец, Ханбалитский мазхаб Ахмада ибн Ханбала (ум. 855) – правовая школа, наиболее приверженная традиционалистской парадигме; она распространена на всем Ближнем Востоке, но имеет тенденцию к доминированию в ультраконсервативных странах, таких как Саудовская Аравия и Афганистан. В дополнение к этому – шиитская школа Джафара ас-Садика (ум. 765), которая будет рассмотрена в следующей главе.
Улемы, связанные с этими школами, закрепили свои позиции как единственные авторитеты приемлемого исламского поведения и единственные толкователи приемлемых исламских убеждений. Поскольку эти школы мысли постепенно превращались в правовые институты, то разнообразие идей и свобода мнений, которые характеризовали их ранний этап становления, проложили дорогу жесткому формализму, строгому соблюдению прецедента и почти полному угасанию независимого мышления, и даже мусульманский мыслитель XII в. аль-Газали (сам традиционалист) начал осуждать утверждение улемов о том, что те, кто не знает схоластического богословия в том виде, как его признают улемы, и не знает предписаний Святого закона в соответствии с приведенными против них доказательствами, объявляются неверными. Как мы увидим, претензия аль-Газали к улемам применима сегодня так же, как и девять столетий назад.
В современную эпоху, когда вопросы индивидуальных религиозных обязательств вошли в политическую сферу, способность улемов определять общественный дискурс в отношении правильного поведения и веры резко возросла. Им даже удалось расширить свою целевую аудиторию, заняв гораздо более активную позицию в сфере политики на Ближнем Востоке. В некоторых мусульманских странах, таких как Иран, Судан, Саудовская Аравия и Нигерия, улемы осуществляют прямой политический и правовой контроль над населением, в то время как в большинстве других государств они косвенно влияют на социальную и политическую сферу общества посредством религиозных указов, юридических решений и, что самое главное, через руководство исламскими религиозными школами, или медресе, где поколение за поколением молодые мусульмане зачастую воспитываются в атмосфере возрождения традиционалистской ортодоксии, особенно что касается веры в неизменное, буквальное толкование Корана и божественную, непогрешимую природу шариата. Как недавно утверждал один пакистанский учитель и ученый: «Исламское право не стало тем, чем является обычное право. Ему не пришлось проходить тот же процесс оценивания, как всем рукотворным законам. В случае с исламским правом все началось не с нескольких правил, которые затем постепенно множились или вместе с рудиментарными понятиями усовершенствовались по мере развития культурного процесса; и не с того, что оно возникло и развивалось вместе с исламским сообществом».
На самом деле шариат развивался именно так: «вместе с рудиментарными понятиями усовершенствовался по мере развития культурного процесса». Это был процесс, на который влияли не только местные культурные практики, но и талмудическое и римское право. За исключением Корана, каждый источник исламского права был результатом человеческих, а не божественных усилий. Ранние школы права понимали это и потому представляли не более чем тенденции в развитии мысли, которые существовали в мусульманском сообществе. Источники, на основе которых эти школы формировали свои традиции, в особенности иджма, допускали эволюцию мысли. По этой причине мнения улемов – будь то рационалисты или традиционалисты – постоянно приспосабливались к текущей ситуации, а сам закон постоянно истолковывался по-новому и повторно применялся по мере необходимости.
Независимо от этого ни одно из юридических решений, которые принимались той или иной школой права, не было обязательным для отдельных мусульман. Фактически вплоть до настоящего времени было принято среди верующих переходить из одной школы в другую, и ничто не запрещало мусульманину принять доктрину маликийцев по одному ряду вопросов и ханафитскую доктрину – по всем остальным. Так что просто необоснованно рассматривать как непогрешимый, неизменный, негибкий и обязательный к исполнению священный закон Бога то, что так очевидно представляет собой результат человеческого труда и потому явно следует меняющимся человеческим убеждениям.
Даже самый беглый анализ процесса развития шариата демонстрирует, как закон и откровение менялись «вместе с исламским сообществом». Сам Коран четко указывает, что, хотя послание вечно, оно было явлено в ответ на определенные исторические ситуации. По мере развития общины Мухаммада менялось и откровение для адаптации к потребностям членов этой общины. Действительно, в течение двадцати двух лет служения Мухаммада Коран почти постоянно был в состоянии непрерывных изменений, порой достаточно резких, в зависимости от того, где и когда явлены стихи, – в Мекке или в Медине, в начале или в конце жизни Мухаммада.
Изредка эти изменения приводили к тому, что кажется значительными текстовыми противоречиями. Например, изначально Коран занимал достаточно нейтральную позицию в отношении употребления вина и практики азартных игр, утверждая, что «в них обоих – великий грех и некая польза для людей, но грех их – больше пользы» (2:219). Через несколько лет были явлены другие строки, которые, хотя и не запрещали распитие спиртных напитков и азартные игры, призывали верующих воздержаться от этого и гласили: «Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны» (4:43). Некоторое время спустя, однако, Коран отчетливо запретил и спиртные напитки и игры, назвав их «деяниями Сатаны» и связав с идолопоклонством, величайшим грехом (5:90). Таким образом, предшествующие стихи, которые осуждали, но не запрещали пить и играть в азартные игры, как представляется, были отменены другим, более поздним стихом, который однозначно запретил оба этих действа.
Исследователи Корана называют эту отмену одним стихом других насх, утверждая, что Бог решил явить важные социологические изменения Мухаммаду поэтапно, тем самым позволив умме постепенно адаптироваться к новому нравственному духу. Но если насх что-то и демонстрирует, так это то, что, хотя Бог, может, и не изменился, определенно изменилось само откровение: «Всякий раз, когда мы отменяем стих или заставляем его забыть, мы приводим лучший, чем он, или похожий на него. Разве ты не знаешь, что Аллах над любой вещью мощен?» (2:106; см. также 16:101).
Сам Пророк иногда открыто подавлял или отрицал более старые стихи, считая, что они заменены новыми. Мухаммад не рассматривал Коран как статичное откровение, и поэтому, возможно, он никогда не обременял себя заботой о его кодификации. Коран был для Мухаммада живым писанием, которое развивалось вместе с уммой, постоянно адаптируясь к конкретным потребностям развивающейся общины. Фактически вся наука о комментариях, называемая асбаб ан-нузул («обстоятельства откровения»), развивалась уже после смерти Мухаммада для определения конкретных исторических обстоятельств, в которых был явлен тот или иной стих. Отслеживая изменения в откровении, ранние толкователи Корана смогли создать полезную хронологию этих стихов. И наиболее ясно эта хронология указывает на то, что Бог воспитывал умму как любящий родитель, наставляя поэтапно и при необходимости внося изменения, начиная от первого откровения в 610 г. и до последнего в 632 г.
Разумеется, со смертью Мухаммада откровение прекратилось. Но это не означает, что умма перестала развиваться. Напротив, современное мусульманское сообщество – численностью почти в полтора миллиарда – практически не имеет ничего общего с маленькой общиной, которую Мухаммад оставил в Аравии в VII в. Хотя откровение закончилось, Коран по-прежнему остается живым текстом и должен рассматриваться только так. Представление о том, что исторический контекст не должен играть никакой роли в толковании текста – то, что применимо к общине Мухаммада, применимо и ко всем мусульманским сообществам во все времена, – попросту несостоятельно во всех смыслах.
Тем не менее наследникам традиционализма удалось заставить молчать большинство критиков реформ, даже когда эта критика стала исходить из их рядов. Когда в 1990-е гг. Наср Хамид Абу Зейд, мусульманский профессор Каирского университета, заявил, что Коран, хотя и божественно явлен, был культурным продуктом Аравии VII в., он был заклеймен как еретик консервативными улемами, которые преобладали в Университете аль-Азхар, и был вынужден развестись со своей женой-мусульманкой (пара сбежала из Египта вместе). Когда Махмуд Мохаммед Таха (1909–1985), известный суданский реформатор права, заявил, что мекканский и мединский тексты Корана значительно отличаются друг от друга, потому что они предназначались конкретной целевой аудитории в условиях особых исторических реалий, а потому должны быть соответственно истолкованы, он был казнен.
Как станет очевидно, дискуссия о характере и назначении Корана и шариата так и не окончена. Действительно, современные мусульманские ученые, такие как Абдолкарим Соруш, Тарик Рамадан, Абд Аллах Ахмад Наим, Амина Вадуд, Халед Абу Эль Фадл и многие другие, активно продвигают мусульманское сообщество к тому, чтобы вновь открыть ворота иджтихада и оживить рациональный метод толкования Корана. Тем не менее господство позиции традиционалистов продолжает приводить к разрушительным последствиям для развития и прогресса права и общества в современном исламе.
Проблема в том, что практически невозможно примирить традиционалистский взгляд на шариат как на набор законов, священный и явленный в ходе божественного откровения, не требующий какой бы то ни было интерпретации человеком или учета исторического контекста, с требованиями современного конституционного государства, не говоря уже о минимальных стандартах демократии и прав человека. Основная ошибка позиции традиционалистов заключается не в совершенно ложном представлении о шариате как о закрепленном аристократическом правовом кодексе. Как мы видели, не может возникать никаких вопросов относительно того, что становление шариата происходило в особом историческом контексте и что он был связан с теми же социальными, политическими и экономическими факторами, которые повлияли на все юридические кодексы всех культур и в каждой части мира. Любой, кто заявляет иначе, либо совершенно не знает исламскую историю, либо просто заблуждается. Нет, главная ошибка традиционалистов – нетерпимое еретическое убеждение в том, что постоянно изменчивую и очевидно созданную человеком правовую традицию, построенную на дико противоречивых толкованиях полдюжины конкурирующих школ права, каждая из которых опирается на совершенно разные текстовые и исторические источники, следует рассматривать как священную и божественную. Одним словом, такое убеждение – ширк.
В шариате нет ничего божественного, и ни в коем случае нельзя считать его неизменным и непогрешимым. Аргумент о том, что божественная природа шариата ведет свое начало от первого и начального источника – Корана, рушится, когда признается, что Коран в отличие от Торы – не книга законов. Коран – это прямое самооткровение Бога человечеству. Разумеется, он содержит упоминания о нравственных рамках для праведной жизни мусульманина. Но он никогда не должен был выступать в роли правового кодекса, и именно поэтому ученым пришлось в значительной степени полагаться на дополнительные источники, такие как иджма (согласие), кийас (аналогия), истислах (стремление к общему благу людей) и иджтихад (независимое юридическое обоснование), – все они по определению полагаются на суждение человека и исторический контекст – для того, чтобы в первую очередь построить шариат. Сказать, что шариат имеет божественную природу потому, что таков Коран, сродни утверждению о том, что вода и вино – одно и то же, поскольку вода – это основной ингредиент вина.
Итак, когда дело доходит до включения шариата в правовую систему, современное исламское государство имеет три варианта. Оно может полностью последовать традиционалистскому пониманию шариата по отношению к государству, не пытаясь ни обновить его в соответствии с новыми реалиями, ни адаптировать к современным нормам права и общества, как это сделали Саудовская Аравия и Афганистан под властью «Движения Талибан»[21]. Оно может принять позицию традиционалистов по шариату и объявить его законным источником гражданского права, но предпочесть игнорировать его во всех случаях, кроме самых очевидных, касающихся порядка в семье, процедуры развода или наследования, как это происходит в Египте и Пакистане. Или государство может попытаться совместить традиционные ценности шариата с современными принципами конституционализма и верховенства закона посредством всеобъемлющей реформистской методологии, которая принимает во внимание и исторический контекст, и его эволюцию, которая тесно связана с развитием человеческого общества. Несмотря на набирающий силу демократический эксперимент Ирака, до сих пор только одно исламское государство всерьез рассматривало последний вариант.
На протяжении более тридцати лет Исламская Республика Иран боролась за то, чтобы совместить народный и божественный суверенитет в попытке построить исламское государство, преданное принципам плюрализма, либерализма и прав человека, хотя и основанным на явно исламских нравственных порядках. Это сложная и до сих пор не увенчавшаяся удачей попытка, которая была сорвана и вмешательством внешних сил, и коррупцией, и неумелостью самих религиозных и политических властей страны. Будет ли иранский эксперимент в конечном итоге удачным, покажет время. Однако с тех пор, как Пророк попытался построить новый тип общества в Медине, история не знает более значительного эксперимента в области национального строительства.
Разумеется, Иран – это особый случай. Иранский идеал ислама явно шиитского толка, а с момента создания шиизма как политического движения, целью которого было вернуть власть в халифате семье Пророка, до становления шиитов как отдельной религиозной секты в исламе со своими особыми убеждениями и практиками они всегда следовали собственному пути.
7. По следам мучеников
От шиизма к хомейнизму
Ранним утром на десятый день исламского месяца Мухаррам в шестьдесят первом году после хиджры (10 октября 680 г.) Хусейн ибн Али, внук Пророка Мухаммада и de facto[22] глава шиату Али, в последний раз выходит из своей палатки, чтобы взглянуть на многочисленную сирийскую армию, которая окружает его лагерь, пробираясь через обширную высушенную территорию Кербелы. Эти солдаты Омейядского халифа Язида I получили приказ отправиться из Дамаска несколько недель назад, чтобы перехватить Хусейна и его людей прежде, чем они смогут добраться до города Куфа, где назревает бунт, участники которого ждут их прибытия.
В течение десяти дней сирийские войска осаждали отряд Хусейна при Кербеле. Сначала они пытались штурмовать лагерь, желая обратить в бегство кавалерию. Но, ожидая нападения, Хусейн расположил свои палатки вдоль цепи холмов, защитив тыл, затем он вырыл полукруглую траншею, опоясывающую лагерь с трех сторон, наполнил ее древесиной и поджег. Собрав своих людей в центре этого огненного полумесяца, Хусейн приказал им встать на колени и, сомкнув плотно ряды, направить копья так, чтобы приблизившаяся конница неприятеля была вынуждена из-за пламени втиснуться туда, где их ждала ловушка.
Эта простая стратегия позволила малочисленным силам Хусейна отражать натиск тридцати тысяч солдат халифа в течение шести долгих дней. Но на седьмой день сирийская армия изменила тактику. Вместо того чтобы пытаться снова штурмовать лагерь, они придвинули свои ряды и блокировали берега Евфрата, таким образом преградив Хусейну доступ к воде.
Теперь время битвы подошло к концу. Сидя верхом на своих лошадях, солдаты халифа не двигаются к Хусейну. Их мечи в ножнах, их луки со стрелами за плечами.
Прошло три дня с того момента, как вода перестала достигать лагеря Хусейна; те немногие, кто не погиб в сражении, теперь медленно и мучительно умирали от жажды. Земля усеяна телами, среди которых восемнадцатилетний сын Хусейна Али Акбар и его четырнадцатилетний племянник Касим – сын его старшего брата Хасана. Из семидесяти двух соратников, которые должны были прийти с Хусейном из Медины в Куфу, чтобы поднять армию против Язида, остались только женщины, несколько детей и один мужчина – единственный выживший сын Хусейна Али, но и он лежит в женской палатке, находясь на грани смерти. Все остальные погребены там, где пали; их тела завернуты в саван, положение голов указывает направление на Мекку. Ветер тревожит неглубокие могилы, разнося зловоние гниения по унылой равнине.
Одинокий, измученный и тяжело раненный Хусейн падает у входа в свою палатку: наконечник стрелы глубоко пронзил его руку, серьезная рана и на его щеке. Во рту у него пересохло, голова кружится от потери крови. Вытирая пот с глаз, он опускает голову и старается не замечать вопли женщин в соседней палатке: они только что похоронили младенца, который был убит стрелой в шею, когда Хусейн поднял его на руках на холме, умоляя сирийские войска о воде. Их страдание пронзает его глубже, чем любая стрела, но оно также и усиливает его решимость. Теперь ничего не остается, кроме как завершить то, ради чего он покинул Медину. Он должен собрать все оставшиеся силы, чтобы подняться с земли. Он должен встать и бороться против несправедливости и тирании халифа, даже если для этого придется принести в жертву собственную жизнь. Особенно если придется принести в жертву собственную жизнь.
Вставая на ноги, он поднимает окровавленные руки к небу и молится: «Мы за Бога, и к Богу мы вернемся».
С Кораном в одной руке и с мечом в другой Хусейн взбирается на коня и направляет его на баррикаду солдат, стоящих всего в нескольких сотнях метров от него. Подхлестнув жеребца ударами ног под ребра, он свирепо бросается на врага, размахивая мечом влево и вправо и непрестанно крича: «Вы видите, как сражается сын Фатимы? Вы видите, как сражается сын Али? Вы видите, как сражается Бану Хашим, несмотря на три дня без еды и воды?»
Один за другим сирийские всадники гибнут под взмахами его меча до тех пор, пока генерал Шимр не приказывает солдатам перегруппироваться и окружить Хусейна со всех сторон. Стремительный удар копья сбивает его с коня. На земле он закрывает голову руками, извиваясь от боли, пока лошади топчут его тело. Сестра Хусейна Зейнаб бросается из палатки к нему на помощь. Но Хусейн призывает ее оставаться на месте и не двигаться. «Вернись в палатку, сестра! – кричит он. – Я уже уничтожен».
Наконец Шимр отдает приказ сирийской коннице отступить. Солдаты окружают выживших в лагере Хусейна, генерал спешивается с лошади и встает перед истерзанным и избитым Хусейном. «Кайся, – приказывает Шимр. – Пришло время перерезать тебе горло».
Хусейн переворачивается на спину, чтобы видеть своего палача. «Прости, о милостивый Господь, грехи народа моего деда, – рыдает он, – и щедро одари меня ключами к сокровищу твоего заступничества…»
Не дав внуку Пророка закончить молитву, Шимр заносит над ним свой меч и, рассекая воздух быстрым ударом, отрубает Хусейну голову. Он поднимает ее на копье, намереваясь отвезти в Дамаск, чтобы представить этот трофей на золотом подносе халифу Омейядов.
После убийства Али в 661 г. остатки шиату Али в Куфе избрали его старшего сына Хасана наследником на посту халифа. Но Куфа находилась вдали от остальных городов, словно осколок, и немногочисленные сторонники Али были рассеяны по разным местам. Когда Муавия уже объявил себя халифом Иерусалима, а гегемония Дамаска простиралась даже за пределы мусульманских земель, не было никакой возможности для союзников Хасана конкурировать с сирийской армией за контроль над мусульманской общиной.
И все же, пусть и малочисленное, движение шиату Али все еще сохраняло свое влияние, особенно среди иранцев – выходцев из бывшей Сасанидской империи, которые видели в ахл аль-байте альтернативу господству этнических арабов из династии Омейядов, – а также среди населения Мекки и Медины, где память о Пророке была свежа в сознании тех, кто, независимо от политической принадлежности, не мог не признавать общие черты с Мухаммадом, отпечатанные на лицах Хасана и Хусейна. Поэтому, когда Хасан предложил примирение, выступив с инициативой о временном прекращении огня, Муавия быстро это предложение принял.
Желая избежать еще одной гражданской войны между Бану Хашим и Бану Умайя, два лидера подписали договор, согласно которому мантия руководителя была передана Муавии с тем пониманием, что после его смерти решение о преемнике на посту халифа будет приниматься по крайней мере на основе консенсуса всего мусульманского сообщества, если не будет отчетливого решения по возвращению властных полномочий семье Мухаммада. От заключения соглашения выиграли оба. Хасану оно дало возможность перегруппировать силы шиату Али, не опасаясь быть уничтоженными сирийской армией, а Муавии предоставило легитимность, к достижению которой он стремился с того самого момента, как занял пост халифа.
В Дамаске Муавия запустил серию реформ, нацеленных на укрепление и централизацию его власти как халифа. Он использовал превосходящее могущество своей сирийской армии для объединения войск, разбросанных по гарнизонам на всей территории мусульманских земель. Затем он насильственно переселил в отдаленные деревушки те кочевые племена, которые никогда прежде не считали себя частью уммы, тем самым расширив свою империю. Он поддерживал связь даже с самыми отдаленными мусульманскими провинциями, переназначая на посты эмиров своих родственников – многие из которых были отстранены от своей должности решением Али, – хотя он строго контролировал их деятельность во избежание коррупции и беспорядка, которые были столь распространены в период правления его двоюродного брата Усмана. Эмиры Муавии закрепили свои позиции, исправно взимая налоги для отправки в Дамаск, на которые халиф отстроил великолепную столицу, подобную которой ни одно арабское племя не могло и представить.
Хотя Муавия перенял религиозно-ориентированный титул Усмана – Халифат Аллах – и направлял деньги на развитие институтов богословов и чтецов Корана, он также последовал и прецеденту Омейядов по невмешательству напрямую в теологические и правовые споры улемов. Однако, как и его древний предок Кусай, Муавия признал роль Каабы в обеспечении религиозной легитимности политического правления, поэтому он приобрел у Бану Хашим право на заботу о мекканском святилище и обеспечение паломников приютом и водой.
Сделав центром своей власти Дамаск и закрепив свои позиции как халифа силами мобильной и высокодисциплинированной армии (не говоря уже о мощном флоте, который он использовал для завоевания таких удаленных территорий, как Сицилия), Муавия сумел объединить разрозненные земли арабских владений под своим управлением, что привело к эпохе небывалой экспансии на всех мусульманских землях. Но хотя он прилагал огромные усилия, чтобы создать себе образ – как на словах, так и на деле – всемогущего племенного шейха, а не мусульманского короля, бесспорно, что централизованное и абсолютистское правление Муавии намеренно копировало династические империи Византии и Сасанидов. Следовательно, завершив преобразование халифата в монархию, Муавия сделал то, что сделал бы и любой другой король: он назначил преемником своего сына Язида.
Принимая во внимание учиненную им массовую резню семьи Пророка при Кербеле, неудивительно, что предания передают враждебное отношение к Язиду. Преемник Муавии изображается как развратный, распущенный пьяница, больше интересующийся игрой со своей любимой обезьяной, чем управлением делами государства. Хотя такая характеристика нового халифа, возможно, не совсем соответствует действительности, репутация Язида была заклеймена еще в тот момент, когда он сменил на посту своего отца, ведь сам факт его преемственности ознаменовал конец существования единой общины Бога и недвусмысленное образование первой мусульманской – и явно арабской – империи.
Именно поэтому Куфа находилась на грани восстания. Будучи городом-гарнизоном, кишащим освобожденными рабами и мусульманскими солдатами неарабского (преимущественно иранского) происхождения, Куфа, которая служила столицей халифата в период непродолжительного, но бурного правления Али, стала местом назревания протестных настроений против Омейядов. Эти настроения в высшей степени воплотились в гетерогенной коалиции шиату Али, члены которой не имели между собой ничего общего, за исключением связывавшей их ненависти к Бану Умайя и их убежденности в том, что только семья Пророка может восстановить ислам в соответствии с первоначальными идеалами справедливости, благочестия и равенства.
Как уже отмечалось, шиату Али сначала видели Хасана, старшего сына Али и Фатимы, своим новым лидером. Но когда Хасан умер в 669 г. – он был отравлен своими соратниками, – их чаяния обратились ко второму сыну Али, Хусейну. В отличие от своего старшего брата, который испытывал отвращение к политике и политическим махинациям, Хусейн был прирожденным лидером, который добился невероятной преданности со стороны своих последователей. После смерти Хасана шиату Али начали оказывать давление на Хусейна, чтобы тот незамедлительно восстал против Муавии. Но Хусейн отказался нарушить договор с халифом.
На протяжении одиннадцати лет он преподавал, проповедовал и охранял наследие своей семьи в Медине, ожидая, когда халиф умрет. На протяжении одиннадцати лет он страдал от унижения, которое ему приходилось терпеть от публичных проклятий в адрес его отца Али, которые по распоряжению Муавии раздавались с каждой кафедры в империи. Наконец, в 680 г. Муавия скончался, и вскоре после этого пришло известие от жителей Куфы, которые умоляли Хусейна прийти в их город и возглавить восстание против сына тирана.
Хотя Хусейн долго ждал этого сообщения, он колебался, слишком хорошо зная непостоянство и несогласованность жителей этого города и не желая вверять свою судьбу в их руки. Он также признавал бесполезность поднятия армии иракских недовольных против многочисленного сирийского войска халифа. В то же время он как внук Пророка не мог не учитывать лежавшую на нем обязанность противостоять тому, что он считал угнетением своего сообщества незаконным правителем.
Хусейн принял окончательное решение, когда Язид, узнав об угрозе, которая нависла над его властью, вызвал его, чтобы он предстал перед его эмиром Валидом в Медине и заявил о своей верности Дамаску. Однако когда Хусейн появился перед Валидом и его помощником Марваном – тем самым Марваном, советы которого привели к гибельным последствиям для Усмана и который в конце концов завладеет Омейядским халифатом несколько лет спустя, – он смог отложить свою клятву, заявив, что как представитель клана Мухаммада он мог бы оказать халифу лучшую службу, если бы принес эту клятву публично. Валид согласился и отпустил его. Но Марвана ему обмануть не удалось.
«Если вы разрешите Хусейну уйти, вы никогда его не вернете, – сказал он Валиду. – Попросите его присягнуть на верность или прикажите убить его».
Прежде чем Валид успел последовать совету Марвана, Хусейн спешно собрал членов своей семьи и вместе с горсткой сторонников отправился в Куфу. Он никогда не делал этого ранее.
Раскрыв планы Хусейна, намеревающегося поднять армию против него, Язид направил свои войска в Куфу, повелев арестовать и казнить лидеров восстания в знак того, что любая попытка сплотиться в поддержку Хусейна будет быстро и беспощадно пресечена. Угроза сработала. Задолго до того, как Хусейн и его последователи были перехвачены при Кербеле, всего в нескольких километрах к югу от Куфы, восстание было подавлено. Все произошло так, как и предсказывал Хусейн: жители Куфы бросили его на произвол судьбы. И все же, даже после того как он получил новости о провале восстания, после того как он был оставлен теми, кого он пришел повести за собой, Хусейн продолжал продвигаться к Куфе навстречу верной смерти.
Известия о событиях при Кербеле волнами распространились по мусульманским землям и поразили всех. После учиненной резни войска Язида в качестве назидания сторонникам Хусейна решили провести по улицам Куфы пленников – включая единственного оставшегося в живых сына Хусейна Али, который был настолько болен, что не мог сам идти и его пришлось привязать к верблюду. Когда отрубленную голову Хусейна показали толпе, жители Куфы стали вопить и бить себя в грудь, проклиная себя за предательство семьи Пророка. Но даже те группы, которые решительно выступали против претензий Бану Хашим на власть, пришли в ужас от этой демонстрации мощи халифа. Они же члены семьи Посланника Бога, говорили люди, как можно было их уморить и зарезать, словно животных?
Почти сразу же вспыхнули восстания по всей империи. Уцелевшие хариджитские группы осудили Язида как еретика и установили собственные независимые режимы: один в Иране, а другой на Аравийском полуострове. В Куфе краткое, но кровавое восстание в отмщение за резню при Кербеле было поднято во имя Мухаммада ибн аль-Ханафийи (сына Али, но не от Фатимы). В Мекке Абдаллах ибн аз-Зубайр – сын человека, который вместе с Тальхом сражался с Аишей против Али в Верблюжьей битве, – поднял армию и провозгласил себя Амиром аль-муминин (Повелителем правоверных). Ансары незамедлительно последовали примеру Ибн аз-Зубайра, объявив о своей независимости от Дамаска и избрав собственного лидера для представления их народа в Медине.
В ответ на эти восстания Язид выставил армию. По его команде сирийские войска окружили Мекку и Медину, установив массивные катапульты, из которых без разбора начали запускать огненные шары в жителей. В Мекке пожары быстро распространились до Каабы, уничтожив ее дотла. Когда языки пламени наконец утихли, оба священных города лежали в руинах. Медина тотчас сдалась и присягнула Язиду на верность. Но Омейядам потребовалось еще десятилетие, чтобы уже в период правления Абд аль-Малика сокрушить силы Ибн аз-Зубайра в Мекке и раз и навсегда установить полный суверенитет Дамаска.
Между тем без ведома халифов династии Омейядов назрела более искусная и гораздо более значительная революция в империи: революция не за политический контроль, а за контроль самой сути мусульманской веры. Через четыре года после событий при Кербеле, в 684 г., небольшая группа выходцев из Куфы, которые называли себя таввабун, или кающиеся, собралась на месте произошедшей резни – с почерневшими лицами, в изодранной одежде – для оплакивания погибшего Хусейна и его семьи. Это был неофициальный сбор без каких-либо церемоний, который был призван не только выказать уважение к Хусейну, но и совершить акт искупления за неспособность помочь ему в противостоянии с силами Омейядов. Кающиеся собрались при Кербеле, чтобы публично продемонстрировать свою вину, и их общинный акт траура был средством освобождения самих себя от грехов.
Хотя понятие причитания как искупления за грех было обычной практикой в большинстве религий, распространенных в Месопотамии, включая зороастризм, иудаизм, христианство и манихейство, это был беспрецедентный феномен в исламе. Действительно, коллективный плач кающихся при Кербеле был первым задокументированным ритуалом, который в конечном итоге станет совершенно новой религиозной традицией. Проще говоря, память о Кербеле постепенно превращала шиату Али из политической фракции, руководствовавшейся целью возвращения властных полномочий в сообществе семье Пророка, в совершенно определенную религиозную секту в исламе – шиизм, религию, основанную на идеале праведного верующего, который, следуя по стопам мучеников при Кербеле, охотно жертвует собой в борьбе за справедливость против угнетения.
Действия кающихся при Кербеле стоят обособленно в истории религии, потому что они продемонстрировали, как ритуал, а не миф может сформировать веру. Это важный момент, который следует учитывать при обсуждении развития шиизма. Как отметил Хайнц Хэлм, шииты – это сообщество, порожденное не «догматами свидетельства о вере», а скорее «в результате процесса выполнения ритуалов», которые возникли вокруг предания о событиях при Кербеле. Только после формализации этих ритуалов сотни лет спустя шиитские богословы заново изучат их и дадут им новое толкование, чтобы заложить теологическую основу новому религиозному движению.
Кербела стала Райским садом шиизма, где первородный человеческий грех – это не непослушание Богу, а неверность Его моральным принципам. Подобно тому как христиане справились с бременем деморализующей смерти Иисуса, истолковав Распятие как сознательное и запечатленное в вечности решение о самопожертвовании, шииты то же самое утверждают о мученичестве Хусейна. Шииты заявляют, что задолго до рождения Хусейна события при Кербеле были чудесным образом явлены Адаму, Ною, Аврааму, Моисею, Иисусу, Мухаммаду, Али и Фатиме. Они полагают, что Хусейн знал, что он не сможет победить халифа, но сознательно решил продолжить продвижение к Куфе, чтобы принести себя в жертву ради своих принципов для всех последующих поколений. Понимая, что только лишь силой оружия не получится восстановить единение сообщества под властью родственников Мухаммада, Хусейн планировал «полную революцию в сознании мусульманской общины», цитируя Хусейна Джафри. На самом деле, как утверждал выдающийся шиитский теолог Шах Абдул Азиз, самопожертвование Хусейна в действительности было логическим завершением истории о принесении в жертву Ибрахимом своего первенца Измаила – жертвы, которая так и не свершилась, но была отложена до Кербелы. Таким образом, шииты считают мученичество Хусейна завершением религиозного долга, который был начат Ибрахимом и явлен арабам Мухаммадом.
Основываясь на том, как были интерпретированы события при Кербеле, в шиизме развивалась отчетливая исламская теология искупления через жертвенность, нечто чуждое ортодоксальному, или суннитскому, толку ислама. «Слеза, пролитая за Хусейна, смывает сотню грехов», – говорят шииты. Эта концепция, называемая аза, или «траур», была окончательно закреплена шиитскими властями приблизительно к середине VIII в. и по сей день занимает центральное место среди ритуалов веры.
Каждый год в течение первых десяти дней месяца Мухаррам и заканчивая десятым днем, который называется Ашура, шииты чтят память о мученичестве Хусейна, проводя плакальные церемонии, на которых богословы, называемые закирами, зачитывают истории о мучениках, а также организуя траурные шествия, в процессе которых по окрестностям проносятся священные предметы, принадлежащие семье Мухаммада. Но возможно, самые известные обряды церемонии Мухаррама – шиитская религиозная мистерия (тазия), которая подробно описывает события при Кербеле, и погребальные процессии (матам), во время которых участники либо бьют себя в грудь в строго ритмичном, почти мантрическом акте раскаяния, либо хлещут свои спины кнутами, сделанными из цепей, непрестанно выкрикивая имена Хасана и Хусейна, пока улицы не оросятся их кровью.
Несмотря на внешнюю схожесть, церемония самобичевания шиитов имеет мало общего с подобными практиками некоторых христианских монашеских орденов. Это не акт благочестивого самоумерщвления в уединении. Не соответствуют эти ритуалы и практикам самоотречения некоторых аскетических индуистских сект, для которых боль – это средство достижения перемены в сознании. Как отмечали почти все объективные наблюдатели церемоний Мухаррама, матам должен быть безболезненным актом общественного свидетельствования, а не средством бичевания за грехи. Это не причинение боли, а добровольное пролитие крови и слез во имя Хусейна, которое приносит спасение. По этой причине во многих крупных городах, где шиитские погребальные процессии не одобряются ни религиозными, ни политическими властями, началась активная кампания по замене ритуалов самобичевания безопасной и контролируемой процедурой сдачи крови специальным мобильным банкам крови, которые следуют позади участников.
Для шиитов ритуалы Мухаррама означают моральный выбор; они – публичное заявление о том, что, по словам одного из участников, «если бы мы были там, при Кербеле, мы бы стояли [с Хусейном], и пролили бы нашу кровь, и умерли бы вместе с ним». Возможно, не менее важно и то, что эти ритуалы служат актом прозелитизма. Как пояснил другой участник, «мы делаем матам не только для того, чтобы увековечить память о Хусейне, но и для того, чтобы показать, что мы шииты».
Большинство тех, кто принадлежит к суннитскому миру, осуждают такие акты ритуальной преданности, как бида, или «религиозное нововведение». Но сунниты в большей степени оскорблены не тем, что делают участники церемоний Мухаррам, а тем, что предполагают эти ритуалы: утверждается, что рай уготован, согласно исследователю Корана XVI в. аль-Кашифи, «всем, кто плачет о Хусейне или плачет вместе с теми, кто так поступает». В этом заключается принципиальное различие между шиитами и суннитами. Шииты убеждены, что спасение требует заступничества Мухаммада, его зятя Али и его внуков Хасана и Хусейна, а также остальных законных преемников Пророка, имамов, которые не только служат заступниками человечества в Судный день, но и продолжают действовать как вечные исполнители (вали) божественного откровения.
Слово имам имеет несколько значений. В исламе суннитского толка имам – это просто человек, который стоит во главе мечети и ведет службы. Хотя шииты тоже иногда используют это определение в отношении своих религиозных лидеров, они признают «фиксированное» число имамов – число, зависящее от секты в шиизме, – которые как законные наследники Пророка несут ответственность за сохранение божественного послания Мухаммада. В отличие от халифа, назначенного политическим лидером, по крайней мере теоретически, на основе согласия в мусульманском обществе, имам представляет духовную власть Пророка Мухаммада и назначается Богом по факту своего рождения. В то время как суннитский халиф может претендовать только на то, чтобы быть вице-регентом Мухаммада на земле, шиитский имам, хотя и не имеет политической власти, наделен живым духом Пророка и поэтому, как считается, обладает духовным авторитетом, который стоит выше авторитета любого земного правителя.
Существование имама необходимо, по мнению выдающегося шиитского богослова Алламе Табатабаи, потому что людям нужно разъяснять божественное послание; и не просто разъяснять, а сохранять его и обновлять. Поскольку люди не обладают способностью самостоятельно познать Бога, имам становится постоянной необходимостью для всех сообществ в любую эпоху. Поэтому в дополнение к установленному числу имамов, которые унаследовали земную власть Мухаммада, должен также существовать «постоянно присутствующий», или «предсуществующий», имам, который, как вечный хранитель откровения, будет действовать как «доказательство Бога на земле». Таким образом, первым имамом, как утверждают шииты, был не Мухаммад и не Али, а Адам. И хотя полномочия имама и пророка изредка соединяются в одном человеке, разница между двумя этими ипостасями в первую очередь лежит в плоскости сознательного. Пророк – это тот, кто через божественную волю стал осознавать вечное послание Бога, которое навсегда окутывает творение как непостижимый эфир, которого мы не можем избежать, в то время как имам – это тот, кто объясняет это сообщение тем, кто не обладает ни пророческим знанием, необходимым для его восприятия, ни силой разума для его понимания. Иными словами, пророк передает Послание Бога, а имам переводит его для людей.
Как считают шииты, эту связь между пророком и имамом можно проследить на протяжении всей истории пророков человечества. Ибрахиму завет мог быть дан Богом, но именно Исаак и Измаил, как его имамы, исполнили его; Моисею могло быть явлено божественное откровение, но именно Аарон принес его на Землю обетованную; Иисус мог проповедовать спасение, но именно Петр построил Церковь. Точно так же Мухаммаду, Последнему из Пророков, могло быть явлено послание Бога арабам, но именно Али, его законному преемнику, было предназначено выполнить его. Таким образом, символ веры шиитов: «Нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Аллаха, а Али – друг (вали) Аллаха».
Как исполнитель воли Господа имам, как и пророк, должен быть надежным и безгрешным, поскольку, как утверждал один шиитский богослов, «грех уничтожил бы законность призыва». Следовательно, шииты развили мнение о том, что имамы были созданы не из пыли, как другие люди, а из вечного света. Кроме того, говорится, что имамы сохраняют тайное эзотерическое знание, передающееся от имама к имаму в ходе мистического процесса сообщения сознаний. Это эзотерическое знание включает в себя хранение секретных книг, таких как «Книга Фатимы», в которой рассказывается об откровениях Джабраила Фатиме после смерти Мухаммада. Имамы знают тайное имя Бога, а также они – единственные, кто владеет духовной направляющей силой, необходимой для раскрытия внутренней истины мусульманской веры.
Именно эта сила дает имамам единоличное право толковать Коран. Шииты убеждены, что Коран содержит на своих страницах два разных сообщения, которые предназначены для двух разных аудиторий. Явное послание Корана (захир) очевидно и доступно всем мусульманам через изучение тафсира (традиционное кораническое толкование), о котором упоминалось в предыдущей главе. Но только имам может правильно использовать тавиль (скрытый, тайный смысл Корана), чтобы раскрыть неявное сообщение Корана (батин). И хотя различие между тафсиром и тавилем существует и в исламе суннитского толка, шииты считают, что, поскольку откровение исходит от источников, недоступных человеческому пониманию, весь Коран состоит из символов и аллюзий, которые разъяснить может только имам, обладающий духовным совершенством. По словам восьмого имама Али ар-Риды, только человек, который способен соотнести скрытые стихи Корана с явными, может называть себя «ведущим к правильному пути».
Первенство тавиля в шиизме имело большие преимущества для раннего развития шиитов, стремившихся связать себя с Мухаммадом, раскрывая ссылки писания, которые оправдывали бы их отличительные верования и практики. Разумеется, это обычная тактика, используемая всеми сектантскими движениями, которые хотят связать себя с первоначальной религией. Ранние христиане, например, которые были евреями, считавшими, что пришел Мессия, тщательно изучили еврейские писания на предмет аллюзий на Иисуса, чтобы связать свою секту с иудаизмом и вписать их Мессию в многочисленные и зачастую противоречивые мессианские пророчества этих писаний. Точно так же шииты детально изучили Коран и нашли его изобилующим стихами, которые при правильном толковании через тавиль неявно выражали вечную истину имамата. Рассмотрим следующий отрывок из Корана, известный как «Стих Света»:
Аллах – свет небес и земли. Его свет – точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло – точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного – маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах притчи для людей. Аллах сведущ о всякой вещи! (24:35)Как считал шестой имам Джафар ас-Садик, эти причудливые строки скрывают послание Бога к шиитам. Свет Бога, утверждал Джафар, это Мухаммад; его сияние в стекле – это отсылка к пророческому знанию, которое он передал имаму Али, который «не был ни евреем [Востока], ни христианином [Запада]». И ровно так же, как святое масло излучает свет, не будучи тронуто огнем, так же и божественное знание льется из уст имама, «даже если Мухаммад этого не говорил».
«Свет на Свете!» – провозглашает Коран.
«От имама к имаму!» – отвечает Джафар.
Первым «установленным» имамом, который стал преемником Мухаммада, очевидно, был Али, затем его поочередно сменяли сыновья – Хасан и Хусейн. Четвертым имамом был единственный сын Хусейна, который выжил при Кербеле, Али (также известный как Зейн аль-Абидин), которому в конечном итоге разрешили вернуться в Медину, после того как он несколько лет провел в неволе в Дамаске. Али Зейна аль-Абидина в 712 г. сменил его сын Мухаммад аль-Бакир (которому на момент битвы при Кербеле было четыре года), хотя небольшая группа шиитов отвергла кандидатуру аль-Бакира как пятого имама и избрала вместо него другого сына аль-Абадина – Зейда ибн Али. Эта группа официально отделилась от основной части шиитов и стала известна под именем зейдиты.
Большинство шиитов приняли аль-Бакира как наследника, который затем передал власть своему сыну Джафару ас-Садику. Став шестым и самым влиятельным имамом, Джафар упорядочил ритуалы при Кербеле и установил принципы основной шиитской школы права. Джафаритский мазхаб, как эта школа станет известна, отличается от других суннитских школ права, во-первых, тем, что признает другой набор хадисов, который включает в себя истории имамов наряду с историями из жизни Мухаммада, а во-вторых, тем, что активно использует иджтихад, или независимое правовое обоснование, как один из основных источников шиитского богословско-правового комплекса.
На протяжении многих лет шииты расходились во мнениях относительно того, насколько допустимо муджтахиду (буквально: тот, кто занимается иджтихадом) полагаться только на рациональные предпосылки при вынесении авторитетных правовых решений, или фетв. Ахбариты, например, отвергли использование иджтихада в целом, требуя, чтобы улемы основывались в принятии своих юридических решений исключительно на традициях Пророка и имамов. Но именно восторженная поддержка соперников ахбаритов – усулитов – в использовании иджтихада при формировании исламской юриспруденции превратила их в преобладающую школу в шиизме. До сих пор шиитский закон поддерживает убеждение в том, что «все, что упорядочено разумом, также упорядочено и религией», цитируя современного шиитского правоведа Хуссейна Модарресси.
В настоящее время так много муджтахидов, что только тем, кто достиг самого высокого уровня учения и кто может похвастаться наибольшим числом учеников, разрешено продолжать практиковать иджтихад. На вершине этого порядка муджтахидов находятся аятоллы (название переводится как «знамение Аллаха»), чьи решения обязательны для всех учеников. Сегодня существует только несколько авторитетных аятолл – в первую очередь в Иране и Ираке, – но их религиозная и политическая власть над шиитами огромна. Как мы увидим, именно этот авторитет позволил аятолле Хомейни распространить свою волю в социальной, политической и экономической сферах, что привело к Иранской революции в 1979 г.
Джафар умер в 757 г. предположительно от отравления, хотя такие заявления звучали в адрес каждого имама, который не был явно убит суннитскими властями. Перед смертью Джафар назначил своего старшего сына Исмаила седьмым имамом. Но Исмаил умер прежде своего отца, и потому власть перешла ко второму сыну Джафара Мусе аль-Казиму. Хотя большинство шиитов приняли Мусу как направляемого Богом лидера сообщества, существовали и те, кто был обеспокоен таким очевидным «переназначением». Разве имам не божественно назначаем, спрашивали они. Как мог Джафар, непогрешимый имам, избрать неправильного наследника? В конечном итоге эта группа в богословских проповедях утверждала, что Исмаил не умер, а скрылся или «исчез из виду» в духовном царстве, из которого он вернется в конце времен, но не как имам Исмаил, а как мессианский восстановитель порядка, известный в исламе как Махди.
Последователи Исмаила – исмаилиты, или «семеричники», поскольку признают существование семи имамов до Махди, – не были первыми, кто обнародовал понятие «мусульманский мессия». Термин Махди первоначально обозначал «тот, кто руководит божественно» и регулярно использовался с начала исламской эры как почетный титул; Мухаммада называли «Махди», равно как и Али и его двух сыновей, Хасана и Хусейна. После учиненной резни при Кербеле Абдаллах ибн аз-Зубайр и Мухаммад абн аль-Ханафийа были объявлены Махди во время их неудачных восстаний против Омейядского халифата. Однако исмаилиты были первой исламской сектой, для которой вера в Махди стала центральным принципом. Несмотря на это, только после принятия доктрины Махди большинством шиитов – известных как «двунадесятники», потому что они прослеживали линию Мусы вплоть до двенадцатого и последнего имама, – была разработана уникальная исламская эсхатология, центром которой стало понятие «скрытого имама», который покинул этот мир для потустороннего царства, из которого он вернется в Судный день, чтобы восстановить справедливость на земле.
Поскольку нет ни одного упоминания о Махди в Коране, мусульмане обращались к хадисам для понимания второго пришествия «скрытого имама». Как и следовало ожидать, эти предания значительно различались в зависимости от географического расположения и политической принадлежности. Например, в Сирии, где преобладали те, кто был предан Омейядам как по религиозным, так и по гражданским вопросам, хадисы утверждали, что Махди станет один из курайшитов, в то время как в Куфе, месте, где господствовали шиитские устремления, хадисы настаивали на том, что Махди будет прямым потомком Мухаммада по линии его зятя Али; и его первая обязанность по возвращении на землю – естественно, месть за резню при Кербеле. Некоторые предания предсказывали, что приход Махди будет предвещен гражданскими войнами и лжепророками, землетрясениями и отменой исламского права. Согласно мнению историка и философа XIV в. Ибн Хальдуна, Махди будет либо непосредственно предшествовать Иисусу, либо оба мессии спустятся на землю вместе и объединят силы, чтобы убить Антихриста.
Поскольку доктрина о Махди стала преобладать среди мусульман-шиитов, суннитские религиозные школы постепенно дистанцировались от дальнейших размышлений на эту тему. Суннитские школы права открыто критиковали веру в Махди в попытке поколебать то, что быстро становилось политически разрушительным богословием. Страхи суннитского истеблишмента были вполне оправданными. Аббасиды свергли династию Омейядов, частично обратившись к мессианским ожиданиям шиитов. Действительно, первый аббасидский правитель взял себе мессианский титул ас-Саффах («Щедрый»). Его рассматривали как «Махди Хашимитов». Второй аббасидский халиф повелел именовать его аль-Мансур (другой мессианский термин для Махди, который употреблялся преимущественно в Йемене), а третий просто назвал себя «Махди», явно отождествляя свое правление с обещанным восстановлением.
На смену имаму Мусе пришел имам Рида, восьмой, чей срок пребывания в должности совпал с правлением известного аббасидского халифа Гаруна ар-Рашида. Имам Рида умер в 817 г., и вслед за ним пришел его сын Мухаммад ат-Таки (иногда его называют имам Джавад). К этому моменту враждебность между аббасидскими халифами (шиитами) и шиитскими имамами была настолько велика (во многом из-за опасений Аббасидов насчет того, что имамы могут стать их политическими соперниками), что десятый и одиннадцатый имамы – имам Хади и имам Аскари – почти весь свой срок пребывания на посту провели в аббасидских тюрьмах. Когда двенадцатый, и последний, имам Мухаммад ибн Хасан родился в Самарре в 868 г., шииты решили, что будет лучше его похитить и укрывать от общественных взглядов. Таким образом двенадцатый имам, названный имамом Махди, ушел в «скрытое состояние» (гайбат), из которого шииты-двунадесятники ожидают его возвращения в конце времен, чтобы вступить в эпоху мира и справедливости на земле.
С исчезновением имама с поверхности земли среди шиитов установился длительный период политического спокойствия и «благоразумного сокрытия», названного такия. Поскольку осуществление прямой политической власти обязательно подразумевало узурпацию божественной власти Махди, все правительства считались незаконными до его возвращения. В результате роль шиитских улемов была сокращена до позиции, незначительно большей по значимости, чем представители Махди, что иранский ученый Абдулазиз Саэдина назвал термином «живые иснады» – человеческие цепи передачи, ведущие к «скрытому имаму».
Это не означает, что не возникали шиитские правительства. В 1501 г. шестнадцатилетний эмир по имени Исмаил завоевал Иран и установил свою власть в качестве первого шаха, или короля, империи Сефевидов. Исмаил провозгласил веру шиитов-двунадесятников официальной религией Ирана и инициировал жестокий джихад против ислама суннитского толка как на своих землях, так и на территории соседней Османской империи. Джихад Исмаила против суннитов был пресечен несколько лет спустя османским султаном Селимом I, и, хотя это поражение, возможно, остановило продвижение шаха на османские территории, сам Иран изменился навсегда.
Шах Исмаил был невозмутим перед лицом аргументов против легитимности шиитского государства в отсутствие «скрытого имама». Он просто объявил себя долгожданным Махди, смело провозглашая при своем восхождении на престол: «Я сам Бог, сам Бог, сам Бог!»
Вскоре после того, как династия Сефевидов Исмаила подошла к концу в XVIII в., шииты-двунадесятники, все еще олицетворявшие «государственную религию» в Иране, вернулись к прежнему политическому квиетизму, побуждая аятолл воссоздать идеологию такии и воздерживаться от прямого вмешательства в управление династии Каджаров, которые сменили Сефевидов в XIX в., и династии Пехлеви, которые пришли на смену Каджарам в ХХ в.
Все это изменилось с приходом аятоллы Хомейни.
Холодным февральским утром 1979 г. сотни тысяч иранцев хлынули на улицы Тегерана, чтобы отпраздновать конец долгого, гнетущего правления Мохаммеда Реза Пехлеви, последнего шаха Ирана. В этой толпе в тот день были демократы, ученые, представители интеллигенции, получившие образование на Западе, либеральные и консервативные религиозные священнослужители, базарные торговцы, феминистки, коммунисты, социалисты и марксисты, мусульмане, христиане и евреи, мужчины, женщины и дети – всех объединяло презрение к деспотическому режиму, поддерживаемому американцами, который делал жизнь в Иране невыносимой для многих людей в течение стольких лет.
Толпа махала в воздухе кулаками, крича: «Смерть шаху!» и «Смерть тирании!». Озлобленные юноши собрались со всего города, чтобы поджигать американские флаги и распевать антиимпериалистические лозунги против сверхдержавы, которая чуть более двух десятилетий назад потушила первую попытку Ирана по проведению демократической революции. Эта революция произошла в 1953 г., когда та же коалиция, невероятным образом объединившая интеллигенцию, священнослужителей и базарных торговцев, смогла свергнуть иранскую монархию, но несколькими месяцами позже она была насильно восстановлена силами ЦРУ.
«Смерть Америке!» – кричала толпа, в песнях содержались предупреждения американскому посольству в Тегеране о том, что этой революции ничто не помешает, какова бы ни была ее цена.
В тот же день в толпе присутствовал другой, более существенный контингент демонстрантов, состоявший преимущественно из бородатых мужчин и покрытых черными чадрами женщин, которые шагали по улицам, выкрикивая имена мучеников Хасана и Хусейна и взывая о приближении Судного дня – пришествии Махди. Почти каждый в этой группе нес портреты и плакаты с изображением строгого, задумчивого священнослужителя, который за последние несколько лет стал главным голосом антиимпериалистического Ирана, – это был аятолла Рухолла Хомейни.
Рожденный в 1902 г. в уважаемой семье шиитских священнослужителей, Хомейни изучал право и богословие в признанных семинариях Наджафа и Кума. Он быстро поднялся на высоту сложной клерикальной шиитской иерархии, став муджтахидом в необыкновенно молодом возрасте (23 года), а затем достигнув титула аятоллы. Как и большинство иранцев, Хомейни обвинял слабовольную монархию Ирана в превращении страны в раба Великобритании в один день, а Америки – на следующий. Однако в отличие от других аятолл, которые настаивали на сохранении традиционного политического квиетизма, Хомейни беззастенчиво использовал свой моральный авторитет для участия в общественно-политических интригах. Его выступления в конце концов привели к аресту и ссылке в 1964 г.
Пятнадцать лет спустя, в 1979 г., Хомейни вернется в Иран преисполненным решимости ввести страну в новую эпоху – ту, которую почти никто в толпе тогда не мог предсказать. Действительно, менее чем через год после возвращения из ссылки Хомейни предаст остракизму, а затем казнит своих политических и религиозных противников – тех самых мужчин и женщин, которые осуществили эту революцию – и заменит переходное правительство воплощением своего личного идеала исламского государства. Государства, в котором только он имел высшую власть над всеми вопросами – гражданскими, правовыми и религиозными.
Но в то февральское утро никто не называл Хомейни факихом, «законоведом», – титул, который он в конечном итоге присудит себе как верховный лидер новообразованной Исламской Республики Иран. В то время Хомейни еще не раскрывал свои планы об абсолютном клерикальном правлении. Однако среди песнопений «Бог, Коран, Хомейни» был еще один титул, о котором по толпе разносилась молва как о секрете, который нельзя раскрывать. Хомейни, шептались люди, это Махди; он вернулся в Иран, чтобы восстановить ислам в его первоначальном состоянии совершенства.
Причины успеха хомейнизма – уместный термин для обозначения религиозно-политической философии, которая в конечном итоге сыграла главную роль в формировании Исламской Республики Иран, – многочисленны и слишком сложны, чтобы раскрыть их здесь подробно. Во многих отношениях Иранская революция 1979 г. была неизбежным завершением двух предыдущих народных революций – конституционной в 1905–1911 гг. и националистической в 1953 г. Обе были подавлены силами иностранных правительств (первая – российскими и, в меньшей степени, британскими войсками; вторая – как уже отмечалось, Соединенными Штатами Америки), которые хотели сохранить свою власть над природными ресурсами Ирана. К концу 1970-х гг. большинство иранцев так устало от коррумпированного и неэффективного правления иранского монарха Мохаммеда Реза Пехлеви, что еще одна революция была неизбежна.
Столкнувшись с почти полным отсутствием возможности для участия в политической жизни (шах ликвидировал партийную систему и отменил конституцию), бездумной экономической повесткой дня, которая способствовала рекордной инфляции, оперативной и бесполезной милитаризацией, а также широко распространенной утратой национальной и религиозной идентичности, духовенство страны, интеллектуалы, прослойка торговцев и почти все социально-политические организации в Иране – от коммунистов до феминисток – отбросили свои идеологические различия и объединились в антиимпериалистическом, националистическом восстании против коррумпированного монархического строя. Несмотря на то, как эти события преподносит пропаганда после революции, это ни в коем случае не было монолитным революционным движением, инициированным по воле аятоллы Хомейни с целью создания исламской теократии. Напротив, это были десятки разнообразных и порой противоречащих друг другу голосов, поднявшихся против шаха. Голос Хомейни, к лучшему или нет, был просто самым громким.
Успех Хомейни как политика и религиозного лидера был обусловлен пониманием того, что в стране с верой и культурой шиизма только символы и метафоры ислама шиитского толка могли бы обеспечить общий язык, на основе которого удалось бы мобилизовать массы. Превращая Иран в систему теократического правления, такой, какой он ее видел, Хомейни обратился к лучшему примеру в истории, который был ему доступен, – опыту Исмаила, правителя Сефевидов, который за пятьсот лет до этого создал первое шиитское государство, провозгласив себя Махди.
Конечно, Хомейни никогда не связывал себя с Божественным, никогда не заявлял он и о титуле Махди – это было бы сродни политическому самоубийству. Скорее Хомейни сознательно примерил на себя мессианскую харизму Махди и позволил своим последователям сделать собственные выводы. Как и все Махди до него, Хомейни объявил себя потомком имама Мусы и с большой готовностью принял мессианский титул «имам». Он умышленно ввязался в ужасную ирано-иракскую восьмилетнюю войну (1980–1988) с Саддамом Хусейном, позиционируя это как реванш за резню, учиненную над Хусейном и его семьей при Кербеле, хотя такая месть была исключительном правом Махди. Тысячи иранских детей, которые были брошены на линию фронта как минные тральщики, носили вокруг шеи «ключи к раю» и повязки, украшенные словом «Кербела», как напоминание о том, что они не боролись в войне за территорию, а шли по стопам мучеников.
Безусловно, самым очевидным связующим звеном между Хомейни и Махди стала доктрина вилаят аль-факих, «правление просвещенного». Особенности этой доктрины, в которой народный и божественный суверенитет объединились в единую форму правления, будут подробно рассмотрены в десятой главе. На данном этапе достаточно понять основную концепцию доктрины и ее место в политической и религиозной идеологии.
Хомейни утверждал, что в отсутствие Махди божественное правление могло исходить только от представителей скрытого имама на земле, то есть аятолл. Хомейни не был первым шиитским богословом, сделавшим такое заявление; похожая идея была сформулирована на рубеже ХХ в. политически настроенными священнослужителями, в числе которых были шейх Фазлолла Нури (один из идеологических героев Хомейни) и аятолла Кашани. Но доктрина вилаят аль-факих дала две потрясающие модификации традиционной доктрины шиитов. Во-первых, она подразумевала абсолютную власть, сосредоточенную в руках одного духовного лица, вместо нескольких квалифицированных клириков. Во-вторых, будучи доверенным лицом Махди, верховный священнослужитель обладал авторитетом, который был идентичен авторитету «скрытого имама». Иными словами, согласно этой доктрине, руководство Хомейни было, как и руководство Пророка и двенадцати имамов, непогрешимым и божественно вдохновленным.
Это было поразительное и радикальное религиозное нововведение в шиизме. Противостоя давним убеждениям о том, что шииты могут быть ведомы только Махди, когда он вернется из своего укрытия в духовном царстве, Хомейни утверждал, что вместо этого священнослужители должны быть ответственны за вступление в мессианскую эпоху путем установления и управления государством Махди для него. Доктрина вилаят аль-факих предполагала, что в отсутствие «скрытого имама», факих – высший правовед в государстве – должен нести ответственность за ведение и осуществление всех дел, которые были доверены имамам. И поскольку он был представителем Махди на земле, факих претендовал на абсолютное послушание народа.
Признаком большого разнообразия религиозной и политической мысли в шиизме послужил тот факт, что большинство других аятолл Ирана – включая наставников Хомейни, аятолл Боруджери и Шариатмадари, – отклонили доктрину вилаят аль-факих, утверждая, что ответственность мусульманских духовных лиц в современном мире заключается в том, чтобы сохранять духовный характер исламского государства, а не управлять им напрямую. Но что столь примечательно в личности Хомейни, так это его умение облекать свои богословские воззрения в форму популистской риторики того времени. Так он протянул руку влиятельным коммунистическим и марксистским фракциям Ирана, переформулировав постулаты традиционной шиитской идеологии в призыв к восстанию угнетенных масс. Он обхаживал светских националистов, снабжая свои речи аллюзиями на мифическое прошлое Ирана, преднамеренно скрывая детали своей политической философии. Он заявлял, что правительство должно управляться в соответствии с законами Бога во имя благополучия страны. Зачастую он не упоминал публично, что существование такого государства было бы невозможно, если бы не надзор со стороны религиозных лидеров.
Хомейни продолжал стоять на своем, когда аятоллы упрекнули его, что доктрина вилаят аль-факих просто заменила одну форму тирании другой. В итоге Хомейни доказал, что факих – не просто светский лидер; он – наследник «скрытого имама». Таким образом, он не управляет божественной справедливостью, он сам – божественная справедливость.
Когда аятоллы были запуганы достаточно, чтобы хранить молчание, а шиитское большинство Ирана всколыхнулось и стало готово к действиям, ничто не препятствовало Хомейни захватить контроль над переходным правительством. Прежде чем большинство иранцев осознали, на что они согласились, он использовал народный мандат для введения своих религиозных убеждений в политическую сферу, превратив Иран в исламскую республику и провозгласив себя первым факихом страны – высшей светской и религиозной властью.
Спустя три десятилетия теории Хомейни о «правлении просвещенного», или вилаят аль-факих, снова будет брошен вызов, и на этот раз не только некоторыми из числа высокопоставленных религиозных деятелей Ирана, такими как Великие аятоллы Мир Мохаммед Рухани, Сайид Хассан Табатабай-Коми, Юсуф Санеи и Хусейн Али Монтазери; последний, в частности, перед своей смертью в 2010 г. произнес знаменитые слова: «Даже у Пророка не было абсолютного вилаята аль-факих». Теория также подвергается критике со стороны новой плеяды молодых студентов семинарии, которые обучаются в религиозной столице страны Куме. Эти будущие религиозные лидеры никогда не были преданы традиционному (то есть дохомейнистскому) шиизму, но они остро осознают неспособность вилаят аль-факих привести к «совершенному государству», обещанному аятоллой Хомейни. Более того, они осведомлены о том, как иранская политизированная форма шиизма нанесла, вероятно, непоправимый ущерб восприятию большинством иранцев – 70 % из которых младше тридцати и поэтому они не помнят реалии дореволюционного Ирана – религии в целом и ислама в частности.
Однако, безусловно, самый значимый вызов хомейнизму исходит из-за пределов Ирана – с территории соседнего Ирака. Война 2002 года, развязанная США с целью сместить Саддама Хусейна, имела несколько неожиданный эффект освобождения другой крупной шиитской школы права в священном городе Ирака Эн-Наджаф. Возглавляемая родившимся в Иране Великим аятоллой Али аль-Систани, человеком, которого многие считают главным аятоллой в мире, школа в Эн-Наджафе провозглашает более традиционную, аполитичную интерпретацию шиитского ислама. Теперь, когда он освобожден от жесткого гнета со стороны Саддама Хусейна, Эн-Наджаф стал распространять свое влияние через границу в Иран. Ученики Систани наводнили семинарии Кума, в то время как сам Эн-Наджаф принимает постоянный поток иранских студентов, желающих изучать версию шиитской теологии, незапятнанную политической философией Хомейни.
Сменится не одно поколение, прежде чем шиизм вернется к традиционному толкованию, бытовавшему до Хомейни, а шиитские улемы вновь займут свои роли моральных, а не политических лидеров шиитского сообщества. Однако разворот кажется неизбежным. В конце концов, шиизм – это религия, основанная на открытых дискуссиях и рациональном дискурсе. За всю почти четырнадцативековую историю ни одно духовное лицо в шиизме не пользовалось безусловной властью над другими шиитскими клириками, равными ему по степени учености. Ни один священнослужитель никогда не обладал полномочиями по толкованию смысла веры. Шииты всегда были вольны следовать за тем духовным лицом, которое выберут сами, отчасти поэтому шиизм расцвел в такую невероятно эклектичную веру. И именно поэтому так много шиитов внутри и за пределами Ирана не считают Исламскую Республику Иран парадигмой исламского государства, скорее уж – ее искажением (хотя этот аргумент следует оставить для другой главы).
Аятолла Хомейни умер в 1989 г. Хотя он был уже больным восьмидесятисемилетним стариком, его смерть для многих в стране явилась неожиданностью. Во время похорон его тело окружила толпа на улицах; саван, в который он был обернут, был разорван на клочки, а его фрагменты хранились оплакивающими как реликвии. Там были даже те, кто отказывался верить, что «имам» мог умереть. Некоторые утверждали, что он не мертв, а просто скрылся; что он вернется вновь.
Однако задолго до своего мессианского восхождения к власти в Иране Хомейни был преданным учеником великих мистиков ислама – суфиев. Студент-идеалист молодой Рухолла втайне заполнял свои записные книжки удивительно страстными стихами, описывающими его стремление соединиться с Богом, как любовник соединяется со своей возлюбленной.
«О, я желаю чашу вина из рук Возлюбленного, – писал Хомейни. – Кому я могу доверить эту тайну? Где я должен принять мое горе? Всю жизнь я жаждал увидеть лицо моего Возлюбленного. Я – неистовый мотылек, кружащий над пламенем, семя дикой руты, поджаренное на огне. Посмотри на мой запятнанный плащ и на этот молитвенный коврик лицемерия. Могу ли я однажды разорвать их в клочья у двери таверны?»
Эти слова могут показаться поразительными для будущего аятоллы. Но для тех, кто знает принципы суфизма, другой большой религиозной ветви ислама, они не будут столь незнакомыми. Для суфиев ислам – не право и не богословие, не кредо и не ритуал. Согласно их воззрениям, ислам – лишь средство, с помощью которого верующий может уничтожить свое эго, став таким образом единым с Создателем неба и земли.
8. «Окрась вином свой молитвенный коврик»
Суфийский путь
Это легенда о Лейле и Меджнуне.
Однажды в семье благородного шейха родился мальчик невероятной красоты. Его назвали Каис, и, когда он возмужал, всем стало очевидно, что однажды он превратится в источник большой гордости своей семьи и племени. Даже с юного возраста знаниями, усердием, обучаемостью и речью он превосходил всех сверстников. Когда он говорил, его язык источал жемчуг, а когда он улыбался, его щеки становились как фиолетовые тюльпаны, тянущиеся навстречу солнцу.
Однажды Каис встретил столь прекрасную девушку, что его мгновенно поразила тоска, причины которой он не мог понять. Имя ей было – Лейла, что означает «ночь», и, как ночь, она была одновременно и темной и светлой. Ее глаза – словно глаза газели, а губы – два влажных лепестка розы.
В Лейле тоже зародилось чувство к Каису, которое она не могла понять. Они тонули в любви, хотя по молодости лет не знали, что такое любовь. Словно любовь была винным сосудом, наполнявшим чаши их сердец до краев; они пили все, что было налито для них, и пьянели, не находя тому объяснения.
Каис и Лейла хранили свои чувства в секрете, когда бродили по переулкам и проходам городских рынков достаточно близко другу к другу, чтобы украдкой ухватить взгляд и поделиться смешком, и достаточно далеко, чтобы не вызвать сплетни. Но такой секрет невозможно утаить, и шептаний украдкой было достаточно, чтобы нарушить их таинство. «Каис и Лейла влюблены!» – кто-то сказал на улице.
Племя Лейлы было в ярости. Отец запретил ей покидать свою палатку; братья поклялись поймать Каиса, если он когда-нибудь появится поблизости. Но невозможно удержать воющего волка от новой луны.
Разлученный со своей возлюбленной, Каис бродил от стойла к стойлу, от палатки к палатке словно в забытьи. Куда бы он ни шел, каждому встречному он пел о красоте Лейлы, превознося ее добродетели. Чем дольше он был в разлуке с Лейлой, тем больше его любовь сменялась безумием, так что вскоре люди начали указывать на него на улицах, говоря: «Вот идет сумасшедший! Вот идет меджнун!»
Каис был сумасшедшим, это правда. Но что такое безумие? Значит ли это быть поглощаемым пламенем любви? Безумен ли тот мотылек, что приносит себя в жертву пожару своего желания? Если так, тогда да, Каис был сумасшедшим. Каис был Меджнуном.
Облаченный в лохмотья и лишенный здравого рассудка, Меджнун покинул город и бесцельно блуждал по горам и пустошам Хиджаза, слагая печальные оды своей возлюбленной, которая не с ним. Без дома и племени он был изгнанником из земли счастья. Добро и зло, правильное и ошибочное отныне не имели для него никакого значения. Он был любовником; он не знал ничего, кроме любви. Он оставил разум и жил как изгнанник в пустыне, его волосы стали грязными и спутанными, его одежда превратилась в лохмотья.
В своем безумии Меджнун пришел к Каабе. Продвигаясь через толпу паломников, он бросился к святилищу и стал колотить в дверь, крича: «Господи, пусть моя любовь возрастет! Пусть она расцветет до совершенства и терпимости. Позволь мне пить из источника любви до утоления моей жажды. Любовь – это все, что у меня есть, все, что я есть, и все, чем я хочу быть!»
Паломники были потрясены. Они видели, как он припал к земле, посыпая пылью голову, проклиная себя за слабость своих страстей.
Действия Меджнуна опозорили его семью и племя, но сам он не знал стыда. Когда он услышал о назначенной свадьбе Лейлы с неописуемо богатым человеком по имени Ибн Салам, он потерял разум. Срывая с себя одежду, он ползал голым по пустыне, как животное. Он спал в оврагах со зверями пустыни, питаясь дикими растениями и дождевой водой. Он прославился благодаря своей любви. Люди со всех земель стремились к нему, порой просиживая с ним часами, слушая, как он говорил о своей любимой Лейле.
Однажды, когда он читал свои стихи плененной аудитории, клочок бумаги, принесенный ветром, опустился на его колени. На нем были написаны два слова: «Лейла» и «Меджнун». На глазах у всех Меджнун разорвал бумагу пополам. Половину, на которой было написано «Лейла», он скомкал в шарик и перебросил через плечо; а половину со своим именем он сохранил для себя.
«Что это значит?» – спросил кто-то.
«Разве вы не понимаете, что одно имя лучше двух? – ответил Меджнун. – Если бы вы знали подлинную сущность любви, вы бы поняли, что, затронув влюбленного, вы увидите того, кого он любит».
«Но зачем выбрасывать имя Лейлы, почему не твое?» – спросил другой.
Меджнун сердито посмотрел на этого человека: «Имя – это оболочка и ничего больше. Только то, что скрыто под оболочкой, берется в расчет. Я – оболочка, а Лейла – жемчужина; я – завеса, а она – лицо под ней».
Толпа, хотя и не поняла смысла его слов, была поражена сладостью его речи.
Между тем, заключенная в ловушку ограничений своего племени и вынужденная выходить замуж за мужчину, которого она не любила, Лейла погрузилась в мрак одиночества. Она страдала так же глубоко, как и Меджнун, но не обладала его свободой. Она тоже хотела жить со зверями в пустыне и заявлять о своей любви к Меджнуну с вершин гор. Но она была пленницей в своей палатке. Когда однажды утром торговец принес ей вести о Меджнуне, Лейла почувствовала себя тростником, покачивающимся на ветру, полым и невесомым.
«Без твоего сияния, – сказал ей старик, – душа Меджнуна как океан в зимнюю ночь, охваченный тысячами штормов. Как одержимый он блуждает по склонам гор, пронзительно крича. И на его губах только одно слово: “Лейла”».
«Во всем виновата я! – воскликнула Лейла, осыпая себя проклятиями. – Я зажгла огонь в сердце моего возлюбленного и превратила его существо в пепел». В отчаянии она вынула драгоценные камни из своих серег и передала их старому купцу: «Это вам. Теперь пойдите к Меджнуну и приведите его сюда. Я только хочу его увидеть, хоть ненадолго взглянуть на его лицо, искупаться в его свете хоть на миг».
Старик согласился. Несколько дней он бродил по пустыне в поисках Меджнуна. Когда он наконец нашел его, он передал сообщение Лейлы. «Не могли бы вы заставить себя нарушить обет отречения от мира, чтобы взглянуть на ее покрытое слезами лицо хоть на секунду?» – умолял он.
«Разве они не понимают, – подумал Меджнун, – что их идея счастья не созвучна моей? Разве они не видят, что, в то время как они могут воплощать свои желания в жизнь, мое стремление – это нечто совсем другое, что не может быть выполнено, пока я остаюсь в этом преходящем мире?»
Но Меджнун не мог противиться возможности взглянуть на лицо своей возлюбленной. Надев плащ, он последовал за торговцем к пальмовой роще и спрятался там, а старик ушел, чтобы привести Лейлу.
Пока торговец вел ее за руку к роще, к Меджнуну, Лейла дрожала всем телом. Когда от любимого ее отделяло не более двадцати шагов, она застыла. Старик потянул ее за руку, но Лейла не могла двинуться с места.
«Благородный господин, – умоляла она, – еще далеко, но не слишком. Даже сейчас я как горящая свеча; один шаг ближе к огню – и он поглотит меня полностью».
Старик оставил ее и отправился к Меджнуну. Он вывел молодого человека из пальмовой рощи под свет луны – его лицо было обесцвечено, а глаза были точно стекло – и указал ему, где ждет Лейла. Меджнун медленно пошел навстречу ей. Свет от звезд проглядывал сквозь вершины пальмовых деревьев, время от времени пронзая темноту. И внезапно под куполом небес Лейла и Меджнун столкнулись друг с другом.
Это длилось всего мгновение: кровь прилила к щекам. Возлюбленные смотрели друг на друга, опьяненные вином любви. И хотя теперь они были достаточно близко, чтобы коснуться друг друга, они знали, что такое вино можно вкушать только в раю. Дуновение, вздох, сдавленный крик – и Меджнун развернулся и убежал прочь из рощи обратно в пустыню, исчезнув как тень в ночи.
Прошли годы. Листья на пальмах пожухли. Цветы сбросили свои лепестки в знак траура. Все вокруг становилось желтым и тусклым, сады медленно увядали, то же самое происходило и с Лейлой. Свет в ее глазах погас, на последнем вздохе она произнесла имя возлюбленного.
Когда Меджнун услышал о смерти своей любимой, он бросился к ее могиле и в пыли извивался от боли. Он лег, прижавшись телом к земле, будто в молитве, но его иссушенные губы могли произнести только одно слово: «Лейла». Наконец он освободился от боли и тоски. Его душа вырвалась на свободу, и его не стало.
Некоторые говорят, что тело Меджнуна лежало на могиле Лейлы несколько месяцев; другие говорят – годы. Никто не осмеливался приблизиться к нему, потому что днем и ночью могилу охраняли животные пустыни. Даже стервятники, кружащие над захоронением, не трогали Меджнуна. В конце концов все, что осталось от него, – пыль и кости. Только тогда животные покинули своего господина и вернулись в пустыню.
Когда звери ушли, а прах Меджнуна был развеян ветром, на могиле Лейлы поставили новый надгробный камень. Надпись на нем гласила:
Двое влюбленных в гробнице одной – Храни их единство, покой вековой: В любви и разлуке друг другу верны, На небе приют обретут пусть они.Суфизм – термин, обозначающий чрезвычайно сложную и бесконечно разнообразную мистическую традицию в исламе, – это, как заметил Рейнольд Николсон, нечто фундаментально неопределимое. Даже слово суфий едва ли способствует классификации этого движения. Термин тасаввуф, что означает «состояние суфия», не имеет смысла, поскольку он, вероятно, относится к грубой шерстяной одежде суф, которую первые суфии носили как символ своей нищеты и отстранения от мира. Действительно, в качестве описательного термина слово суфий практически взаимозаменяемо со словами дервиш или факир, означающими «нищенствующий» или «бедный». Некоторые утверждают, что слово суфий происходит от арабского сафве, что означает «избранный», или суффа, то есть «чистота», хотя оба эти варианта должны быть отклонены по этимологическим основаниям. Другие предполагают, что суфий – это искаженная версия греческого слова софия – «мудрость». Такое объяснение также маловероятно, хотя есть заманчивая символическая связь между двумя словами. Ибо если термин софия следует понимать в его аристотелевском смысле как «знание конечных вещей», то оно очень тесно связано со словом суфий, и не только лингвистически.
Как религиозное движение суфизм характеризуется разнообразием философских и религиозных тенденций, словно это пустой котел, в который были вылиты принципы христианского монашества и индуистского аскетизма, подмешаны капли буддийской и тантрической мысли, добавлены несколько щепоток исламского гностицизма и неоплатонизма и, наконец, брошены элементы шиизма, манихейства и среднеазиатского шаманизма в хорошей пропорции. Такая смесь влиятельных направлений мысли может сделать тщетным научный анализ, но это также указывает на то, как суфизм мог формироваться на ранних этапах.
Первые суфии не были привязаны к одному месту, они были очень мобильными людьми, которые путешествовали по всей мусульманской империи, стремясь познать Бога. Поскольку число этих «блуждающих дервишей» увеличивалось, для них были построены временные места проживания в располагавшихся на перепутьях дорог городах, таких как Багдад и Хорасан, где могли собираться нищие и делиться тем, что они узнали во время своих духовных путешествий. К XI в., примерно в то же самое время, когда Аббасиды активно преследовали шиитов за их еретическую деятельность, эти места проживания стали постоянно действующими структурами, напоминающими монастыри. Часть из них постепенно превратилась в закрытые школы, или ордена, мистицизма.
Центром суфийского ордена был духовный учитель, который вышел из уммы, чтобы продолжить путь самоочищения и внутреннего просветления. Прозванные шейхами на арабском языке и пирами на персидском (в обоих случаях это означает «старейшина»), суфийские наставники сами были учениками более ранних легендарных мастеров, чьи несистематизированные учения перешли к ним для передачи новому поколению. По мере того как каждый ученик достигал уровня духовной зрелости, он становился ответственным за передачу слов учителя уже своим ученикам и т. д. Таким образом, легко понять, почему суфизм представляет собой эклектичный рецепт, ингредиенты которого собраны из разных источников в течение длительного периода времени. Конечно, как учит суфийский мастер Шейх Фадхлалла Хаери, «существует большая разница между простым собиранием рецептов и настоящим приготовлением и потреблением».
Подобно шиизму, суфизм начинался как реакционное движение против имперского ислама мусульманских династий и жесткого формализма исламского «ортодоксального» ученого класса, улемов. И шииты и суфии активно использовали тавиль, чтобы открыть тайный смысл Корана, обе группы сосредоточили свою духовную деятельность на преданности Пророку и развивали культ личности вокруг святых – будь то имамы или пиры.
Но в то время как шииты и суфии существовали в одном духовном измерении и, безусловно, оказывали влияние друг на друга, суфизм представлял собой редкое движение в исламе, по своей природе противоречащее разуму и посвященное исключительно эзотеризму и преданному служению. Кроме того, в отличие от шиитов суфии не проявляли интерес к политической власти. Хотя в конечном итоге они стали частью политической сферы, особенно на Индийском субконтиненте, суфийские пиры поначалу воздерживались от любых форм светской власти и полностью дистанцировались от политической и теологической борьбы, которая была характерна для мусульманской общины в период ее формирования. Вместо этого суфии стремились к аскетизму и отрешенности от уммы и ее мирских атрибутов, ведя простую и бедную жизнь. «Если вы не можете изменить царей, – утверждали суфии, – тогда измените себя».
В своих ритуалах и практиках суфии добивались уничтожения эго. И хотя эта цель, возможно, общая для всех мистических движений, есть несколько важных различий между суфизмом и традиционными идеалами мистицизма.
Во-первых, в исламе существует строгий принцип антимонашества, который пронизывает все аспекты жизни верующего. Проще говоря, ислам – это общинная религия. Она не приемлет радикальный и затворнический индивидуализм. Можно утверждать, что мусульманин, который отвергает умму, подобен римскому католику, отрицающему Апостольскую церковь: оба сознательно отделяют себя от источника своего спасения. Хотя большинство суфийских учителей дистанцировались от общества, они не были монахами, а их ученики были ремесленниками, аптекарями и купцами. Как писал истинный суфий Шейх Хаери, «не отделяйте внутреннее от внешнего», ибо, когда вы «начинаете очищать свое внутреннее “я”, вы в конечном итоге сосредоточиваетесь на внешнем и на жизни общества».
Во-вторых, Коран трактует безбрачие – еще одну распространенную традицию в мистицизме – как противление завету Бога «плодиться и размножаться». Значительная часть откровения посвящена укреплению и сохранению семьи, которая в исламе считается моделью для уммы и микрокосмом всего сущего. Коран неоднократно приравнивает сыновнюю преданность к верности Богу (2:83, 4:36, 6:151, 31:14). Поэтому, хотя известны несколько примечательных случаев безбрачия среди суфиев – прославившаяся красотой знаменитая Рабия из Басры отвергла всех женихов, чтобы полностью посвятить себя Богу, – такая практика не стала широко распространенной в суфизме.
Но пожалуй, самое важное различие между суфизмом и традиционным религиозным мистицизмом состоит в том, что последний имеет тенденцию оставаться тесно связанным со своей «родительской» религией, в то время как суфизм, хотя и зародился в исламе, рассматривает его как оболочку, которую нужно отбросить, чтобы испытать непосредственное познание Бога. Иными словами, официальный ислам служит прелюдией к суфизму, а не его лейтмотивом. Ислам, как и все религии, может только претендовать на то, чтобы указать человечеству на Бога, тогда как цель суфизма – подтолкнуть человечество к Богу.
Это не означает, что суфизм отвергает ислам и его религиозные и юридические требования. Несмотря на порой жестокие обвинения со стороны шиитов и суннитов в обратном, суфии – мусульмане. Они молятся как мусульмане. Они совершают богослужения как мусульмане. Они используют мусульманские символы и метафоры и следуют мусульманским вероучениям и ритуалам. Вот слова Мухаммада аш-Шазили, уважаемого суфийского шейха ордена Рифайа в Иерусалиме: «Если вы хотите пройти… путем Пророка, вы должны быть настоящим мусульманином… тем, кто отдает своему Богу все, чтобы быть Его рабом».
Вышесказанное означает, что суфии рассматривают ортодоксию, все традиционные учения, право, теологию и пять столпов как не соответствующие достижению истинного познания Бога. Даже Коран, который суфии уважают как прямую речь Бога, не способен пролить свет на его сущность. Как утверждал один суфийский учитель, зачем тратить время на чтение любовного письма (под которым он подразумевает Коран) в присутствии Возлюбленного, который его написал?
Равно как все путешествия должны иметь начало, так и суфийский путь только начинается с «внешней оболочки» – ислама. По мере того как суфий переходит от одного этапа к другому на пути к «самоуничтожению» и достижению единства с Божественным, эта оболочка должна быть постепенно сброшена, поскольку, как сказал Меджнун, «только то, что скрыто под оболочкой, берется в расчет». Суфии считают, что разум и богословие, вероучение и ритуал, закон и его заповеди – все это должно быть заменено в душе просвещенного человека высшей добродетелью – любовью.
Неудивительно, что большинство мусульман исконно относились к суфизму с подозрением. Суфийское утверждение о том, что человеческий разум не может познать Божественное, что такое знание может быть получено только из интуитивного восприятия конечной реальности, естественно, привело в ярость представителей религиозной власти. Не способствовало примирению и то, что суфии отвергли шариат как непригодный инструмент для их поиска тайного знания внутреннего мира. Как уже отмечалось, исламский закон сосредоточивается на внешней (захир) природе веры: то, что можно выразить количественно, может быть регулируемо. Внутреннюю же природу (батин) невозможно контролировать, и, следовательно, она представляет серьезную угрозу для религиозных властей. Хуже того, отделившись от мусульманской общины, суфии, похоже, создали свою умму, в которой пиры заменили улемов в качестве единственной религиозной власти.
Отвергая строгие правила шариата и их традиционные толкования, суфизм охотно поглощал всевозможные местные верования и обычаи и стал чрезвычайно популярен во всех уголках мусульманской империи. В Индии суфизм распространился подобно пламени, поскольку он бойко сочетал в себе антикастовые мусульманские ценности с традиционными индийскими обычаями, такими как контролируемое дыхание, сидячие позы и медитация. В Центральной Азии группа персидских суфиев разработала совершенно новый канон священного писания, характеризующийся богатым инструментарием поэзии, песен и суфийской литературы, которая в отличие от Корана была написана на народном языке и с легкостью распространилась по всей империи.
Это краткое описание истоков суфизма может пролить свет на то, как движение возникло и распространилось, но оно никоим образом не объясняет, что такое суфизм. И не смогло бы. Все потому, что суфизм – это религиозное движение, которое можно только описать, но невозможно определить.
Рассмотрим следующую притчу, первоначально составленную величайшим из всех суфийских поэтов Джалаладдином Руми (ум. 1273) и рассказанную Идрисом Шахом, Великим Шейхом Сарданы.
Перс, турок, араб и грек во время своего путешествия в далекие земли стали спорить о том, как потратить одну монету, которая была в их общем распоряжении. Все четверо жаждали еды, но перс хотел оплатить монетой ангур, турок – изюм, араб – инаб, а грек – стафиль. Спор ожесточился, поскольку каждый настаивал на своем.
Проходивший мимо языковед услышал их спор. «Дайте монету мне, – сказал он. – Я обязуюсь удовлетворить желания всех».
Взяв монету, языковед отправился в ближайший магазин и купил четыре небольшие грозди винограда. Затем он вернулся к мужчинам и дал каждому из них по грозди.
«Это мой ангур!» – вскрикнул перс.
«Но это то, что я называю изюмом», – ответил турок.
«Вы принесли мне мой инаб», – сказал араб.
«Нет! На моем языке это стафиль», – произнес грек.
Тогда мужчины поняли, что каждый из них желал одного и того же, только они не знали, как это выразить друг другу.
Четыре путешественника олицетворяют человечество в его поиске внутренней духовной потребности, которую оно не может определить и которую выражает по-разному. Языковед – это суфий, открывающий человечеству, что то, к чему оно стремится (его религии), хотя и называется разными именами, на самом деле является одним и тем же. Однако – и это самый важный аспект притчи – языковед может предложить путешественникам только виноград и не более того. Он не может предложить им вино, которое является сущностью плода. Другими словами, человеку не может быть предоставлена тайна конечной реальности, поскольку такое знание не может быть разделено, но должно быть испытано через трудное внутреннее путешествие к самоуничтожению. Как писал необыкновенный иранский поэт Саади из Шираза:
Я мечтатель, который нем, А люди глухи. Я не могу говорить, А они не могут услышать.Что такое суфизм? Это любовь Меджнуна к Лейле. Это, согласно суфийскому учителю Халки, «бесчисленные волны, плескающиеся и мгновенно отражающие солнце – все из того же моря». Это практика «достижения каждый раз более высокого уровня и оставления низшего», по словам «Патриарха суфизма» Ибн Джунайда (ум. 910). Суфий «не христианин, не еврей и не мусульманин», писал Руми. Он не принадлежит «какой-либо религии или культурной системе… не с Востока и не с Запада, не из океана и не из-под земли, не из земного и не из эфирного, вообще не состоящий из элементов… не объект этого мира или другого». Он, в описании Исхана Кайзера, «подлинный храм поклонников огня; жрец Волшебного; внутренняя природа брахманской медитации; кисть и цвет художника».
Пьяный без вина, сытый без пищи, король, скрывающийся под скромным плащом, сокровище в руинах, суфизм для ислама – это то же самое, что сердце для человека, – его жизненный центр, опора его существования. Это, по словам Меджнуна, «жемчужина, скрытая в раковине, лицо под завесой». Суфизм – это тайна, едва уловимая реальность, скрытая на самой глубине мусульманской веры, и, только добираясь до этих глубин, можно достигнуть какого-то понимания этой загадочной секты.
Одним весенним утром в X в. в Багдаде собравшиеся на безумном, но тщательно контролируемом рынке столицы были возбуждены появлением одетого в лохмотья человека по имени Хусейн ибн Мансур аль-Халладж – одного из ранних и самых известных суфийских учителей. Он ворвался на многолюдную площадь и выкрикнул что было силы: «Ана аль-Хак! Я – Истина!», тем самым имея в виду: «Я – Бог!»
Владельцы рынка были возмущены. Они немедленно арестовали аль-Халладжа и передали его на суд улемам. Улемы в Багдаде уже были знакомы с этим суфийским учителем. Хотя он родился зороастрийцем в семье жрецов (магов) на юге Ирана, он обратился в ислам и переехал в столицу Аббасидской империи Багдад в довольно молодом возрасте. Один из первых учеников легендарного суфийского пира Тустари (ум. 896), он превратился в зрелого харизматического проповедника, известного совершением чудесных деяний и своими возмутительными заявлениями. Прозванный учениками «Кормильцем», аль-Халладж впервые приобрел дурную славу, а также вызвал гнев представителей религиозной власти, заявив, что хадж – это внутреннее паломничество, которое человек с чистым сердцем может совершить где угодно. Затем он отказался признавать авторитет улемов, сосредоточив основную часть своих учений на Иисусе, которого считал «скрытым суфием». За подобные заявления он был осужден как фанатик и «тайный христианин», но именно его неприемлемое еретическое утверждение о достижении единства с Божественным сделало аль-Халладжа самым известным, хотя и не единственным, суфийским мучеником в истории.
Несмотря на предоставленные многочисленные возможности отречься от своих убеждений в течение восьми лет лишения свободы, аль-Халладж отказался ими воспользоваться. Наконец аббасидский халиф аль-Муктадир под давлением религиозных властей приговорил его к смертной казни. В качестве показательной демонстрации тяжести его ереси халиф подверг аль-Халладжа пыткам, избиениям, изуродованию и распятию; его труп был обезглавлен, тело расчленено, останки сожжены, а пепел рассеян в водах реки Тигр.
Какое послание хотел донести аль-Халладж? Действительно ли он утверждал, что был Богом? Если это так, то как мы можем примириться с суфизмом как с законной сектой такой строго монотеистической и ревностно иконоборческой религии, как ислам?
Многие выдающиеся суфии осуждали аль-Халладжа. Аль-Газали и другие мусульманские мистики критиковали аль-Халладжа не за его заявления о достижении уровня духовного объединения с Богом, в котором его сущность слилась с сущностью Божественного. Они возражали против того факта, что аль-Халладж публично раскрыл то, что должно быть секретом.
Посвятив свою жизнь стремлению совместить исламский мистицизм с исламской ортодоксией (он был, что невероятно, и суфием, и ашаритом-традиционалистом), аль-Газали считал, что такое эзотерическое знание должно раскрываться медленно и поэтапно. Подобно тому как ребенок не имеет настоящего знания о достижениях взрослого, а неграмотный взрослый не может понять достижения ученого, так и ученый, по мнению аль-Газали, не может понять «опыт просвещенных святых».
Преступление аль-Халладжа заключалось не в кощунственном характере его поразительных заявлений, а в том, что он неосмотрительно раскрывал их перед теми, кто не мог понять, что он имел в виду. Суфийское учение никогда не может быть раскрыто неподготовленным или духовно незрелым. Как утверждал аль-Худжвири (ум. 1075), очень просто непосвященным «неправильно понять намерение [суфия] и отвергнуть не его реальное значение, а представление, которое они сами для себя сформировали». Даже аль-Халладж признавал, что его опыт единства с Богом был достигнут после долгого пути внутренней рефлексии. «Твой Дух мало-помалу смешивался с моим Духом, – писал он о Боге в своем собрании стихотворений, – по очереди, через воссоединения и расставания. И теперь я – это Ты Сам. Твое существование – это мое существование и также это моя воля».
Чтобы понять, где остановился аль-Халладж в этом внутреннем путешествии, нужно вернуться к тому, откуда он начал, – на первую станцию его длинной и трудной тропы духовной саморефлексии, которую суфии называют тарикатом, что означает «путь». Тарикат – это мистическое путешествие, которое ведет суфия от внешних реалий религии к реальности – единственной реальности – Бога. Как и во всех путешествиях, путь конечен, хотя его следует представлять не как прямую дорогу, ведущую к установленному месту, а скорее как величественную гору, пик которой скрывает присутствие Бога. Конечно, есть много путей к вершине – некоторые из них лучше, чем другие. Но поскольку каждая тропа в конечном итоге приводит к одному и тому же месту, совершенно не важно, какую из них следует избрать. Единственное, что важно, – это быть на пути, постоянно двигаться к вершине – неторопливо, сдержанно и в то же время в высшей степени внимательно, усердно преодолевая определенные «обители и станции» вдоль пути, каждая из которых отмечена невыразимым опытом духовного роста, пока наконец не достигнешь конца путешествия. Это и есть момент просветления, когда исчезает завеса реальности, стирается эго и сама сущность человеческая полностью поглощается Богом.
Самая известная притча, описывающая суфийский путь и станции, которые ученик должен пройти на пути к самоуничтожению, была составлена иранским парфюмером и алхимиком XII в. Фаридом ад-Дином Аттаром (ум. 1230). В эпическом шедевре Аттара «Беседа птиц» повествуется о том, как птицы мира собрались вокруг удода (мифической птицы), который был выбран по жребию, чтобы направлять их в путешествии к Симургу – Королю птиц. Однако, прежде чем они смогут начать путешествие, птицы должны были сначала объявить о своем абсолютном послушании удоду, пообещав: «Что б ни скомандовал нам на пути, / За ним без сомнений мы будем идти».
Клятва необходима, как поясняет удод, поскольку путешествие предстоит опасное, исполненное физических и эмоциональных испытаний, и только он знает путь. Поэтому за ним нужно следовать, отринув вопросы, независимо от того, что он требует.
Чтобы добраться до Симурга, птицам придется пересечь семь коварных долин, каждая из которых представляет собой станцию на пути. Первая – Долина Поиска, в которой птицы должны «отказаться от мира» и раскаяться в своих грехах. Затем следует Долина Любви, где каждая птица погрузится в огромный огонь и пробудет там «до тех пор, пока не исчезнет сама ее сущность». Далее они попадут в Долину Тайны, где каждой птице предстоит выбрать свою тропу, поскольку «Так много дорог, но подходит лишь та, / Что будет тобою одним избрана». В Долине Отчуждения «все требования, всякая жажда смысла исчезает», а в Долине Единства многие сливаются в одно: «Единство разнообразия / Не единство, заключенное в единичности».
По достижении шестой долины, Долины Недоумения, птицы – утомленные и ошеломленные – пробиваются сквозь завесу традиционных двойственностей и внезапно сталкиваются с пустотой своего существа. «У меня больше нет несомненного знания», – рыдает каждая из них в полном смятении.
Я сомневаюсь в своем сомнении, само сомнение – неточно. Я люблю, но кто это, по ком я вздыхаю? Не мусульманин, но и не язычник; кто я?В конце пути птицы прибывают в Долину Небытия, в которой, лишенные своего эго, они «надевают плащ, который означает забвение», и поглощаются духом вселенной. Только тогда, когда все семь долин пройдены, когда птицы научились «разрушать гору своего Я» и могут «отказаться от разума для любви», им разрешено продолжить путь к трону Симурга.
Из тысяч птиц, которые начали путешествие с удодом, только тридцать прошли его до конца. С «сердцами, лишенными надежды, и потрепанными крыльями» эти тридцать птиц предстают перед Симургом. Однако, когда они наконец смотрят на него, они поражены, увидев не того короля птиц, которого они ожидали, а скорее самих себя. Симург – это персидское наименование «тридцати птиц»; и именно здесь, в конце пути, птицы сталкиваются с действительностью, правда которой заключается в том, что, хотя они «боролись, блуждали, преодолели большое путешествие», все, что они искали, – это «самих себя» и «себя таких, какие они есть». «Я зеркало, установленное перед вашими глазами, – говорит Симург. – Кто пред блеском моим предстанет, узрит / Природу свою, что личность хранит».
Аттар был суфийским учителем, разработавшим в своей поэзии и учениях концепцию «духовной алхимии». Душа в ней рассматривалась как преобразуемый основной металл, который должен быть избавлен от примесей, прежде чем будет восстановлен до первоначального, первозданного – скажем, золотого – состояния. Как и большинство суфиев, Аттар считал все души сосудами для послания Бога. В то же время он полагал, что существует различная степень восприимчивости у каждого человека в зависимости от того, на каком этапе пути он находится.
На первых этапах пути (где значительное большинство представителей человечества находят себя) нафс – сущность человека, его эго, его душа, его «я», хотя некоторые определяют это как «сумму личных эгоцентрических стремлений», – остается единственной реальностью. По мере того как ученик движется по пути, он встречает рух, или Вселенский Дух. Коран относится к руху как к «дыханию Бога», вошедшему в Адама, чтобы дать жизнь его телу (15:29). В этом смысле рух приравнивается к божественному, вечному, оживляющему духу, который пронизывает творение, – это и есть сама суть творения. Рух – это чистое бытие. Это то, что индуисты называют прана, а даосисты – ци; это эфирная сила, лежащая в основе вселенной, то, что имеют в виду христианские мистики, когда говорят о Святом Духе.
В традиционной суфийской доктрине рух, или дух Бога, заключен в состояние вечной битвы с нафсом, или с самим собой, за обладание сердцем, кальб, которое служит не вместилищем эмоций (эмоции согласно большинству мусульманских культур находятся в кишечнике), а скорее жизненным центром человеческого существования – «местом сущности, которая выходит за пределы личностной формы», по словам Тита Буркхардта. В более привычных выражениях понятие кальб равнозначно традиционному западному представлению о душе как движущей силе интеллекта.
Человек вступает на заключительные этапы пути, когда нафс начинает освобождать свою власть над кальб, тем самым позволяя руху, который присутствует во всем человечестве, но скрывается под завесой самости, поглотить кальб, как если бы он был капелькой росы, погруженной в огромное, бесконечное море. Когда это происходит, человек достигает состояния фана – экстатического, опьяняющего самоуничтожения. Это конечная остановка на суфийском пути. Именно здесь, в конце путешествия, когда человек лишен своего эго, он становится одним целым со Вселенским Духом и достигает единства с Божественным.
Хотя фактическое количество станций вдоль пути варьируется в зависимости от традиции (например, орден Аттара признал семь из них), суфии непреклонны в том, что шаги в этом направлении должны следовать один за другим. Как писал Руми: «Прежде чем вы сможете выпить пятую чашку, вы, должно быть, выпили первые четыре, каждая из которых восхитительна». Кроме того, каждая станция должна быть преодолена под строгим контролем пира; только тот, кто сам завершил путешествие, может вести других по этому пути. «Не путешествуйте по этим станциям без сопровождения истинного мастера, – предупреждал знаменитый суфийский поэт Хафиз. – Там тьма. Помните об опасности потеряться!»
Пир – это «возвышенный эликсир», тот, кто преобразует «медь сердец ищущих в чистое золото и очищает их существо», цитируя суфийского ученого Джавада Нурбахша. Подобно удоду, пир требует совершенного подчинения от своих учеников, которые присягнули ему на верность в виде байа, то есть клятвы верности, которую традиционно дают шейху или халифу. Однако пир обладает гораздо большим авторитетом, чем любой шейх или халиф, поскольку он «друг Бога». Пир – это не просто духовный проводник; он – «глаза, через которые Бог смотрит на мир». В большинстве суфийских поэтических строк пир упоминается как «космический полюс», или кутб, – ось, вокруг которой вращается духовная энергия вселенной. Эта концепция воплощена в жизнь знаменитым турецким суфийским орденом «Вращающихся дервишей», исполняющих духовный, вводящий в транс танец, в котором ученики имитируют движение космоса, вращаясь на месте иногда в течение нескольких часов за один сеанс, одновременно вращаясь и вокруг пира, который становится центром их построенной вселенной.
Завершившие путь суфийские пиры почитаются как святые. Годовщины их смерти – это святые дни (называемые урс, что в переводе с персидского означает «свадьба», потому что, умирая и покидая этот мир, пир наконец объединяется с Богом). Их могилы становятся местами паломничества, особенно для обедневших мусульман, для которых хадж неосуществим. У могил собираются приверженцы учения, вознося клятвы, прошения и призывы к заступничеству. Духовная сила пира – его барака – настолько велика, что одно лишь прикосновение к его гробнице может исцелить человека от болезни или бесплодную женщину от ее недуга. Как и в большинстве суфийских традиций, эти гробницы абсолютно равны между собой вне зависимости от пола, этнической принадлежности и даже веры покоящихся в них. В частности, на Индийском субконтиненте в равной степени и христиане, и сикхи, и индуисты, и мусульмане нередко собираются в мавзолеях суфийских святых.
Исключительной силой своего духовного дара пир собирает учеников, чтобы передать им эзотерическое знание, которое суфии называют эрфан. Подобно греческому термину гнозис, эрфан относится к повышенному уровню знания, на котором человек способен интуитивно понимать реальность. Тем не менее эрфан – это знание нерациональное по своей природе, которое не основано на силе разума и, по словам Шаха Анги, сорок второго пира ордена Увайсия, может быть достигнуто только «через самодисциплину и очищение, и в этом случае нет необходимости применять логический метод». Поскольку разум не может постичь божественную тайну, суфии считают, что истинное понимание природы вселенной и места человечества в ней может быть достигнуто только тогда, когда разум уступает место любви.
Из всех принципов, которые ученик-суфий должен включить в свою жизнь, ничего нет важнее любви. Любовь – это основа суфизма. Это язык, на котором лучше всего можно выразить суфизм, и единственный способ, с помощью которого можно понять его идеалы. Опыт любви представляет собой самую универсальную станцию на суфийском пути, потому что именно любовь, а не богословие и, конечно, не закон порождает знание Бога.
Согласно точке зрения суфиев, сама суть Бога – Его содержание – это любовь. Любовь – это фактор акта Творения. Суфизм не принимает концепцию сотворения ex nihilo[23], потому что прежде, чем что-либо появилось, была любовь – Бог, любящий Божественное Я в изначальном состоянии единства. Только когда Бог пожелал выразить эту любовь «другому», было создано человечество по образу Божественного. Таким образом, человечество – это созданное Богом проявление Его Самого; это Бог, воплощенный через любовь.
Когда суфии говорят о своей любви к Богу, они не имеют в виду традиционную христианскую концепцию агапе, или духовную любовь. Наоборот, это страстная, всепоглощающая, самоотверженная, бескорыстная любовь. Как и любовь Меджнуна к Лейле, суфийская любовь требует безоговорочного повиновения воле Возлюбленного, без оглядки на собственное благополучие. Это любовь до полного самоуничтожения; это действительно и есть ее цель. Любовь, по словам Аттара, это огонь, который уничтожает эго и очищает душу, а любовник – тот, кто «вспыхивает и сгорает…».
Чье лицо лихорадочно, кто в исступлении тоскует, Кто не знает благоразумия, кто с радостью отправит Сто миров к их сверкающему концу, Кто не знает ни веры, ни богохульства, У кого нет времени ни на сомнение, ни на уверенность, Кому и добро, и зло одинаковы, И кто не что иное, как живое пламя.Как и большинство мистиков, суфии стремятся исключить дихотомию между субъектом и объектом их поклонения. Их цель заключается в том, чтобы создать неразрывный союз между человеком и Божественным. В суфизме этот союз чаще всего выражается через самые яркие, наиболее откровенные сексуальные образы. Так, Хафиз писал о Боге: «Запах Твоих волос заполняет мою жизнь, а сладости Твоих губ нет равных».
Отдельные наиболее интересные примеры использования сексуальных образов в суфизме можно найти в трудах вышеупомянутой Рабии из Басры (717–801). Оставшись сиротой в раннем возрасте, Рабия стала рабыней и сексуальной собственностью своего учителя. Тем не менее на протяжении всей своей жизни она стремилась к тому, чтобы испытать мистический союз с Богом, порой проводя целые недели без сна, посвятив себя посту, молитве и размышлению о движении вселенной. Во время одной из таких ночей, которые она проводила в размышлении, ее мастер впервые заметил ослепительный нимб света, сверкающий над ее головой, освещающий весь дом. Испугавшись, он тут же освободил Рабию, позволив ей отправиться в пустыню, чтобы продолжить путь. Там, в пустыне, Рабия достигла состояния фана, или самоуничтожения, став первой, но не единственной суфийской женщиной-учителем. Женщиной, в присутствии которой почтенный ученый Хасан аль-Басра признался, что чувствует себя духовно несостоятельным.
Как и строки Терезы Авильской в христианской культуре, поэзия Рабии повествует о глубоком переживании встречи с Богом:
Ты мое дыхание, Моя надежда, Мой спутник, Мое страстное желание, Мое богатство. Без тебя – моя Жизнь, моя Любовь – Я бы никогда не бродила по этим бесконечным странам… Я везде ищу Твою любовь – Затем я внезапно наполняюсь ею. O Капитан моего сердца, Сияющее Око Жажды в моей груди, Я никогда не буду свободна от Тебя, Пока я жива. Будь доволен мной, Любовь, И буду довольна я.Это сильное стремление к Возлюбленному, столь характерное для стихов Рабии, выдает важный аспект суфийской концепции любви. Прежде всего это любовь, которая должна оставаться недосягаемой, как та, что Меджнун явил в пальмовой роще. Ведь подобно тому, как птицы Аттара осознали на своем пути к Симургу, что нельзя начинать путь, ожидая его завершения, лишь немногие достигнут конечной цели и обретут единство с Богом. По этой причине суфия часто сравнивают с невестой, которая сидит на своей брачной кровати, «на подушках которой разбросаны розы», страстно желая прихода жениха, хотя она знает, что он, возможно, никогда не придет. И все же невеста ждет; она будет ждать вечно, «умирая от любви», переживая за любимого, выкрикивая с каждым вздохом: «Приди ко мне! Приди ко мне!» – до тех пор, пока не перестанет существовать как отдельная личность и не превратится в ту, что любит своего Возлюбленного в совершенном единении. Как аль-Халладж писал о своем опыте единства с Божественным:
Я Тот, которого я люблю, и Тот, кого я люблю, – это я. Мы – два духа, обитающие в одном теле, Если ты видишь меня, ты видишь Его; И если ты видишь Его, ты видишь нас обоих.Если в таком случае совершенная любовь – это безответная любовь, которая ничего не ожидает взамен, тогда совершенный любовник и парадигма любви для суфиев – это Иблис, или сатана, который начал свое существование как ангел на «пути преданности служению Богу», но который был изгнан за отказ преклониться перед Адамом. Руми поясняет в своем труде «Апология Иблиса» (Apology of Iblis), что этот отказ повиноваться Богу «возник из любви к Богу, а не из-за непослушания». В конце концов, «всякая зависть возникает от любви, вследствие страха, что другой станет спутником Возлюбленного».
Несмотря на то что он был брошен в ад, чтобы больше не видеть лицо Бога, Иблис продолжает страстно желать своего Возлюбленного, который «качал» его «колыбель» и «находил молоко» для него «в младенчестве». Он будет всегда тосковать по Богу, крича из глубин ада: «Я зачат Им, зачат Им, зачат Им!»
Если такое несколько лестное представление о дьяволе шокирует большинство мусульман, важно помнить, что именно в этом и заключается суть. Как утверждал Аттар: «Любовь не знает ни веры, ни богохульства». Только сорвав завесу традиционных двойственностей, которые создали люди, чтобы упорядочить правила надлежащего морального и религиозного поведения, можно достичь состояния фана. Суфий не знает двойственности, только единство. Для него нет добра и зла, света и тьмы; есть только Бог. Это понятие не следует путать с индуистским принципом майя (иллюзией реальности) или буддийской доктриной суньята (пустотой всех вещей). Для суфиев реальность – это не пустота и не иллюзия; реальность – это Бог. «Куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха, – гласит Коран. – Поистине Аллах объемлющ, ведущий!» (2:115). И поскольку доктрина таухида настаивает, что Бог один, суфии утверждают, что реальность также должна быть одна.
Атом, солнце, галактики и вселенная, Конечно, не что иное, как имена, изображения и формы. В действительности все это одно, и только одно.В традиционной западной философии эта концепция радикального единства часто называется монизмом – понятие о том, что все вещи, несмотря на их разнообразие, могут быть сведены к одной «вещи» в пространстве, времени, сущности или качестве. Однако, возможно, более уместно обратиться к такому суфийскому идеалу радикального единения, как ахадийа, или «единство», чтобы подчеркнуть теистическое качество этого монистического идеала: аль-Ахад, «Единственный», – это первое и самое важное из девяноста девяти красивых имен Бога.
Именно этот теистический монизм заставляет суфиев отвергать традиционные двойственности не потому, что они избегают морально правильного поведения, а потому, что они принимают только «Существование Единства», под которым подразумевается Божественное Единство. По общему признанию эта концепция привела к большой путанице касательно истинных учений суфизма, особенно в свете действий так называемых пьяных суфиев, которые вопиюще нарушали исламское право, публично пили, играли в азартные игры и путались с женщинами для преодоления внешних аспектов религии. Однако тщетность существования традиционных двойственностей обычно демонстрируется посредством метафоры. Наиболее распространенная метафора для этого – пьянство и разврат, ставшие доминирующими символами в суфийской поэзии для такой самоуничтожающей и опьяняющей любви.
«Сегодня ночью я возьму сто бочек вина, – писал Омар Хайям в своем превосходном “Рубайате”. – Я оставлю весь разум и религию позади и заберу непорочность вина». Вино Хайяма – это духовное вино, оно представляет собой «благодать Господа мира», а суфий – это тот, кто отверг традиционные идеалы религиозного благочестия и нравственного поведения, кто бежал от «разума и запутанной паутины интеллекта», чтобы наполнить чашу своего сердца опьяняющим вином Божьей любви. Как говорит Хафиз: «Благочестие и нравственная доброта не имеют никакого отношения к экстазу; окрась вином свой молитвенный коврик!»
Как только завеса традиционных двойственностей отринута, эго уничтожено, а духу (рух) позволено поглотить кальб, ученик наконец достигает состояния фана, которое, как уже отмечалось, лучше всего перевести как «экстатическое самоуничтожение». Именно здесь, в конце пути, раскрывается истина Божественного Единства всего сотворенного, и суфий понимает, что, говоря словами Шаха Анги, «ручей, река, капля, море, пузырь – все в один голос говорят: Мы – вода, вода».
Отвергая собственные качества и атрибуты посредством радикального акта самоуничтожения, суфий полностью «входит» в качества и атрибуты Бога. Он не становится Богом, как зачастую неправильно понимают фана суннитские и шиитские мусульмане; скорее суфий утопает в Боге, так что Творец и творение становятся едиными. Эта концепция Божественного единства наиболее ярко выражена мистиком и ученым Ибн аль-Араби (1165–1240), который переформулировал традиционное мусульманское свидетельство о вере (шахада) из «Нет божества, кроме Аллаха» в «Нет Бытия другого, чем Бытие Аллаха; нет другой Действительности, кроме Действительности Аллаха».
Согласно постулатам школы мысли Ибн аль-Араби, оказавшей столь значительное влияние на развитие суфизма, что всю эту главу можно было бы посвятить только ей, человечество и космос, как две отдельные, но тесно связанные конструкции Вселенского Духа, подобны двум зеркалам, отражающим друг друга. Используя тавиль, Ибн аль-Араби переосмыслил утверждение Корана о том, что Бог создал человечество «из одной души» (4:1), чтобы обозначить саму вселенную как «единую сущность». Для аль-Араби люди – это «краткое изложение великой космической книги», и те немногие, которые «полностью осознали [их] неотъемлемое единство с Божественной Сущностью», цитируя Рейнольда Николсона, превращаются в то, что аль-Араби обозначает термином «Совершенный человек» (также используется выражение «Универсальный человек»).
Совершенный человек – это тот, для которого индивидуальность – это просто внешняя форма, но чья внутренняя природа соответствует самой вселенной. Он – «копия Бога», по словам лучшего ученика аль-Араби Абдула Карима аль-Джили, он – зеркало, в котором прекрасно отражаются божественные атрибуты, среда, через которую проявляется Бог.
Хотя суфизм признает всех пророков и посланников, а также имамов и пиров представителями Совершенного человека, для суфиев образец этого уникального существа не кто иной, как сам Мухаммад. Все мусульмане ориентируются на пример Пророка (подражание Мухаммаду – Imitatio Muhammadi, если угодно), чтобы встать на прямой путь к Богу. Но для суфиев Мухаммад – это больше чем просто «хороший пример», как то называет Коран (33:21). Мухаммад – изначальный свет, первое из творений Бога.
Понятие «свет Мухаммада» (нур Мухаммад) раскрывает глубокое влияние гностицизма на суфизм. Проще говоря, суфии понимают Мухаммада так же, как многие христианские гностики понимали Иисуса, – как вечный логос[24]. Таким образом, к Мухаммаду, как и Иисусу, можно отнести слова Евангелия от Иоанна – «свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5); или, цитируя Евангелие от Фомы, он «свет, который прежде всего».
Тем не менее неверно понимать природу Мухаммада как «созданную Богом плоть». «Аллах – свет небес и земли», – утверждает Коран (24:35), что означает, что «свет Мухаммада» на самом деле не что иное, как отражение света Бога. Действительно, суфизм часто выражает связь между Богом и Мухаммадом в терминах отношений между Солнцем и Луной, поскольку последняя просто отражает свет первого. Солнце выражает силу; оно – источник созидательного начала. Луна выражает красоту; она ответно восприимчива силе Солнца. Таким образом, согласно словам Инайят Хана, «тот, кто передает [Божье] Послание, передает знание Божье, а не свое… Равно [как] свет Луны не является ее светом». Именно это уникальное представление о Мухаммаде побудило суфиев обращаться к Пророку не только как Расул Аллах, но и как Зикр Аллах – «поминание Аллаха», хотя термин зикр имеет много значений в суфизме.
Как и следовало ожидать, за свои убеждения суфии зачастую подвергались ожесточенным преследованиям со стороны религиозных властей, которые были глубоко обеспокоены проповедуемыми идеалами, направленными против установившейся системы права и властного аппарата. Суфии редко были желанными гостями в мечетях, поэтому им пришлось развивать собственные ритуалы и практики, которые помогли бы разрушить разделение между человеком и Божественным. В результате зикр как физический акт поминания Бога стал центральной ритуальной традицией для всех суфиев, хотя фактическая форма и функция зикра сильно варьируются в зависимости от ордена.
Наиболее распространенная форма зикра – это «голосовой зикр», ставший широко известным благодаря ритуалам ордена Кадирия, который распространен прежде всего в Сирии, Турции, Средней Азии и некоторых частях Африки. Кадириты, образовавшие, вероятно, первый официально признанный тарикат в суфизме, в системе своих практик сосредоточиваются на ритмических и повторяющихся призывах шахады или какой-либо другой религиозной фразы. Часто сопровождаемые энергичными дыхательными упражнениями и быстрыми движениями головы и туловища (ученики обычно сидят в кругу), эти призывы произносятся все быстрее и быстрее, пока фраза не превратится в бессмысленные односложные выдохи, которые, естественно, напоминают арабское слово «ху!» или «Он», то есть Бог. Повторяя призывы к Богу через этот физический акт поминания, ученик постепенно лишает себя своего эго, чтобы облачиться в атрибуты Бога. Таким образом кадириты утверждают: «Поминание становится запомненным».
Наряду с «голосовым зикром» в традициях ордена Кадирия существует так называемый молчаливый зикр, популяризированный орденом Накшбандия (Накшбандийа). Определяемый как самый традиционный суфийский орден, Накшбандия преимущественно состоял из политически активных пиетистов, которые вели свое происхождение от Абу Бакра и строго придерживались шариата. Клеймо традиционалистов в суфизме заставило последователей Накшбандия отказаться от музыки и танцев в пользу более спокойных ритуальных действий, таких как молчаливый зикр, во время которого имена Бога повторяются про себя в акте медитации, а не вслух в акте общения.
Молчаливый зикр не соответствует в точности медитативным ритуалам, которые существуют, например, в буддистской школе Тхеравада. Тем не менее Накшбандия, а также некоторые другие созерцательные суфийские ордена практикуют то, что называется фикр, который Ян Ричард Неттон справедливо переводит как «созерцание, приводящее к уверенности в божественности». В любом случае, как и кадириты, последователи Накшбандия движимы только одной целью в своем следовании либо зикру, либо фикру – объединением с Богом.
Не все зикры подразумевают декламацию, будь то звуковую или молчаливую. Фактически наиболее широко признанная форма зикра – это духовный танец турецкого ордена Мевлеви, основанного Руми и широко известного как «Вращающиеся дервиши». Некоторые суфии прибегают к искусству каллиграфии как форме зикра, тогда как на Кавказе, где суфизм вобрал в себя многие шаманские обычаи древних индоевропейцев, практика зикра обычно фокусируется не столько на декламации или медитации, сколько на физической боли как средстве введения ученика в состояние экстаза. Например, орден Рифайа в Македонии известен своими публичными актами самобичевания, во время совершения которых ученики пронзают себя шипами, пребывая в состоянии подобном трансу. В некоторых частях Марокко живут суфии, практикующие зикр через серьезные испытания силы и выносливости, призванные отделить их от ложной реальности материального мира.
Существует еще одна популярная форма зикров, исполняемая в основном орденом Чиштия, который распространен преимущественно на Индийском субконтиненте. Чиштия специализируется на использовании музыки в своих духовных практиках. Их «поминание Бога» выражается через восторженные духовные концерты, называемые сама, которые Брюс Лоуренс описывает как «динамичный диалог между любовником-человеком и Божественным Возлюбленным».
Конечно, музыкальные и танцевальные ритуалы, которые, как правило, не одобрялись в традиционной исламской практике поклонения, имеют долгую историю развития на Индийском субконтиненте, и одной из причин быстрого распространения суфизма в этом регионе стала та легкость, с которой он воспринимал местные традиции церемонии поклонения. На самом деле первые проповедники Чиштия часто входили в города, играя на флейтах и барабанах и тем самым собирая вокруг себя толпу, чтобы рассказывать ей о своих пирах. Поэтому «сама» – это не только средство, с помощью которого Чиштия познает сверхчувственный мир, но и важный инструмент проповедования. В том, что «сама» действует и как политическое собрание, нет ничего необычного. Действительно, в отличие от большинства суфийских орденов, которые склонны к политическому квиетизму, суфизм в Индии всегда был переплетен с социальными и политическими интригами государства, особенно во время правления императоров Великих Моголов (1526–1858), когда в обмен на обеспечение духовного процветания и моральной легитимности империи ряд суфиев пользовался огромным влиянием на правительство.
Возможно, самым влиятельным из этих «политических суфиев» был писатель и философ XVIII в. Шах Валиуллах Дехлеви (ум. 1762). Преданный ученик традиционалистского ордена Накшбандия, Валиуллах стремился в своих книгах и выступлениях очистить суфизм от «стороннего» влияния (например, неоплатонизма, персидского мистицизма, индуистского ведантизма), чтобы восстановить его в первоначальной, чистой, как он считал, форме исламского мистицизма, неразрывно связанной с традиционалистской суннитской ортодоксией. Однако Валиуллах был гораздо больше заинтересован в восстановлении фундаментальных исламских ценностей в социальной и экономической сферах государства, чем просто в очищении суфизма. В результате его теополитическая идеология, хотя и трактовалась весьма широко и по-разному, оказала глубокое влияние на последующие поколения мусульманских теологов и философов.
С одной стороны, наследие Валиуллаха с акцентом на возрождение исламских наук и его просветительские социально-экономические теории оказали влияние на исламских модернистов, таких как Саид Ахмад-хан, чье движение в Алигархе – некое интеллектуальное общество, деятельность которого была посвящена не только созданию европейской образовательной системы в Индии, но и поощрению мусульманского сотрудничества с британскими колонизаторами, которые только начинали играть более активную роль в политических делах субконтинента.
С другой стороны, внимание Валиуллаха к ортодоксии спровоцировало появление ряда «пуританских» движений в Индии. самое известное из них – Школа Деобанди. Ее ученики – по-арабски талибы – противодействовали британской оккупации в Индии, а этнические пуштуны из числа воспитанников этой Школы в конечном итоге установили контроль над Афганистаном[25], чтобы навязать государству свою радикально ортодоксальную теополитическую философию (но эта история – для другой главы).
При рассмотрении трагических последствий колониального опыта в Индии становится очевидно, какие грани теополитических взглядов Шаха Валиуллаха наиболее успешно овладели воображением угнетенного индийского мусульманского населения. Как мы увидим, на всех колонизированных землях Ближнего Востока и Северной Африки голос модернизма и объединения с идеалами Просвещения европейских колонизаторов последовательно заглушался гораздо более громким и агрессивным голосом традиционализма и сопротивления невыносимому игу империализма. Таким образом, новое поколение индийских мусульман, родившихся в стране, полностью экономически зависящей от Британской империи, больше не разделяло популярных суфийских настроений: «Если мир не согласен с вами, согласитесь с миром». Вместо этого они предпочли последовать за призывом поэта и философа Мухаммада Икбала (1877–1938), ученика ордена Кадирия и приверженца учения Валиуллаха, восстать против такого мира.
9. Пробуждение на Востоке
Ответ колониализму
Из донесения Фредерика Купера, заместителя правительственного комиссара в округе Амритсар, в министерство иностранных дел в Лондоне о судьбе восставших сипаев (бенгальских солдат) в Лахоре, Индия. 1 августа, 1857 г.
30 июля около четырехсот сипаев 26-го бенгальского туземного пехотного полка сбежали из концентрационного лагеря в Мьянмире[26], куда они были заключены по приказу Короны после разоружения, чтобы не допустить их возможного присоединения к повстанцам-магометанам в Дели. Ослабленных и изморенных голодом сипаев быстро догнали на берегах реки Рави, где около ста пятидесяти из них были расстреляны, сброшены в реку и утоплены. Оставшиеся в живых плыли по реке, ухватившись за обломки деревьев, пока не достигли противоположного берега, на котором собрались вместе, словно выводок диких птиц, пребывая в ожидании скорого пленения. Если бы они попытались бежать, началась бы кровавая борьба. Но Провидение распорядилось иначе. Действительно все естественные, искусственные и случайные силы объединились, чтобы решить их судьбу.
Солнце сияло золотистым великолепием; и, как обреченные, взявшись за руки, мужчины спускались к берегу навстречу нам, их фигуры отбрасывали длинные тени на мерцающую гладь воды. В полном отчаянии сорок или пятьдесят человек кинулись в речной поток; и рядовые туземной кавалерии [индийские солдаты], готовые палить по головам пловцов, получили приказ не стрелять. Мятежники были в высшей степени покорны. Очевидно, ими овладела внезапная и безумная мысль, что они будут отданы под трибунал. Вследствие этого они подчинились и затем содержались как рабы в трюмах.
К полуночи, когда прекрасная луна показалась из-за облаков и отразилась в бесчисленных заводях и речных потоках, мы собрали 282 бенгальских мятежника. Утром прибыла группа сикхов с большим запасом веревок. Но деревьев было крайне мало, и мы не стали их использовать. Гораздо более значимая проблема заключалась в том, как быть с преданными нам солдатами из числа мусульман, которые, несомненно, не остались бы в стороне, поскольку правосудие совершалось в отношении их мятежных единоверцев. На наше счастье, на 1 августа выпало празднование большого магометанского фестиваля Курбан-байрам. Таким образом, это стало значимым оправданием нашего решения позволить магометанским всадникам вернуться домой, чтобы отметить этот праздник, в то время как мы, христиане, не смущенные их присутствием, при помощи верных сикхов смогли бы совершить церемониальную жертву другого рода в отношении их собратьев.
Осталась одна последняя проблема, которая имела санитарный характер. Но опять же по удачному стечению обстоятельств на расстоянии в сотню ярдов от полицейского участка мы обнаружили глубокий пересохший колодец, что обеспечило удобное решение проблемы по избавлению от бесславных солдат.
С первыми лучами солнца заключенных построили в группы по десять человек. Полагая, что их подвергнут суду, а их необоснованные жалобы будут услышаны, сипаи были необычайно послушны. Но когда в утреннем воздухе зазвучали выстрелы, они мгновенно поняли, какая ужасная судьба их на самом деле ждет, и преисполнились изумлением и яростью.
Казнь продолжалась без перерыва до тех пор, пока один из наших людей не упал в обморок (он был самым старым из расстрельной команды), и тогда была разрешена небольшая передышка. После того как мы застрелили около 237 магометан, начальнику округа сообщили, что оставшиеся пленники отказываются выходить из бастиона, где они временно содержались под стражей до исполнения казни. Были предприняты меры по предотвращению их побега, потому что мы ожидали сопротивление. Бастион был окружен, двери открыты, и вот! Сорок пять тел солдат, умерших от страха, истощения, усталости, жары и удушья, были вытащены на свет. Эти мертвые вместе со своими казненными товарищами были выброшены деревенскими уборщиками в колодец. Так, в течение сорока восьми часов после побега весь 26-й полк был пойман и уничтожен.
Тем, кто любит читать знамения, мы укажем на одинокий золотой крест, по-прежнему мерцающий на вершине христианской церкви в Дели, цельный и нетронутый, хотя шар, на котором он покоится, изрешечен пулями, преднамеренно выпущенными неверными мятежниками города. Крест символически победоносно возвышается над разбитым земным шаром! Так мудрость и героизм наших английских солдат просто гаснут перед явным и чудесным вмешательством Всемогущего Бога в дело христианства!
Существовало несколько причин, почему англичане назвали произошедшее «сипайским мятежом». Теперь эти события известны как индийское восстание 1857 г. Предыстория ясна. Под эгидой Ост-Индской компании, которая обладала абсолютной монополией на индийском рынке, Британская империя действовала как успешный правитель Индии с середины XVIII в., хотя прямой контроль над страной был установлен только в 1857 г., после того как последний император Великих Моголов Бахадур Шах II был насильственно свергнут. К тому времени англичане без особых усилий навязали свою волю растерянному населению и могли беспрепятственно грабить богатейшие ресурсы субконтинента.
Чтобы поддерживать развитие промышленности Европы, колонизированные земли были брошены в водоворот модернизации. Европейские идеалы секуляризма, плюрализма, личностных свобод, прав человека и в меньшей степени демократии – прекрасное наследие эпохи Просвещения, на развитие и закрепление которого в общественной жизни Европы потребовались сотни лет, – насильственно насаждались в колониях без каких-либо попыток представить их коренному населению так, чтобы эти идеалы были восприняты или поняты. Западные технологии внедрялись только в той мере, в какой это привело бы к увеличению объемов производства. На месте старых городов возводились новые. Дешевые импортные товары уничтожили большинство местных отраслей, и рынки были сосредоточены практически исключительно на экономических потребностях колониальных держав.
В обмен на разграбление земель, подавление независимости и уничтожение местных экономик колонизированные народы вознаграждались званием «цивилизация». Действительно, в каждом регионе, на который претендовали европейцы, колонизаторский проект был представлен под маской «цивилизационной миссии». Как заявил Сесиль Родс, основатель алмазной компании De Beers и в свое время фактический диктатор Южной Африки: «Мы, британцы, лучшая нация в мире, и чем большую часть мира мы заселим, тем лучше будет для человечества».
Среди многих проблем, связанных с этой так называемой цивилизационной миссией, следует выделить то, что за благими намерениями, какими они могли бы быть, часто умышленно скрывалась «христианизация», главная цель которой заключалась, по словам сэра Чарльза Тревельяна, губернатора Мадраса, «исключительно в обращении туземцев в христианство». В Индии христианские евангелисты были назначены на высшие должности в правительстве, а также они занимали позиции на всех уровнях британской армии. Чарльз Грант, директор Ост-Индской компании (который до 1858 г. удерживал почти всю власть в правительстве на Индийском субконтиненте), сам был активным христианским миссионером, который наряду с большинством своих соотечественников считал, что Британии было даровано Богом господство над Индией, чтобы вывести ее из языческой тьмы к свету Христа. Почти половина всех школ на субконтиненте управлялась миссионерами, такими как Грант, которые получали огромные суммы от Британской империи для достижения цели по обращению местных жителей в христианство.
Не все колонизаторы были согласны с миссионерской программой Британии. Лорд Элленборо, генераль-губернатор с 1842 по 1844 г., беспрестанно предупреждал своих соотечественников, что имперское продвижение христианского евангелизма не только наносит ущерб безопасности империи, но также приведет к народному недовольству, а возможно, и к открытому восстанию. Но даже Элленборо согласился бы с утверждением Тревельяна о том, что индийская религия «отождествлялась с таким количеством безнравственных поступков и физических нелепостей, что она [сразу бы уступила] свету европейской науки».
Британское убеждение в том, что древний враг христианского мира отчаянно нуждался в цивилизации, создало чувство неполноценности и страха среди мусульман Индии, многие из которых считали, что их вера и культура подвергаются нападениям. Таким образом, насильственный захват туземных княжеств, лишение землевладельцев прав, пренебрежение тяжелым положением индийского крестьянства и жесткая политика по наращиванию доходов хищнической Ост-Индской компании привели к возникновению очага массового пожара негодования в Индии. Последней спичкой, которая распалила этот костер восстания, стало именно то, что Бенджамин Дизраэли назвал «союзом миссионерского предприятия с политической властью правительства».
Дело в том, что солдаты, которые начали индийское восстание в 1857 г., не только были возмущены колонизаторской политикой, которая привела к разграблению природных ресурсов на их земле, они также были убеждены, и весьма справедливо, что британская армия пыталась насильственно обратить их самих и их семьи в христианство. Достаточно было того, что их командир открыто проповедовал Евангелие, но, когда они узнали, что их патроны были смазаны говяжьим и свиным жиром, что оскорбляло как индусов, так и мусульман, их величайшие опасения подтвердились. В едином акте гражданского неповиновения небольшая группа солдат отказалась использовать патроны. Британские командующие в ответ приказали заковать их в цепи и запереть в военных тюрьмах. Расценив это как еще одно указание на колониальное мышление британцев, остальная часть бенгальской армии – около 150 000 солдат – восстала.
Солдаты быстро взяли под свой контроль Дели и вернули свергнутого императора Великих Моголов Бахадур Шаха как своего лидера. Восьмидесятилетний император опубликовал письменное обращение к жителям страны, призвав и индуистское, и мусульманское население помочь ему «освободить и защитить бедных беспомощных людей, которые сейчас стонут» под колониальным господством. Обращение достигло всех уголков Индии, и вскоре волна недовольства, начавшаяся как военный мятеж среди сипаев, переросла в совместное индуистско-мусульманское восстание гражданского населения.
Британцы отреагировали безудержно и беспощадно. Чтобы подавить восстание, они были вынуждены, отчасти против желания, направить на мятежников всю свою колониальную мощь. По всей стране прошли массовые аресты; демонстрантов, независимо от возраста, избивали на улицах. Большинство крупных городов были разорены. В Аллахабаде британские солдаты без разбора убивали всех на своем пути, оставляя мертвые тела гнить грудами на улицах. Лакхнау был разграблен, Дели практически стерт с лица земли. Около пятисот сипаев 14-го туземного пехотного полка были убиты в Джеламе. В Бенаресе тела сочувствующих повстанцам из числа гражданского населения были подвешены на деревьях. Целые деревни были разграблены, а затем сожжены дотла. Потребовалось менее двух лет резни и грабежа, чтобы восстановить полный контроль над колонией. Когда мятеж был подавлен, а Ост-Индская компания упразднена, администрация субконтинента стала напрямую подчиняться королеве, которая теперь могла с гордостью заявить, что «солнце не заходит над Британской империей никогда».
Насилие, которое сопровождало процесс восстановления колониального контроля в Индии, навсегда разрушило любые иллюзии о британском моральном превосходстве. Для большинства мусульман цивилизационная миссия Европы на Ближнем Востоке открылась в ее истинном обличии: идеология политического и экономического господства, достигнутая посредством жестокой военной мощи. Идеи Просвещения, которые англичане неустанно проповедовали, уже были неотделимы от репрессивной империалистической политики. Проще говоря, Индия стала образцом колонизаторского эксперимента, который потерпел поражение.
Несмотря на это, многие мусульманские интеллектуалы были по-прежнему убеждены, что принятие таких европейских ценностей, как верховенство закона и стремление к научному прогрессу, – это единственное средство преодоления стремительного упадка мусульманской цивилизации перед лицом европейского империализма. Эта группа стала известна как модернисты, и, возможно, никакой другой мыслитель не представит их реформистскую позицию лучше, чем сэр Саид Ахмад-хан.
Рожденный в знатной семье, Саид Ахмад-хан был преданным последователем вышеупомянутого индийского неомистика Шаха Валиуллаха, хотя к середине XIX в. он начал дистанцироваться от пуританских подтекстов идеологии, которая уже воодушевила несколько антииндуистских и антисикхских восстаний в Индии. Во время индийского восстания сэр Саид работал управляющим в Ост-Индской компании и был свидетелем ужаснейшей мести, которую британские силы обрушили на мятежное население Дели. Хотя эти события не подорвали в нем лояльность к Британской империи (что неудивительно, учитывая его рыцарское звание), он тем не менее глубоко страдал, видя тяжелое положение индийских мусульман после краха восстания. В частности, сэр Саид был очень обеспокоен тем, что британские власти описывали это восстание как «давно состряпанный магометанский заговор против британской власти», цитируя Александра Даффа, ведущего миссионера Британии в Индии. Распространение таких убеждений привело к тому, что мусульманское сообщество стало главной целью правительственных репрессий.
Для борьбы с этим неправильным восприятием сэр Саид опубликовал свою самую известную работу «Причины индийского восстания», в которой он стремился объяснить британской аудитории причины событий 1857 г. По его мнению, это было непреднамеренное восстание. Это был спонтанный результат сочетания социальных и экономических недовольств. Тем не менее сэр Саид признавал, что в основе индийского восстания лежало широко распространенное мнение о том, что англичане стремились обратить население в христианство и вынуждали людей принять европейский образ жизни. По словам сэра Саида, это, безусловно, нелепое представление. Несмотря на значительное число доказательств, он отказался принять идею о том, что целью королевы в Индии было обращение населения в другую веру. Однако сэр Саид отмечал, что одного восприятия колониального проекта как христианской войны против индийских религий было достаточно, чтобы поднять массы на восстание.
Будучи благочестивым индийским мусульманином и преданным британским подданным, сэр Саид взял на себя задачу создания моста между этими двумя цивилизациями, чтобы объяснить культуру, веру и ценности одной и другой. Проблему он видел в том, что индийцы не понимали, каково истинное положение правительства, а ее решение – в объяснении целей и идеалов англичан коренному населению на понятном ему языке.
В 1877 г. Саид Ахмад-хан основал школу в Алигархе, основной целью которой стало восстановление славы ислама с помощью системы современного европейского образования. Сэр Саид был убежден, что, если он сможет зажечь свет европейского рационализма и научной мысли через традиционные мусульманские убеждения и обычаи, результатом станет коренное исламское Просвещение, которое введет мусульманский мир в XX в. В школе в Алигархе воспитанников призывали сбросить оковы учения улемов и их слепого подражания (таклид) постулатам исламской доктрины, поскольку ни одна из проблем, стоящих перед мусульманами в современном мире, не может быть решена устаревшими богословскими правилами. Единственная надежда на возрождение ислама связывалась с модернизацией шариата; а единственный способ добиться этого – вывести его из рук некомпетентных и неуместных в новой системе улемов. По утверждению сэра Саида истинная религия ислама не имеет ничего общего с религией, которую создали проповедники.
Кашмирский протеже сэра Саида Чирак Али (1844–1895) в краткой форме изложил аргументы своего наставника о правовой реформе. Чирак Али был возмущен тем, что европейцы изображали ислам как жесткий и неподдающийся изменениям и считал, что представление о том, что его законы и обычаи основаны на наборе конкретных предписаний, которые нельзя ни дополнить, ни вычеркнуть, ни преобразовать в соответствии с изменившимися обстоятельствами, – это вымысел, созданный улемами для поддержания контроля над мусульманами. Чирак Али утверждал, что шариат нельзя считать гражданским кодексом права, поскольку единственный закон в исламе – это Коран, который не рассматривает политические вопросы и не устанавливает конкретные правила поведения. Коран учит догматам религии и некоторым общим правилам морали, но не более. По этой причине было бы абсурдно рассматривать исламское право, которое Чирак Али считал продуктом воображения улемов, как нечто необратимое и неизменное.
Как можно себе представить, улемы были возмущены этими обвинениями в некомпетентности и неуместности и использовали свое влияние на население, чтобы яростно бороться с модернистским видением новой исламской идентичности. Конечно, не способствовал миссии модернистов и тот факт, что после индийского восстания становилось все труднее отделить идеалы европейского просвещения от его империалистических коннотаций. Но именно модернистское требование того, чтобы шариат был полностью отделен от гражданской сферы, вызвало наибольшую озабоченность улемов.
Абул Ала Маудуди противостоял системе Алигарха, утверждая, что, ислам, не разделяя религиозное и гражданское, требует, чтобы люди определяли свою жизнь в соответствии с законом Божьим. По иронии судьбы, хотя сам Маудуди был пылким антинационалистом, его идеи повлияли на формирование идеологической основы при создании первого в мире исламского государства – Пакистана. Тем не менее для того, чтобы понять, какой путь в своем развитии проделала мусульманская община Индии менее чем за сто лет, от катастрофических последствий индийского восстания до создания независимой государственности, требуется краткий обзор положения дел в Египте.
Египет в начале XIX в., по словам Уильяма Уэлча, стал «основной спицей в имперском колесе» Британской империи. В отличие от Индии, где англичане осуществляли неоспоримый и нескрываемый контроль над каждым уровнем гражданского управления, Египту было разрешено поддерживать видимость независимости через наследственное правление малоспособных и неавторитетных наместников султана, или хедивов. Оставаясь вассалами Османской империи, они в то же время подчинялись Британской империи. Хедивы не могли принимать какие-либо политические или экономические решения в Египте без согласия своих колониальных господ. В обмен на кажущийся неисчерпаемым поток кредитов, предоставленный Лондоном, были изменены полномочия наместника султана. Теперь это был хедив, правление которого отличалось бесчинством в экономической сфере и полным равнодушием в политической.
Между тем Египет был наводнен иностранными рабочими, богатыми инвесторами и представителями английского среднего класса, которые стремились реализовывать свои притязания в стране с незначительными бюрократическими препятствиями и неограниченными возможностями для продвижения. Для обеспечения притока европейцев в Египет на окраине Каира были возведены целые города, которые располагались вдали от мест проживания коренного населения. Иностранцы быстро взяли в свои руки основной экспорт хлопка из Египта. Они построили порты, железные дороги и плотины, чтобы закрепить колониальный контроль над экономикой страны. С реализацией строительства Суэцкого канала – венца британских достижений – судьба Египта как самой ценной колонии Великобритании была окончательно решена.
Для того чтобы покрыть расходы на эти масштабные проекты, были увеличены налоги, хотя они уже были достаточно высокими для среднестатистического каирца, не говоря уже о стремительно растущем крестьянском классе, представители которого, феллахи, были вынуждены перебираться в города в связи с разрушением местных отраслей производства. Что еще хуже, хедивы, повинуясь оказываемому давлению, должны были идти на необоснованные уступки иностранным элитам, в том числе освобождение от всех налогов, за исключением тех, которые взимались с имущества, и полный иммунитет от судебного разбирательства в египетских судах.
Естественно, такое несправедливое положение дел в Египте привело к широко распространенным антиколониальным настроениям и спорадическим восстаниям, что было использовано британцами в качестве дополнительного предлога для ужесточения контроля над населением. Результатом стало то, что правительство попало в ошеломляющие долги перед европейскими кредиторами, а лишенное гражданских прав население было ввергнуто в отчаянный поиск общей идентичности, которая объединила бы их против колониальной угрозы. К середине века общество в Египте созрело для восприятия модернистских идей, которые ранее сформировались в Индии. Эти идеи будут принесены на египетскую землю Джамалуддином аль-Афгани (1838–1897), известным как «Пробудитель Востока».
Несмотря на свое имя, аль-Афгани на самом деле не был афганцем. Как отмечала блестящий переводчик его сочинений на английский язык Никки Кедди, аль-Афгани родился и вырос в Иране, где получил традиционное шиитское образование в области исламоведения. Почему он решил поочередно принимать образ то мусульманина-суннита из Афганистана, то турка из Стамбула – сказать трудно. В свете существования известного пуританского движения Шаха Валиуллаха, которое достигло всех уголков мусульманского мира, аль-Афгани, возможно, счел целесообразным скрывать свою шиитскую идентичность, чтобы более широко распространять свои реформистские идеи.
В возрасте семнадцати лет аль-Афгани покинул Иран и отправился в Индию, чтобы дополнить свое религиозное образование знаниями о так называемых западных науках. Шел 1856 г. Почти две трети субконтинента находилось под прямым контролем Британской империи. Экономическая политика Ост-Индской компании и различных ее представительств позволила Британии прибрать к рукам большую часть собственности, принадлежащей государству. Региональные правители были насильственно свергнуты, а крестьянство лишилось скудных доходов. По всей стране назревало восстание.
Поначалу аль-Афгани казался безразличным к важным событиям, происходившим вокруг него. Как отмечает его ранний биограф Салим аль-Анхури, он был слишком увлечен своими академическими исследованиями, чтобы заботиться о тяжелом положении индийского населения. Но в следующем году, когда народные недовольства переросли в открытый мятеж, аль-Афгани внезапно последовал призыву к действию. Молодой человек был потрясен не только насилием, с которым англичане насаждали свою власть, но и лицемерием, которое они проявляли, проповедуя столь возвышенные ценности Просвещения, но в то же время жестоко подавляя стремления Индии к освобождению и обретению национального суверенитета. То, что он увидел на субконтиненте, породило в его сердце ненависть к англичанам и искреннюю преданность делу освобождения мусульманского мира от ига европейского колониализма, который он считал самой серьезной угрозой исламу.
Тем не менее аль-Афгани редко говорил об исламе в религиозных терминах. Возможно, самым большим его вкладом в исламскую политическую мысль стало настойчивое убеждение в том, что ислам, оторванный от своих чисто религиозных координат, может быть использован как социально-политическая идеология для объединения всего мусульманского мира в борьбе против империализма. Ислам был для аль-Афгани гораздо большим, чем закон и богословие; это была цивилизация. Действительно, это была высшая цивилизация, потому что, как он утверждал, интеллектуальные основы, на которых строился Запад, фактически были заимствованы из ислама. Такие идеи, как социальный эгалитаризм, народный суверенитет, стремление к знаниям и их сохранение, вели свое начало не от христианской Европы, а от уммы. Именно революционное сообщество Мухаммада ввело понятие народного одобрения правящего правительства, в то же время растворив все этнические границы между людьми и предоставив женщинам и детям беспрецедентные права и привилегии.
Аль-Афгани соглашался с Саидом Ахмад-ханом в том, что улемы несут ответственность за упадок исламской цивилизации. Самонадеянно взяв на себя роль хранителей ислама, улемы настолько зажали в тиски независимое мышление и научный прогресс, что, даже когда Европа пробудилась к эпохе Просвещения, мусульманский мир все еще барахтался в Средних веках. Наложив запрет на здравые дискуссии о границах закона и значении священного писания, улемы, которых аль-Афгани сравнивал с узеньким фитильком, на кончике которого горит малюсенькое пламя, не освещающее ничего вокруг и не дающее света другим, стали восприниматься как враги ислама.
Аль-Афгани не принадлежал к школе в Алигархе и считал Саида Ахмад-хана орудием колониальных держав за его преданное слепое подражание европейским идеалам. Аль-Афгани был убежден, что единственным преимуществом Европы над исламской цивилизацией были ее технологические достижения и экономическое мастерство. Оба эти атрибута должны развиваться и в мусульманском мире, если ислам стремится восстановить свою прежнюю славу. Но единственный способ добиться устойчивых социальных, политических и экономических реформ в регионе – это объединить их с вечными исламскими ценностями, которые лежат в основе существования мусульманской общины. По мнению аль-Афгани, слепое подражание Европе, к чему мусульман призывает Ахмад-хан, – пустая трата времени.
Политическая идеология аль-Афгани, давшая ростки, была усилена во время его пребывания на посту члена Совета по образованию в Османской империи. Там аль-Афгани вступил в контакт с группой турецких реформаторов, получивших название «новые османы». Под руководством нескольких писателей и ученых, самым известным из которых был блестящий поэт и драматург Намык Кемаль (1840–1888), новые османы разработали реформистскую программу, основанную на слиянии западных демократических идеалов с традиционными исламскими принципами. Результатом стал сверхнационалистический проект, обычно называемый панисламизмом, главной целью которого было провозглашено содействие единству мусульман сквозь культурные, религиозные и национальные границы под знаменем единого централизованного (и, очевидно, турецкого) халифата – другими словами, возрождение уммы.
Аль-Афгани с энтузиазмом воспринял философию новых османов, особенно их призыв к возрождению объединенной мусульманской общины, включавшей шиитов и суфиев в качестве равноправных членов, для борьбы с европейским империализмом. В 1871 г., движимый своей новообретенной верой в перспективы панисламизма, аль-Афгани отправился в Каир – бывший тогда, как и сейчас, культурной столицей мусульманского мира – под прикрытием преподавания философии, логики и теологии, но на самом деле для того, чтобы внедрить свое видение модернистской программы в политический ландшафт Египта. Именно в Каире он подружился с молодым студентом по имени Мухаммад Абдо (1845–1950), который станет самым влиятельным египетским голосом мусульманских реформ.
Родившийся в маленькой деревушке в дельте Нила, Абдо был чрезвычайно набожным мальчиком, который в возрасте двенадцати лет уже знал наизусть весь Коран. Будучи молодым учеником суфийского ордена Шазилия, он настолько преуспел в исламоведении, что его отправили в университет аль-Азхар в Каире для продолжения обучения. Но, несмотря на свое набожное и неуемное мышление, Абдо тотчас столкнулся с жесткой системой преподавания и традиционалистскими взглядами улемов аль-Азхара. В то же время он был поражен тем, настолько высокие европейские принципы противоречат колониальной политике.
Разочаровавшись в религиозных и политических лидерах, Абдо стал страстным учеником аль-Афгани и под его руководством опубликовал ряд книг и трактатов, в которых выступал за возвращение к чистым ценностям саляфов («праведных предшественников»), которые основали первую мусульманскую общину в Медине. Назвав себя «неомутазилитом», Абдо призывал к тому, чтобы вновь открыть врата иджтихада, или независимого рассуждения. Он утверждал, что единственный путь к расширению прав и возможностей мусульман – освобождение ислама от железной хватки улемов и их традиционалистской интерпретации шариата. Как и сэр Саид, Абдо выступал с требованием, чтобы каждый искусственный источник права – сунна, иджма, кийас и им подобные – был подвергнут рациональному осмыслению. Даже священный Коран должен быть вновь открыт для толкований, вопросов и обсуждений со стороны всех слоев мусульманского общества. Мусульмане не нуждаются в руководстве улемов, чтобы открыть для себя священное откровение, утверждал Абдо; они должны быть свободны, чтобы познать Коран самостоятельно.
Хотя Абдо не считал, что ислам должен отделять свои религиозные идеалы от светской сферы, он категорически отвергал возможность передачи светской власти в руки религиозных священнослужителей, которых он считал абсолютно неспособными привести мусульманскую общину в новое столетие. Вместо этого нужно было переосмыслить традиционные исламские идеалы, представив современные демократические принципы так, чтобы среднестатистический мусульманин мог легко их принять. Таким образом, Абдо придал новое значение понятиям: шура, или «племенное совещание», определив его как представительную демократию; иджма, или «согласие», как народный суверенитет; и байа, или «присяга на верность», как всеобщее избирательное право. Согласно этой точке зрения, умма была нацией, а ее правителем был халиф, единственная функция которого заключалась в защите членов общины на службе делу укрепления общего благоденствия.
Вместе аль-Афгани и Мухаммад Абдо основали движение Салафийа (Салафия), которое можно считать египетской версией модернистского проекта. После смерти аль-Афгани Абдо объединил усилия со своим близким другом и биографом Рашидом Рида (1865–1935), чтобы продвигать реформистскую программу Салафийи на передовую египетской политики. Тем не менее, несмотря на растущую популярность во всем регионе, идеал панисламизма, который был ядром реформистского проекта Абдо, оставался чрезвычайно сложным для реализации.
Проблема панисламизма заключалась в том, что духовное и интеллектуальное разнообразие, которое с самого начала характеризовало мусульманскую веру, сделало перспективы достижения религиозной солидарности между всеми сектами в исламе весьма маловероятными. Это особенно справедливо в свете набирающего силу исламского пуританского движения, которое стремилось лишить религию культурных нововведений. Более того, крупные и влиятельные группы светских националистов на Ближнем Востоке считают, что религиозная идеология салафитского движения несовместима с тем, что они считают основными целями модернизации: политическая независимость, экономическое процветание и военная мощь. Как ни странно, многие из этих светских националистов были вдохновлены моделью исламского либерализма, предложенной аль-Афгани. Фактически самый влиятельный националист Египта Саад Заглул (1859–1927) начинал свой профессиональный путь как ученик Мухаммада Абдо.
Хотя Заглул и его сторонники-националисты принимали видение салафитами ислама как цивилизации, они отвергали аргумент о том, что империализм может быть побежден посредством религиозной солидарности. Они утверждали, что стоит только посмотреть на мелочные склоки улемов, чтобы признать тщетность панисламистского проекта. Националисты скорее стремились бороться с европейским колониализмом через светское противодействие, которое бы заменило салафитские устремления к религиозному единству более прагматичной целью расового единства, – другими словами, они предлагали концепцию панарабизма.
С практической точки зрения панарабизм казался более осуществимым, чем панисламизм. Как сказал один из его ведущих сторонников Сати аль-Хусри (1880–1968), религия – это то, что касается человека и Бога, в то время как отечество – это то, что касается всех без исключения. Тем не менее панарабисты считали свое движение и политическим, и религиозным, поскольку, по их мнению, ислам не мог быть отделен от своих арабских корней. хотя панарабисты соглашались с панисламистами в том, что мусульмане должны вернуться к ценностям первого сообщества в Медине, они определяли это сообщество как исключительно арабское. Националисты утверждали, что мусульманское единство не может быть достигнуто иначе кроме как через арабское единство, а панарабизм рассматривался ими как шаг, который должен предшествовать панисламизму.
Конечно, панарабистам трудно было определить, что именно они подразумевают под арабским единством. Несмотря на их заявления о расовой солидарности, просто не существует такого понятия, как единая арабская этничность. Египетские арабы практически не имели ничего общего, скажем, с иракскими арабами. Они даже говорили на разных диалектах. В любом случае, несмотря на идею об арабских корнях уммы, не стоит забывать, что в начале ХХ в. арабы составляли самую малую часть мусульманского населения в мире – всего 20 %. В связи с этим некоторые националисты стремились установить связь с древними культурами своих стран. Например, египетские националисты обратились к надуманному наследию фараонов, в то время как иракские стремились связать себя с месопотамским прошлым.
Арабские националисты получили неожиданный импульс по окончании Первой мировой войны, когда в результате усилий Кемаля Ататюрка рухнула Османская империя. Халифат, который, несмотря на истощенные силы, символизировал духовное единство уммы в течение почти пятнадцати веков, внезапно был заменен радикально светской, ультранационалистической Турецкой Республикой. Империя была разбита победителями войны, в частности Великобританией, на отдельные полуавтономные государства. В Египте Британия воспользовалась возможностью разорвать все связи с турками, просто объявив себя единственным защитником страны. Хедив был провозглашен царем Египта, хотя по-прежнему оставался марионеткой колонизаторов.
После того как халифат развалился, а Египет попал под британскую оккупацию, панисламизм был отброшен как нежизнеспособная идеология, не подходящая для мусульманского объединения. Хотя панарабизм оставался главным голосом оппозиции, выступавшей против колониализма, нельзя было рассчитывать, что он сможет распространиться за пределы национальных границ. Мусульманам пришлось идентифицировать себя как граждан наций, а не членов общины. Поскольку влияние панисламизма ослабело, а панарабизм стал политически бессилен, дело возрождения не только египетских чаяний о свободе, но и стремлений мусульман на всем Ближнем Востоке к освобождению от цепей колониализма и западного империализма было передано новому поколению мусульман во главе с молодым социалистом Хасаном аль-Банной[27] (1906–1949).
Хасан аль-Банна приехал в Каир в 1923 году. Попав под сильное влияние мистических учений аль-Газали, присоединился к суфийскому ордену Хасафийа в юном возрасте, чтобы посвятить свою жизнь сохранению и обновлению традиций веры и культуры. Позже, будучи студентом университета, аль-Банна прочитал работы аль-Афгани и Мухаммада Абдо и пришел к выводу, что спад мусульманской цивилизации стал результатом не только внешнего влияния, но и недостаточной приверженности египтян истинным принципам ислама, которые проповедовал Мухаммад в Медине.
В Каире аль-Банна был поражен охватившими город развратом и безудержным секуляризмом. Традиционные исламские идеалы эгалитаризма и социальной справедливости были сметены необузданной жадностью политических и религиозных элит страны, большинство представителей которых охотно вступали в сговор с британскими колонизаторами в обмен на богатство и статус. Иностранцы контролировали все нити правления и поддерживали монополию в экономике Египта. В Каире фактически воцарился режим апартеида, где небольшие группы чрезвычайно богатых европейцев и европеизированных египтян управляли миллионами обедневших крестьян, которые трудились на своих землях и заботились о своем имуществе.
Аль-Банна обратился к улемам в египетском университете аль-Азхар, но обнаружил, что их усилия были такими же безрезультатными и неуместными, какими их и представляли модернисты. Тем не менее он был убежден, что модернисты ошибались, пытаясь принять социальные принципы, на которых была основана западная цивилизация. Аль-Банна также отвергал националистическую идеологию панарабизма, считая национализм главной причиной только что закончившейся смертоносной мировой войны. В конце концов аль-Банна пришел к выводу, что единственный путь к независимости и установлению самоуправления мусульман – это примирение современной жизни с исламскими ценностями, процесс, который он называл исламизацией.
В 1928 г. аль-Банна представил свое видение исламизации, будучи учителем в небольшой деревне Исмаилия, недалеко от Суэцкого канала. Если канал был венцом достижений колониальной системы в Египте, то Исмаилия представляла собой глубины, в которые арабы погрузились под гнетом этой системы. Это был регион, изобилующий иностранными солдатами и гражданскими рабочими, которые жили в роскошных зданиях, возвышавшихся над убогими и жалкими постройками местных жителей по соседству. Уличные знаки были на английском языке, кафе и рестораны обособлены, а в общественных местах были установлены метки, предупреждающие: «Арабам запрещено».
Беззаконие и унижение, с которыми сталкивались жители региона, приносившего такое колоссальное богатство Британской империи, привели в ярость аль-Банну. Он начал проповедовать идею исламизации в парках и ресторанах, в кафе и домах. Молодые и обездоленные, все те, кто чувствовал себя преданными слабым правительством и бездеятельными религиозными лидерами, стекались к аль-Банне. В конце концов то, что начиналось как неформальная народная организация, деятельность которой была посвящена изменению жизни людей через установление социального благополучия, превратилось в первое в мире исламское социалистическое движение.
Влияние созданного аль-Банной общества «Братьев-мусульман»[28] на исламский мир было огромным. Проект по исламизации быстро распространился на Сирию, Иорданию, Алжир, Тунис, Палестину, Судан, Иран и Йемен. Исламский социализм более открыто, чем панисламизм или панарабизм, выражал мусульманские обиды. Такие вопросы, как рост христианской миссионерской деятельности на Ближнем Востоке, возвышение сионизма в Палестине, нищета и политическая несостоятельность мусульманских народов, а также богатство и автократия арабских монархий были общими темами проповедей.
Движение аль-Банны явилось первой современной попыткой представить ислам как всеобъемлющую религиозную, политическую, социальную, экономическую и культурную систему. Ислам, по мнению аль-Банны, представлял собой универсальную идеологию, превосходящую все другие системы социальной организации, известные миру. По существу, он требовал строго исламского правительства, которое было бы способно должным образом реагировать на запросы населения. Тем не менее аль-Банна не считал, что его долг – навязать эту идеологию египетской политической системе. «Братья-мусульмане» в то время были социалистической организацией, а не политической партией. Преданный своему суфийскому воспитанию аль-Банна был убежден в том, что государство может быть реформировано только путем преобразований самого себя изнутри.
В 1949 г. по приказу египетского хедива и, несомненно, с одобрения колониального руководства аль-Банна был убит, но созданное им общество к 1950-м гг. стало главным голосом оппозиции в Египте и насчитывало почти полмиллиона членов.
23 июля 1952 г. группа недовольных военачальников, которые называли себя «Движение свободных офицеров», осуществила государственный переворот против слабой монархии Египта и в одностороннем порядке объявила страну свободной от колониального контроля. Переворот был спровоцирован начальником вооруженных сил генералом Мохаммедом Нагибом. Но все в Египте знали, что реальной силой, стоящей за восстанием, была правая рука Нагиба, полковник Гамаль Абдель Насер.
Изначально «Братья-мусульмане» поддерживали «Свободных офицеров», прежде всего потому, что Насер обещал реализовать свою социалистическую программу в постреволюционном Египте. Насер в благодарность за их поддержку совершил паломничество к гробнице аль-Банны и даже предложил «Братьям-мусульманам» войти в новый парламент, хотя они отказались, чтобы не запятнать аполитичные принципы аль-Банны.
По мере того как Насер постепенно воплощал на практике свою националистическую программу, принципы его правления стали идти вразрез с тем, что проповедовали «Братья-мусульмане». В январе 1953 г. в рамках плана Насера по усилению своего контроля над правительством все партии и политические организации были объявлены вне закона, за исключением «Братьев-мусульман», поддержка которых все еще была важна для поддержания его популярности в народе. В следующем году, однако, после того как во время произнесения речи в Александрии в Насера несколько раз выстрелили, он возложил вину на «Братьев-мусульман» за попытку покушения на его жизнь и объявил вне закона; члены общества были схвачены и заключены в тюрьму, а его лидеры подвержены пыткам и казнены.
Многие члены «Братьев-мусульман» пришли к выводу, что социалистическое видение концепции изменения сердец для изменения общества должно быть отброшено, то есть проект аль-Банны по исламизации не получится реализовать посредством актов, направленных на повышение социального благосостояния. Реалии постколониального Египта, по их мнению, требовали нового видения ислама и его роли в современном мире.
Поэт, писатель, журналист, критик и общественный деятель Сейид Кутб известен как отец исламского радикализма. Родившийся в Верхнем Египте, он, как и аль-Банна, перебрался в Каир во время бурных 1920-х гг. После непродолжительного периода работы в министерстве просвещения Кутб отправился в 1948 г. в Соединенные Штаты Америки для изучения опыта организации системы образования. Кутб был напуган быстрым распространением западной культурной гегемонии в развивающихся странах Ближнего Востока и Северной Африки, феноменом, который иранский общественный деятель Джалал Але-Ахмад, современник Кутба, назвал Гарб задеги, или «Отравление Западом (вестоксикация)».
По возвращении в Каир в 1950 г. Кутб присоединился к «Братьям-мусульманам», возглавив отдел пропаганды. После революции 1952 г. Насер предложил Кутбу войти в правительство, но тот отказался, предпочтя продолжить общественную деятельность. После покушения на жизнь Насера Кутб стал одним из тех членов «Братьев-мусульман», кто был арестован и брошен в тюрьму.
Кутб шокировал мусульман утверждением о том, что они все еще живут в состоянии Джахилийи – «Периода невежества», предшествовавшего возникновению ислама, – то есть остановившиеся в своем развитии и развращенные люди присвоили один из величайших атрибутов Бога, а именно суверенитет. Кутб соглашался с аль-Банной в том, что проблему неравенства в обществе можно решить только путем утверждения превосходства ислама как целостной социальной, политической и экономической системы. Однако в отличие от аль-Банны Кутб предполагал, что этот процесс по своей природе будет катастрофическим и революционным и может быть вызван только созданием исламского государства.
По мнению Кутба, исламское государство не нуждается в правителе, по крайней мере не в форме централизованной исполнительной власти, такой как президент или король. Единственным правителем был Бог; единственным законом – шариат. Радикальный взгляд Кутба на политический ислам коренным образом изменил ландшафт Ближнего Востока, породив новую идеологию, названную исламизмом.
Исламизм – националистическую идеологию, которая призывает к созданию исламского государства, в котором общественно-политический порядок будет основан исключительно на правилах морали ислама, – не следует путать с панисламизмом, сверхнационалистической теорией единства мусульман под властью одного халифа. Исламисты утверждали, что ислам – это всеобъемлющая идеология, которая управляет всеми аспектами жизни верующего. По мнению Кутба, для создания жизнеспособного и морально ответственного исламского государства было необходимо включить шариат в общественную сферу, отвергнуть западные светские ценности в мусульманском мире и свергнуть все светские правительства, в том числе и те, которыми управляют арабы, как Насер.
В 1965 г., через год после своего освобождения из тюрьмы, Кутб был вновь арестован, обвинен в государственной измене и повешен. Тем временем радикальные члены «Братьев-мусульман», которые сумели укрыться от Насера, нашли убежище в единственном месте, где их охотно встретили. Им стала Саудовская Аравия – страна, находившаяся на пороге экономического взрыва, который должен был превратить группу ее племенных лидеров в самых богатых людей в мире – поразительное достижение для королевства, основанного на неформальном союзе ничем особо не выдающегося племенного шейха и едва грамотного религиозного фанатика.
В начале XVIII в., примерно в то время, когда Европа обратила свое внимание на богатейшие природные ресурсы Средиземноморья, священная земля, которая подарила жизнь исламу и взрастила его на заре становления, попала под номинальный протекторат Османской империи, хотя халиф разрешил шерифу Мекки – потомку Пророка и наследнику Бану Хашим – осуществлять власть над арабским населением. Однако ни османское влияние, ни контроль шерифа почти не распространялись за пределы Западной Аравии, Хиджаза. На пространстве огромных, неприступных пустынь Восточной Аравии – региона под названием Неджд, чей суровый и бесплодный ландшафт соответствовал его застойному религиозному и культурному развитию, – проживали многочисленные самоуправляющиеся племена. Среди них был небольшой клан, возглавляемый амбициозным шейхом по имени Мухаммад ибн Сауд (ум. 1765).
Будучи, без сомнения, богатым человеком, ибн Сауд владел большинством обрабатываемых земель в крошечном оазисном городке Эд-Диръия, который был основан его семьей. Статус шейха дал ему исключительный контроль над городскими колодцами и основными торговыми путями. Хотя он держал небольшую сеть караванов, его финансы были сильно ограничены. Тем не менее ибн Сауд был человеком гордым и хвастливым, верным последователем своих древних арабских предков и яростным ревнителем своей семьи и клана. Поэтому, когда странствующий проповедник по имени Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб (1703–1766) прибыл в его оазис в поисках защиты, он воспользовался предоставившейся возможностью создать союз, который увеличит как его экономическое процветание, так и военную мощь.
Родившись в пустынях Неджда в благочестивой мусульманской семье, Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб проявил свое религиозное рвение еще в молодом возрасте. Признав его талант к изучению Корана, отец отправил юношу в Медину для продолжения обучения в рядах воспитанников Шаха Валиуллаха, который только недавно начал свою кампанию против индийского суфизма. Пуританская идеология Валиуллаха оказала сильное влияние на Абд аль-Ваххаба. Но только после того как он покинул Медину, отправившись в Басру, и познал богатое разнообразие шиизма и суфизма во всех местных проявлениях, его гнев в отношении того, что он считал фальсификацией ислама, превратился в фанатичную одержимость. Он считал, что необходимо очистить ислам от нововведений и восстановить первоначальную арабскую чистоту. По возвращении на Аравийский полуостров он отправился в жестокий крестовый поход, чтобы продвигать идеи своей радикальной пуританской секты ислама, широко известной как ваххабизм (последователи предпочитают термин «Мувахиддун», что означает «унитарианцы»).
По правде говоря, доктрина ваххабитов – это не более чем чрезмерно упрощенная концепция таухида. Когда ваххабиты заявляют: «Нет божества, кроме Аллаха» – это означает, что Бог должен быть единственным объектом религиозной преданности; любой акт поклонения, в котором участвует любая другая сущность, согласно их идеологии определяется как ширк. Для Абд аль-Ваххаба ширк – это почитание пиров, посредничество имамов, уклонение от празднования большинства религиозных праздников и совершения религиозных актов, посвященных пророку Мухаммаду. Ваххабиты добивались объявления вне закона таких ритуалов, как суфийский зикр, шиитский матам или любой другой обычай, который проник в ислам, поскольку был распространен за пределами племенных границ Аравийского полуострова, чтобы стать неотъемлемой частью различных культур Ближнего Востока, Центральной Азии, Европы, Индии и Африки. В этих случаях Абд аль-Ваххаб призывал к строгому выполнению шариата, свободного от иностранного влияния и любых толкований. Как и аль-Афгани, Мухаммад Абдо и панисламисты, Саад Заглул, Сати аль-Хусри и панарабисты, Хасан аль-Банна, исламские социалисты, а также Сейид Кутб, Абул Ала Маудуди и радикальные исламисты, Абд аль-Ваххаб желал возвращения к мусульманской общине, созданной Мухаммадом в Аравии, имея при этом архаичный взгляд на устройство этого настоящего первого сообщества.
Как указывает Хамид Альгар, если бы не чрезвычайные обстоятельства, при которых возник ваххабизм, он, несомненно, «вошел бы в историю как маргинальное и недолговечное сектантское движение». Мало того что это движение оказало незначительное влияние на духовное и интеллектуальное развитие ислама, основанное главным образом на спиритизме и интеллектуализме, оно даже не считалось большинством мусульман-суннитов истинной ортодоксией. Тем не менее ваххабизм получил статус самого значительного сектантского движения в исламе. Это стало возможным из-за того, что ваххабизм зародился на священной земле Аравийского полуострова, где мог претендовать на мощное наследие религиозного возрождения, а во главе движения стоял покровитель, который видел в простых идеях ваххабизма средство беспрецедентного контроля над всем Аравийским полуостровом. Им был Мухаммад ибн Сауд.
Факты о союзе между Ибн Саудом и Абд аль-Ваххабом уступили место легенде. Двое мужчин впервые встретились, когда ученики Абд аль-Ваххаба рассеялись по Аравийскому полуострову, разрушая гробницы, вырубая священные деревья и убивая любого мусульманина, который не принимал их бескомпромиссно пуританское видение ислама. Когда они были изгнаны из оазиса, где получили приют (пребывавшие в ужасе жители потребовали, чтобы Абд аль-Ваххаб покинул оазис после того, как он публично забросал камнями женщину до смерти), они направились к городку Эд-Диръия и его шейху Мухаммаду ибн Сауду, который был невероятно счастлив предоставить Абд аль-Ваххабу и его воинам свою безусловную защиту. «Этот оазис ваш, – пообещал Ибн Сауд. – Не бойтесь своих врагов». Абд аль-Ваххаб в своем ответе предъявил необычное требование – совершить джихад против неверующих (неваххабитских мусульман). Тогда Ибн Сауд стал бы лидером мусульманской общины, а Абд аль-Ваххаб – лидером по религиозным вопросам.
Ибн Сауд принял это требование, и был сформирован альянс, который изменил не только ход исламской истории, но и геополитический баланс в мире. воины Абд аль-Ваххаба ворвались в Хиджаз, завоевав Мекку, Медину и изгнав шерифа. Закрепив свои позиции в святых городах, они приступили к уничтожению гробниц Пророка и его Сподвижников, в том числе тех мест для паломничества, которые связывались с местом рождения Мухаммада и его семьи. Они разграбили сокровищницу мечети Пророка в Медине и сожгли все книги, какие только смогли найти, за исключением Корана. Они запретили в священных городах исполнять и слушать музыку, а также возлагать цветы и объявили вне закона курение табака и распитие кофе. Под страхом смерти они заставили мужчин отрастить бороды, а женщин – покрыть лицо и принять уединенный образ жизни.
Ваххабиты намеренно связали свое движение с первыми экстремистами в мусульманском мире, хариджитами, и, как и их фанатичные предшественники, обратили свой гнев на то, что считали недостатками мусульманской общины. Когда Аравия уже полностью находилась под их контролем, они двинулись на север, чтобы распространить свое послание на «неверных» из числа суфиев и шиитов. В 1802 г., в священный день Ашура, они атаковали стены Кербелы и учинили резню, в результате которой погибли две тысячи шиитов, по случаю праздника совершавших ритуалы Мухаррама. Одержимые бесконтрольной яростью, они разгромили гробницы Али, Хусейна и имамов, в частности с особой жестокостью выплеснув свой гнев на могилу дочери Пророка Фатимы. Когда Кербела была разорена, ваххабиты повернули на север в направлении Месопотамии и к сердцу Османской империи. Только тогда они обратили на себя внимание халифа.
В 1818 году египетский хедив Мухаммад Али (1769–1849) по приказу османского халифа отправил на полуостров многочисленную армию, которая с легкостью разгромила плохо оснащенных и плохо обученных ваххабитов. Мекка и Медина вернулись под власть шерифа, а ваххабиты были насильно отправлены обратно в Неджд. После ухода египетских войск с Аравийского полуострова Саудиты извлекли ценный урок: они не могли справиться с Османской империей собственными силами. Им нужен был гораздо более сильный союз, чем тот, который у них был с ваххабитами.
Возможность сформировать именно такой альянс предоставил Англо-саудовский договор в 1915 г. Британцы, которые стремились контролировать Персидский залив, поощряли Саудитов к тому, чтобы вернуть себе власть над Аравийским полуостровом. Для содействия организации восстания британцы регулярно поставляли оружие и деньги. Под командованием наследника Ибн Сауда Абдул-Азиза (1880–1953) план сработал. В конце Первой мировой войны, когда Османская империя пала, а халифат был упразднен, Ибн Сауд отвоевал Мекку и Медину и снова сместил шерифа. После публичной казни сорока тысяч человек и восстановления ваххабитских порядков в обществе Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд основал Королевство Саудовская Аравия. Первобытное племя Неджда и их пуританские союзники стали Хранителями Святилища и Хранителями ключей.
Почти сразу же священная земля, где Мухаммад получил дар откровения, чудесным образом преподнесла другой подарок Бога – нефть, что предоставило крошечному саудовскому клану внезапное господство над мировой экономикой. Теперь они чувствовали себя в ответе за это благословение Бога и считали себя обязанными распространить пуританское учение на весь мир и лишить мусульманскую веру раз и навсегда религиозного и этнического разнообразия.
В то время когда «Братья-мусульмане» прибыли в Королевство Саудовская Аравия, оно оставалось единственной мусульманской страной, в которой улемы не потеряли своей власти над обществом. Саудовская Аравия представляла собой абсолютно тоталитарное и бескомпромиссное ваххабитское государство. Здесь не было споров между модернистами и традиционалистами; дебаты не велись. Национализм, панарабизм, панисламизм, исламский социализм – ни одно из этих влиятельных движений не имело значительного голоса в Королевстве. Единственной дозволенной доктриной была доктрина ваххабизма; единственной идеологией – исламское пуританство. Любые отклонения от этой линии насильственно подавлялись.
Неудивительно, что саудовская монархия рассматривала светский национализм Насера как прямую угрозу их образу жизни. Как человек, который бросил вызов Западу, национализировав Суэцкий канал, Насер достиг почти мифического статуса не только в мусульманском мире, но и в большинстве стран третьего мира. На Ближнем Востоке Насер воплощал собой последний вздох панарабизма. Его арабское социалистическое видение, хотя и потерпевшее неудачу в Египте, расценивалось многими мусульманами как единственная альтернатива распространению вестоксикации. Настолько велика была его харизма и настолько успешным подавление оппозиции, что к 1960-м гг. его авторитет был неоспоримым на всех уровнях египетского общества.
Надеясь ограничить растущее влияние Насера в мусульманском мире, саудовская монархия развязала руки радикальным представителям «Братьев-мусульман» – не только тем, кто был изгнан из Египта, но и выходцам из других светских арабских государств, таких как Сирия и Ирак. Саудиты предоставляли им денежные средства, поддержку и обеспечивали безопасность. Но в Саудовской Аравии «Братья-мусульмане» обрели не только убежище. Они открыли для себя ваххабизм, и были в этом не одиноки. Сотни тысяч бедных рабочих со всего мусульманского мира начали стекаться в Саудовскую Аравию для работы на нефтяных месторождениях. Ко времени возвращения в свои дома они находились под сильным влиянием принципов саудовской религиозности.
Религиозная приверженность саудовской модели стала предпосылкой для получения государственных субсидий и контрактов. Саудиты выплачивали огромные суммы различным мусульманским благотворительным организациям, фондам, которые они создали, мечетям, университетам и начальным школам, которые они построили, – все, что они делали, было неразрывно связано с ваххабизмом. В 1962 г. их миссионерские усилия достигли пика в связи с созданием Всемирной исламской лиги, главной целью которой было распространение идеологии ваххабитов на весь мир. Это, по сути, было новым видом исламской экспансии, за тем исключением, что теперь племенным воинам не нужно было покидать Аравийский полуостров, чтобы завоевать своих соседей; соседи сами пришли к ним. К большому разочарованию большинства мусульман, которые считали Саудитов не более чем невежественной группой простодушных пуритан, они как Хранители ключей контролировали процесс хаджа. Миллиарды долларов расходовались на модернизацию и улучшение паломнических торжеств, чтобы обеспечить максимальное участие верующих в этом событии. Ныне почти три миллиона мусульман ежегодно наводняют голую долину Мекки.
С момента создания Всемирной исламской лиги принципы ваххабизма проникли во все уголки мусульманского мира. Вследствие саудовского проповедничества ваххабитская доктрина значительным образом повлияла на религиозно-политическую идеологию многих движений, в настоящее время признанных террористическими. Саудовская Аравия стала покровителем нового типа панисламизма, основанного на строгой, бескомпромиссной и экстремистской идеологии «исламского фундаментализма».
Бесспорно, фундаментализм по определению является реакционным движением; следовательно, он не может быть длительное время привязан к власти. Королевство Саудовская Аравия открыло для себя это с самого начала, когда внезапно разбогатевший Абдул-Азиз ибн Сауд начал использовать свое новообретенное состояние, чтобы обеспечить себе жизнь, достойную короля. Вскоре Саудовскую Аравию наводнили современные технологии, закупленные на Западе. Сложный процесс выкачивания нефти в пустыне требовал присутствия сотен иностранных граждан, в основном британцев и американцев, которые принесли в Аравию незнакомую, но заманчивую культуру материализма. Абдул-Азиз был настолько близким партнером Британской империи, что даже был посвящен королевой в рыцари. Проще говоря, король поддался вестоксикации и в результате отвернулся от ваххабитских воинов – теперь называемых ихванами, или «братьями», – которые и привели его к власти.
В 1929 году ихваны, возмущенные жадностью и коррумпированностью саудовского суда, подняли восстание в городе Аль-Салба. Они требовали, чтобы король отрекся от своего материализма и изгнал иноземных неверных со святой земли. В ответ Абдул-Азиз отправил правительственную армию в этот город и уничтожил мятежников.
Когда в 1979 г. Советский Союз ввел войска в Афганистан, саудовский режим увидел возможность избавиться, хоть и временно, от ваххабитских воинов, которых он взращивал почти столетие. Благодаря экономической и военной поддержке со стороны Соединенных Штатов и тактической подготовке, которую обеспечила Пакистанская межведомственная разведка, Саудиты начали поставлять бесперебойный поток радикальных исламских боевиков (известных как моджахеды, или «те, кто совершает джихад») из Саудовской Аравии через Ближний Восток в Афганистан. Цель, как сказал советник президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский, заключалась в том, чтобы «устроить для СССР его собственный Вьетнам»[29], затянув советскую армию на чужой территории в болото войны, в которой невозможно выиграть. Соединенные Штаты считали, что моджахеды – это важные союзники в большой игре, разыгрываемой против Советского Союза, и фактически называли этих боевиков «борцами за свободу». Президент Рональд Рейган даже сравнивал их с отцами-основателями США.
Никто в то время всерьез не думал, что этот сброд вояк действительно сможет победить Советский Союз. Моджахеды же отринули свои националистические (читай – исламистские) устремления, объединились и породили новый вид транснационального боевого движения в исламском мире под названием джихадизм[30].
В отличие от исламистов, которые остаются приверженцами делу построения исламского государства либо через участие в политической жизни, либо путем радикальной революции, джихадисты представляют себе будущее, в котором больше не будет никаких государств – исламских или иных. Джихадисты хотят создать мир, в котором все границы, делившие умму на разобщенные и удаленные друг от друга национальные государства, будут окончательно стерты, и разрушить стены культурной, этнической, национальной принадлежности, которые разделяют мусульман всего мира, чтобы снова объединить умму в глобальное сообщество, как того, по их мнению, желал Мухаммад.
В некотором смысле джихадизм – это просто возрождение панисламизма, исчезнувшего представления о достижении религиозного единства среди мусульманского населения во всем мире, но за тем исключением, что ислам, проповедуемый джихадистами, представляет собой ультраконсервативное сочетание активизма салафитов и пуританства ваххабитов, приправленное радикальной реинтерпретацией джихада как наступательного оружия, с помощью которого они стремятся господствовать в мире. В истинно хариджитском стиле джихадисты разделяют всех мусульман на «Людей Рая» (они сами) и «Людей Ада» (все остальные). Любой, чье толкование Корана и соблюдение шариата не соответствует модели джихадистов, считается ими членом последней группы, состоящей из отступников и неверных, которые должны быть исключены из священной общины Бога.
Джихадисты в первый раз ворвались на международную арену в 1990 г. после вторжения Ирака в Кувейт. В ответ на решение саудовского правительства пригласить американских военных для отражения сил Ирака, небольшая группа джихадистов восстала против королевской семьи Саудовской Аравии, назвав ее представителей коррумпированными выродками, которые продали интересы мусульманской общины иностранным державам. Эта группа, возглавляемая Усамой бен Ладеном и бывшим членом группировки «Исламский джихад»[31] Айманом аз-Завахири, сформировала террористическую организацию, получившую название «Аль-Каида» («база» или «основа») и через десять лет переключившую свое внимание от лидеров арабского и мусульманского мира на единственную оставшуюся сверхдержаву – Соединенные Штаты Америки.
После атак 11 сентября США взяли джихадизм под прицел, дав начало «войне с терроризмом». Страны Ближнего Востока – от Афганистана до Ирака и за их пределами – наводнили сотни тысяч американских военных и гражданских сотрудников, чья миссия заключается не только в искоренении и уничтожении джихадизма, но и в превращении всего Ближнего Востока в более современный, более умеренный, более демократичный регион. В отношении первой задачи Соединенные Штаты и их союзники добились определенного успеха. Международной террористической организации «Аль-Каида» был нанесен серьезный урон. Ее основатель убит; ее руководители в бегах; последователи почти все уничтожены. Она все еще может поддерживать некоторый оперативный контроль над операциями джихадистов по всему миру, но отнюдь не обладает ресурсами, которые были в ее распоряжении до 11 сентября. Такие действия, как мировое мусульманское восстание против Запада, кровавые операции «Аль-Каиды» и беспорядочное убийство женщин и детей, настроили подавляющее большинство мусульман всех классов, возрастов, течений и народов категорически против этой организации и ее идеологии.
Относительно второй цели – демократизации Ближнего Востока – действия Соединенных Штатов и их союзников обернулись катастрофическим провалом. То, как неуклюже и лицемерно продвигалась демократия в регионе, не говоря уже о религиозной поляризации и риторике о «столкновении цивилизаций», которая сопровождала миссию Америки по демократизации, – все это только еще больше подпитывало широко распространенную среди мусульман веру в то, что Соединенные Штаты стали новой колониальной державой на Ближнем Востоке и их истинное намерение заключается не в демократизации и распространении света цивилизации, а в христианизации исламского мира.
И все же, каким бы большим провалом ни обернулось продвижение демократии на Ближнем Востоке, до сих пор остается непреложным фактом то, что только подлинные демократические реформы могут подорвать призывы джихадизма и положить конец мусульманской воинственности. Как показали волны демонстраций за демократию, охватившие Ближний Восток и Северную Африку, надежда на мир и процветание в регионе зиждется на создании подлинного, построенного с учетом местной специфики, демократического общества. Именно от этого зависит будущее ислама.
10. Подбираясь к Медине
Поиски исламской демократии
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного», – нараспев произносит пилот Iran Air, когда наш самолет идет на посадку в аэропорту Мехрабад в Тегеране. Вокруг меня в креслах оживленное движение. Женщины сидят, поправляя свои платки, следя за тем, чтобы их лодыжки и запястья были надлежащим образом покрыты, а их мужья протирают глаза после сна и начинают собирать вещи, которые их дети разбросали по проходу.
Я поднимаю голову, чтобы взглянуть на пару-тройку лиц, за которыми я внимательно наблюдал с момента посадки на самолет в Лондоне. Это молодые одинокие пассажиры, мужчины и женщины, которым, как и мне, около тридцати. Они одеты в плохо подогнанную одежду, которая выглядит так, как будто ее купили в магазинах секонд-хенд, – нелепые рубашки с длинными рукавами; тусклые брюки; нерасписные платки на голову – все должно казаться как можно более безобидным. Я знаю это, потому что именно так одет и я сам. В их глазах я могу разглядеть отблеск той же тревоги, что чувствую сам. Это смесь страха и волнения. Многие из нас впервые ступят на землю страны нашего рождения, революция оторвала нас от нее еще детьми.
Предприняв попытку обратиться к многочисленной иранской диаспоре, которая бежала в Европу и Соединенные Штаты в начале 1980-х гг., иранское правительство издало приказ о предварительной амнистии для всех экспатриантов, объявив, что они могут вернуться в Иран для краткого посещения – один раз в год на срок, не превышающий трех месяцев, – не опасаясь быть задержанными или принужденными к выполнению своего обязательного военного долга. Реакция последовала незамедлительно. Тысячи молодых иранцев начали стекаться в страну. Некоторые никогда не знали Иран, кроме как по ностальгическим рассказам своих родителей. Другие, подобные мне, родились в Иране, но покинули его, когда были еще слишком маленькими, чтобы принимать решения самостоятельно.
Мы выходим из самолета и погружаемся в духоту раннего утра. Еще темно, но аэропорт уже разрывается от прибывающих рейсов из Парижа, Милана, Берлина, Лос-Анджелеса. Гудящая толпа, которая собралась у паспортного контроля, не имеет ничего общего с ровной очередью. Кричат дети. Невыносимый запах пота и сигаретного дыма. Меня толкают локтями со всех сторон. И вдруг меня наполняют воспоминания многолетней давности об этом самом аэропорте: мы взялись за руки и всей семьей пробиваемся сквозь безумную толпу, пытаясь покинуть Иран до того, как границы закроют, а самолеты перестанут взлетать. Я помню, как моя мать кричала: «Не потеряй свою сестру!» Я все еще слышу ужасающую одышку в ее голосе. Я сжал пальцы младшей сестры так сильно, что она начала плакать, и грубо потащил ее к воротам, пиная тех, кто был вокруг, по коленям, чтобы нам уступили дорогу.
Два десятилетия и четыре удушающе долгих часа спустя я наконец стою у окошка паспортного контроля. Я просовываю документы через щель в стекле молодому, с небольшой бородкой, мужчине в сломанных очках. Он рассеянно просматривает страницы, в то время как я готовлю свои хорошо отрепетированные ответы на вопросы, кто я и почему я здесь.
«Откуда вы приехали?» – устало спрашивает служащий.
«Из Соединенных Штатов», – отвечаю я.
Он напрягается и пристально смотрит на меня. Я могу сказать, что мы одного возраста, хотя усталые глаза и небритое лицо заставляют его казаться намного старше. Он – ребенок революции; я – беглец, отступник. Он провел свою жизнь в гуще событий, за которыми я наблюдал издалека. Меня охватывает тяжелое чувство. Я едва могу смотреть на него, когда он спрашивает: «Где вы были?» – вопрос, который должны задавать все работники паспортного контроля. Я слышу обвинение в этих его словах.
В тот день, когда аятолла Хомейни вернулся в Иран, я взял четырехлетнюю сестру за руку и, несмотря на предупреждение матери не выходить на улицу, вывел ее из нашей квартиры в центре Тегерана, чтобы присоединиться к празднованиям. Несколько дней до этого мы не выходили из дому. Недели, предшествовавшие изгнанию шаха и возвращению аятоллы, были тяжелыми. Школы были закрыты, большинство теле- и радиостанций не работали, и наш тихий район опустел. Поэтому, когда мы выглянули из окна февральским утром и увидели эйфорию на улицах, ничто не могло нас удержать дома.
Наполнив пластиковый кувшин напитком танг и стащив две упаковки бумажных стаканчиков из шкафа нашей матери, мы с сестрой вышли тайком из дома, чтобы присоединиться к гуляниям. Один за другим мы наполняли стаканчики и передавали их людям в толпе. Незнакомцы останавливались, чтобы поднять нас на руки и расцеловать в щеки. Из открытых окон сыпались горсти конфет. Звучала музыка, многие танцевали. Я точно не знал, что именно мы празднуем, но мне было все равно. Я был увлечен в тот момент и очарован странными словами, звучавшими отовсюду, – словами, которые я слышал и раньше, но которые все еще были для меня мистическими и необъяснимыми: «Свобода! Свобода воли! Демократия!»
Несколькими месяцами позже временное правительство Ирана разработало конституцию для только что образованной Исламской Республики Иран. Под руководством Хомейни конституция представляла собой сочетание антиимпериалистических идей, свойственных третьему миру, смешанных с социально-экономическими теориями таких легендарных иранских идеологов, как Джалал Але-Ахмад и Али Шариати, религиозно-политической философией Хасана аль-Банны и Сейида Кутба и традиционным шиитским популизмом. Основополагающие статьи этой конституции обещали равенство полов, религиозный плюрализм, социальную справедливость, свободу слова и право на мирные собрания – все те высокие принципы, за которые боролась революция, – одновременно подтверждая исламский характер новой республики.
Новая конституция Ирана практически не отличалась от той, которая была написана после первой антиимпериалистической революции в стране в 1905 г., за исключением того, что она предусматривала два уровня управления. Первый, представляющий суверенитет народа, включал в себя народно избранную исполнительную власть, осуществляющую руководство высокоцентрализованной государственной системой, парламент, ответственный за создание и обсуждение законов, и независимый суд для толкования этих законов. Второй уровень, представляющий суверенитет Бога, состоял только из одного человека – аятоллы Хомейни.
Это был вилаят аль-факих («правление просвещенного»), о котором Хомейни красноречиво писал во время своей ссылки в Ираке и Франции. Теоретически факих, или Верховный лидер, – это самый ученый религиозный авторитет в стране, основная функция которого заключается в обеспечении исламской природы государства. Однако вследствие интриг влиятельного духовного истеблишмента Ирана факих был превращен из символического морального авторитета в высшую политическую власть в государстве. Конституция предоставила факиху полномочия назначать главу судебной власти, быть главнокомандующим армией, отстранять от должности президента и налагать вето на все законы, созданные парламентом. Первоначально предназначенный для примирения народного и божественного суверенитета вилаят аль-факих внезапно проложил путь к институционализации абсолютного клерикального контроля.
Тем не менее иранцы были слишком поглощены радостью обретения независимости и слишком ослеплены теориями заговора, витающими в воздухе, об очередной попытке ЦРУ и посольства США в Тегеране восстановить шаха на троне (как это было в 1953 г.), чтобы признать тяжелые последствия новой конституции. Несмотря на предупреждения временного правительства и громкие доводы соперничавших аятолл, противостоявших Хомейни, особенно аятоллы Шариатмадари (которого Хомейни в конце концов лишил религиозных полномочий, невзирая на вековые законы шиитов, запрещающие подобные действия), проект был одобрен на всенародном референдуме с поддержкой в 98 % голосов.
К тому времени, как большинство иранцев осознали, за что они проголосовали, Саддам Хусейн вторгся в Иран при поддержке Соединенных Штатов, которые снабдили его химическими и биологическими материалами через Центры по контролю и профилактике заболеваний США и организацию «Американская коллекция типовых культур». Как это обычно происходит в военное время, все разногласия смолкли в интересах национальной безопасности, а мечта, которая привела к революции годом ранее, уступила место реальности авторитарного государства, страдающего от грубой неспособности правящего клерикального режима сосредоточить в своих руках безусловную религиозную и политическую власть.
Намерение правительства Соединенных Штатов поддержать Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны мотивировалось желанием сдержать распространение иранской революции, но на деле привело к ее развитию. Только после войны и смерти Хомейни демократические идеалы, во славу которых началась иранская революция десятилетием ранее, были возрождены новым поколением иранцев – слишком молодых, чтобы помнить тиранию шаха, и уже достаточно зрелых, чтобы понимать, насколько современная им система не соответствовала тому, за что боролись их родители. Именно их недовольство разожгло деятельность некоторых ученых, политиков, активистов и богословов в Иране, которые инициировали реформистское движение, выступающее не за «секуляризацию» страны, а за возвращение к настоящим исламским ценностям, таким как плюрализм, социальная справедливость, права человека и прежде всего демократия. По словам иранского политического философа Абдолкарима Соруша: «Мы больше не утверждаем, что подлинно религиозное правительство может быть демократическим, мы говорим о том, что оно не может быть другим».
Впечатленный демонстрацией народной силы (в конце концов именно это в первую очередь привело к созданию Исламской Республики), рассматривая реформистское движение как угрозу самому существованию государства, иранский режим обрушил всю мощь аппарата по поддержанию безопасности на молодых протестующих. Произошло то, что с тех пор стало привычным зрелищем, – военизированные силы страны (страшный Басидж) в составе Корпуса Стражей Исламской революции жестоко подавили народные демонстрации на улицах и в университетах, в то время как реформистским активистам и политическим союзникам Мохаммада Хатами систематически затыкали рты, арестовывая и убивая. К 2005 г., к моменту избрания Махмуда Ахмадинежада на пост президента, консервативные силы в иранском правительстве вновь стали доминирующими. Аналитики по всему миру заявили, что реформаторское движение в Иране умерло и похоронено.
Однако некоторые сторонние наблюдатели понимали, что реформаторская идея не исчезла и не ушла в подполье. Напротив, она рассеялась и превратилась в политический мейнстрим, так что к концу первого десятилетия нового века почти все иранцы, независимо от их политических или религиозных взглядов, приняли утверждение реформаторского движения о том, что демократический эксперимент, который привел к рождению Исламской Республики Иран в 1979 г., был подорван и должен быть снова направлен в правильное русло. Таким образом, на волне обсуждаемых выборов, в результате которых Ахмадинежад вновь пришел к власти в 2009 г., несмотря на широко распространенные обвинения в подтасовке результатов, группа студентов, интеллектуалов, торговцев и религиозных лидеров (та же коалиция, которая свергла шаха тридцатью годами ранее) снова вышла на улицы, на этот раз под знаменем так называемого Зеленого движения, не только затем, чтобы выразить протест сфабрикованным выборам, но и чтобы восстать против самой природы Исламской Республики. Хотя жесткая реакция иранского режима, похоже, привела к временному подавлению народных протестов, что помогло восстановить порядок в стране, действия правительства только еще больше укрепили подавляющее большинство жителей Ирана в их убеждении, что Исламская Республика в ее нынешнем состоянии, по сути, не является ни исламской, ни республикой.
Предыдущие попытки Ирана по демократизации страны были сорваны иностранными державами, в чьих интересах было подавить все демократические устремления в регионе. Революция 1979 г. была «украдена» национальным духовным истеблишментом страны, который использовал свой моральный авторитет, чтобы установить абсолютную власть над зарождающимся государством. Реформистское движение 1990-х гг. было подавлено правительством, смертельно боявшимся собственного народа и отчаянно пытавшимся сохранить свою политическую власть. Требование Зеленого движения о расширении прав человека было отброшено еще более военизированным режимом, который поставил вопрос собственного выживания над всеми остальными. Тем не менее вековой поиск в Иране модели построения подлинно народной демократической системы с учетом местной специфики, которая обеспечит место религии в общественной сфере, не нарушая при этом волю народа, продолжается по сей день. Фактически идея этого поиска распространена по всему миру – от Ирака и Пакистана до Турции и Индонезии, от Туниса и Египта до Сенегала и Бангладеш.
За полстолетия, минувшего с момента окончания эпохи колониализма и создания исламского государства, ислам использовался для призывов узаконивать и свергать правительства, содействовать республиканству и защищать авторитаризм, оправдывать монархии, автократии, олигархии и теократии и поощрять терроризм, раздробленность и военные действия. Может ли ислам теперь помочь установить подлинно либеральную демократию на Ближнем Востоке и за ее пределами? Может ли ислам примирить разум и откровение, чтобы стало возможным создание демократического общества, основанного на этических идеалах, установленных пророком Мухаммадом в Медине четырнадцать веков назад?
Не только может, но и должен. И этот процесс происходит во многих государствах, где мусульманское население составляет большинство. Но он может быть основан только на исламских ценностях и обычаях. Главный урок, который следует извлечь из неудачи «цивилизационной миссии» Европы и полного краха Америки по «продвижению демократии», заключается в том, что истинную демократию нужно развивать изнутри, основываясь на идеях, близких местному населению, и представляя их на понятном и живом языке. Для того чтобы демократия была эффективной и убедительной в государствах с преимущественно мусульманским населением, она должна уравновешивать порой спорные отношения между верой и правительством, которые, как мы видели, на протяжении веков составляли особенность политической культуры в исламе.
На Западе есть те, кто утверждает, что подобная демократическая система невозможна, что ислам по своей сути выступает против демократии и что мусульманские народы не способны примирить демократические и исламские ценности. Такая точка зрения не только противоречит исламской истории (не говоря уже о наблюдаемой действительности), она рушится, столкнувшись с бесчисленными исследованиями, которые демонстрируют, что подавляющее большинство мусульман стремится к демократии как к «лучшей форме правления». Опрос, проведенный американской некоммерческой организацией Pew Research Center в 2006 г., показал, что, в то время как большинство представителей западного общества думают, что демократия – это «западный путь, который не приживется в подавляющем числе мусульманских стран», большинство респондентов в каждой отдельной стране с преимущественно мусульманским населением категорически отвергают этот аргумент и призывают к незамедлительному безусловному установлению демократии в своих обществах. Таким образом представляется, что самые большие препятствия на пути к созданию подлинной исламской демократии – это не только улемы-традиционалисты или джихадисты, но, что, возможно, более разрушительно, и те представители власти на Западе, которые упорно отказываются признавать, что демократия как жизнеспособная и устойчивая форма организации не может быть импортирована.
С окончанием Второй мировой войны победоносная, но в финансовом отношении опустошенная Британия, больше неспособная нести издержки или оправдывать идеологию своего колониального присутствия в Индии, наконец даровала величайшему символу своих империалистических амбиций – бриллианту в короне своей истощающейся империи – долгожданную независимость. 14 августа 1947 г. сотни лет колониального правления в Индии подошли к концу. Тем не менее день, который, как предсказывал Ч. Э. Тревелян, станет «самым величественным памятником британской благожелательности», когда «наделенная [британскими] образовательными и политическими институтами» Индия будет представлять собой величайший триумф колониализма, стал днем, когда раздробленное население субконтинента было жестоко разделено по линиям вероисповедания на преимущественно индуистскую Индию и мусульманский Пакистан.
Во многих отношениях раздел Индии был неизбежным результатом трехсотлетней британской политики по принципу «разделяй и властвуй». Как показали события индийского восстания, англичане считали, что лучший способ обуздать националистические настроения – это не идентифицировать коренное население как индийцев, а разделить их на мусульман, индусов, сикхов, христиан и т. д. Категоризация и разделение коренных народов были распространенной тактикой для поддержания колониального контроля над территориями, национальные границы которых были произвольно обозначены практически без учета этнических, культурных или религиозных особенностей местного населения. Французы пошли на многое, чтобы культивировать классовое разделение в Алжире, бельгийцы способствовали племенной фракционности в Руанде, а англичане поощряли религиозные расколы в Ираке – все это бесполезные попытки свести к минимуму националистические тенденции и оборвать призывы к независимости. Неудивительно, что, когда колонизаторы были окончательно изгнаны из этих государств, они оставили после себя не только экономические и политические потрясения, но и серьезный раскол в обществе, вследствие чего практически не сохранилось общих оснований для создания национальной идентичности.
Разделение Индии было не просто результатом внутренней вражды между мусульманами и индуистами. Не было это и отдельным случайным событием. Назовем еще несколько: многочисленные сепаратистские движения в Индонезии, кровавые пограничные споры между Марокко и Алжиром, пятидесятилетняя гражданская война в Судане между арабским севером и африканским югом, раздел Палестины и связанный с этим круговорот насилия, воюющие этнические группировки в Ираке и геноцид почти миллиона тутси от рук хуту в Руанде – все это было в значительной степени результатом процесса деколонизации.
Когда Британия оставила Индию с подавляющим индуистским большинством, в руках которого была сосредоточена основная часть экономической, социальной и политической власти в стране, мусульманское меньшинство, получившее образование по британской модели, основанной на убедительной риторике о демократии, пришло к выводу, что единственно возможным средством достижения автономии было мусульманское самоопределение. Что означало рождение исламского государства.
Тем не менее за гранью призыва к самоопределению мусульманская община Индии едва могла прийти к соглашению о видении роли ислама в государстве. Для Мухаммада Али Джинны, основателя Пакистана, ислам был всего лишь общим наследием, которое могло бы объединить разнообразное мусульманское население Индии. Джинна рассматривал ислам так же, как Ганди рассматривал индуизм – в качестве объединяющего культурного символа, а не как религиозно-политическую идеологию. Для Маудуди, пакистанского идеолога, государство было лишь средством реализации исламского права. Маудуди рассматривал ислам как силу, противостоящую светскому национализму, и считал, что Пакистан станет первым шагом на пути к созданию мусульманского мирового государства. Хотя представители Мусульманской лиги, правящей политической партии Пакистана, утверждали, что исламское государство должно получить мандат от своих граждан, члены «Джамаат-и-Ислами», крупнейшей исламистской организации Пакистана, признанной в ряде стран террористической, наоборот, заявляли, что государство может считаться исламским только в том случае, если суверенитет находится исключительно в руках Бога.
В результате хаоса и кровопролития, последовавших за разделением Индии, около 17 миллионов человек – самая большая человеческая миграция в истории – бежали через разорванные границы в обоих направлениях, но ни представление Джинны, ни видение Маудуди об исламском государстве не были реализованы. Несмотря на разработку конституции, предусматривавшей, что парламент, избранный для создания законов и судебной системы, принимает решение о соответствии этих законов исламским принципам, Пакистан быстро поддался военной диктатуре в лице главнокомандующего армией Айюб Хана. Военное правление продолжалось до 1972 г., пока «платформа исламского социализма»[32] Зульфикара Али Бхутто не сделала его первым свободно избранным гражданским правителем Пакистана после раздела. Но социалистические реформы Бхутто, благосклонно встреченные населением, были осуждены как «неисламские» экстремистскими членами мусульманского духовенства Пакистана, которые расчистили путь для еще одного военного переворота, на этот раз под предводительством генерала Мухаммеда Зия-уль-Хака. При поддержке религиозных властей Зия осуществил принудительный процесс исламизации, в результате которого ислам стал регулятором и общественной морали, и гражданского права. После смерти Зии в 1988 г. новая волна выборов привела к реформистским правительствам Беназир Бхутто и Наваза Шарифа, которые предложили более либеральный идеал ислама, чтобы преодолеть разочарование населения Пакистана почти десятилетием жестокого фундаментализма. Но в 1999 г. после обвинения избранного правительства в коррупции глава пакистанской армии Первез Мушарраф вновь установил в стране военную диктатуру. После очередного десятилетия военного правления Мушарраф был вынужден разрешить Беназир Бхутто и Навазу Шарифу, которые были изгнаны из страны, вернуться в Пакистан. В 2008 г. он ушел с президентского поста. Убийство Бхутто спустя несколько месяцев после ее возвращения привело к вступлению на президентский пост ее мужа Али Асифа Зардари. Его слабое руководство неоднократно подвергалось проверке на прочность волнами нападений исламистских боевиков, чьи базы были сосредоточены в Северо-Западной пограничной провинции (или Хайбер-Пахтунхва) Пакистана. Боевики желали только одного – превратить страну в «талибанизированное» государство, находящееся под их контролем.
Все это произошло за шестьдесят лет.
Опыт Пакистана служит напоминанием о том, что исламское государство – отнюдь не монолитное понятие. На Ближнем Востоке существует достаточно стран, которые можно назвать исламскими государствами, но между ними не так уж много общего. Сирия – это арабская диктатура, где правитель печется об удовлетворении интересов своих всесильных военных. Иордания и Марокко – изменчивые королевства, где молодые монархи предприняли ряд робких шагов в направлении демократизации, хотя и не отступили от своего абсолютного правления. Иран – авторитарная страна, управляемая коррумпированной клерикальной олигархией, приверженной идее подавления любых попыток демократических реформ. Саудовская Аравия – фундаменталистская теократия, утверждающая, что ее единственная конституция – это Коран и ее единственный закон – шариат. И все же все эти страны не только считают себя воплощением идеальной модели Медины, они рассматривают друг друга как презренные осквернения этого идеала.
Но если действительно полагаться на эту модель для определения природы и функций исламского государства, то ее следовало бы охарактеризовать как националистическое проявление уммы. По своей сути исламское государство – это такое государство, в котором определение ценностей, норм поведения и формирование законов находятся под влиянием нравов и ценностей населения мусульманского большинства. В то же время защищены права религиозных меньшинств, как было в Медине. Точно так же, как откровение было продиктовано потребностями уммы, так и все юридические и моральные решения будут определяться гражданами исламского государства. Развивая мудрое высказывание Абу Бакра о преемниках Пророка, можно сказать, что преданность мусульман принадлежит не президенту, премьер-министру, священнослужителю, царю или какой-либо другой земной власти, а умме и Богу. Пока эти критерии, которые Пророк установил в Медине около четырнадцати веков назад и за которые праведные халифы боролись по-своему, сохраняются, вопрос о форме исламского государства неуместен.
Итак, почему же тогда не демократия?
Представительная демократия может быть самым успешным общественно-политическим экспериментом в современном мире. Но это непрерывно развивающийся эксперимент. В наши дни наметилась тенденция рассматривать американскую демократию как образец для всех демократий мира, и в некотором смысле это верно. Семена демократии, возможно, были посеяны в Древней Греции, но прорастали и расцветали они именно на американской почве, полностью реализовывая свой потенциал. Вместе с тем именно по этой причине только в Америке возможна американская демократия; она не может быть отделена от американских традиций и ценностей.
Это основополагающий факт, который был полностью проигнорирован при постановке президентом Джорджем У. Бушем на повестку дня идеи о «продвижении демократии», которая, по его словам, должна была стать основой при выстраивании отношений между Соединенными Штатами и Ближним Востоком. Буша высмеяли как дома, так и за рубежом за его стремление распространить демократию на Ближнем Востоке; критики утверждали, что это было не что иное, как предлог для ведения бесконечной войны в регионе. Для народов Ближнего Востока, конечно же, не прошел незамеченным тот факт, что многие национальные диктаторы в их странах – в Египте, Иордании, Саудовской Аравии и Марокко – также оказались ближайшими союзниками Америки. Все эти диктаторы десятилетиями убеждали Соединенные Штаты, что даже малейшее ослабление их режимов приведет к немедленному захвату власти радикальными исламистами. Такой аргумент Организация Объединенных Наций окрестила «законностью шантажа». В любом случае приверженность Буша его напыщенным разговорам о демократии была сразу же расценена как неискренность и лицемерие, как только выборы в Ливане, Египте и Палестине пошли не так, как на то надеялись Соединенные Штаты, и проведение политики по продвижению демократии было остановлено.
Тем не менее в спорах об истинных намерениях Америки на Ближнем Востоке не был учтен тот факт, что большинство людей во всех странах, где преобладает мусульманское население, в ходе проведенных социальных опросов заявили, что хотели бы, чтобы их страны продвигались к большей демократии. Волна демократического рвения, которая прошла по всему Ближнему Востоку, создала новое чувство надежды для множества людей, которые провели жизнь в автократических обществах, но теперь с нетерпением ожидают возможности высказаться, пусть ограниченно, о собственных политических судьбах. Зеленое движение в Иране зажгло фитиль, используя новые социальные медиатехнологии, такие как Twitter, Facebook и YouTube, чтобы нарушить монополию правительства на средства массовой информации и продемонстрировать миру свое стремление к свободе. Искра, вспыхнувшая в Иране, быстро воспламенила регион. В Тунисе молодые протестующие, пресыщенные ограничениями на участие в политической жизни страны и недостатком экономических возможностей, использовали те же инструменты социальных сетей, чтобы вывести людей на улицы и заставить длительно правящего диктатора бежать из страны. Затем пожары свободы распространились на Алжир, Йемен и, что, возможно, самое неожиданное, на Египет, где десятки тысяч представителей молодежи наводнили улицы Каира, Суэца и Гизы, требуя положить конец тридцатилетнему правлению Хосни Мубарака, диктатора, который использовал около шестидесяти миллиардов долларов из фондов США на создание одного из самых жестоких и наиболее репрессивных режимов на Ближнем Востоке. И огонь по-прежнему горит, угрожая другим диктатурам в регионе: Марокко, Иордании, Саудовской Аравии, Ливии – ни одна из этих стран более не обладает иммунитетом перед простым представлением о том, что все народы во всем мире независимо от их религиозной или культурной принадлежности должны быть вольны сами решать, кто будет говорить за них, кто будет сражаться за них, кто станет их руководителем.
Дело в том, что подавляющее большинство из более одного миллиарда мусульман с готовностью принимает основополагающие принципы демократии. Благодаря усилиям реформистов и модернистов во всем мусульманском мире большинство мусульман уже присвоило себе язык демократии, выражая его через традиционные исламские концепции, такие как шура, или «совет», как народное представительство; иджма, или «согласие», как политическое участие; байа, или «верность», как всеобщее избирательное право; и так далее. Достаточно взглянуть на массовые демонстрации активистов во всем исламском мире, чтобы понять, как демократические идеалы – конституционализм, подотчетность правительства, плюрализм и права человека – широко принимаются мусульманами во всем мире, даже если большинство правителей региона отказываются воплощать их на практике.
Но отчетливо западное представление о том, что религия и государство должны быть полностью разделены, а основой демократического общества обязан быть секуляризм, не всегда принимается. С момента зарождения религии в VII в. в Аравии и вплоть до возникновения исламского государства в ХХ в. ислам всегда стремился быть не просто религией. Когда пророк Мухаммад создал первое исламское государство в Медине четырнадцать столетий назад, он, с одной стороны, преднамеренно установил принципы, регулирующие все стороны жизни, предназначенные для удовлетворения социальных, духовных и материальных потребностей людей, а с другой стороны, выполнял волю Бога. Словом, ислам – это не просто вера; ислам – это идентичность. Такое утверждение справедливо для всех религий. Согласно опросам около 70 % населения в Соединенных Штатах Америки считают себя христианами. Это не означает, что семь из десяти американцев ходят в церковь по воскресеньям, семь из десяти читают Новый Завет или что на самом деле семь из десяти американцев вообще ничего не знают о христианстве, кроме того, что Иисус родился в яслях и умер на кресте. Нет, подавляющее большинство американцев, которые называют себя христианами, заявляют о своей личности, а не о вере. То же самое справедливо и для подавляющего большинства евреев, буддистов, индусов, джайнов и т. д. Религия всегда была не просто вопросом следования верованиям и практикам. Это прежде всего устремленность в будущее, способ бытия. Религия заключает в себе культуру, политику, взгляд на мир. Это особенно верно в отношении ислама, который, как и все мировые религии, был сформирован не только метафизикой, но и социальной, культурной, духовной и политической средой, в которой возник и развивался.
Это не означает, что ислам отвергает разделение «мечети и государства». В мире очень мало мусульманских стран, в которых духовные лица осуществляют прямую власть над правительством. Попытки установления такого прямого контроля в Судане, Нигерии, Афганистане и Иране все без исключения обернулись разрушительными неудачами. Тем не менее справедливо утверждение: когда дело доходит до религии, граница между общественной и частной сферами гораздо более зыбка в государствах, где мусульманское население составляет большинство. Отчасти это объясняется тем, что, возникнув в племенной культуре и развиваясь прежде всего в общинных обществах Ближнего Востока и Северной Африки, ислам склонен избегать радикального индивидуализма, предпочитая ставить потребности сообщества над правами отдельного человека. Какими бы ни были причины, основополагающий и неизбежный факт заключается в том, что люди почти во всех государствах мусульманского большинства неоднократно заявляли, что хотели бы, чтобы исламские ценности и нравы влияли на политику их стран. Поскольку государство можно считать демократическим только в той мере, в какой оно отражает свое общество, то, если общество основано на определенном наборе ценностей, не должно ли это также относиться и к образу правления?
По общему признанию, после событий 11 сентября стало невозможным задавать такие вопросы, не вспоминая об Афганистане под управлением террористического «Талибана». Образ афганской женщины, облаченной в бурку и подчиненной прихотям и произволу невежественной группы женоненавистников, стал символом всего отсталого и безнравственного, что относится к концепции исламского правления, и такие образы непросто вытеснить политической философией.
Учитывая, как часто ислам был использован для рационализации жестокой политики репрессивных тоталитарных режимов, таких как талибы в Афганистане, ваххабиты в Саудовской Аравии или факих в Иране, неудивительно, что термин «исламская демократия» вызывает такой скептицизм на Западе. Некоторые из числа известнейших ученых в Соединенных Штатах и Европе отвергают это понятие, полагая, что принципы демократии нельзя примирить с фундаментальными исламскими ценностями. Когда политики говорят о демократии на Ближнем Востоке, они имеют в виду американскую светскую демократию, а не коренную исламскую. Диктаторы на Ближнем Востоке неустанно проповедуют миру, что их жесткая антидемократическая политика «оправданна», поскольку «фундаменталисты» оставляют им только два возможных варианта: деспотизм или теократия. Проблема демократии с их точки зрения заключается в том, что если людям разрешен выбор, они могут сделать его против своих правительств.
Отставив на мгновение рассуждение о роли, которую эти и многие другие автократические режимы на Ближнем Востоке сыграли в создании так называемых фундаменталистов, сосредоточим свое внимание на том, что в западном мире существует гораздо более философский спор относительно концепции исламской демократии. В его центре – идея о том, что не может быть a priori[33] моральной основы в современной демократии; что фундамент, который должен быть у подлинно демократического общества, – это секуляризм. Проблема этого аргумента, однако, заключается в том, что он не только не признает по своей сути моральную основу, на которой строится большое количество современных демократий, но и, что более важно, не проводит различия между секуляризмом и секуляризацией.
Как отмечает протестантский богослов Харви Кокс, секуляризация – это процесс, посредством которого «определенные обязанности переходят от духовной власти к политической», тогда как секуляризм – это идеология, основанная на искоренении религии из общественной жизни. Секуляризация подразумевает историческую эволюцию, в процессе которой общество постепенно освобождается от «религиозного контроля и замкнутых метафизических мировоззрений». Секуляризм – это само по себе замкнутое метафизическое мировоззрение, которое, по словам Кокса, «очень напоминает новую религию».
Турция – светская страна, в которой внешние признаки религиозности, такие как хиджаб, до недавнего времени были насильственно подавлены. При этом идеологическое влияние на общество оказывается как в светской стране, такой как Турция, так и в религиозной, такой как Иран. Но Соединенные Штаты Америки – это секуляризирующая страна, основанная на иудейско-христианской, а точнее – протестантско-нравственной структуре. Как признавал почти двести лет назад Алексис де Токвиль, религия – это основа политической системы Америки. Она не только отражает американские ценности общества, но и зачастую диктует их. Достаточно посмотреть на язык, на котором в Конгрессе обсуждаются такие политические вопросы, как право на аборты и гомосексуальные браки, чтобы признать, что религия до сих пор – неотъемлемая часть американской национальной идентичности и, очевидно, моральная основа ее Конституции, законов и национальных обычаев. Вопреки тому, что школьники читают в своих книгах по истории, реальность такова, что разделение «церкви и государства» не столько основа американского правительства, сколько результат двухсотлетнего процесса секуляризации, базирующегося не на секуляризме, а на плюрализме.
Именно плюрализм, а не секуляризм определяет демократию. Демократическое государство может быть создано в любых нормативных моральных рамках, пока плюрализм остается источником его легитимности. Англия продолжает поддерживать национальную церковь, духовный руководитель которой также является и сувереном страны, а епископы служат в верхней палате парламента. До недавнего времени Индия управлялась сторонниками элитарной теологии индуистского пробуждения (Хиндутва), стремящимися применить к государству невероятное, но чрезвычайно успешное видение «истинного индуизма». И все же, как и Соединенные Штаты, эти страны считаются демократиями не потому, что светские, а потому что, по крайней мере теоретически, преданы принципу плюрализма.
Или рассмотрим Государство Израиль, страну, основанную на моральном фундаменте еврейской исключительности, которая предлагает всем евреям мира – независимо от их национальности – немедленное гражданство, предоставляя им массу материальных благ и привилегий в сравнении с гражданами нееврейского происхождения. Это государство, где ортодоксальные раввинские суды обладают юрисдикцией по всем вопросам, связанным с иудаизмом (включая то, кого считать евреем, а кого – нет); где религиозные школы (иешивы) субсидируются государством, а браки являются скорее религиозными, чем гражданскими (что означает, что ни одно должностное лицо еврейского происхождения не может сочетаться браком с неевреем); и где все новые граждане, независимо от их религиозной принадлежности, обязаны принять присягу на верность, подтверждающую природу Израиля как «еврейского государства». По каждому из определений этого термина Израиль – это «еврейская демократия». Тем не менее те самые люди, которые высоко оценивают примирение в системе Израиля еврейских и демократических идеалов, несмотря на очевидные конфликты как внутри Израиля, так и на оккупированных палестинских территориях, к которым это примирение привело, отрицают, что аналогичное примирение между исламскими и демократическими идеалами может быть установлено в любом государстве мусульманского большинства. Они закрывают глаза на чрезвычайно успешные примеры именно такого примирения в Турции, Индонезии, Малайзии, Бангладеш, Сенегале и т. д. или на тот факт, что почти треть мусульман мира уже живет в демократических государствах. В сознании некоторых критиков ислама просто не может существовать такого понятия, как исламский плюрализм, независимо от того, сколько доказательств обратного существует.
Однако, как мы видели, ислам долгое время сохранял приверженность религиозному плюрализму. Признание Мухаммадом евреев и христиан как охраняемых народов (зимми), его убеждение в общности божественного текста, из которого произошли все явленные писания (умм аль-китаб), и его мечта о единой умме, охватывающей три авраамические религии, – все эти идеи были поразительно революционными в эпоху, когда религия буквально создавала границы между народами. Несмотря на то как толкуют Коран боевики и фундаменталисты, которые отказываются признавать его исторический и культурный контекст, существует несколько писаний в мировых религиях, которые могут подтвердить то благоговение, с которым Коран говорит о других религиозных традициях.
Справедливо утверждение о том, что Коран не выказывает такого же уважения к политеистическим религиям. Однако это в первую очередь объясняется тем, что откровение было явлено во время затяжной и кровавой войны с «политеистическими» курайшитами. Истина заключается в том, что кораническое обозначение «защищенных народов» было очень гибким и регулярно менялось в зависимости от государственной политики. Когда ислам распространился на Иран и Индию, дуалисты-зороастрийцы и некоторые политеистические индуистские секты были обозначены как зимми. И хотя Коран не позволяет какой-либо религии нарушать основные мусульманские ценности, в мире нет страны, которая не ограничивает свободу религии в соответствии с общественной моралью. Плюрализм подразумевает религиозную терпимость, а не беспрепятственную религиозную свободу.
Основа исламского плюрализма может быть выражена в одном неоспоримом стихе: «Нет принуждения в религии» (2:256).
Это означает, что устаревшая концепция разделения мира на территорию веры (дар аль-ислам) и территорию неверия (дар аль-харб), которая была впервые разработана во время крестовых походов, но все еще оказывает влияние на представления богословов-традиционалистов, совершенно неоправданна. Это также означает, что идеология исламских пуритан, таких как ваххабиты, желающих вернуть ислам к некоторому воображаемому идеалу первоначальной чистоты, должна быть раз и навсегда забыта. Ислам всегда был и остается религией разнообразия. Понятие о том, что когда-то существовал оригинальный, неподдельный ислам, который был расколот на еретические секты, – это историческая фикция. И шиизм и суфизм во всех своих удивительных проявлениях представляют собой направления мысли, которые существовали с самого начала истории ислама, и оба находят свое вдохновение в словах и делах Пророка. Бог может быть Един, но ислам, безусловно, нет.
Основание исламской демократии в идеалах плюрализма имеет жизненно важное значение, поскольку религиозный плюрализм – это первый шаг на пути к созданию эффективной политики в области прав человека на Ближнем Востоке. Действительно, как отмечает Абдулазиз Сахедина, религиозный плюрализм может выступать в качестве «живого образца для демократического социального плюрализма, в котором люди разного вероисповедания готовы формировать сообщество граждан мира». Как и в случае с исламским плюрализмом, вдохновение для исламской политики прав человека должно основываться на идеале жизни в Медине.
Революционные права, предоставленные Мухаммадом тем членам его общины, которым ранее не уделялось такого внимания, были подробно описаны в этой книге, равно как и последовательные усилия религиозных и политических наследников Мухаммада по отмене этих прав. Однако стоит просто вспомнить предупреждение Пророка тем, кто поставил под сомнение его меры по установлению равноправия в Медине – «А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику и преступает Его границы, того Он введет в огонь вечно пребывающим там, и для него – унижающее наказание» (4:14), – чтобы признать, что подтверждение прав человека в исламе – это не просто средство защиты гражданских свобод, а основной религиозный долг.
Тем не менее исламское видение прав человека – это не предписание для морального релятивизма. Не подразумевает оно и свободу от этических ограничений. Изначально общинный характер ислама требует, чтобы любая политика в области прав человека ставила защиту сообщества выше автономии личности. Хотя могут быть некоторые обстоятельства, при которых исламская мораль может привести к верховенству прав сообщества над правами человека, например, в отношении заповедей Корана, запрещающих употребление алкоголя или азартные игры, эти и все другие этические вопросы должны постоянно пересматриваться, чтобы соответствовать воле сообщества.
Нужно понимать, что уважение прав человека, таких как плюрализм, – это процесс, который естественным образом развивается в условиях демократии. Следует иметь в виду, что в течение почти двухсот лет из двухсотсорокалетней истории Америки чернокожее население юридически находилось в подчиненном положении по отношению к белым американцам. Наконец, ни права человека, ни плюрализм не являются результатами секуляризации, они – ее первопричина, а это означает, что любое демократическое общество, исламское или иное другое, посвятившее себя принципам плюрализма и прав человека, должно посвятить себя и следованию по неизбежному пути политической секуляризации.
В этом и заключается главная сложность аргумента в пользу исламской демократии, которая должна быть не «теодемократией», а демократической системой, основанной на исламской моральной основе, посвященной сохранению исламских идеалов плюрализма и прав человека, поскольку они были впервые введены в Медине, и открытой неизбежному процессу политической секуляризации. Ислам может избегать секуляризма, но не может быть и речи о том, что фундаментальные исламские ценности противостоят процессу политической секуляризации. Разделение «церкви и государства», которым так гордится Америка, было установлено в исламе четырнадцать веков назад, когда было решено, что ни один халиф не будет иметь религиозную власть над сообществом. Только Пророк обладал религиозной и светской властью, но Пророк уже не среди нас. Следовательно, как и халифы, короли и султаны величайших исламских цивилизаций истории, лидеры исламской демократии могут выполнять только гражданские обязанности. Более того, не должен вставать вопрос о том, кому принадлежит верховная власть. Правительство народа, избранное народом и для народа, может быть создано или разрушено исключительно по воле народа. В конце концов именно люди создают законы, а не Бог. Даже законы, основанные на божественных писаниях, должны быть истолкованы человеком для применения в мире. В любом случае верховная власть требует способности не просто принимать законы, но и следить за их соблюдением. За исключением отдельных случаев масштабных бедствий как наказаний всего человечества, Бог пользуется этой властью крайне редко.
Те, кто утверждает, что государство не может считаться исламским, если суверенитет не находится в руках Бога, по существу, доказывают, что суверенитет должен находиться в руках духовенства. Поскольку религия по определению – это толкование, суверенитет в религиозном государстве будет принадлежать тем, кто способен толковать религию. Но именно по этой причине исламская демократия не может быть религиозным государством. В противном случае это была бы олигархия, а не демократия.
Со времен Пророка до эпохи праведных халифов, великих империй и султанатов в исламской истории ни одна попытка по установлению единственно правильного толкования смысла и значимости исламских убеждений и практик не обернулась успехом. Действительно, до основания Исламской Республики Иран не было другого случая в мировой истории, чтобы толкование писания одним человеком служило инструментом управления исламского государства. Это не означает, что религиозные власти не должны оказывать никакого влияния на государство. Хомейни утверждал, что те, кто посвящает свою жизнь религии, наиболее квалифицированы в вопросах ее толкования. Однако, как и в случае папы римского, такое влияние может быть только моральным, а не политическим. Функция духовенства в исламской демократии заключается не в правлении, а в сохранении и, что более важно, в отражении нравственности государства. Опять же, поскольку это не религия, а толкование религии, которое регулирует мораль, такая интерпретация всегда должна соответствовать установившемуся в сообществе согласию.
Но это не означает, что ислам обязательно сыграет роль в определении того, как будет выглядеть местная демократия во многих государствах, где большинство населения – мусульмане, по крайней мере на ранних этапах. Те, кто в Европе и Северной Америке ожидает появления полностью сформированной светской либеральной демократии в странах, которые едва обладают опытом, отличным от авторитарного правления, живут фантазией. Даже самое поверхностное изучение исламской истории демонстрирует огромную роль, которую ислам сыграл в формировании отношения к правительству и политике среди всех мусульманских народов, вне зависимости от их политических взглядов – будь то левого или правого толка. В Иране, например, и реформисты, и жесткие консерваторы полагаются на одни и те же символы, риторику и язык, чтобы бороться за демократические реформы или за теократическую непримиримость, поскольку и те и другие осознают силу ислама в отношении мобилизации масс. На самом деле причина, по которой политическая оппозиция на Ближнем Востоке так часто носит религиозный характер, заключается не в том, что оппозиционные партии хотят построить теократическое государство, а в том, что именно язык религии обладает наибольшей ценностью в мусульманском сообществе.
Если демократия должна иметь шанс во многих государствах, где большинство населения составляют мусульмане, религиозные фракции следует поощрять к участию в политическом процессе. Правда, есть и такие организации, которые не заинтересованы в создании чего-либо иного, кроме гнетущей архаичной теократии и которые преследуют свои религиозно-политические цели посредством насаждения насилия и террора. Им следует противостоять всеми необходимыми мерами. Но когда даже легитимная религиозная оппозиция подавляется или объявляется вне закона, это ведет к неблагоприятным последствиям, а именно к радикализации. Это то, что произошло в Иране, когда шах подавил всю клерикальную оппозицию, противостоящую его деспотическому правлению, только чтобы увидеть, как она радикализируется в совершенно новый бренд революционного шиизма, который в конечном итоге скинул его с трона и превратил Иран в Исламскую Республику.
Никто не сомневается в потенциальной опасности, которую несет с собой решение, позволяющее религиозным консервативным группам участвовать в политической жизни. И конечно, проблемы могут возникнуть, когда религия играет особую роль в государстве; всегда будут группы, стремящиеся использовать собственную интерпретацию религии для продвижения своих социальных и политических программ, хотя это справедливо для всех демократий, особенно для Америки. Однако настоящая опасность заключается в удушении политических амбиций таких групп. Из тех случаев, когда законная исламистская оппозиция была подавлена, воинствующие группы и религиозные экстремисты извлекали пользу. Возьмем случай с Алжиром, где возникновение ультранасильственной джихадистской организации «Аль-Гамаа аль-Исламия» («Вооруженная исламская группа»; ВИГ[34]) стало прямым результатом решения алжирских военных запретить участие в политической жизни более умеренных и уступчивых исламистов. И наоборот, там, где умеренные исламистские партии были допущены к участию в политике и работе правительства, народная поддержка более экстремистских групп уменьшилась. В Турции, например, политический успех «Партии справедливости и развития» (ПСР) привел к краху радикальных религиозных группировок. Простой факт заключается в том, что демократия не может укорениться на Ближнем Востоке без участия тех умеренных исламистов, которые готовы играть по правилам, сложив оружие и собирая бюллетени.
В конечном счете исламская демократия должна заботиться не о примирении народного и божественного суверенитета, а о примирении «удовлетворения людей с одобрением Бога», цитируя Абдолкарима Соруша. И если между двумя этими составляющими есть конфликт, то должно быть такое толкование ислама, которое подчиняется реальности демократии, а не наоборот. Так было всегда. С того самого момента, когда Бог сказал первое слово откровения Мухаммаду («Читай!»), история ислама находится в постоянном развитии, поскольку толкование Корана меняется под воздействием социальных, культурных и политических факторов. Теперь она должна перейти на новый виток, поскольку борьба за исламскую демократию – это всего лишь один фронт во всемирной битве, происходящей в исламе, между теми, кто стремится примирить веру и традиции с реалиями современного мира, и теми, кто реагирует на эти реалии, возвращаясь – иногда жестоко – к «основам» своей веры.
Принимая во внимание трагедию 11 сентября и последующие террористические акты во всем мире, концепцию столкновения цивилизаций, завладевшую умами людей, и реальность, лежащую в основе этого конфликта, вопиющую религиозную риторику, резонирующую во всех залах правительств, происходящее сегодня в исламе – это все же внутренний конфликт между мусульманами, а не внешняя битва между исламом и Западом. Запад – наблюдатель, неосторожная, причастная жертва соперничества, которое бушует в исламе среди тех, кто напишет следующую главу в его истории.
Все мировые религии сталкиваются с этими проблемами. Стоит только вспомнить разрушительную Тридцатилетнюю войну в Европе (1618–1648) между силами протестантского союза и силами Католической лиги, чтобы признать жестокость, с которой в христианской истории велись межрелигиозные конфликты. Во многом Тридцатилетняя война обозначила конец христианской Реформации: возможно, это классический спор о том, кто будет решать будущее веры. После этой ужасной войны, в ходе которой погибла почти половина населения Германии, последовало постепенное развитие христианского богословия от доктринального абсолютизма дореформационной эпохи к доктринальному плюрализму начала Нового времени и в конечном счете к доктринальному релятивизму эпохи Просвещения. Эта выдающаяся эволюция в христианстве с момента его начала до его Реформации растянулась на пятнадцать веков.
Четырнадцать сотен лет неистовых дебатов о том, что значит быть мусульманином, страстных аргументов в пользу толкования Корана и применения исламского права, попыток примирить представителей раздробленного сообщества через призывы к Божественному Единству, племенных междоусобиц, крестовых походов, мировых войн – и ислам наконец вступил в свой пятнадцатый век, а с ним пришло и осознание долгожданной и ожесточенной Реформации. Но судьба этой Реформации будет решаться не в пустынях Аравийского полуострова, где послание ислама впервые было представлено миру, а в развивающихся столицах исламского мира – Тегеране, Каире, Дамаске и Джакарте – и в космополитичных столицах Европы и Соединенных Штатов – в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Берлине, – где это послание переосмысливается множеством иммигрантов первого и второго поколений, которые сыты по горло доминированием традиционализма и воинственности в их вере. Объединив исламские ценности предков с демократическими идеалами своих новых отечеств, эти мусульмане сформировали то, что Тарик Рамадан назвал мобилизационной силой для исламской Реформации.
Подобно реформациям прошлого, это будет страшный процесс, который уже начал охватывать мир. Но из пепла катаклизма появляется новая глава в истории ислама. И хотя еще не ясно, кто напишет эту главу, уже сейчас можно утверждать, что новое откровение достаточно близко, оно после столетий глубокого сна наконец проснулось и подбирается к Медине, чтобы появиться на свет.
11. Добро пожаловать в эпоху исламской Реформации
Будущее ислама
В сердце старого Каира находится учреждение, такое же старое и торжественное, как и сам город. На протяжении более чем тысячелетия знаменитая мечеть аль-Азхар и университет служили местом обучения суннитскому исламу для миллионов мусульман во всем мире. Если бы в исламе существовало такое понятие, как Ватикан, то он был бы именно здесь. Основанный в 972 г. халифами династии Фатимидов, которые вели историю своего рода от дочери пророка Мухаммада Фатимы, прозванной аз-Захра, или «Освещающая», аль-Азхар буквально означает самый сияющий. И действительно, стоит только один раз оказаться там вечером, когда солнце садится за его возвышающиеся минареты землистого цвета, чтобы увидеть, насколько ярко, даже ярче чем звезды в туманном небе, сияет это светящееся сооружение.
Кампусы аль-Азхара расположены рядом с центральным базаром города, известным как Хан аль-Халили, по чьим булыжным тропам и лабиринтам дорожек бродят местные охотники за покупками и утомленные туристы. В летние месяцы, когда шумная энергия Каира становится слишком невыносимой даже для его жителей, мужчины и женщины, молодые и старые, христиане и мусульмане толпятся вместе в прохладной, спокойной тишине обширного открытого двора аль-Азхара. Босые старики сидят на мраморном полу, прижавшись спиной к разрушающимся колоннам, ища убежища в тени крытых галерей. Молодые студенты собираются вокруг замысловатых резных входов и угловых сводов главного молитвенного зала, некоторые из них здесь, чтобы учиться, но большинство – чтобы посплетничать. В особенно жаркие дни единственные, кто совершает движение во всем комплексе, – это голуби и крестьяне в белых головных уборах и пыльных серых галабеях, подметающие пол высушенными и очищенными пальмовыми ветками.
Все в этих святых стенах, включая сами стены, перекликается с традициями. Во время моего первого визита в аль-Азхар я спросил друга-египтянина, как долго это духовное учреждение находится в Каире. «Оно было здесь всегда», – ответил он.
Он не преувеличивал. Современная столица Египта может располагаться на развалинах полудюжины давно забытых городов, но город, название которого на арабском языке звучит как аль-Кахир, что означает «победоносный», – это город тысячи минаретов. Он начал свое существование как центр шиитской империи Фатимидов, а сейчас общепризнан как культурный центр арабского мира. Его история начинается вместе с аль-Азхаром как его основы. Когда непревзойденный мусульманский воин Салах ад-Дин в XII в. завоевал и освободил Египет от империалистического контроля шиитов, он лишил аль-Азхар финансирования и разорил его, но учреждение возродилось из пепла, став еще сильнее, чем раньше. В XVIII в. Наполеон Бонапарт обстрелял аль-Азхар; его войска въехали в великую мечеть на лошадях и разграбили ее, убив три тысячи человек. А три года спустя аль-Азхар вдохновил египтян на восстание против французов, заставившее Наполеона вернуться в Европу ни с чем. В ХХ в., в период заката британского колониального правления, улемы аль-Азхара обеспечили теологическую основу для забастовок и бойкотов, которые в конечном счете вытеснили иностранных захватчиков из Египта. Во время социалистической революции Гамаля Абдель Насера в 1950-х гг. аль-Азхар первым одобрил идеалы панарабизма, а затем отказался от них, когда Насер преобразовал школу в светский университет, контролируемый государством. В послереволюционный период аль-Азхар стал инструментом как легитимации светской диктатуры, так и разжигания исламской реакции на нее. Поскольку в соседних Ираке и Афганистане бушевала война с террором, аль-Азхар одновременно служил оплотом против «крестового похода на ислам» Запада и моделью умеренного консерватизма перед лицом ревностного экстремизма, охватившего молодежь страны.
Этот исторический багаж связан с тем, что в стенах аль-Азхара с тихим почтением называют «традицией», которая предоставляет учреждению и его ученым право выступать в качестве арбитров по всем вопросам веры и морали. Действительно, истоки института улемов – будь то улемы в аль-Азхаре или где-либо еще в мире – связаны с их способностью пропускать через себя и передавать то, что было сказано, написано или осмыслено людьми, которые в течение более тысячи лет сидели в этих же классах, изучали одни и те же тексты и комментарии к ним.
В шиизме религиозная власть происходит от духовной связи улемов с Пророком и имамами. В исламе суннитского толка религиозная власть основана исключительно на способности улемов полностью подчиняться традиции. Шиитский авторитет считается вечным и божественно вдохновленным. Суннитская власть непостоянна и привязана к прошлому. Это самостоятельное присваивание, а не божественное предопределение. Как и еврейский раввин, суннитский священнослужитель – ученый, а не священник. Его решению следуют не потому, что он проводник власти Бога (это не так), а потому что духовный сан, глубокое знание традиции и его нерушимая связь с прошлым дают ему особое представление о воле Бога. Таким образом, если происходит разрыв, который разрушает связь улемов с властью, на которой построен их институт, если внезапно сами основы мусульманского общества потрясает какой-то социальный, политический или религиозный кризис, тогда весь институт начинает рушиться.
Четырнадцативековая история ислама знает много примеров таких разрывов: смерть Пророка, расширение уммы до империи, конфликт с Европой, крестовые походы, колониализм, уничтожение халифата. Тем не менее ни один предыдущий разрыв не оказал настолько сильного влияния на эволюцию ислама и не нарушил настолько сильно связь улемов с прошлым, как это сделало столкновение ислама с современностью и глобализацией.
В течение четырнадцати веков почтенные ученые аль-Азхара и их последователи в подобных учреждениях по всему миру заявляли об абсолютной монополии на толкование и проповедование мусульманской веры. Решения по всем вопросам, начиная от того, как молиться, до того, когда поститься, от того, как одеваться, до того, с кем заключать брак, были исключительной прерогативой группы ученых старцев, уединенно живущих в десятках духовных учреждений и юридических школ, чья задача, которую они установили для себя сами, заключалась в том, чтобы предсказывать будущее ислама, контролируя его прошлое. Не более.
Сегодня, если мусульманин в Египте захочет получить юридические или духовные советы о том, как жить праведной жизнью, он с большой вероятностью предпочтет устаревшим учебным программам, предоставленным величественным египетским институтом аль-Азхар, передачи дико популярного египетского телевизионного проповедника Амра Халеда. Его еженедельные шоу, через которые он распространяет свое мнение по религиозным и юридическим вопросам, смотрят десятки миллионов молодых мусульман по всему миру – от Джакарты до Детройта. У его страницы в Facebook более двух миллионов подписчиков. Его канал на YouTube насчитывает более двадцати шести миллионов посещений[35]. Его DVD продаются лучше, чем многие голливудские хиты. В 2007 г. журнал Time присудил ему тринадцатое место в списке самых влиятельных людей в мире. Он, без сомнения, один из самых выдающихся, самых востребованных, наиболее авторитетных ученых ислама на планете.
За тем исключением, что Амр Халед не ученый. Он не духовное лицо. Он никогда не учился в аль-Азхар или, если на то пошло, в любом другом признанном духовном учреждении. На самом деле он никогда не изучал ислам или исламское право для получения специальности; он бухгалтер. В соответствии с ограничениями исламского права он не имеет полномочий излагать свои теории о значении и толковании ислама. Тем не менее, благодаря вездесущему телевидению и интернету, Амр Халед полностью узурпировал роль, традиционно отводимую улемам как единственным толкователям ислама. И он такой не один. Во всем мире множество самоназваных проповедников, духовных гуру, ученых, активистов и интеллектуалов-любителей начали активно пересматривать принципы ислама, выхватывая из железной хватки улемов право на толкование и полномочия диктовать будущее этой быстро расширяющейся и глубоко раздробленной веры.
Добро пожаловать в эпоху исламской Реформации.
* * *
По общему признанию существует большой религиозный и культурный багаж, связанный с термином «реформация», поэтому историки и религиоведы так часто избегают его использования. Помимо очевидных и неизбежных христианских и европейских коннотаций, для многих понятие реформации обязательно подразумевает нечто недостающее или недостаточное, что требует улучшения или исправления. Но термин «реформация» не содержит какого-либо оценочного суждения. Лишенный своего исторического контекста, он означает универсальный религиозный феномен. Ибо, как бы кто ни определял христианскую Реформацию, это был прежде всего спор о том, кто имеет право определять веру – индивидуум или институт. Этот спор в конечном итоге привел к расколу христианства на конкурирующие течения. Но конфликт, лежащий в основе христианской Реформации, ни в коей мере не был уникальным ни в европейской, ни в христианской истории. Напротив, всю историю религий, в частности так называемых западных религий, можно рассматривать как постоянную и устойчивую борьбу между институтами и отдельными людьми за религиозную власть. В периоды социального напряжения или политических потрясений этот вечный конфликт может вырваться на поверхность, зачастую приводя к катастрофическим последствиям.
Именно это произошло в I в., когда группа воинствующих еврейских фракций в занятой римлянами Палестине[36] бросила вызов авторитету Храма и его священнической иерархии, чтобы установить иудаизм. То, что было справедливо названо «еврейской Реформацией», в конечном итоге привело к созданию не только раввинского иудаизма, но и к появлению совершенно новой секты в иудаизме – христианству, которое было вдохновлено еврейским реформатором, основная идея которого заключалась в том, что власть, определяющая еврейскую веру, принадлежит не «главным священнослужителям и учителям закона», а каждому верующему. (Следует отметить, что еврейская Реформация помимо этого привела к разрушению Иерусалима и изгнанию евреев из города.)
Реформация, породившая христианство, переломила его через пятнадцать столетий, когда Мартин Лютер прикрепил свои девяносто пять тезисов к дверям церкви Всех Святых в Виттенберге. Конечно, христианская Реформация возникла не с Лютером, как не была она и порождением широко распространенного недовольства коррупцией Католической церкви. Христианская Реформация стала результатом длительного и постепенного процесса, который начался еще в XIV в., когда ряд влиятельных церковных лидеров, в первую очередь Джон Уиклиф в Англии, Ян Гус в Богемии и Жан Жерсон во Франции, стали предпринимать попытки по реформированию Церкви изнутри. Задолго до того, как Лютер вошел в строгий монашеский орден августинцев, христианские гуманисты начали возрождение средневековой теологии, настаивая на отказе от латинской Вульгаты в пользу издания Библии на оригинальных языках. Эразм Роттердамский, возможно самый влиятельный интеллектуал XVI в., уже тогда предвосхитил большую часть протестантской идеологии в своем издании Нового Завета 1516 г., в котором Дева стала «милосердной», а не «полной благодати», а апокалиптический призыв Иоанна в Евангелии от Матфея «покаяться» был намеренно преобразован в «раскаяние».
То, что отделяло Лютера от Эразма и гуманистов и запечатлело его в истории как зачинщика христианской Реформации, заключалось в том, что Лютер не интересовался реформированием Католической церкви, которую он считал престолом Антихриста. Лютер хотел отнять у нее привилегию единственного института спасения и единственного авторитета в толковании писания. Отсюда его концепция sola scriptura[37], согласно которой решительно утверждалось, что право на толкование Библии должно находиться не в руках папы римского, а в руках верующих.
Тот же самый феномен Реформации, который навсегда изменил иудаизм и христианство, характерен для ислама уже почти на протяжении столетия, начиная с эпохи европейского колониализма, под гнетом которого в XIX – начале XX в. проживали около 90 % мусульман всего мира. Однако в отличие от иудаизма и христианства в исламе никогда не было единого религиозного авторитета. Никогда не существовало «мусульманского Храма» или «мусульманского папы», то есть централизованного религиозного авторитета, который претендует на право говорить за всю мусульманскую общину. Халиф, напомним, был политической, а не религиозной фигурой. В частности, в суннитской традиции, последователи которой составляют около 85 % от полутора миллиарда мусульман во всем мире, религиозная власть не ограничена отдельным человеком или институтом (даже в выдающемся аль-Азхаре). Вместо этого власть распределена среди множества конкурирующих духовных учреждений и юридических школ, которые, как показано в этой книге, сохранили полный контроль над толкованием ислама со времени смерти пророка Мухаммада.
Однако за последнее столетие, и особенно после уничтожения халифата, который как государственный институт был бессильным, но, возможно, стал воплощением мусульманского единства, многие мусульмане были вынуждены считать себя в меньшей степени членами мирового сообщества веры и в большей степени – гражданами отдельных национальных государств. Результатом этой геополитической фрагментации стало почти полное разрушение общинных идеалов, на которых был основан ислам. Некоторое время идеологи панарабизма и панисламизма пытались воссоединить мусульманскую общину через национальные границы. Но в то время как эти идеологии потерпели поражение, выросло новое поколение мусульман, не имеющих какого-либо понимания единой уммы или, если на то пошло, стремления к ней. Между тем акцент на современном обучении во многих мусульманских государствах привел к резкому росту уровня грамотности и образованности, нарушив тем самым привилегию улемов как «ученых людей» в исламе, равно как и широко распространенный доступ к новым идеям и источникам знаний привел к постепенной девальвации такого рода институционального обучения, названного улемами их исключительной сферой. Добавьте к этому рост альтернативных форм мусульманской идентичности, таких как политический ислам (исламизм), исламский социализм или даже джихадизм, – все это основано на убеждении в том, что улемы виновны как в упадке исламской цивилизации, так и в моральной развращенности мусульманского общества, и результатом будет определенного рода «демократизация» религиозной власти, поскольку любой, у кого есть значительная платформа и достаточно громкий голос, теперь может претендовать на права и привилегии, которые когда-то принадлежали исключительно духовным служителям в исламе.
Отчасти причина того, что улемам удалось сохранить монополию на толкование ислама, заключается в том, что они в основном были единственными, кто мог читать писания и тексты ислама. Начиная с конца VII в., когда стихи были собраны и канонизированы, Коран оставался неизменным на арабском языке, потому что улемы настаивали на том, что перевод священного писания на любой другой язык нарушил бы божественный характер текста. По сей день неарабоязычные версии Корана считаются толкованиями Корана, но не самим Кораном. Это означает, что в течение большей части последних четырнадцати веков около 80 % мусульман мира, для которых арабский язык не родной, должны были полагаться на улемов в определении значения и идейного содержания их веры. (Как можно себе представить, такой неоспоримый контроль над священным писанием оказал особенно негативное влияние на мусульманских женщин, которые исторически еще больше удалены от текста, переводчиками которого, за парой-тройкой примечательных исключений, были только мужчины.)
Все меняется. За последний век Коран перевели на большее количество языков, чем за все предыдущие четырнадцать. Все больше и больше светских мусульман, и особенно женщин, отвергают многовековой опыт толкований духовными лицами в пользу личностного чтения Корана без посредников. Два арабских термина дают определение происходящим изменениям: тадждид, что означает «обновление», и ислах, или «реформа». Вместе эти два термина означают отказ от накопленного веками опыта интерпретации духовными лицами в пользу возвращения к первоосновным текстам ислама. Действительно, одно из самых быстрорастущих и динамичных движений внутри ислама сегодня – это международное сообщество мусульман, называемое коранитами, которое отвергает все источники власти в исламе – хадисы, сунну, шариат, – за исключением Корана.
Если эта идея кажется знакомой, то потому, что священное писание всегда было основным полем битвы в религиозных преобразованиях. Реформация не может состояться, если люди не имеют доступ к тем текстам, которые наделяют властью государственные институты. Концепция sola scriptura, предложенная Лютером и заключающая в себе представление о том, что все люди должны уметь толковать Библию для себя без посредника в лице папы римского, не имела бы смысла, если бы не его перевод Нового Завета с латыни (который был доступен для чтения только духовенству и интеллектуалам) на немецкий язык, язык масс. Точно так же, принимая на себя полномочия определять Коран и активно переосмысливать его в соответствии со своими меняющимися потребностями, эти мусульманские мужчины и женщины следуют по стопам великих реформаторов прошлого.
В результате этого знаменательного многовекового процесса мусульмане во всем мире были охвачены уже знакомой революционной идеей о том, что между верующим и Богом не должно быть посредника, что все люди имеют возможность распознавать Божью волю для себя, что привязка к прошлому необязательно готовит человека к определению будущего. Некоторые из них использовали это радикальное убеждение для разработки совершенно новых толкований ислама, способствующих плюрализму, индивидуализму, модернизму и демократии; другие использовали его для пропаганды столь же нового идеала ислама, который призывает к нетерпимости, фанатизму, воинственности и вечной войне. Подобно тому как христианская Реформация открыла двери для множества часто противоречивых, а иногда и непонятных интерпретаций христианства, так и исламская Реформация создала множество совершенно расходящихся между собой и конкурирующих идеологий ислама. Следует признать, что мирный, терпимый и устремленный в будущее ислам Амра Халеда и жестокий, непримиримый и ретроградный ислам Усамы бен Ладена – это две соревнующиеся и противоречащие друг другу стороны одного и того же явления Реформации, поскольку оба основаны на убеждении в том, что полномочия высказываться по вопросам ислама больше не принадлежат исключительно улемам. К лучшему или нет, эта власть теперь принадлежит каждому мусульманину в мире.
В нескольких километрах от аль-Азхара, в неприметном офисном здании шумного делового района Докки, около ста пятидесяти штатных сотрудников – большинство из них в возрасте от 20 до 40 лет – запустили сайт, который быстро стал одним из самых посещаемых в интернете. По некоторым оценкам, он насчитывает около миллиона посетителей ежедневно, большинство из которых в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет (это также один из наиболее посещаемых интернет-сайтов среди мусульманских женщин). Пользователи могут следить за новостями и информацией со всего мира, узнавать советы по поддержанию здоровья и благополучия, обсуждать исламское право, политику, искусство, культуру и общаться с единомышленниками из разных стран. Но безусловно, то, что привлекает больше всего на этом интернет-ресурсе, – это популярный и крайне противоречивый «банк фетв».
Раньше считалось, что если мусульманин в Каире хочет получить фетву, или религиозное решение по некой спорной теме, он должен воздать почести почтенным ученым аль-Азхара, чьи мнения по религиозным и социальным вопросам были, по существу, законом. Сегодня мусульманин может сидеть дома и бродить по обширному архиву новых и ранее опубликованных фетв, подготовленных глобальным сообществом муфтиев (ученых, имеющих право выпускать фетву) и охватывающих вопросы о правах женщин, проблемах со здоровьем, межконфессиональных отношениях, деньгах и деловых операциях, спорте и играх, войне и мире, а также любые другие темы. На сайте есть раздел, в котором представлены готовые фетвы, связанные с ключевыми новостями дня.
На интернет-ресурсе десятки тысяч фетв, около пяти тысяч из них – на английском языке. Поскольку фетвы собираются из широкого круга источников, пользователь может получить доступ к нескольким и часто противоречивым фетвам по одной проблеме; тогда можно просто решить, какая фетва нравится больше. Если желаемая фетва не найдена в базе данных, сотрудники с радостью свяжут пользователя с живым «кибермуфтием», который будет общаться с просителем в чате в режиме реального времени и предоставит подходящую фетву менее чем за сутки. Если фетва «кибермуфтия» не удовлетворит запрос обратившегося, пользователь может просто зайти на один из многих других сайтов, предоставляющих свои уникальные (и также часто противоречивые) базы данных фетв. В настоящее время существуют тысячи сайтов, которыми управляют многочисленные священнослужители, активисты, ученые, светские лидеры, духовные наставники, интеллектуалы и любители, каждый из которых может распространять свое влияние за пределами местных сообществ с помощью простого IP-адреса. И поскольку в исламе нет централизованного религиозного авторитета, которому бы принадлежала роль по определению, какое из этих мнений здравое, а какое нет, пользователь может просто выбрать, какая из фетв, полученная от тех, кому он больше доверяет, наиболее привлекательна для него.
Трудно переоценить влияние интернета не только на эволюцию ислама, но, что более важно, и на то, как религиозная власть в исламе рассеялась и стала демократизированной. Единственное возможное сравнение – это появление печатного станка. Так же, как это технологическое изобретение неумолимо продвигало христианскую Европу к Реформации, позволяя лидерам движения делиться своими идеями со всем континентом, интернет становится основным средством, с помощью которого реализуется исламская Реформация. Идеи и мнения, на распространение которых через границы, разделяющие исламский мир, когда-то уходили десятилетия и даже столетия, теперь могут быть доступны мгновенно и для кого угодно. Достаточно одного клика. Миллионы мусульман имеют одинаково свободный доступ к мыслям и учениям известных религиозных ученых и неизвестных интеллектуалов-любителей – об этом и сетует муфтий из Университета короля Сауда в Саудовской Аравии, говоря: «Сегодня фетвы стали чем-то, что каждый желающий может высказать и пустить в обращение. Это очень опасно, и ошибочные фетвы могут привести к полному краху».
В словах муфтия есть рациональное зерно. Интернет – это обоюдоострый меч. Он может быть инструментом демократизации религиозной власти и распространения увлекательных новых идей, но он также создает среду, в которой в высшей степени индивидуальные толкования ислама борются друг с другом в режиме реального времени за сердца и умы мусульман. Более того, интернет стал оплотом искаженных толкований ислама, в частности для джихадизма, позволяя воинствующим проповедникам и пропагандистам обходить авторитет улемов и транслировать свои антиинституциональные сообщения мусульманам всего мира напрямую. Благодаря относительной анонимности интернета зачастую трудно провести различие между улемом и джихадистом, уважаемым ученым и представляющим опасность дилетантом.
Но именно по этой причине интернет стал основным источником духовного руководства для нового поколения политически активной, социально сознательной и живущей в условиях глобализации мусульманской молодежи. Интернет – наряду с увеличением возможностей для путешествий, распространением спутникового телевидения и множеством онлайновых социальных сетей – дал молодым мусульманам совершенно новый взгляд на мир и на здоровое недоверие к институциональной власти, будь то правительство или улемы. На самом деле для многих два этих понятия считаются чем-то одним. В конце концов, почти в каждой стране, где преобладает мусульманское население, правительство осуществляет прямой контроль над улемами, выбирая тех, кто проведет пятничный намаз, а иногда даже создавая свои проповеди для них. Это привело к широко распространенному мнению о том, что улемы были кооптированы государством и что их суждения по важным социальным, политическим и религиозным вопросам больше не достойны доверия.
Такие настроения были вызваны быстрым притоком мусульманских иммигрантов в Европу и Северную Америку, где индивидуализм и антиинституциональная этика вплетены в саму ткань общества. Новое поколение так называемых вестернизированных мусульман ищет духовного руководства не в Великих мечетях своих родителей (по некоторым оценкам, менее трети американских мусульман ходят в мечети), а в небольших «гаражных мечетях», студенческих группах, духовных кругах и исламских центрах, большинство из которых независимы от традиционного институционального руководства и полностью оторваны от социальных и культурных ограничений. Правда, число мусульман в Европе и Северной Америке по-прежнему относительно невелико. Несмотря на истерию по поводу надвигающейся «исламизации» Запада, мусульмане составляют лишь около 6 % населения в Европе и менее 2 % населения в Соединенных Штатах; по прогнозам демографов, эти показатели едва ли значительно увеличатся. Тем не менее свобода слова и совести, которой они пользуются, и их возросший доступ к новым коммуникационным технологиям, с помощью которых они могут распространять свои новаторские взгляды на современный ислам по всему миру, дали этим «западным» мусульманам возможность оказывать огромное влияние на своих единоверцев в государствах мусульманского большинства.
Что действительно объединяет мусульман в Европе и Северной Америке с мусульманами во всем мире – это то, что почти три четверти из них относятся к возрастной категории до тридцати пяти лет. В некоторых частях мира, например совсем недавно в Иране, Тунисе, Египте, Алжире и Йемене, это «преобладание мусульманской молодежи» создало беспокойную прослойку в обществе, которой надоело отсутствие политических и экономических возможностей и которая готова подняться против своего правительства, требуя удовлетворения своих прав и привилегий. Facebook, Twitter и другие платформы социальных сетей предоставили этому глобальному молодежному населению представления о другом мире, других возможностях и других социальных структурах. Действительно, для многих молодых мусульман интернет – это больше чем средство общения. Это платформа, через которую реализуется новое видение уммы – виртуальной уммы, основанной не на религиозной приверженности и культурной принадлежности, а на общих интересах, ценностях и проблемах.
Такое желание переделать религиозную власть и определить новый смысл и состав уммы – это то, что также привлекало многих молодых мусульман к воинствующей индивидуалистической и радикально антиинституциональной версии ислама, пропагандируемой джихадизмом. Лидеры джихадистов используют интернет, чтобы установить контакт с молодыми мусульманами, которые могут ощущать чувство социальной, экономической или религиозной отчужденности от своих общин, и предложить им альтернативный источник чувства принадлежности к сообществу и идентичности, такой, чьи цели и выводы, по иронии судьбы, вновь отсылают нас к наиболее радикальным преобразователям христианской Реформации. Бен Ладен, к примеру, использовал интернет, чтобы представить себя в качестве конкурирующего источника религиозной власти, выпуская собственные фетвы и излагая свои интерпретации Корана, хотя, как и Амр Халед, не был священнослужителем и никогда этому не обучался.
Тем не менее именно на основе полного дистанцирования от клерикальных институтов лидеры джихадистов и выстраивают свою власть. Действительно, вся джихадистская идентичность была разработана в прямом противостоянии улемам, поэтому их лидеров можно также рассматривать как идущих по стопам так называемых радикальных деятелей христианской Реформации, таких как Ханс Хат, Якоб Гуттер и Томас Мюнцер, которые, продвигая принцип религиозного индивидуализма, призывали к насильственному свержению общественного порядка. Даже Мартин Лютер категорически возражал против любого толкования, которое оспаривало его интерпретацию. (Он даже оценивал различные книги Библии как более или менее ценные в зависимости от того, соотносились ли они с его теологией или нет.) Во время Крестьянской войны в 1525 г., когда ряды восставших возглавлял его соперник Томас Мюнцер, Лютер не только присоединился к светским судьям, но и публично призвал к массовому убийству крестьян, написав: «Каждый, кто может, должен их убивать, душить и колоть, тайно или явно, и помнить, что нет ничего более ядовитого, вредного, дьявольского, чем мятежник». Было убито более ста тысяч крестьян.
Неудивительно, что реформаторское движение Лютера вскоре стало рассматриваться как проблема, а не решение. К середине XVI в. христианская Реформация так или иначе отказалась от идей Лютера в пользу более популистских вариантов, таких как движения Цвингли в Швейцарии, анабаптистов в Рейнской области и кальвинистов в Женеве; последние быстро стали доминирующей ветвью протестантизма в Западной Европе. Подобный процесс в настоящее время происходит и в исламе. Идеология, которая когда-то обращалась к крошечной части глобального мусульманского движения, стала еще менее терпимой в течение последнего десятилетия, поскольку подавляющее большинство почти в каждой мусульманской стране отвернулось от послания джихадистов.
Но феномен Реформации, породивший джихадизм, не ослабевает. Новый класс так называемых диссидентских улемов – ученых и учителей, которые провозгласили независимость от признанных правовых школ, – начал собирать большое число последователей во всем исламском мире. Эти улемы превратились в нечто подобное странствующим проповедникам, создающим параллельную структуру власти, которая противоречит традиционным духовным институтам. Между тем эти институты вновь начали проявлять определенную степень влияния и авторитета, переняв ту же тактику, которой пользуются их реформистские соперники. Если хотите, назовите это «контрреформацией». Аль-Азхар даже создал свою телевизионную сеть, которая, кроме арабского, вещает на английском, французском и урду. Почти каждое духовное учреждение в мире теперь имеет значительное присутствие в интернете. Улемы открыто признают, что их авторитет и репутация зависят от их способности использовать новые инструменты социальных сетей для привлечения молодых мусульман к выступлениям на их уровне и на их условиях. Результатом этого становится какофония голосов из разных источников, представляющих настоящий рог изобилия идей, ценностей, мыслей и интерпретаций, многие из которых конфликтуют друг с другом, заявляя об исключительном праве определять будущее того, что вскоре станет крупнейшей религией в мире.
Реформации, как мы знаем из христианской истории, могут быть хаотическими и кровавыми. И исламская Реформация имеет несколько вероятных путей развития, прежде чем будет избран окончательный. Возможно, слишком рано размышлять о том, как чувство радикального индивидуализма и антиинституционализма, захватившее мусульман во всем мире, повлияет на ислам в ближайшие годы. Но одно несомненно: прошлое уже позади, как и времена идеализированного и абсолютно мнимого представления о нем, сформированного теми пуританами и фундаменталистами, которые стремятся его воссоздать. Следующая глава в истории ислама будет написана исключительно теми, кто желает смотреть в будущее, теми, кто уверен, что революция, которая была провозглашена пророком Мухаммадом четырнадцать столетий назад с целью заменить архаичные, костные и несправедливые структуры племенного общества радикально новым видением божественной морали и социального эгалитаризма, продолжается по сей день.
Потребовалось много лет на то, чтобы очистить Аравию от ее «ложных идолов». Еще больше потребуется для того, чтобы очистить ислам от его новых фальшивых идолов – слепой приверженности и фанатизма, которым поклоняются те, кто заменил первоначальное представление Мухаммада о терпимости и единстве собственными идеалами ненависти и раздора. Но очищение неизбежно, и волну реформ нельзя остановить. Исламская Реформация уже здесь.
Мы все живем в ее эпоху.
Благодарности
Спасибо, мама и папа, за то, что вы никогда не сомневались во мне; Кэтрин Белл, за то, что заставила меня взяться за это; Фрэнк Конрой, за то, что дал мне шанс; Элис Чейни, за то, что нашла меня; Даниэль Менакер, за доверие; Аманда Фортини, за исправления; мои учителя, за отклики; и Ян Верретт, за абсолютно все остальное.
Примечания
Пролог: Столкновение монотеизмов
Преподобный Франклин Грэм высказал свои комментарии относительно ислама 16 ноября 2002 г. во время появления в NBC Nightly News. «Мы не нападаем на ислам, но ислам напал на нас, – сказал он. – Бог Ислама – это не тот же самый Бог. Он не сын Бога христианской или иудеохристианской веры. Это другой бог, и я считаю, что [ислам] – очень злая и безнравственная религия».
Статья Энн Коултер «Это война: мы должны вторгнуться в их страны» (This Is War: We Should Invade Their Countries) была опубликована в National Review Online 13 сентября 2001 г. Выступление Джерри Вайнса состоялось на ежегодной встрече Южной баптистской конвенции 10 июня 2001 г. Текст выступления Джеймса Инхофа в сенате 4 марта 2002 г. доступен на сайте Ближневосточного информационного центра.
Барри Йомен написал замечательную статью о миссионерах, практикующих «проникновение» в мусульманский мир изнутри, озаглавленную «Скрытый Крестовый поход» (The Stealth Crusade), в журнале Mother Jones (май/июнь 2002 г.).
1. Святилище в пустыне
Мое описание языческой Каабы опирается на сочинения Ибн Хишама и ат-Табари, а также «Путешествия Али-бея аль-Аббаси» (The Travels of Ali Bey al-Abbasi), как они описаны в блестящем собрании паломнических рассказов Майкла Вулфа под названием «Тысяча дорог к Мекке» (One Thousand Roads to Mecca; 1997). Я также обращаюсь к книге Ф. Э. Питерса «Мекка: Литературная история мусульманской Святой Земли» (Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land; 1994). Что касается английского перевода Ибн Хишама, см. книгу Альфреда Гийома «Жизнь Мухаммада» (The Life of Muhammad; 1955). Переводы на английский язык работ ат-Табари см. в многотомном издании под редакцией Ихсана Аббаса и др. «История Ат-Табари» (The History of Al-Tabari; 1988).
Число 360 при упоминании о количестве богов в святилище должно пониматься как священное, а не фактическое. Учитывая малые размеры Каабы, вполне вероятно, что большинство идолов, если не все, в Мекке были первоначально размещены за пределами святилища, недалеко от полукруглой области, называемой Хиджр. Более подробно о роли и функции Хиджра см. статью Ури Рубина «Кааба: аспекты ее ритуального предназначения и положение в доисламскую и древнюю эпоху» (The Ka’ba: Aspects of Its Ritual Function and Position in Pre-Islamic and Early Times) в журнале Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1986). По моему мнению, лучшей работой, посвященной вопросу о святых местах, по-прежнему является труд Мирча Элиаде «Священное и мирское» (The Sacred and the Profane; 1959); см. также: The Myth of the Eternal Return; 1954. История о «пупе мира» рассматривается в короткой статье: G. R. Hawting. We Were Not Ordered with Entering It but Only with Circumambulating It: Hadith and Fiqh on Entering the Kaaba // Bulletin of the School of Oriental and African Studies (1984). То немногое, что мы знаем о ритуалах поклонения племени амир божеству Зу-Самави, раскрыто в небольшой статье: Sheikh Ibrahim al-Qattan and Mahmud A. Ghul. The Arabian Background of Monotheism in Islam // The Concept of Monotheism in Islam and Christianity. Hans Kochler (ed.) (1982).
Прекрасное описание языческой культуры на Ближнем Востоке до возникновения ислама можно найти в книге: Jonathan P. Berkey. The Formation of Islam (2003). См. также: Robert G. Hoyland. Arabia and the Arabs (2001).
Для более глубокого анализа различных религиозных традиций, существовавших на Аравийском полуострове до возникновения ислама, я советую небольшую статью: Joseph Henninger. Pre-Islamic Bedouin Religion // Studies on Islam. Martin Schwartz (ed.) (1981). Несмотря на свой строгий монотеизм, Мухаммад всецело принял джиннов и даже отвел им отдельную главу в Коране (18). Мухаммад, возможно, приравнял джиннов к какой-то неопределенной концепции ангелов. Таким образом, хорошие джинны – это ангелы, а плохие джинны, особенно Иблис (сатана), которого часто называют Джинном, – демоны (18:50).
Проницательное обсуждение влияний иудейской культуры на Каабу можно найти в статье: G. R. Hawting. The Origins of the Muslim Sanctuary at Mecca // Studies on the First Century of Islamic Studies. G.H.A. Juynboll (ed.) (1982).
То, как предания рассказывают об истории Каабы до появления ислама, я считаю, отчетливо продемонстрировано в статье: Uri Rubin. Hanafiyya and Ka’ba: An Enquiry into the Arabian Pre-Islamic Background of din Ibrahim // Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1990).
Более подробный обзор традиций, связанных с Черным камнем, дает основание утверждать, что это был метеор, упавший на землю. Арабский историк Ибн Саад утверждает, что, когда он был впервые обнаружен, черный камень «сиял, как луна, народу Мекки до тех пор, пока грязь нечистых людей не очернила его». Описание сна Иакова можно найти в Бытии (28:10–17). Подробнее о евреях Аравии см.: Gordon Darnell Newby. A History of the Jews of Arabia (1988). P. 49–55. Более подробно об отношениях кахинов и коэнов см. соответствующие записи в Энциклопедии ислама (The Encyclopedia of Islam. H.A.R. Gibb et al. Leiden, 1986).
В числе примеров использования в Коране явных христианских образов – упоминание о «трубах», которые предвещают Страшный суд (6:73, 18:99, 23:101 и т. д.), огненное проклятие, ожидающее грешников в аду (104:6–9) и видение рая как сада (2:25), хотя последнее может иметь свои истоки в иранских религиозных традициях. Более глубокое изучение этой связи можно найти в книге: John Wansbrough. Quranic Studies: Source and Methods of Scriptural Interpretation (1977), и в странно озаглавленной, но чрезвычайно информативной работе: H.A.R. Gibb. Mohammedanism (1970). Более общие комментарии о влиянии христианства на Аравийском полуострове см.: Richard Bell. The Origins of Islam in Its Christian Environment (1968). Рассказ о Бакуре можно найти у ат-Табари (P. 1135), а также в хрониках аль-Азраки, в книге Питерса «Мекка». Обратите внимание, что утверждение Корана о том, что не Иисус, а другой в его подобии был распят, перекликается с аналогичным видением божественной природы Иисуса среди монофизитов и гностиков. Известны и некоторые другие племена, которые обратились в христианство, – это Таглиб, Бакр ибн Вайль и Бану Ханифа.
Не установлено точно, когда Заратустра проповедовал свою веру. Даты варьируются от чисто мифических (8000 г. до н. э.) до кануна возникновения Иранского царства (VII в. до н. э.). Я считаю, что наиболее логичной датой рождения зороастризма является 1100–1000 гг. до н. э. См. мою статью: Thus Sprang Zarathustra: A Brief Historiography on the Date of the Prophet of Zoroastrianism // Jusur, 1998–1999. Влияние зороастрийской эсхатологии вполне отчетливо проявляется в еврейских апокалиптических движениях, таких как, например, ессеи (или тех, кто оставил после себя Свитки Мертвого моря), которые развили сложную эсхатологию, где сыны света сражаются с сынами тьмы (зороастрийские термины) в конце времен, в конечном счете вступая в царствование Учителя правды. Более подробно о зороастризме я предлагаю почитать в трехтомнике: Mary Boyce. History of Zoroastrianism (1996). Те, кто не располагает большим количеством времени, могут также ознакомиться с этим сюжетом, см.: Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices (2001); Farhang Mehr. The Zoroastrian Tradition (1991). Вкратце маздакизм был общественно-религиозным движением, основанным зороастрийским еретиком Маздаком, который подчеркнул значимость равенства и солидарности, прежде всего посредством общего обмена всеми товарами и имуществом (включая женщин). Манихейство, доктрина, основанная пророком Мани, была гностическим религиозным движением, испытавшим сильное влияние зороастризма, христианства и иудаизма. Оно проповедовало радикальный дуализм между силами тьмы/зла и света/добра.
Историю Зейда и Ханифа можно найти у Ибн Хишама (P. 143–149). См. также: Jonathan Fueck. The Originality of the Arabian Prophet // Studies on Islam. Schwartz (1981). Эпитафии Халида ибн Синана и Каиса ибн Саиды цитируются в поистине незаменимой книге: Mohammed Bamyeh. The Social Origins of Islam (1999). Более подробно об Абу Амире Ар-Рахибе и Абу-Каисе ибн аль-Аслате, которые выступали против мусульманской общины Мухаммада в Медине, см. статью: Rubin. Hanafiyya and Ka‘ba. В очередной раз Рубин убедительно демонстрирует, что ханифизм существовал до возникновения ислама, хотя другие ученые, включая Монтгомери Уотта, Патрисию Кроун и Джона Уонсборо, с этим не согласны. Очевидно, что стихи Зейда были вложены ему в уста более поздними арабскими летописцами, но содержание его поэзии, несомненно, показывает, что эти арабы понимали под ханифизмом.
Анализ преданий о Зейде и Мухаммаде см.: M. J. Kister. A Bag of Meat: A Study of an Early Hadith // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1968. Рассказ, который я привожу, – это объединение двух этих преданий: одно из фолио 37b–38a в 727 рукописи Каравиюна, переведенное Альфредом Гийомом (New Light on the Life of Muhammad // Journal of Semitic Studies, 1960); другое записано аль-Харгуши и переведено Кистером. В то время как точное определение таханнус все еще обсуждается учеными, Ибн Хишам и ат-Табари указывают, что это была языческая религиозная практика, связанная каким-то образом с культом Каабы, которая проходила в «садах», «долинах» и «горах» Мекки. Более подробно об этом см.: al-Tahannuth: An Inquiry into the Meaning of a Term // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1968. Ф. Э. Петерс отмечает, что арабский термин «заблуждение» в седьмом стихе (далла, что означает «ошибочный» или «сбитый с толку») «оставляет мало сомнений в том, что “ошибка” привела не просто к смущению Мухаммада, а к тому, что он был погружен в одни и те же практики, во время которых курайшиты настаивали на том, что Бог послал им “руководство”».
Описание восстановления Каабы можно найти у ат-Табари (P. 1130–1139). Предания гласят, что Мухаммад каким-то образом в этом участвовал. Обсуждение даты абиссинской атаки и рождения Мухаммада см.: Lawrence I. Conrad. Abraha and Muhammad // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1987. Рассказы о детстве Мухаммада можно найти у Ибн Хишама (P. 101–119), и у ат-Табари (P. 1123–1127).
2. Хранители ключей
Рубин рассматривает религиозные нововведения Кусайя в «Каабе». Географические позиции Мекки на торговом пути с севера на юг – это лишь одна из многих проблем, которые рассматривает Ричард Буллиет в «Верблюде и колесе» (1975). Среди ученых, которые склонны придерживаться традиционного взгляда на роль Мекки как доминирующего центра торговли в Хиджазе: W. Montgomery Watt. Muhammad at Mecca (1953); M. A. Shaban. Islamic History: A New Interpretation (1994). Отрицание Патрисией Кроун этой теории см.: Meccan Trade и Rise of Islam (1987). Компромисс Питерса изложен в труде: Muhammad and the Origins of Islam (1994). P. 27, 74–75, 93. Теорию Кроун относительно Мухаммада и возникновения ислама см.: Hagarism: The Making of the Islamic World (1977); God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam (1986).
О роли и функциях шейха в доисламской Аравии см.: W. Montgomery Watt. Islamic Political Thought (1968). Роль хакама в русле нормативной правовой традиции (Сунна) наиболее четко описана: Joseph Schacht. An Introduction to Islamic Law (1998). Цитата о лояльности ханифов к курайшитам: Rubin. The Hanafiyya and Ka‘ba (P. 97). Интересно отметить, что защита сирот и вдов всегда была основным критерием справедливого правления. Великий вавилонский царь Хаммурапи, чьи знаменитые законы представляли собой первый письменный свод законодательных правил по управлению обществом, заявляет, что он осуществлял свои завоевания, чтобы вернуть «справедливость сироте и вдове».
Более подробно о различных значениях ан-нуби аль-умми см. чудесную книгу об истории и значении Корана: Kenneth Cragg. The Event of the Qur’an (1971). Цитата Конрада из Abraha and Muhammad (P. 374–375). Истории о первом откровении Мухаммада и его браке с Хадиджей см.: Ибн Хишам (P. 150–155) и ат-Табари (P. 139–156).
Как отмечено в шестой главе, Коран построен не по хронологическому принципу, поэтому трудно в точности определить, какие откровения были первыми. Хотя продолжаются споры, в целом считается, что два наилучших собрания самых ранних стихов были выполнены Теодором Нёльдеке и Ричардом Беллом. Монтгомери Уотт объединил те стихи, по которым оба исследователя согласились создать список того, что Уотт считает самыми ранними стихами в Коране. Я не буду комментировать список Уотта, с которым большинство ученых согласны. Скажу лишь, что, независимо от того, является ли список безупречным или нет, он обеспечивает очень хорошее представление о том, что собой представляло первое откровение. Стихи в списке Уотта взяты из основных разделов следующих глав: 96, 74, 106, 90, 93, 86, 80, 87, 84, 51, 52, 55; я бы добавил к этому списку включенные Нёльдеке 104 и 107, которые, поскольку указывают на первое противостояние посланию Мухаммада, возможно, были явлены почти следом за первыми стихами. См.: Watt. Muhammad: Prophet and Statesman (1974). Ричард Белл предоставляет анализ в четыре колонки египетских хронологий и хронологий эпохи Усмана, см. также: William Muir. Introduction to the Qur’an (1953). P. 110–114.
Имена самых ранних последователей Мухаммада перечислены у Ибн Хишама (P. 159–165). Ат-Табари прямо заявляет, что эта группа была «немногочисленна». Существует несогласие между суннитами и шиитами относительно того, был ли Абу Бакр или Али первым мужчиной, обращенным в ислам, но это идеологический спор. Не может быть серьезных возражений по поводу того, что Али, как самый близкий к Мухаммаду человек в то время, был первым. О защите курайшитами политеизма см.: ат-Табари (P. 1175) и Ричард Белл (1968). P. 55. Цитата о религии и торговле в Мекке: Muhammad Shaban. Conversion to Early Islam // Conversion to Islam. Nehemia Levtzion (ed.) (1979). Более подробно о Лукмане Мудром см.: The Fables of Luqman. Reyes Carboneli (ed.) (1965). Мое описание внешности Мухаммада основано на прекрасном описании Тирмизи, см.: Annemarie Schimmel. And Muhammad Is His Messenger (1985).
3. Город Пророка
Ибн Баттута дает, пожалуй, самое раннее описание мечети Пророка в его знаменитых «Путешествиях» (Travels; 1958). Имеются данные, свидетельствующие о том, что жители Ятриба уже упоминали оазис как Медину (город) до Мухаммада, хотя присутствие Мухаммада явно изменило коннотацию этого названия.
Ali Abd ar-Raziq. Islam and the Bases of Government доступен на французском языке как L’Islam et les Bases du Pouvoir. L. Bercher (transl.) // Revue des Etudes Islamiques, VIII (1934). Английский перевод значимых разделов работы можно найти в книге Islam in Transition. John J. Donohue and John L. Esposito (ed.) (1982).
Бану Надир и Бану Курайза, каждый из которых состоял из нескольких ветвей, возможно, считались союзниками. Вместе они были известны как Бану Дарих. Но это был политический и экономический союз, не имевший никакого отношения к их общей религиозной традиции. Продолжаются споры о том, были ли евреи Яриба новообращенными или иммигрантами. Большинство ученых считают их новообращенными арабами, и, как мы увидим, тому есть доказательства. Для ознакомления с этим спором см.: Watt. Muhammad at Medina (1956); S. D. Goiten. Jews and Arabs (1970). Баракат Ахмад подсчитал, что еврейское население Ятриба составляло от 24 000 до 36 000 жителей; см.: Muhammad and the Jews: A Re-Examination (1979).
Более подробно о непродолжительном персидском правлении в регионе, а также о разделение Ятриба между евреями и арабами, см.: Peters. Muhammad. Для ознакомления с поздним обращением ауситов в ислам см.: Michael Lecker. Muslims, Jews, and Pagans: Studies on Early Islamic Medina (1995).
Полное обсуждение споров о дате и значении Мединской конституции см.: Moshe Gil. The Constitution of Medina: A Reconsideration // Israel Oriental Studies (1974). Более подробно о роли Мухаммада как шейха эмигрантов см.: Watt. Islamic Political Thought.
Для дальнейшего обсуждения истоков слова «умма», я предлагаю обратиться к Энциклопедии ислама. Изображение Бертрамом Томасом уммы как «суперплемени» – The Arabs (1937); термин Маршалла Ходжсона «неоплемя» – The Venture of Islam, vol. 1 (1974). Энтони Блэк дает ценную информацию о сходстве между целью и функциями ритуалов уммы и языческих племен, см.: The History of Islamic Political Thought (2001).
Я убежден, что шахада изначально была адресована не Богу, а Мухаммаду, потому что многие из тех, кто провозгласил шахаду (и тем самым присоединился к умме), в то время как Мухаммад был жив, считали свои клятвы аннулированными со смертью Пророка (согласно племенному обычаю, байа никогда не переживала смерть шейха племени). Аннулирование байа в конечном итоге привело к Риддским войнам. Кстати, слово «ислам» для обозначения движения Мухаммада, возможно, не было применимо Пророком вплоть до его прощального паломничества: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас исламом как религией» (5:5).
Существует много версий истории аль-Айхама. Я заимствовал из: Watt Muhammad at Medina (P. 268). Более подробно о рыночной системе Мухаммада см.: M. J. Kister. The Market of the Prophet // Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1965.
В Книге Бытия есть две истории об Акте Творения. Первую, которая ведет свое начало от того, что называется священнической традицией, можно найти в первой главе, в которой Бог создает мужчину и женщину одновременно. Второе и более известное предание об Адаме и Еве – из второй главы.
Для ознакомления с реформами Мухаммада в отношении прав женщин и реакцией на них см.: Fatima Mernissi. The Veil and the Male Elite (1991). О порядке наследования имущества мужчинами и женщинами см. в Коране 4:9–14; кроме того, дано доступное объяснение: Watt. Muhammad at Medina (P. 289–293). Уотт также представляет ценное размышление о произошедшем сдвиге в обществе Мекки от главенства материнской линии к отцовской (P. 272–289). Более подробно о правилах относительно приданого жены см.: Hodgson (1974). P. 182. Традиции брака и развода в доисламском обществе, а также ношение вуали подробно рассматриваются в превосходной книге: Leila Ahmed. Women and Gender in Islam (1992).
Узнать больше о практике забивания камнями в качестве наказания за прелюбодеяние можно в моей статье: The Problem of Stoning in Islamic Law: An Argument for Reform // UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law (2005), а также: Ahmad Von Denffer. Ulum Al-Qur’an (1983). P. 110–111. Наказание в виде забивания камнями до смерти фактически вытекало из ивритского закона, где оно было предписано за ряд преступлений, включая прелюбодеяние (Втор. 22:13–21), богохульство (Втор. 24:14), призвание духов (Втор. 20:27) и неповиновение родителям (Втор. 21:18–21). Коран устанавливает наказание плетьми за прелюбодеяние в одном стихе (24:2) и пожизненное тюремное заключение в другом (4:15–16). Однако Сахих аль-Бухари и Сахих аль-Хаджадж утверждают, что Мухаммад сам приказал забивать камнями за прелюбодеяние. Но есть в этих традициях много путаницы. Например, Абдулла ибн Ауфа сообщал, что Мухаммад действительно практиковал это, но не смог ответить, предписывал ли Мухаммад забрасывать камнями до или после Суры Ан-Нур, которая ясно одобряет удары плетью за этот грех. Более подробно о нововведениях женоненавистника Умара см.: Leila Ahmed (1992). P. 60–61.
Для ознакомления с комментариями к суфаха и хадису Абу Бакра см. Mernissi. P. 126, а также P. 45–46, 49. Происхождение и проблемы относительно хадисов хорошо освещены в: Ignaz Goldziher. Introduction to Islamic Theology and Law (1981). Голдзихер также описывает выдающийся вклад исследовательниц текста в своей небольшой статье: Women in the Hadith Literature // Muslim Studies, 1977. Цитата лорда Кромера см.: Ahmed (1992). P. 152–153. Цитата Али Шариати см.: Fatima Is Fatima (1971). P. 136.
Существует ряд замечательных исследований о роли женщин в современном мусульманском обществе. Я рекомендую: Faith and Freedom. Mahnaz Afkhami (ed.), 1995; Islam, Gender, and Social Change. Yvonne Yazbeck Haddad and John L. Esposito (eds.), 1998; In the Eye of the Storm: Women in Post-Revolutionary Iran. Mahnaz Afkhami and Erika Friedl (eds.), 1994; Haideh Moghissi. Feminism and Islamic Fundamentalism (1999).
4. Усердие на пути Аллаха
Описание битвы при Ухуде, с которой начинается эта глава, взято из рассказов ат-Табари (P. 1384–1427). Цитата Сэмюэля Хантингтона – из его статьи: The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. Summer 1993. P. 35. Цитата Бернарда Льюиса: Hilmi M. Zawati. Is Jihad Just War? (2001). P. 2; Завати описывает использование джихада в качестве оборонительной войны – P. 15–17, 41–45, 107. Вебер цит. по: Bryan S. Turner. Weber and Islam: A Critical Study (1974). P. 34. Цитата об арабском воине с ятаганом: Rudolph Peters. Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History (1979). P. 4.
Более подробно об использовании, действии и развитии доктрины джихада см.: Rudolph Peters. Jihad in Classical and Modern Islam (1996); Jihad and Shahadat. Mehdi Abedi and Gary Legenhausen (eds.) (1986); Mustansir Mir. Jihad in Islam // The Jihad and Its Times. Hadia Dajani-Shakeel and Ronald A. Messier (eds.). Хадисы, запрещающие убийство женщин и детей, см.: Sahih al-Hajjaj, 4319 and 4320. Более подробно о вайшнавских и шиваитских традициях и царствах, ими вдохновленных, см.: Gavin Flood. An Introduction to Hinduism (1996).
Роль крестовых походов в формировании мусульманских идей джихада рассматривается в статье: Dajani-Shakeel. Perceptions of the Counter Crusade // The Jihad and Its Times. P. 41–70. О сравнительной этике войны и доктрине джихада как теории справедливой войны, см.: Michael Walzer. Just and Unjust Wars (1977); John Kelsay. Islam and War (1993). P. 57–76. О взглядах Мулави Чирака Али на джихад см.: A Critical Exposition of the Popular Jihad (1976); взгляды Махмуда Шалтута изложены в: Kate Zabiri. Mahmud Shaltut and Islamic Modernism (1993). Полный доклад о жертвах «Аль-Каиды» среди мусульман см.: Scott Helfstein et al. Deadly Vanguards: A Study of al-Qa’ida’s Violence Against Muslims. Combating Terrorism Center at West Point, December 2009.
Более подробно о врагах Мухаммада среди ханифов Медины см.: Uri Rubin. Hanafiyya and Ka‘ba // Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1990). Кстати, Моше Гил почти одинок в своей убежденности в том, что Мединская конституция первоначально не включала евреев; см.: The Constitution of Medina: A Reconsideration // Israel Oriental Studies, 1974 (P. 64–65). И наоборот, существует почти единодушное согласие между учеными о том, что документ подлинный и что упоминаются в нем именно евреи. Предания, касающиеся Бану Курайза, см.: M. J. Kister. The Massacre of the Banu Qurayza: A Reexamination of a Tradition // Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 1986, и Hodgson (1974). P. 191. Кистер пишет о том, что их было 400 человек. Ахмад оценивает количество оставшихся евреев в Медине от 24 000 до 28 000 человек. О еврейской позиции см.: H. Graetz. History of the Jews. vol. 3. 1894; Salo Wittmayer Baron. A Social and Religious History of the Jews, vol. 3, 1964; Francesco Gabrieli. Muhammad and the Conquests of Islam (1968).
Об арабской реакции на массовое убийство Бану Курайзы см.: Ahmad (1976). P. 76–94; W. N. Arafat. New Light on the Story of Banu Qurayza and the Jews of Medina // Journal of the Royal Asiatic Society (1976).
Для ознакомления с более объективными исследованиями о резне см.: Karen Armstrong. Muhammad (1993); Norman A. Stillman. The Jews of Arab Lands (1979). Как союзники Курайза некоторые члены ауситов попросили Мухаммада о снисхождении. Именно по этой причине он выбрал хакама из их числа. Однако после решения Саада не было никаких возражений со стороны ауситов или кого-либо еще по этому делу.
История мечети, снесенной Умаром в Дамаске, рассказывается в: J. L. Porter. Five Years in Damascus: With Travels and Researches in Palmyra, Lebanon, the Giant Cities of Bashan, and the Hauran (1855). Наставления Мухаммада его армии отражены в: Ignaz Goldziher. Introduction to Islamic Theology and Law. P. 33–36. Превосходная книга Maria Menocal. The Ornament of the World (2002) описывает культуру религиозной толерантности, которой следовали Омейяды в средневековой Испании. Более академическую оценку положения евреев, находящихся под властью мусульман, см.: S. D. Goiten. Jews and Arabs (1970). Цитата Мухаммада относительно защиты евреев и христиан взята из: The Shorter Encyclopedia of Islam (P. 17). Цитата Питерса из: Muhammad (P. 203); цитата Уотта из: Muhammad at Medina (1956). P. 195.
См. также: H. G. Reissener. The Ummi Prophet and the Banu Israil // The Muslim World, 1949; D. S. Margoliouth. The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam (1924). Гордон Ньюби описывает экономическое господство еврейских кланов в Ятрибе: A History of the Jews of Arabia (1988). P. 75–79, 84–85. Для понимания отношений между Мухаммадом и еврейскими кланами Медины см. превосходное эссе: Hannah Rahman. The Conflicts Between the Prophet and the Opposition in Medina // Der Islam (1985); Moshe Gil. The Medinan Opposition to the Prophet // Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1987); Origin of the Jews of Yathrib // Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1984). Вопрос об археологии и еврейской идентичности рассматривается в: Jonathan L. Reed. Archeology and the Galilean Jesus (2000).
Об истории Ибн Сайада см.: David J. Halperin. The Ibn Sayyad Traditions and the Legend of al-Dajjal // Journal of the American Oriental Society, 1976. Гальперин показывает, как поздняя исламская традиция превратила Ибн Сайада в Антихриста. О связи между Иисусом и Мухаммадом см.: Neal Robinson. Christ in Islam and Christianity (1991).
Разрыв с евреями и христианами рассматривается в: M. J. Kister. Do Not Assimilate Yourselves… // Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1989). Чтобы узнать больше о монотеистическом плюрализме Мухаммада, см.: Mohammed Bamyeh. The Social Origins of Islam (1999). P. 214–215. С завоеванием Персии зороастрийцев, которые упоминаются в Коране (22:17) и у которых есть «книга» (Гаты), более древняя, чем еврейский и христианский тексты, в конечном итоге включают в ахл аль-китаб. Кто были сабии, сказать трудно. По-видимому, некоторые религиозные группы, включая несколько христианских и индуистских сект, охотно восприняли идентичность сабианцев во время мусульманских завоеваний, чтобы считаться людьми Книги и поэтому быть зимми. Исследования Набии Эббот об отношениях мусульман и евреев на ранних этапах см.: Studies in Arabic Literary Papyri. vol. 2 (1967). Практика чтения Торы была, по словам Эббот, выражением «интереса первых мусульман к неисламской мысли и литературе», особенно литературе людей Книги.
5. Праведные халифы
История смерти Мухаммада основана на материалах Ибн Хишама. См. также: I. Goldziher. Introduction to Islamic Theology and Law (P. 31–32); Muslim Studies (1977).
Теории Джона Уонсборо можно найти в: Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (1977); The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History (1978). См. также: Wansbrough. Quranic Studies; Cook and Crone. Hagarism // Journal of the Royal Asiatic Society (1978); Dale F. Eickelman. Musaylima // Journal of Economic and Social History of the Orient (1967). Более подробно о ахл аль-байте см.: M. Sharon. Ahl al-Bayt-People of the House // Jerusalem Studies in Arabic and Islam (1986). Следует отметить, что Шарон считает термин «ахл аль-байт» обозначением, которое было сформулировано в период Омейядов. Хотя такое утверждение имеет основание считаться верным, смысл, стоящий за этим термином (который наделил Бану Хашим первостепенной ролью в обществе), был окончательно понят только после смерти Мухаммада. Для ознакомления с противоположной точкой зрения на религиозное влияние раннего халифата см.: Patricia Crone and Martin Hinds. God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam (1986).
Безусловно, лучший анализ вопроса о преемственности: Wilferd Madelung. The Succession to Muhammad (1997). Я также рекомендую: Rafiq Zakaria. The Struggle Within Islam (1988). См. также: M. A. Shaban. Islamic History (1994). P. 16–19; Moojan Momen. An Introduction to Shi‘i Islam (1985). P. 9–22. Момен отмечает, что Ибн Ханбал записал десять разных преданий, в которых Али называют «Аароном» Мухаммада (P. 325). Цитата Уотта из: Muhammad: Prophet and Statesman. P. 36.
Описание внешности Умара, а также его высказывание о царстве взяты из Новой энциклопедии ислама под редакцией Кирилла Гласса (P. 462). Что касается истории с ожерельем, см.: ат-Табари (P. 1518–1528). Хотя предания утверждают, что Умар был первым халифом, принявшим титул амир аль-муминин, есть данные, свидетельствующие о том, что это название также использовалось Абу Бакром.
См. также: Caetani. Uthman and the Recension of the Koran // The Muslim World (1915). Сохранившиеся примеры различных прочтений Корана см.: Arthur Jeffery. A Variant Text of the Fatiha // Muslim World (1939). Об убийстве Усмана см.: Wilferd Madelung. The Succession to Muhammad. P. 78–140.
О жизни Али издано много книг. Особенно полезными при написании данного раздела были: Momen. An Introduction to Shi‘i Islam; S. Husain M. Jafri. The Origins and Early Development of Shi‘a Islam (1979). См. также: Mohamad Jawad Chirri. The Brother of the Prophet Mohammad (1982). Более подробно о доктрине и истории хариджитов см.: Montgomery Watt. The Formative Period of Islamic Thought (P. 9–37).
Цитата Али приведена из: A Selection from “Nahjul Balagha”. Ali A. Behzadnia and Salwa Denny (transl.). P. 7. Али не был первым, кого можно назвать имамом, хотя именно с Али этот титул стал подчеркивать особую связь с Пророком.
6. Религия как наука
Об инквизиции см.: Nimrod Hurvitz. The Formation of Hanbalism: Piety into Powe» (2002). О биографии Ибн Ханбала и аль-Мамуна см.: Michael Cooperson. Classical Arabic Biography: The Heirs of the Prophets in the Age of al-Ma’mun (2000). О влиянии инквизиции см.: Jonathan Berkey (2003). P. 124–129; Richard Bulliet. Islam: The View from the Edge (1994). P. 115–127; Patricia Crone. God’s Rule: Government and Islam (2004).
Описание исламской ортодоксии см.: Wilfred Cantwell Smith. Islam in Modern History (1957). P. 20. Для общего представления о пяти столпах ислама см.: Mohamed A. Abu Ridah. Monotheism in Islam: Interpretations and Social Manifestations // The Concept of Monotheism in Islam and Christianity. Hans Kochler (ed.), 1982; John Renard. Seven Doors to Islam (1996).
Есть доказательства (помимо апокрифической истории о вознесении Мухаммада на небо, где он говорил с Богом о сокращении салатов с пятидесяти до пяти), что ранняя традиция предписывала только три салата в день. «Выстаивай молитву в обоих концах дня и в (близких) часах ночи» (11:114). В конце концов были добавлены еще два салата, хотя никто не знает, почему и когда. Цитата Ибн Джубайра о Мекке и хадже заимствована из: Voyages (1949–1951). Воззрения Али Шариати о таухиде можно найти в его труде «О социологии ислама» (On the Sociology of Islam; 1979).
Дискуссия между традиционалистами и рационалистами прекрасно освещена в: Binyamin Abrahamov. Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism (1998).
Я также рекомендую: Religious Schools and Sects in Medieval Islam. Wilferd Madelung (ed.) (1985); Montgomery Watt. The Formative Period of Islamic Thought. Воззрения мутазилитов детально рассмотрены: Richard S. Martin, Mark R. Woodward and Dwi S. Atmaja. Defenders of Reason in Islam (1997), в то время как позиция ашаритов отражена в: Richard McCarthy. The Theology of the Ash‘ari (1953). См. также: George F. Hourani. Islamic Rationalism: The Ethics of Abd al-Jabbar (1971).
Теория о «двух истинах» неверна, поскольку, согласно Ибн Рушду, философская истина – это одна правда. Об Ибн Сине см. его биографию: The Life of Ibn Sina. William E. Gohlman (transl.), 1974.
Более подробно об устных традициях народов см.: Denise Lardner Carmody and John Tully Carmody. Original Visions: The Religions of Oral Peoples (1993). О роли поэтов и поэзии в культе Каабы см.: Michael Sells. Desert Tracings: Six Classical Arabian Odes (1989). См. также: Mohammed Bamyeh. The Discourse and the Pat // The Social Origins of Islam. P. 115–140. См. также: Cragg. The Event of the Qur’an. P. 67.
Как станет очевидно, преданность некоторых мусульман привела к появлению ряда апокрифических историй о чудесных действиях Мухаммада и его сподвижников. Однако ортодоксальный ислам категорически отвергает эти истории, считая Мухаммада просто пустым сосудом, через который был раскрыт Коран, оценивая его как того, кому следует подражать, но не поклоняться, как Христу. Ат-Табари рассказывает особенно странную историю о том, как Мухаммад одним щелчком пальцев выкорчевывал финиковое дерево и переносил его к себе (P. 1146). Но эта история, как и подобные об Али, воскрешавшем людей из мертвых или ходившем по воде, была апологетической по своей природе и предназначена для того, чтобы заставить замолчать критиков, привыкших к пророкам, которые творят чудеса.
Для более всестороннего изучения дискуссий о созданном Коране я предлагаю см.: Harry Austryn Wolfson. The Philosophy of Kalam. P. 235–278. Цитаты Ибн Хазма и Ибн Куллаба заимствованы из текста Вольфсона. Более подробно о роли и функции бараки в исламской каллиграфии см.: John Renard. Seven Doors to Islam (1996). См.: William Graham. Qur’an as Spoken Word // Approaches to Islam in Religious Studies. Richard C. Martin (ed.), 2001. Существует два вида чтения Корана: таджвид (приукрашенный) и тартил (взвешенный). Последний в меньшей степени музыкален и используется в основном для богослужения. См.: Lois Ibsen al-Faruqi. The Cantillation of the Qur’an // Asian Music (1987); Kristina Nelson. Reciter and Listener: Some Factors Shaping the Mujawwad Style of Qur’anic Reciting // Ethnomusicology (1987).
Существует шесть коллекций хадисов, которые считаются каноническими: аль-Бухари; аль-Хаджжадж; ас-Сиджистани (ум. 875); аль-Тирмизи (ум. 915); аль-Насаи (ум. 915) и Ибн Маджа (ум. 886). В этот список добавлено шиитское собрание Малика ибн Анаса (ум. 795), которое было первой такой писаной коллекцией хадисов. См.: Joseph Schacht. Origins of Muhammadan Jurisprudence (1950); An Introduction to Islamic Law (1964). Цитата Шахта взята из: A Revaluation of Islamic Traditions // Journal of the Royal Asiatic Society (1949). См. также: Jonathan Berkey. The Formation of Islam. P. 141–151; Criminal Law of Islam (1987). P. 13.
Взгляды Махмуда Тахи на Коран можно найти в: The Second Message of Islam (1996). См. также: Abdullahi an-Na’im. Toward an Islamic Reformation (1996); Divine Attributes in the Qur’an: Some Poetic Aspects // Islam and Modernity. John Cooper (ed.) (1998).
Чтобы больше узнать о насхе, см.: Ahmad Von Denffer. Ulum al-Qur’an: An Introduction to the Sciences of the Qur’an (1983). Некоторые ученые отвергают концепцию насха, см.: Ahmad Hasan. The Early Development of Islamic Jurisprudence (1970). P. 70–79. Однако даже Хасан признает важную роль исторического контекста при толковании Корана.
7. По следам мучеников
Мое повествование о Кербеле основывается на: Syed-Mohsen Naquvi. The Tragedy of Karbala (1992); Lewis Pelly. The Miracle Play of Hasan and Husain, 2 vol. (1879). О развитии и порядке проведения церемонии Мухаррама см.: Heinz Halm. Shi‘a Islam: From Religion to Revolution (1997). См. также работы социологов по этой теме: Vernon Schubel. Religious Performance in Contemporary Islam (1993); David Pinault. The Shi‘ites (1992). См. также: Pinault. The Horse of Karbala (2001). Об истоках ритуала плача см.: Ehsan Yarshater. Ta‘ziyeh and Pre-Islamic Mourning Rites // Ta‘ziyeh: Ritual and Drama in Iran. Peter Chelowski (ed.), 1979.
Есть несколько превосходных вводных текстов по шиизму, включая: Moojan Momen. An Introduction to Shi‘i Islam (1985); S. Husain M. Jafri. The Origins and Early Development of Shi‘a Islam (1979).
См.: Tabataba‘i. Shi‘ite Islam. Seyyed Hossein Nasr (transl.), 1977. О шиитской концепции шариата см.: Hossein Modarressi. An Introduction to Shi‘i Law (1984). Концепция «предсуществующего имама» подробно рассмотрена в: Mohammad Ali Amir-Moezzi. The Divine Guide in Early Shi‘ism (1994). Для ознакомления со взглядами шиитов на Коран см.: Tabataba‘i. The Qur’an in Islam (1987). Толкование Стиха Света Джафаром ас-Садиком взято из: Helmut Gatje. The Qur’an and Its Exegesis (1976).
Однако очень немногие книги адекватно описывают происхождение и эволюцию Махди в исламе. Книги, наиболее полезные для этого исследования: Jassim M. Hussain. The Occultation of the Twelfth Imam (1982); Abdulaziz Abdulhussein Sachedina. Islamic Messianism (1981). Сахедина также рассматривает споры о роли имамов: The Just Ruler in Shi‘ite Islam (1988).
Те, кто заинтересован в углубленном изучении интриг клерикального истеблишмента в Иране, могут ознакомиться с чудесной книгой: Roy Mottahedeh. The Mantle of the Prophet (1985). Слишком много существует работ об иранской революции, чтобы их все здесь перечислить, поэтому рекомендую следующие: Said Amir Arjomand. The Turban for the Crown (1988); Charles Kurzman. The Unthinkable Revolution in Iran (2004). Для ознакомления с более современным видением см.: Dariush Zaheri. The Iranian Revolution: Then and Now (2000). Восхитительный и легко читаемый труд об истории Ирана: Sandra Mackey. The Iranians (1996).
Более подробно о хомейнизме см.: Ervand Abrahamian. Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (1993). Что касается переводов сочинений Хомейни на английский, см.: Islamic Government (1979); Islam and Revolution (1981); A Clarification of Questions (1984). Сильную критику переосмысления Хомейни шиизма можно найти в книге: Mohammad Manzoor Nomani. Khomeini, Iranian, Revolution, and the Shi‘ite Faith (1988). Стихотворения Хомейни см.: Khomeini: Life of the Ayatollah (1999).
8. «Окрась вином свой молитвенный коврик»
См.: Nizami. The Legend of Layla and Majnun. Существует большое число переводов на английский, включая: Colin Turner (1970), R. Gelpke (1966); James Atkinson (1968). Включенная в эту книгу версия представляет вольную комбинацию всех трех, а также моего перевода персидского текста. См. также критический анализ поэмы: Ali Asghar Seyed-Gohrab. Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nizami’s Epic Romance (2003). Для обсуждения раннего развития суфизма я предлагаю обратиться к книге: Shaykh Fadhlalla Haeri. The Elements of Sufism (1990); Julian Baldick. Mystical Islam (1989). См. также: R. A. Nicholson. The Mystics of Islam (1914); Studies in Islamic Mysticism (1921). Две наиболее ценные работы по суфизму: Idris Shah. The Sufis (1964); The Way of the Sufi (1969). См. также: Martin Lings. What Is Sufism? (1993); Inayat Khan. The Unity of Religious Ideals (1929); Ian Richard Netton. Sufi Ritual (2000); Nasrollah Pourjavady and Peter Wilson. Kings of Love (1978); J. Spencer. Trimingham, The Sufi Orders in Islam (1971); Carl Ernst. Teachings of Sufism (1999); Titus Burckhardt. An Introduction to Sufi Doctrine (1976).
Исторические и богословские связи между шиизмом и суфизмом описаны в: Kamil M. al-Shaibi. Sufism and Shi‘ism (1991). См. также: Al-Ghazali. The Alchemy of Happiness. Claud Field (transl.), 1980; The Niche of Lights. David Buchman (transl.), 1998. Для расширения знаний о философии аль-Газали см.: Montgomery Watt. The Faith and Practice of al-Ghazali (1953). См.: Al-Hujwiri. The Revelation of the Mystery. Reynold Nicholson (transl.), 1911; Farid ad-Din Attar. The Conference of the Birds. Afkham Darbandi and Dick Davis (transl.), 1984. Персидский ученый и суфий раскрывает отношения между учителем и учеником в небольшом трактате: Javad Nurbakhsh. Master and Disciple in Sufism (1977). О пути см.: Shaykh Abd al-Khaliq al-Shabrawi. The Degrees of the Soul (1997); Abu’l Qasim al-Qushayri. Sufi Book of Spiritual Ascent. Rabia Harris (transl.), 1997. См. также: Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism (1997)
Концепция монизма в суфизме обсуждается в: Molana Salaheddin Ali Nader Shah Angha. The Fragrance of Sufism (1996). Более подробно о Рабии и других суфийских женщинах см.: Camille Adams Helminski. Women of Sufism (2003); Margaret Smith. Rabi’a the Mystic and Her Fellow-Saints in Islam (1928). Стихи Рабии см. в: Doorkeeper of the Heart: Versions of Rabi’a. Charles Upton (transl.), 1988.
Лучшие переводы Руми включают: Colman Barks. The Essential Rumi (1995); Mystical Poems of Rumi. A. J. Arberry (transl.), 1968; Reynold Nicholson. Rumi: Poet and Mystic (1950). Подробнее о жизни Руми: Annemarie Schimmel. I Am Wind, You Are Fire: The Life and Works of Rumi (1992). О Хафизе см.: Nahid Angha. Selections (1991); Ecstasy (1998). Главные трактаты о суфийской поэзии включают: Ali Asani and Kamal Abdel-Malek. Celebrating Muhammad (1995); J. T. P. de Bruijn. Persian Sufi Poetry (1997).
Касательно суфизма в Индии я советую ознакомиться со следующими изданиями: Muhammad Mujeeb. Indian Muslims (1967); Carl W. Ernst. Eternal Garden: Mysticism, History, and Politics at a South Asian Sufi Center (1992); Bruce Lawrence. The Early Chisti Approach to Sama‘ // Islamic Societies and Culture: Essays in Honor of Professor Aziz Ahmad. Milton Israel and N. K. Wagle (eds.), 1983. См. также: Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam (1960).
9. Пробуждение на Востоке
Описание Фредериком Купером казни 26-го бенгальского туземного пехотного полка заимствовано из: Edward J. Thompson. The Other Side of the Medal (1925). Для уточнения исторического контекста и литературного совершенствования мне пришлось внести некоторые добавления к рассказу Купера и изменить порядок его повествования. Комментарий Тревельяна в Палате общин цит. по: Thomas R. Metcalf. The Aftermath of Revolt (1964). См. также: C. E. Trevelyan. On the Education of the People of India (1838). Бенджамин Дизраэли и Александр Дафф цит. по: Ainslee T. Embree. 1857 in India (1963). Обращение Бахадура Шаха к индийскому народу заимствовано из Азимгарского провозглашения, опубликовано в: Charles Ball. The History of the Indian Mutiny (1860). Отчеты из первых рук о британском ответе на индийское восстание см.: C. G. Griffiths. Siege of Delhi (1912); W. H. Russell My Indian Diary (1957).
О Саиде Ахмад-Хане см.: The Causes of the Indian Revolt (1873); Lecture on Islam // Sayyid Ahmed Khan: A Reinterpretation of Muslim Theology. Christian W. Troll (transl.), 1978. Об Алигархе и школе см. сборник: The Aligarh Movement: Basic Documents, 1864–1898. Shan Muhammad (ed.), 1978. Подробнее о Маудуди см.: Nationalism and Islam (1947); The Islamic Movement (1984).
О колониализме в Египте см.: Joel Gordon. Nasser’s Blessed Movement (1992); Juan R. I. Cole. Colonialism and Revolution in the Middle East (1993); William Welch. No Country for a Gentleman (1988). О жизни и деятельности аль-Афгани см.: Nikki R. Keddie. Sayyid Jamal al-Din “al-Afghani”: A Political Biography (1972); M. A. Zaki Badawi. The Reformers of Egypt (1979); Charles C. Adams. Islam and Modernism in Egypt (1933). О Мухаммаде Абдо см.: Osman Amin. Muhammad ‘Abduh (1953); Malcolm H. Kerr. Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad ‘Abduh and Rashid Rida (1966). О Хасане аль-Банне см.: Memoirs of Hasan al-Banna Shaheed (1981); Richard P. Mitchell. Society of the Muslim Brothers (1969); Pioneers of Islamic Revival. Ali Rahnema (ed.), 1995.
Хорошие работы о панарабизме: Sylvia G. Haim. Arab Nationalism (1962); Nissim Rejwan. Arabs Face the Modern World (1998); Abd al-Rahman al-Bazzaz. Islam and Nationalism (1952); Michael Doran. Pan-Arabism Before Nasser (1999); Taha Husayn. The Future of Culture in Egypt (1954).
Об истории Саудовской Аравии см.: Madawi al-Rasheed. A History of Saudi Arabia (2003). О ваххабизме советую краткое введение: Hamid Algar. Wahhabism: A Critical Essay (2002).
Необходимо сказать несколько слов о значении и функции фундаментализма в исламе. Термин «фундаментализм» впервые был придуман в начале ХХ в. для описания растущего движения среди протестантов в Соединенных Штатах, которые отреагировали на быструю модернизацию и секуляризацию американского общества, подтвердив свою преданность основам христианства. Главной из них была вера в буквальное толкование Библии – идея, которая утратила популярность в связи с возвышением научных теорий, таких как теория эволюции, которая, как правило, относилась к библейским утверждениям с насмешливым презрением. Принимая во внимание тот факт, что все мусульмане верят в «буквальный» смысл Корана, который, в конце концов, является прямой речью Бога, нет оснований ссылаться на мусульманских экстремистов или боевиков как на «фундаменталистов». Тем не менее, поскольку термин «исламский фундаментализм» стал настолько распространенным, что даже перешел в персидский и арабский языки (где буквальный перевод этого выражения, что в некоторой степени довольно уместно, – «фанатик» на арабском языке и «отсталый» на персидском), я использую его в этой книге, но не для описания политизированного ислама. Этому движению дано более подходящее название – «исламизм». «Исламский фундаментализм» же относится к радикально ультраконсервативной и пуританской идеологии, представленной в мусульманском мире ваххабизмом.
Об истории политического ислама см.: Gilles Kepel. Jihad: The Trail of Political Islam (2002); The War for Muslim Minds (2004); Anthony Shadid. The Legacy of the Prophet (2002). Подробнее о создании и эволюции джихадизма см.: Reza Aslan. Beyond Fundamentalism (2010).
10. Подбираясь к Медине
После революции в 1979 г. было разработано два проекта конституции. Первый проект, согласно которому не предусматривалось наделение духовных лиц важными полномочиями в правительстве, по иронии судьбы был отвергнут левыми партиями Ирана. Второй проект, завершенный в ноябре Ассамблеей экспертов, состоящей из семидесяти трех членов, явил собой пересмотренный и дополненный исходный документ, закрепивший господство клириков в государстве.
Деятельность Центров по контролю и профилактике заболеваний США и организации «Американская коллекция типовых культур» до и во время ирано-иракской войны была описана в рассекреченных правительственных документах. См.: Report: U. S. Supplied the Kinds of Germs Iraq Later Used for Biological Weapons // USA Today, 30 September 2002. Обязательно к прочтению всем студентам, кто интересуется религией и политикой: Harvey Cox. The Secular City (1966); Will Herberg. Protestant, Catholic, Jew (1955).
Блестящее изучение исламского плюрализма представлено в труде: Abdulaziz Sachedina. The Islamic Roots of Democratic Pluralism (2001). Хотя существует несколько книг Абдолкарима Соруша на английском, я рекомендую к прочтению сборник его основных сочинений: Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush. Mahmoud and Ahmad Sadri (transl.), 2002. Цитата из его выступления на приеме по случаю вручения премии «Мусульманский демократ года», присуждаемой Центром изучения ислама и демократии в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2004 г.
11. Добро пожаловать в эпоху исламской Реформации
См.: Muhammad Qasem Zaman. The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change. Princeton: Princeton University Press, 2002.
Подробнее о Лютере и христианской Реформации см.: Diarmade MacCulloch. The Reformation: A History. New York: Viking, 2004.
Опрос Pew Research Center, проведенный в 2010 г., показал, что 94 % мусульман в Ливане выражают резко негативное отношение к «Аль-Каиде», как и большинство мусульман в Турции (74 %), Египте (72 %), Иордании (62 %) и Индонезии (56 %). См.: -around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah.
Приложения
Хронология ключевых событий
570 Рождение Пророка Мухаммада
610 Мухаммад получает первое откровение на горе Хира
622 Эмиграция мусульман (хиджра) в Ятриб (впоследствии – Медина)
624 Битва при Бадре против армии Мекки и курайшитов
625 Битва при Ухуде
627 Битва у рва
628 Худайбийский договор между Мединой и Меккой
630 Победа Мухаммада над курайшитами и занятие мусульманами Мекки
632 Кончина Мухаммада
632–634 Правление Абу-Бакра
634–644 Правление Умара ибн аль-Хаттаба
644–656 Правление Усмана ибн Аффана
656–661 Правление Али ибн Абу Талиба, названного первым имамом в шиизме
661–750 Правление династии Омейядов
680 Убийство при Кербеле Хусейна ибн Али, внука Пророка
750–850 Правление династии Аббасидов
756 Последний принц династии Омейядов Абд ар-Рахман основывает Кордовский эмират в Испании
874 Исчезновение двенадцатого имама, или Махди
934–1062 Правление династии Буидов в Иране, Ираке и Месопотамии
969–1171 Правление династии Фатимидов в Северной Африке, Египте и Сирии
977–1186 Правление династии Газневидов в Хорасане, Афганистане и Северной Индии
1095 Первый крестовый поход по решению папы римского Урбана II
1250–1517 Правление мамлюков в Египте и Сирии
1281–1924 Османская империя
1501–1725 Правление династии Сефевидов в Иране
1526–1858 Правление Великих Моголов в Индии
1857 Индийское восстание против британцев
1924 Создание светской Турецкой республики и крах Османского халифата
1925 Начало правления династии Пехлеви в Иране
1928 В Египте Хасаном аль-Банной основано общество «Братья-мусульмане»
1932 Образование королевства Саудовская Аравия
1947 Образование Пакистана как первого исламского государства
1948 Образование государства Израиль
1952 «Движение свободных офицеров» совершает переворот в Египте, в результате чего к власти приходит Гамаль Абдель Насер
1979 Ввод советских войск в Афганистан
1980 Захват американских заложников в Иране
1987 Первая интифада (палестинское восстание)
1988 Образование ХАМАС
1989 Вывод советских войск из Афганистана
1991 Война в Персидском заливе: образование «Аль-Каиды»
1992 Гражданская война в Алжире
2000 Вторая интифада
2001 Атака «Аль-Каиды» на Нью-Йорк и Вашингтон
2003 Вторжение США в Ирак
2006 Победа ХАМАС на выборах в Палестине
2008 Израильская военная операция в секторе Газа
2009 Протесты Зеленого движения в Иране
2010 Официально завершена миссия США в Ираке
2011 Волна демократических протестов в Северной Африке
2011 Убийство Усамы бен Ладена в Пакистане
Карты
Словарь терминов
Айат стих Корана
Ансары «помощники», члены клана Медины, которые перешли в ислам
Асбаб ан-нузул обстоятельства ниспослания стихов Корана Мухаммаду
Ауситы наряду с хазраджитами один из двух главных арабских языческих кланов в Медине
Ахадийа «единство» (существования), суфийский идеал Божественного единства
Ахл аль-байт «Люди Книги», обычно относится к евреям и христианам (см. зимми)
Ахл/каум народ или племя
Ашариты традиционалистская школа в исламской теологии
Ашура десятый день исламского месяца Мухаррам, кульминация шиитских траурных церемоний
Аятолла «знамение Аллаха», кроме улемов, высший духовный титул, который может достичь шиитский богослов
Байа клятва верности, которую обычно дает племя своему шейху
Байт/бану «дом/сыновья», что означает клан
Барака духовная сила
Басмала обращение, с которого начинается большинство глав (сур) Корана: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного»
Батин тайный, скрытый смысл в Коране
Бида религиозное нововведение
Вали исполнитель божественного послания Аллаха
Ваххабизм пуританская секта ислама, основанная Мухаммадом ибн Абдом аль-Ваххабом в Аравии
Вилаят аль-факих «правление просвещенного», религиозно-политическая идеология, созданная аятоллой Хомейни
Генотеизм вера в одного «Верховного Бога» без явного отказа от других, более низших богов
Джахилийа «Период невежества» до появления ислама
Джизйа налог на защиту, налагаемый на зимми
Джинны незаметные скрытые ду́хи
Джихад борьба или стремление
Дервиш «нищий», общепринятое название суфиев
Дуа неофициальная молитва
Закир шиитский богослов, который рассказывает истории о мучениках во время церемоний Мухаррама
Закят обязательные милостыни, собираемые для мусульманской общины и распространяемые среди бедных
Замзам колодец рядом с Каабой
Захир явное послание Корана
Зикр «поминание», основной ритуал в суфизме
Зимми евреи, христиане и другие немусульмане, которые считаются «людьми Книги» и защищены исламским законом
Иблис дьявол (искажение от лат. diabolus); Сатана
Иджма традиционно согласие между улемами по конкретному правовому вопросу, решение которого не изложено ни в Коране, ни в хадисах
Иджтихад независимое юридическое решение квалифицированного юриста, или муджтахида
Имам в шиизме божественно вдохновленный лидер сообщества
Исламизм исламское движение, главная цель которого – создание исламского государства
Иснад цепь передачи, предназначенная для проверки отдельных хадисов
Ихваны ваххабитские священные воины, которые помогли Саудитам установить власть в Аравии
Кааба древнее святилище в Мекке, в котором, прежде чем оно было очищено Мухаммадом и посвящено Аллаху, находились племенные божества Хиджаза
Каид военный лидер племени в доисламскую эпоху
Калам мусульманское богословие
Кальб «сердце», равнозначное понятию «душа» в суфизме
Кафир неверный
Кахин прорицатель или поэт в доисламской Аравии, который через экстатические ритуалы получал вдохновение от джиннов
Кибла направление во время молитвы в сторону Мекки
Кийас рассуждения по аналогии, используемые в качестве источника при разработке исламского права
Курайшиты правители Мекки в доисламской Аравии
Курра чтецы Корана; первые, кто запоминал, записывал и распространял откровение
Кутб «космический полюс», вокруг которого вращается вселенная
Матам ритуал самобичевания, оплакивающий мученичество Хусейна
Махди «скрытый имам», который скрывается до наступления Судного дня, во время которого он вернется, чтобы возвестить о правосудии
Медресе исламская религиозная школа
Моджахед мусульманский воин, буквально «тот, кто ведет джихад»
Муджтахид мусульманский правовед, достойный подражания и имеющий право делать авторитетные юридические заявления
Мурува доисламский кодекс племенного поведения
Мутазилиты рационалистическая школа исламского богословия
Наби пророк
Насх отмена одного стиха в Коране другим
Нафс «дыхание», «я» или «эго» согласно суфизму
Панарабизм принцип расового единства среди арабов всего мира
Панисламизм принцип религиозного единства среди мусульман всего мира
Пир суфийский учитель (также известный как Шейх или Друг Аллаха)
Расул посланник
Рашидун четверо первых праведных халифов: Абу Бакр, Умар, Усман и Али
Рух Вселенский Дух; дыхание Бога
Салат ритуальная молитва, совершаемая пять раз в день: на рассвете, в полдень, после полудня, на закате и поздним вечером
Салафийа мусульманское реформистское движение, начало которому в Египте положили Мухаммад Абдо и Джамалуддин аль-Афгани
Саум пост
Сподвижники первое поколение мусульман, которые сопровождали Мухаммада во время совершения хиджры из Мекки в Ятриб
Сунна предания о Пророке, составленные из хадисов
Суннизм главная, или «ортодоксальная», ветвь ислама
Сура глава Корана
Суфизм название мистической традиции в исламе
Табиун второе поколение мусульман после Сподвижников
Таваф ритуал семикратного обхода Каабы
Тавиль текстовое толкование Корана, которое фокусируется на скрытом эзотерическом значении текста
Таджвид наука о технике чтения Корана
Такия благоразумное сокрытие своей веры; принцип, практикуемый шиитами
Таклид слепое принятие юридического прецедента
Танзил прямое откровение, переданное Мухаммаду Богом
Тарикат духовный путь, или путь суфия
Тасаввуф состояние суфия
Таухид догмат о единственности и единстве Аллаха
Тафсир традиционалистское толкование Корана
Таханнус доисламская религиозная практика уединения
Топос традиционная тема в литературе
Улемы аппарат духовной власти в исламе
Умма название мусульманского сообщества в Медине
Умм аль-китаб «Мать Книг», божественный источник всех явленных писаний
Умра малое паломничество в Мекку
Факир см. дервиш
Факих исламский богослов-законовед, Верховный правитель Ирана
Фана уничтожение своего Я, которое происходит, когда суфий достигает состояния духовного просветления
Фетва юридическое заявление, сделанное квалифицированным мусульманским юристом
Фикх мистическое созерцание, используемое некоторыми суфийскими орденами
Фитна мусульманская гражданская война
Хадисы истории и предания о Пророке и его первых Сподвижниках
Хадж паломничество в Мекку
Хазраджиты наряду с ауситами, один из двух главных арабских языческих кланов в Медине; первый клан, принявший послание Мухаммада
Хакам судья, который решал споры внутри племени и между племенами в доисламской Аравии
Халиф последователь Мухаммада и светский лидер мусульманского сообщества
Хариджиты радикальная секта, которая откололась от шиизма в период правления халифа Али
Хедив египетский монарх под сюзеренитетом Британской империи
Хиджаб мусульманская практика покрытия вуалью и уединения женщин
Хиджаз регион на западе Аравийского полуострова
Хиджра эмиграция из Мекки в Ятриб (Медина) в 622 г.; 1 г. п. х. (после Хиджры) по исламскому календарю
Шариат исламское право, основными источниками которого являются Коран и хадисы
Шахада свидетельство о вере в исламе: «Нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Аллаха»
Шейх лидер племени или клана, также называемый саййид
Шиизм одна из крупнейших ветвей в исламе, основанная последователями Али
Ширк то, что так или иначе скрывает Единство Одного Бога
Шура совещательное собрание племенных старейшин, где избирался шейх в доисламской Аравии
Эмир правитель мусульманской провинции
Эрфан мистическое знание
Библиография
Монографии
Abbott Nabia. Studies in Arabic Literary Papyri. Chicago, 1957–1972.
Abd al-Rahman al-Bazzaz. Islam and Nationalism. Baghdad, 1952.
Abedi Mehdi and Gary Legenhausen (eds.). Jihad and Shahadat. Houston, 1986.
Abrahamian Ervand. Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. Berkeley, 1993.
Abrahamov Binyamin. Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism. Edinburgh, 1998.
Adams Charles C. Islam and Modernism in Egypt. London, 1933.
Ahmad Barakat. Muhammad and the Jews: A Re-Examination. New Delhi, 1979.
Ahmad Jalal-e. Gharbzadeghi. California, 1997.
Ahmed Leila. Women and Gender in Islam. New Haven, 1992.
Ahmed Rashid. The Taliban. New Haven, 2000.
al-Banna Hasan. Memoirs of Hasan al-Banna Shaheed. Karachi, 1981.
Algar Hamid. Wahhabism: A Critical Essay. New York, 2002.
al-Ghazali. The Alchemy of Happiness. London, 1980.
______. The Foundations of the Articles of Faith. Lahore, 1963.
______. The Niche of Lights. Utah, 1998.
______. The Ninety-nine Beautiful Names of God. Nigeria, 1970.
al-Rasheed Madawi. A History of Saudi Arabia. Cambridge, 2003.
al-Shaibi Kamil M. Sufism and Shi‘ism. Great Britain, 1991.
al-Tabari Abu Ja‘far Muhammad. The History of al-Tabari. Ihsan Abbas et al. (eds.). New York, 1988.
Amin Osman. Muhammad ‘Abduh.Washington, D. C., 1953.
Andrae Tor. Mohammed: The Man and His Faith. New York, 1960
Angha Molana Salaheddin Ali Nader Shah. The Fragrance of Sufism. Lanham, 1996.
Angha Nahid. Ecstasy. California, 1998.
______. Selections. California, 1991.
An-Na’im Abdullahi. Toward an Islamic Reformation. Syracuse, 1990.
Arjomand Said Amir. The Turban for the Crown. New York, 1988.
Armstrong Karen. Muhammad. San Francisco, 1992.
Asani Ali and Kamal Abdel-Malek. Celebrating Muhammad. South Carolina, 1995.
Ash-Shabrawi Abd al-Khaliq. The Degrees of the Soul. London, 1997.
Attar Farid ad-Din. The Conference of the Birds. New York, 1984.
Badawi M. A. Zaki. The Reformers of Egypt. London, 1979.
Baldick Julian. Mystical Islam. New York, 1989.
Ball Charles. The History of the Indian Mutiny. London, 1860.
Bamyeh Mohammed A. The Social Origins of Islam. Minneapolis, 1999.
Baqer Moin. Khomeini: Life of the Ayatollah. New York, 1999.
Barks Colman. The Essential Rumi. San Francisco, 1995.
Baron Salo Wittmayer. A Social and Religious History of the Jews (3 vols.). New York, 1964.
Bell Richard. The Origin of Islam in Its Christian Environment. London, 1968.
Bergen Peter L. Holy War, Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden. New York, 2001.
Berkey Jonathan P. The Formation of Islam. Cambridge, 2003.
Black Anthony. The History of Islamic Political Thought. New York, 2001.
Boyce Mary. History of Zoroastrianism (3 vols.). Leiden, 1996.
______. Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices. New York, 2001.
Bulliet Richard. The Camel and the Wheel. Cambridge, 1975.
______. Islam: The View from the Edge. New York, 1994.
Burckhardt Titus. An Introduction to Sufi Doctrine.Wellingsborough, 1976.
Chelowski Peter. Ta‘ziyeh: Ritual and Drama in Iran. New York, 1979.
Cole Juan R. I. Colonialism and Revolution in the Middle East. Princeton, 1993.
Cooper John et al. (eds.). Islam and Modernity. London, 1998.
Cooperson Michael. Classical Arabic Biography. Cambridge, 2000.
Cox Harvey. The Secular City. New York, 1966.
Cragg Kenneth. The Event of the Qur’an. Oxford, 1971.
______. God’s Rule: Government and Islam. New York, 2004.
______. Readings in the Qur’an. London, 1988.
Crone Patricia. Meccan Trade and the Rise of Islam. New Jersey, 1987.
Crone Patricia and M. A. Cook. Hagarism: The Making of the Islamic World. Cambridge, 1977.
Crone Patricia and Martin Hinds. God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam. Cambridge, 1986.
Dajani-Shakeel Hadia and Ronald A. Messier (eds.). The Jihad and Its Times. Ann Arbor, 1991.
de Bruijn J. T.P. Persian Sufi Poetry. Surrey, 1997.
de Tocqueville Alexis. Democracy in America. New York, 1969.
Donohue John J. and John L. Esposito (eds.). Islam in Transition. New York, 1982.
Doran Michael. Pan-Arabism Before Nasser. Oxford, 1999.
Eliade Mircea. The Myth of the Eternal Return. Princeton, 1954.
______. The Sacred and the Profane. San Diego,1959.
Embree Ainslee. 1857 in India. Boston, 1963.
Ernst Carl. Eternal Garden: Mysticism, History, and Politics at a South Asian Sufi Center. New York, 1992.
______. Teachings of Sufism. Boston, 1999.
Esposito John L. and John O. Voll. Makers of Contemporary Islam. New York, 2001.
Gabrieli Francesco. Muhammad and the Conquests of Islam. New York, 1968.
Gatje Helmut. The Qur’an and Its Exegesis. Berkeley, 1976.
Gelpke R. Layla and Majnun. London, 1966.
Gibb H. A.R. Mohammedanism. London, 1970.
Goiten S. D. Jews and Arabs. New York, 1970.
Goldziher Ignaz. Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton, 1981.
______. Muslim Studies (2 vols.). Albany, 1977.
Graetz Heinrich. History of the Jews (3 vols.). Philadelphia, 1894.
Griffiths C. G. Siege of Delhi. London, 1912.
Haeri Shaykh Fadhlalla. The Elements of Sufism. Great Britain, 1990.
Haim Sylvia G. (ed.). Arab Nationalism. Berkeley, 1962.
Halm Heinz. Shi‘a Islam: From Religion to Revolution. Princeton, 1997.
Helminski Camille Adams. Women of Sufism. Boston, 2003.
Herberg Will. Protestant, Catholic, Jew. New York, 1955.
Hodgson Marshall G. S. The Venture of Islam. Chicago, 1974.
Hourani George. Islamic Rationalism. Oxford, 1971.
Hoyland Robert G. Arabia and the Arabs. New York, 2001.
Hurvitz Nimrod. The Formation of Hanbalism: Piety into Power. London, 2002.
Ibn Batuta. The Travels of Ibn Batuta. Cambridge, 1958.
Ibn Hisham. The Life of Muhammad. Oxford, 1955.
Ibn Rushd. Commentary on Aristotle’s Metaphysics. Leiden, 1984.
______. The Epistle on the Possibility of Conjunction with the Active Intellect. New York, 1982.
______. Three Short Commentaries on Aristotle’s “Topics”, “Rhetoric”, and “Poetics”. Albany, 1977.
Ibn Sina. The Life of Ibn Sina. Albany, 1974.
______. Treatise on Logic. The Hague, 1971.
Israel Milton and N. K. Wagle (eds.). Islamic Societies and Culture: Essays in Honor of Professor
Aziz Ahmad. New Delhi, 1983.
Jafri S. Husain M. Origins and Early Development of Shi‘a Islam. London, 1978.
Juynboll G. H.A. (ed.). Studies on the First Century of Islamic Studies. Carbondale and Edwardsville, Ill., 1982.
Keddie Nikki R. Sayyid Jamal al-Din “al-Afghani”: A Political Biography. Berkeley, 1972.
Kelsay John. Islam and War. Kentucky, 1993.
Kepel Gilles. Jihad: The Trail of Political Islam. Cambridge, 2002.
______. The War for Muslim Minds: Islam and the West. Cambridge, 2004.
Kerr Malcolm H. Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad ‘Abduh and Rashid Rida. Berkeley, 1966.
Khan Inayat. The Unity of Religious Ideals. London, 1929.
Khan Sayyid Ahmed. The Causes of the Indian Revolt. Benares, 1873.
Khomeini Ruhollah. A Clarification of Questions. Boulder, 1984.
______. Islamic Government. New York, 1979.
Kochler Hans. The Concept of Monotheism in Islam and Christianity. Austria, 1982.
Lammens Henri. Islam: Beliefs and Institutions. London, 1968.
Lecker Michael. Muslims, Jews, and Pagans: Studies on Early Islamic Medina. Leiden, 1995.
Lings Martin. What Is Sufism? Cambridge, 1993.
Mackey Sandra. The Iranians. New York, 1996.
Madelung Wilferd. Religious Schools and Sects in Medieval Islam. London, 1985.
______. The Succession to Muhammad. Cambridge, 1997.
Margoliouth D. S. The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam. London, 1924.
Martin Richard. Approaches to Islam in Religious Studies. Oxford, 2001.
Martin Richard et al. Defenders of Reason in Islam. Oxford, 1997.
Massignon Louis. Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism. Bloomington, Ind., 1997.
Mawdudi Abu-l Ala (Mawlana). Nationalism and India. Lahore, 1947.
______. The Islamic Movement. London, 1984.
McCarthy Richard. The Theology of the Ash‘ari. Beirut, 1953.
Mehr Farhang. The Zoroastrian Tradition. Amherst, Mass., 1991.
Menocal Maria Rosa. Ornament of the World. New York, 2002.
Mernissi Fatima. The Veil and the Male Elite. Cambridge, 1991.
Metcalf Thomas. The Aftermath of Revolt. Princeton, 1964.
Mitchell Richard P. Society of the Muslim Brothers. New York, 1969.
Momen Moojan. An Introduction to Shi‘i Islam. New Haven, 1985.
Mottahadeh Roy. The Mantle of the Prophet. New York, 1985.
Naquvi M. A. The Tragedy of Karbala. Princeton, 1992.
Nasr Seyyed Hossein. Islamic Art and Spirituality. New York, 1987.
______. Sufi Essays. London, 1972.
Netton Ian Richard. Sufi Ritual. Surrey, 2000.
Newby Gordon Darnell. A History of the Jews of Arabia. South Carolina, 1988.
Nicholson R. A. The Mystics of Islam. London, 1914.
______. Studies in Islamic Mysticism. Cambridge, 1921.
Nicholson Reynolds. Rumi: Poet and Mystic. London, 1978.
Nurbakhsh Javad. Master and Disciple in Sufism. Tehran, 1977.
Peters F. E. Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land. New Jersey, 1994.
______. The Hajj. New Jersey, 1994.
______. Muhammad and the Origins of Islam. New York, 1994.
Peters Rudolph. Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History. The Hague, 1979.
______. Jihad in Classical and Modern Islam. Princeton, 1996.
Pinault David. The Horse of Karbala. New York, 2001.
______. The Shiites. New York, 1992.
Pourjavady Nasrollah and Peter Wilson. Kings of Love. Tehran, 1978.
Rahnema Ali (ed.). Pioneers of Islamic Revival. London, 1995.
Rashid Ahmed. The Taliban. New Haven, 2000.
Rejwan Nissim. Arabs Face the Modern World. Florida, 1998.
Renard John. Seven Doors to Islam. Berkeley, 1996.
Robinson Neal. Christ in Islam and Christianity. London, 1991.
Rodinson Maxime. Mohammad. New York, 1971.
Rumi Jalal al-Din. Mystical Poems of Rumi (2 vols.). Chicago, 1968.
______. Rumi: Poet and Mystic. London, 1950.
Russell W. H. My Indian Diary. London, 1957.
Sachedina Abdulaziz Abdulhussein. Islamic Messianism. Albany, 1981.
______. The Islamic Roots of Democratic Pluralism. Oxford, 2001.
______. The Just Ruler in Shi‘ite Islam. New York, 1988.
Schacht Joseph. An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1998.
______. Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford, 1950.
Schimmel Annemarie. And Muhammad Is His Messenger. Chapel Hill, N. C., 1985.
______. I Am Wind, You Are Fire: The Life and Works of Rumi. Boston, 1992.
Schubel Vernon. Religious Performance in Contemporary Islam. Columbia, 1993.
Schwartz Martin. Studies on Islam. New York, 1981.
Sells Michael. Desert Tracings: Six Classical Arabian Odes. Connecticut, 1989.
Shaban M. A. Islamic History: A New Interpretation. Cambridge, 1994.
Shah Idris. The Sufis. New York, 1964.
______. The Way of the Sufi. New York, 1969.
Shariati Ali. Fatima Is Fatima. Tehran, 1971.
______. Iqbal: Manifestations of the Islamic Spirit. New Mexico, 1991.
Smith Margaret. Rabi’a the Mystic and Her Fellow-Saints in Islam. Cambridge, 1928.
Smith Wilfred Cantwell. Islam in Modern History. Princeton, 1957.
Soroush Abdolkarim. Reason, Freedom, and Democracy. New York, 2000.
Stillman Norman A. The Jews of Arab Lands. Philadelphia, 1979.
Tabataba‘i Muhammad H. Qur’an in Islam. London, 1988.
______. Shi‘ite Islam. New York, 1979.
Taha Mahmoud. The Second Message of Islam. Syracuse, 1987.
Thompson Edward J. The Other Side of the Medal. London, 1925.
Trevelyan C. E. On the Education of the People of India. Hyderabad, 1838.
Trimingham J. Spencer. The Sufi Orders in Islam. Oxford, 1971.
Troll Christian W. Sayyid Ahmed Khan: A Reinterpretation of Muslim Theology. New Delhi, 1978.
Turner Bryan S. Weber and Islam: A Critical Study. London, 1974.
Von Denffer Ahmad. Ulum al-Quran: An Introduction to the Sciences of the Qur’an. Leicester, 1983.
Wadud Amina. Qur‘an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective. New York, 1999.
Walzer Michael. Just and Unjust Wars. New York, 1977.
Wansbrough John. Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation. Oxford, 1977.
______. The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History. Oxford, 1978.
Watt W. Montgomery. The Faith and Practice of al-Ghazali. London, 1953.
______. Islamic Creeds. Edinburgh, 1994.
______. Islamic Political Thought. Edinburgh, 1968.
______. Muhammad at Mecca. London, 1953.
______. Muhammad at Medina. Oxford, 1956.
______. Muhammad: Prophet and Statesman. London, 1961.
Welch William M. No Country for a Gentleman. New York, 1988.
Wolfson Harry Austryn. The Philosophy of Kalam. Cambridge, 1976.
Zabiri Kate. Mahmud Shaltut and Islamic Modernism. New York, 1993.
Zaheri Dariush. The Iranian Revolution: Then and Now. Boulder, Colo., 2000.
Zakaria Rafiq. The Struggle Within Islam: The Conflict Between Religion and Politics. London, 1989.
Zawati Hilmi M. Is Jihad a Just War? Lewiston, Me., 2001.
Статьи
Abbot Freedland. The Jihad of Sayyid Ahmad Shahid // Muslim World (1962). P. 216–222.
al-Faruqi Lois Ibsen. The Cantillation of the Qur’an // Asian Music 19:1 (1987). P. 2–23.
Arafat W. N. New Light on the Story of Banu Qurayza and the Jews of Medina // Journal of the Royal Asiatic Society (1976). P. 100–107.
Aslan Reza. The Problem of Stoning in the Islamic Penal Code: An Argument for Reform // Journal of Islamic & Near Eastern Law 3 (2004).
______. Thus Sprang Zarathustra: A Brief Historiography on the Date of the Prophet of Zoroastrianism // Jusur: Journal of Middle Eastern Studies 14 (1998–1999). P. 21–34.
Caetani Leone. Uthman and the Recension of the Koran // The Muslim World 5 (1915). P. 380–390.
Conrad Lawrence I. Abraha and Muhammad // Bulletin of the School of Oriental and African Studies 50 (1987). P. 225–240.
Gil Moshe. The Constitution of Medina: A Reconsideration // Israel Oriental Studies 6 (1974). P. 44–65.
______. The Medinan Opposition to the Prophet // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 10 (1987). P. 65–96.
______. Origin of the Jews of Yathrib // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 4 (1984). P. 203–224.
Guillaume Alfred. New Light on the Life of Muhammad // Journal of Semitic Studies (1960). P. 27–59.
Halperin David. The Ibn Sayyad Traditions and the Legend of al-Dajjal // Journal of the American Oriental Society 96 (1976). P. 213–225.
Hawting G. R. We Were Not Ordered with Entering It but Only with Circumambulating It: Hadith and Fiqh on Entering the Kaaba // Bulletin of the School of Oriental and African Studies 47 (1984). P. 228–242.
Huntington Samuel. The Clash of Civilizations // Foreign Affairs 72:3 (Summer 1993). P. 22–49.
Kister M. J. al-Tahannuth: An Inquiry into the Meaning of a Term // Bulletin of the School of Oriental and African Studies 30 (1968). P. 223–236.
______. “A Bag of Meat”: A Study of an Early Hadith // Bulletin of the School of Oriental and African Studies 31 (1968). P. 267–275.
______. “Do Not Assimilate Yourselves…” // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 12 (1989). P. 321–371.
______. The Market of the Prophet // Journal of the Economic and Social History of the Orient 8 (1965). P. 272–276.
______. The Massacre of the Banu Qurayza: A Reexamination of a Tradition // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 8 (1986). P. 61–96.
Nelson Kristina. Reciter and Listener: Some Factors Shaping the Mujawwad Style of Qur’anic Reciting // Ethnomusicology (Spring/Summer 1987). P. 41–47.
Rahman Hannah. The Conflicts Between the Prophet and the Opposition in Medina // Der Islam 62 (1985). P. 260–297.
Reissener H. G. The Ummi Prophet and the Banu Israil // The Muslim World 39 (1949).
Rubin Uri. Hanafiyya and Ka‘ba: An Enquiry into the Arabian Pre-Islamic Background of din Ibrahim // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 13 (1990). P. 85–112.
______. The Ka‘ba: Aspects of Its Ritual Function and Position in Pre-Islamic and Early Times // Jerusalem Studies in Arabic and Islam 8 (1986). P. 97–131.
Словари и энциклопедии
A Dictionary of Buddhism. Damien Keown (ed.). Oxford, 2003.
The Encyclopedia of Gods. Michael Jordan (ed.). Great Britain, 1992.
The Encyclopedia of Indo-European Culture. J. P. Mallory and D. Q. Adams (eds.). New York, 1997.
The Encyclopedia of Islam (11 vols.). H.A.R. Gibb et al. (eds.). Leiden, 1986.
The Encyclopedia of Religion (16 vols.). Mircea Eliade et al. (eds.). New York, 1987.
The Encyclopedia of World Mythology and Legend. Anthony S. Mercatante (ed.). New York, 1988.
The Encyclopedia of World Religions.Wendy Doniger (ed.). Springfield, Mass., 1999.
The New Encyclopedia of Islam. Cyril Glasse (ed.). Walnut Creek, Calif., 2002.
The Oxford Dictionary of World Religions. John Bowker (ed.). Oxford, 1997.
The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. John L. Esposito (ed.). Oxford, 1995.
Сноски
1
Ложные гиды (фр.). – Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.
(обратно)2
Вы говорите по-английски? Вы говорите по-французски? (фр.)
(обратно)3
Вы понимаете? (искаж. фр.)
(обратно)4
В настоящее время большинство арабистов считают, что правильной передачей будет «ал-». В этой книге мы будем придерживаться традиционного написания «аль-» во всех подобных случаях. – Прим. ред.
(обратно)5
Имеется в виду, очевидно, Пакистан как первое в мире, по мнению автора, государство такого типа политического устройства.
(обратно)6
Ось мира (лат.).
(обратно)7
Здесь и далее книги Библии цитируются в Синодальном переводе.
(обратно)8
Здесь и далее Коран цитируется в переводе И. Ю. Крачковского.
(обратно)9
Смысл существования (фр.).
(обратно)10
Чуть больше 400 километров. – Прим. ред.
(обратно)11
Роковая женщина (фр.).
(обратно)12
«Хезболла» и ХАМАС (см. след. стр.) признаны террористическими организациями в США, Канаде, Израиле и нескольких других странах. – Прим. ред.
(обратно)13
Организация, признанная в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической. Ее деятельность запрещена на территории России. – Прим. ред.
(обратно)14
Право ведения войны (лат.).
(обратно)15
Право вступления в войну (лат.).
(обратно)16
Само по себе (лат.).
(обратно)17
Входит в федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Деятельность организации запрещена на территории России. – Прим. ред.
(обратно)18
Идеолог организации «Братья-мусульмане», в Российской Федерации запрещенной и признанной террористической. – Прим. ред.
(обратно)19
Тайна, возбуждающая трепет (лат.).
(обратно)20
По случаю (лат.).
(обратно)21
Признано террористической организацией по решению Верховного суда Российской Федерации. – Прим. ред.
(обратно)22
Фактически (лат.).
(обратно)23
Из ничего (лат.).
(обратно)24
Слово (речь), понятие (смысл) (греч.).
(обратно)25
Здесь имеется в виду террористическая организация «Движение Талибан». – Прим. ред.
(обратно)26
Военный гарнизон недалеко от Лахора в Пенджабе, получивший название от находившейся поблизости усыпальницы мусульманского суфия Баба Саин Мир Мухаммад Сахиба (1550–1635), более известного как Мьян Мир.
(обратно)27
Основатель террористической организации «Братья-мусульмане». – Прим. ред.
(обратно)28
Входит в федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, и запрещено на территории России. – Прим. ред.
(обратно)29
Цит. по: Афган. Территория войны. М.: АСТ, 2014.
(обратно)30
Согласно резолюции Совета безопасности ООН джихадизм признан основным источником международного терроризма. – Прим. ред.
(обратно)31
В соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России. – Прим. ред.
(обратно)32
Имеется в виду основанная им Пакистанская народная партия.
(обратно)33
От предшествующего (лат.) – то есть нечто заранее известное.
(обратно)34
Признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. – Прим. ред.
(обратно)35
На начало 2019 г. данные такие: более двадцати девяти миллионов подписчиков на Facebook и свыше ста миллионов посещений на YouTube. – Прим. ред.
(обратно)36
Под Палестиной в эпоху Римской империи понимается обширная территория, которая охватывает современные Израиль/Палестину, значительную часть Иордании, Сирии и Ливана. – Прим. автора.
(обратно)37
Только писание (лат.).
(обратно)
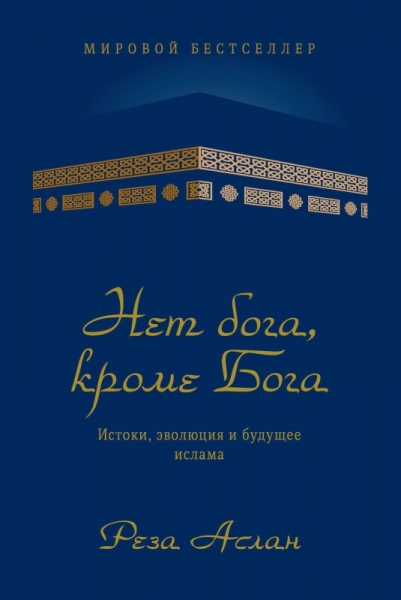

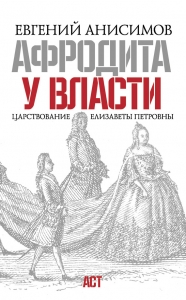

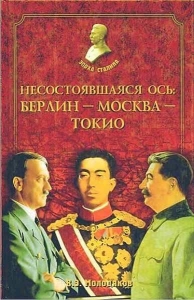


Комментарии к книге «Нет бога, кроме Бога. Истоки, эволюция и будущее ислама», Реза Аслан
Всего 0 комментариев