Реза Аслан Бог: История человечества
Моим сыновьям Сайрусу, Джаспару и Асе, когда они отчалят на корабле собственных духовных исканий
© Aslan Media, Inc., 2017
© Коробейников А.Г., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
* * *
Введение По образу и подобию нашему
В детстве я думал, что Бог – это огромный могущественный старец, живущий на небе, – наподобие моего отца, только более сильный и внушительный, да еще и обладающий волшебными силами. Я представлял его благообразным и седым: длинные светло-серые волосы рассыпались по широким плечам. Он сидел на троне, окутанном облаками. Когда он говорил, его голос сотрясал небеса, особенно если он был в гневе. А гневался он часто. Но так же часто бывал добросердечным и любящим, милосердным и добрым. Он смеялся, когда был счастлив, и плакал, когда печалился.
Не знаю, откуда я взял такой образ Бога. Возможно, я где-то увидел его мельком – на витраже или иллюстрации в книге. А может, я с ним родился. Исследования показали, что маленькие дети независимо от места рождения или степени религиозности с трудом усваивают различия между Богом и людьми, их действиями и состояниями. Когда их просят рассказать о Боге, они неизменно описывают человеческое существо со сверхъестественными способностями [1].
Когда я вырос, то отказался от многих своих детских взглядов. Однако представление о Боге осталось. Моя семья была не особенно религиозной, но я всегда был очарован религией и духовностью. В голове у меня кишели не до конца сформировавшиеся теории о том, что такое Бог, откуда он появился и как выглядит (интересно, что он по-прежнему смахивал на моего отца). Мне недостаточно было просто узнать о Боге: я хотел пережить Бога, почувствовать его присутствие в моей жизни. Но, сколько я ни пытался, единственное, что я мог, – вообразить гигантскую бездну, на одном краю которой стоял Бог, на другом – я, и для любого из нас не было ни одного способа перейти ее.
В подростковом возрасте я обратился от умеренного ислама моих родителей-иранцев к рьяному христианству моих американских друзей. Внезапно все детские стремления думать о Боге как о могущественном человеке со сверхспособностями кристаллизовались в почитание Иисуса Христа: Бог буквально обрел плоть. Сначала мне казалось, что я утоляю жажду, мучившую меня всю жизнь. Долгие годы я пытался найти путь через бездну между Богом и мной. И вот появилась религия, которая утверждала, что бездны не существует. Если я хотел узнать, чтó есть Бог, достаточно было представить совершенного человека.
В этом был определенный смысл. Не проще ли всего устранить препятствия между человечеством и Богом, сделав Бога человеком? Как сказал прославленный немецкий философ Людвиг Фейербах, отзываясь о грандиозном успехе христианской концепции Бога: «Полноценный человек может удовлетвориться только таким существом, которое носит в себе всего человека»[1] [2].
Я впервые прочитал эту фразу Фейербаха в колледже – примерно в то самое время, когда решил отправиться в длительное путешествие по изучению мировых религий. Фейербах, судя по всему, имел в виду то, что почти универсальная потребность в Боге, который выглядит, думает, чувствует и действует так же, как мы сами, вытекает из нашей глубоко укоренившейся потребности видеть в божестве отражение самих себя. Эта истина ошеломила меня, как удар грома. Именно поэтому я в детстве обратился в христианство? Действительно ли я все время поддерживал свое представление о Боге как о зеркале, отражающем мои черты и эмоции?
Эта идея посеяла во мне горькое разочарование. В поисках более расширенной концепции Бога я отказался от христианства и вернулся к исламу: меня привлекало радикальное иконоборчество этой религии – убеждение в том, что Бог не ограничен никакими образами, будь они человеческими или нет. Однако я быстро обнаружил, что отказ ислама от изображения Бога в человеческом облике не приводил к отказу от мыслей о Боге как о человеке. Ничуть не менее прочих верующих мусульмане склонны приписывать Богу собственные добродетели и пороки, чувства и недостатки. Впрочем, у них не то чтобы есть выбор. Как и у большинства из нас.
Оказывается, что желание очеловечивать божественное твердо укоренено в нашем мозге. Вот почему это стало основной чертой почти всех известных миру религиозных традиций. Сам процесс возникновения понятия Бога в ходе человеческой эволюции вынуждает нас – осознанно или нет – наделять Бога нашими чертами. Фактически вся история человеческой духовности – это одна длинная, взаимосвязанная, постоянно развивающаяся и удивительно настойчивая попытка понять божественное, приписав ему наши эмоции и личностные характеристики, наши черты и желания, наделить его нашими сильными и слабыми сторонами, даже нашими телами – проще говоря, сделать Бога нами. Я имею в виду, что чаще всего, пусть и подсознательно, независимо от того, верим мы или нет, подавляющее большинство из нас думают, что Бог – это превосходная версия нас самих, человеческое существо со сверхъестественными способностями [3].
Я не хочу этим сказать, что Бога нет или что идея, которую мы называем Богом, – всецело человеческое изобретение. Оба этих утверждения, впрочем, могут быть правдой, но не являются предметом этой книги. Меня не интересуют доказательства существования или несуществования Бога по той простой причине, что ни тех ни других попросту не существует. Вера – это выбор; любой человек, который говорит обратное, пытается вас переделать. Вы либо решаете верить в то, что существует нечто за пределами материи – нечто реальное, нечто познаваемое, – либо нет. Если вы предпочитаете верить, как и я, то вы должны задать себе другой вопрос: хотите ли вы это испытать? Приобщиться к этому? Познать это? Если да, то стоит выработать язык, на котором можно будет выразить этот в принципе невыразимый опыт.
И тут в дело вступает религия. Если не брать в расчет мифы и ритуалы, храмы и соборы, заповеди, которые тысячелетиями разделяли человечество на разные и часто соперничающие лагери веры, религия – не что иное, как язык символов и метафор, который позволяет верующим, общаясь, донести друг до друга и до себя самих невыразимый опыт веры. И в истории религии есть один символ, который выделился как главный и всеобщий, – великая метафора Бога, от которой происходят почти все остальные символы и метафоры почти во всех мировых религиях, – мы, человеческие существа.
Эта идея, которую я называю «очеловеченным Богом», проникла в наше сознание в тот самый момент, когда к нам впервые пришла сама идея Бога. Она привела к нашим первым попыткам осмысления природы Вселенной и роли человека в ней. Она повлияла на наши первые физические представления об окружающем мире. Вера в очеловеченных богов направляла еще охотников и собирателей, а затем, спустя десятки тысяч лет, заставила нас сменить копье на плуг и заняться сельским хозяйством. Наши первые храмы были построены людьми, которые считали богов сверхчеловеческими существами. Такими они и были в первых религиях. Жители Месопотамии, египтяне, греки, римляне, индийцы, персы, евреи, арабы – все они разработали свои теистические системы, используя человеческие метафоры и образы. То же верно и для нетеистических традиций, таких как джайнизм и буддизм, в которых духи и дэвы считаются сверхъестественными человеческими существами, действующими, как и их собратья, люди, по законам кармы [4].
Даже те современные евреи, христиане и мусульмане, которые изо всех сил пытаются выработать теологически «корректное» представление о едином и единственном Боге, бесплотном и непогрешимом, вездесущем и всеведущем, все равно вынуждены облекать Бога в человеческий образ и говорить о нем как о человеке. Исследования психологов и когнитивистов показывают, что самые преданные верующие, выражая свои мысли и представления о Боге, все равно по большей части говорят о Боге примерно так же, как говорили бы о встреченных на улице людях [5].
Вспомните, как верующие часто говорят о Боге: он добрый, любящий, жестокий, ревнивый, прощающий, милостивый. Все это, конечно, человеческие свойства. Однако сама эта настойчивость в использовании человеческих эмоций для описания чего-то – чем бы оно ни было – определенно нечеловеческого только еще сильнее демонстрирует нашу сущностную потребность проецировать собственные свойства на Бога, даровав ему не только все лучшее в человеческой природе (способность к безграничной любви, эмпатию, готовность выказывать сострадание, жажду справедливости), но и все худшее в ней (агрессию и жадность, предубеждения и фанатизм, склонность к крайне жестоким поступкам).
Несложно понять, что из этого естественного желания очеловечить божественное вытекают определенные последствия. Ведь когда мы наделяем Бога человеческими свойствами, мы по сути обожествляем эти свойства, так что все хорошее и плохое в наших религиях лишь отражает то хорошее и плохое, что есть в нас самих. Наши желания становятся желаниями Бога – безграничными. Наши действия становятся действиями Бога – но без последствий. Мы порождаем сверхъестественное существо, наделенное человеческими свойствами, но без человеческих ограничений. Мы моделируем наши религии и культуры, наши сообщества и правительства в соответствии с нашими человеческими требованиями, при этом постоянно убеждая себя, что эти требования – божественные.
Это лучше всего объясняет, почему на протяжении всей человеческой истории религия порождала и бесконечное добро, и невыразимое зло; почему одна и та же вера в одного и того же Бога рождает любовь и сострадание в одном верующем, в то время как в другом – ненависть и жестокость; почему два человека, обратившись к одному и тому же священному тексту в одно и то же время, могут вынести из него два радикально противоположных толкования. Действительно, большинство религиозных конфликтов, которые продолжают сотрясать мир, проистекают из нашего врожденного, неосознанного желания сделать самих себя апофеозом того, что есть Бог и чего хочет Бог, кого Бог любит и кого Бог ненавидит.
Мне потребовалось еще много лет, чтобы понять, что идея Бога, к которой я стремился, была просто слишком обширна, чтобы ее можно было найти в какой-то одной религиозной традиции, поэтому единственный способ действительно испытать божественное заключался в расчеловечивании Бога в собственном духовном сознании.
Так что эта книга – не только история того, как мы очеловечили Бога. Это также призыв перестать навязывать Богу наши человеческие страсти и развить более пантеистический взгляд. Это по меньшей мере напоминание о том, что независимо от того, верите вы в одного Бога, в нескольких богов или не верите вовсе, это мы создали Бога по своему образу и подобию, а не наоборот. И эта истина открывает нам путь к более зрелой, более мирной, первичной форме духовности.
Часть I Душа в теле
1 Адам и Ева в раю
В начале была бездна. Тьма. Хаос. Безбрежное море пустоты, бесформенной и бессущностной. Ни неба, ни земли, ни морей-океанов. Ни богов с их манифестами, ни названных имен, ни означенных судеб вплоть до… вспышки, лучей света и внезапного расширения времени и пространства, энергии и материи, атомов и молекул – строительных кирпичиков сотни миллиардов галактик, каждая из которых усеяна сотней миллиардов звезд.
Близ одной из таких звезд частичка пыли размером в микрометр сталкивается с другой и через сотни миллионов лет разрастания начинает вращаться, набирать массу, формирует кору, образует океаны и землю и, совершенно неожиданно, жизнь: сначала простую, потом сложную; сначала ползающую, потом ходящую.
Протекают тысячелетия, ледники надвигаются, а затем уходят с поверхности земли. Тают ледяные шапки, поднимаются моря. Континентальные ледовые поля размягчаются и наползают на низкие холмы и долины Европы и Азии, превращая бескрайние леса в голые пустоши. Здесь-то и появляются первые представители нашего вида – «исторические» Адам и Ева, если угодно – Homo sapiens, человек разумный.
Высокие, прямоходящие, крепко сложенные, с широкими носами и прямыми лбами, Адам и Ева начали эволюционировать где-то в 300 000–200 000 годах до н. э.[2], став последней ветвью генеалогического древа человечества. Расселение из Африки произошло примерно 100 000 лет назад, когда Сахара вовсе не была безжизненной пустыней, как сейчас, но землей полноводных озер и цветущей зелени. Первые выходцы из Африки в несколько этапов пересекли Аравийский полуостров, рассеялись к северу по степям Центральной Азии, направились на восток к Индийскому субконтиненту, через море в Австралию, на запад через Балканы, пока не достигли юга Испании и края Европы.
По дороге им встречались более ранние виды мигрирующих представителей того же рода: прямоходящий Homo erectus, проделавший подобное путешествие в Европу сотнями тысяч лет ранее; крепкий Homo denisova, кочевавший по равнинам Сибири и Восточной Азии; Homo neanderthalensis с мощной грудью – те самые неандертальцы, которых Homo sapiens либо уничтожил, либо ассимилировал (точно никто не знает) [1].
Адам – охотник, так что, если будете его рисовать, не забудьте копье и шкуру мамонта, наброшенную на плечи. Его превращение из жертвы в хищника оставило генетический отпечаток – охотничий инстинкт. Он может долго выслеживать добычу, терпеливо выжидая момента, чтобы нанести жестокий удар. Убивая, он не набрасывается на мясо и не пожирает его на месте, а забирает в укрытие, чтобы разделить с соплеменниками. Уместившись под широким пологом из шкур животных, натянутых на кости мамонта, он готовит себе еду на очаге, обложенном камнями, а остатки пищи складывает в ямы, вырытые глубоко в вечной мерзлоте.
Ева тоже охотница, но предпочитает не копье, а сеть, которую несколько месяцев или даже лет ткала из нежных растительных волокон. Сидя в лесу на земле в тусклом утреннем свете, она осторожно расставляет силки по мшистой поверхности и терпеливо ждет, пока в них попадется незадачливый кролик или оплошавшая лиса. Меж тем ее дети прочесывают леса в поисках съедобных растений, выкапывают грибы и корешки, собирают земноводных и крупных насекомых и несут в лагерь. Все сгодится, чтобы накормить общину [2].
Инструменты, которые у Адама и Евы с собой, – кремневые или каменные, но это не одноразовые безделушки, подобранные с земли, а то, что используется постоянно: долговечные, искусно обработанные – они изготовлены, а не найдены. Адам и Ева переносят инструменты из одного укрытия в другое и периодически меняют их на более совершенные, или же на безделушки из слоновой кости или оленьего рога, или подвески из костей, зубов и раковин моллюсков. Эти вещи они считают драгоценными и не делятся ими с другими членами общины. Когда кто-то из них умирает и его хоронят в земле, эти предметы хоронят вместе с ним, чтобы покойник мог продолжать владеть ими в грядущей жизни [3].
А она настанет, в этом Адам и Ева уверены. Иначе зачем утруждать себя похоронами? Практических причин закапывать мертвых у них нет. Гораздо проще оставить тела на виду, чтобы они разложились или были дочиста обклеваны птицами. Но они настаивают на том, чтобы закапывать тела своих друзей и родных, ограждать их от разрушительного действия природы, выказывая им толику уважения. Например, они кладут трупы определенным образом – вытягивают или, напротив, придают позу зародыша, ориентируя на восток, навстречу восходящему солнцу. Порой они снимают скальп или всю кожу с головы и перезахоранивают ее отдельно или же выставляют напоказ, снабжая искусственными глазами, чтобы имитировать пристальный взгляд. Иногда они даже раскалывают череп, вынимают мозг и пожирают его.
Тело же они покрывают кроваво-красной охрой (этот цвет символизирует жизнь), кладут на ложе из цветов и украшают ожерельями, ракушками, костями животных или предметами, которые были дороги мертвецу и которые могут ему понадобиться в следующей жизни. Вокруг тела зажигают костры и совершают жертвоприношения. Они даже кладут на могилу камни, чтобы отметить ее место и многие годы находить и посещать ее [4].
Предполагается, что Адам и Ева делают это, потому что верят: мертвые не умерли, а просто ушли в другой мир, доступный и живым во сне и видениях. Тело может гнить, но какая-то часть человека остается. Эта часть совершенно отдельна от тела – это душа, за неимением лучшего слова [5].
Как они дошли до этой идеи, неизвестно. Но она ключевая для их самоощущения. Адам и Ева, вероятно, интуитивно знают, что являются воплощенными душами. Это настолько первобытные и врожденные верования, так широко распространенные и укорененные, что их следует считать не менее чем отличительным признаком человеческого существования. И действительно, Адам и Ева унаследовали это убеждение от своих предшественников – неандертальцев и Homo erectus. Те тоже, судя по всему, практиковали различные формы ритуальных захоронений, и это наверняка означает, что и они верили в существование души, отдельной от тела [6].
Если душа отделена от тела, то она может это тело пережить. А если душа переживает тело, то видимый мир должен изобиловать душами всех, кто когда-либо жил и умер. Эти души Адам и Ева способны воспринимать; они существуют в бесчисленных формах. Отделившись от тела, они становятся духами, способными населять все и вся – птиц, деревья, горы, солнце, луну. Все это пульсирует жизнью; все это – существа одушевленные.
Настанет день, когда эти духи будут полностью очеловечены, снабжены именами и мифологией, станут считаться сверхъестественными существами и, наконец, начнут почитаться как боги, к которым возносят молитвы.
Но мы пока еще до этого не дошли.
Однако не таким уж большим шагом для Адама и Евы будет заключить, что их души – то, что делает их ими, – не так уж отличаются по форме или сущности от душ тех, кто их окружает, и тех, кто был до них, от душ деревьев или гор. Кем бы они ни были, что бы ни определяло их существование, они делят это со всеми созданиями. Они – часть целого.
Подобные верования называются анимизмом – приписыванием духовной сущности, или «души», всем объектам, а не только людям. И это, по всей вероятности, самое раннее в истории человечества выражение того, что можно считать религией [7].
Наши первобытные предки, Адам и Ева, первобытны только в плане используемых ими инструментов и технологий. Их мозг имеет такой же объем и настолько же развит, как и у любого из нас. Они способны к абстрактному мышлению и владеют языком, с помощью которого делятся друг с другом мыслями. Они разговаривают так же, как мы. Они думают так же, как мы. Они фантазируют и творят, общаются и рассуждают так же, как мы. Проще говоря, они – это мы, полноценные и завершенные человеческие существа.
И, будучи полноценными и завершенными человеческими существами, они способны к критике и экспериментам. Они могут мыслить по аналогии для построения сложных теорий о природе реальности. Они могут формировать последовательные верования на основании этих теорий и сохранять свои верования, передавая их из поколения в поколение.
Собственно, почти везде, где ступала нога Homo sapiens, остались следы этих верований, а нам нужно лишь обнаружить их. Некоторые были сродни памятникам под открытым небом и потому по большей части не выдержали испытания временем. Другие были погребены в курганах, которые даже сейчас, десятки тысяч лет спустя, недвусмысленно свидетельствуют о ритуальных действиях. Но нигде мы не можем войти в такой тесный контакт с нашими древними предками, нигде они так не проявляют свои человеческие качества, как в искусно раскрашенных пещерах, которыми испещрен ландшафт Евразии и которые, подобно отпечаткам стоп, фиксируют пути миграции [8].
Насколько мы можем судить, основополагающим для системы верований Адама и Евы было представление о многоуровневой структуре мира. Земля – это средний уровень, расположенный между куполом небес и чашей подземелья. Горних высей можно достичь лишь во снах и измененных состояниях сознания, и способен на это обычно лишь шаман – человек, который действует как посредник между духовным и материальным мирами. Но в нижний мир может попасть любой человек, просто спустившись под землю. Он проберется в глубь пещеры и грота (порой на пару километров и даже больше) и нарисует красками, вырежет или выдолбит свои убеждения прямо на скале, которая и будет служить мембраной, соединяющей миры [9].
Пещеры с наскальными рисунками встречаются даже в Австралии и на островах Индонезии. Они обнаружены по всей Евразии: Капова пещера на Южном Урале в России, пещера Кучулат на западе Румынии, множество пещер в верхней долине сибирской реки Лены. Самые старые и потрясающе сохранившиеся образцы доисторических наскальных изображений можно найти в горных регионах Западной Европы. На севере Испании большой красный диск был нанесен на стену пещеры Эль-Кастильо около 41 000 лет назад – примерно тогда Homo sapiens впервые пришли в этот регион. Множество таких пещер в Южной Франции – от Фон-де-Гом и Комбарель в долине Везера до пещер Шове, Ласко и пещер реки Вольп у подножия Пиренеев [10].
Пещеры реки Вольп в особенности дают уникальную возможность взглянуть на цели и функционирование этих подземных святилищ. Пещеры состоят из трех связанных друг с другом полостей, которые проделало в известняке упорство реки Вольп: на востоке – Энлен, на западе – Тюк-д’Одубер, а в центре – Труа-Фрер, названная в честь трех братьев-французов, случайно открывших эти пещеры в 1912 году.
Первым пещеры изучил французский священник и археолог Анри Брёйль, известный как аббат Брёйль. Он тщательно от руки скопировал всю сокровищницу найденных внутри изображений. Его работа открыла окно в туманное прошлое и позволила нам создать правдоподобную интерпретацию поразительного духовного путешествия, которое наши доисторические предки могли предпринять десятки тысяч лет назад [11].
Это путешествие начинается примерно в полутораста метрах от входа в первую пещеру комплекса Вольп – Энлен, в небольшом «предбаннике», который ныне именуется Залом мертвых. Отметим, что Адам и Ева не живут в этих пещерах; они не «пещерные люди». Большинство пещер с рисунками труднодоступны и не подходят для проживания человека. Вход в них подобен переходу через порог, преодолению границы между видимым и трансцендентальным мирами. Некоторые пещеры имеют признаки длительной деятельности, другие – нечто наподобие прихожей, где, по археологическим данным, верующие могли вместе спать и есть. Но это не жилые пространства, а сакральные. Это и объясняет, почему рисунки, которые в них обнаружены, часто находятся на большом расстоянии от входа в пещеру, так что увидеть их можно только после рискованного прохода по подземным лабиринтам.
В пещерах Вольп Зал мертвых служил своего рода плацдармом, где Адам и Ева могли подготовиться к грядущему опыту. Здесь их окутывала удушливая вонь горящих костей. По всему полу пещерного зала встречаются утопленные вглубь кострища, пылающие грудами костей животных. Конечно, кости – хорошее топливо, но жгли их здесь не поэтому. В конце концов, в лесах у подножия Пиренеев нет недостатка в древесине, ее гораздо больше, чем костей, да и добыть ее куда проще.
Дело в том, что кости животных, как считалось, обладают свойствами посредников: они находятся внутри плоти, но не являются ее частью. Вот почему их так часто собирали, полировали и носили как украшения. Вот почему из них делали талисманы, умело вырезая изображения бизонов, северных оленей или рыб, причем чаще всего это были кости других животных. Иногда кости помещались непосредственно в трещины и расщелины на стенах пещер. Возможно, это была своего рода молитва, средство передачи сообщений в мир духов.
Сжигание в очагах костей, скорее всего, было нужно, чтобы впитать в себя сущность этих животных. Всепобеждающие запахи тлеющих костей и костного мозга в таком тесном пространстве были своего рода благовониями, освящавшими всех, кто здесь собрался. Представьте себе, как Адам и Ева часами просиживают в этой «прихожей», окутанные дымом и покачивающиеся вместе со своей родней под пульсирующий ритм барабанов из кожи животных, под дребезжащее эхо дудочек из костей стервятников и звяканье ксилофонов, сделанных из полированных кремневых лезвий (все это в больших количествах находят в этой пещере и подобных ей), пока не достигают блаженного состояния, необходимого для продолжения путешествия [12].
Адам и Ева не праздно прогуливаются по пещерам. Каждый зал, каждая ниша, все разломы, коридоры и выемки имеют свою цель – все это сделано сознательно, чтобы стимулировать экстатическое переживание. Это тщательно контролируемый процесс, так что движение по проходам и закоулкам, считывание изображений на стенах, полах и потолках вызывает конкретный эмоциональный отклик, нечто родственное следованию по крестному пути в средневековой церкви.
Сначала они должны встать на четвереньки и проползти по 60-метровому проходу, который связывает Энлен со второй пещерой комплекса – Труа-Фрер. Так они входят в совершенно иной мир, настолько отличающийся от мира первой пещеры, что это не может быть простой случайностью. Именно во второй пещере Адам и Ева сталкиваются с наскальной живописью, которая служит неотъемлемой частью их духовной жизни.
Главный проход в Труа-Фрер разветвляется на две узкие тропы. Та, что отходит влево, ведет к протяженному залу с несколькими рядами красных и черных пятен разного размера. Эти пятна представляют собой самую раннюю форму наскальной живописи: в некоторых пещерах они появились, как считается, более 40 000 лет назад. Никто точно не знает, что обозначают эти точки. Возможно, это записи духовных видений. А возможно, это мужские и женские символы. Однако мы почти уверены в том, что пятна неслучайно именно так расположены на стенах. Напротив, этот порядок часто очевиден и повторяется от зала к залу. Существует предположение, что эти пятна – форма инструкций или информации, своего рода код, передающий жизненно важные сведения искателям духовного опыта, погружающимся все дальше в недра земли [13].
Тропа справа от главного прохода в Труа-Фрер поворачивает еще к одному маленькому и темному залу, который называют Галереей рук. Стены здесь испещрены не точками, а десятками отпечатков рук. Это наиболее распространенная и узнаваемая форма наскального искусства, существующая в природе. Первые отпечатки рук стали оставлять примерно 39 000 лет назад. Они встречаются не только в Европе и Азии, но и в Австралии, на Калимантане, в Мексике, Перу, Аргентине, в пустыне Сахара и даже в США. Отпечатки делались двумя способами: либо руку погружали во влажный пигмент и прижимали к стене пещеры, либо же руку сразу прислоняли к стене и через выдолбленную кость животного разбрызгивали вокруг охру, создавая негативное изображение. Сама по себе охра имела сакральную функцию: кроваво-красная краска служила мостиком между материальным и духовным мирами [14].
Самое интересное в этих отпечатках рук то, что их почти никогда не оставляли на гладкой и легкодоступной поверхности, как можно было бы ожидать. Напротив, их скопления наблюдаются в совершенно определенных местах: сверху от сколов и разломов или рядом с ними, внутри вогнутых участков стен или между рядами сталагмитов, на высоких потолках или в других труднодоступных местах. Некоторые отпечатки имеют такую форму, что руки, их оставившие, видимо, держались за камень. У других отпечатков согнуты или вообще отсутствуют пальцы. Некоторые из них явно оставлены одной и той же рукой, но при этом на отпечатках каждый раз не хватает разных пальцев, что дает основания предполагать, что эти отпечатки рук, как и красные и черные точки, могут быть древней формой символического общения – своего рода примитивным языком знаков. И действительно, сверхъестественное сходство между отпечатками ладоней, найденными в противоположных концах земного шара, может свидетельствовать об общем происхождении этой практики, которая в таком случае предшествовала миграции Homo sapiens из Африки около 100 000 лет назад. Возможно, что люди, оставившие отпечатки ладоней в Индонезии и Западной Европе, говорили на одном и том же символическом языке.
Весьма любопытно, что современные ученые считают: большинство отпечатков рук, найденных в пещерах Евразии, принадлежало женщинам. Это опровергает представление о том, что связанные с пещерами ритуалы были по преимуществу мужским занятием. Возможно, доступ к определенным залам или действиям был ограничен и предоставлялся лишь участникам определенных ритуалов или инициаций. Однако в самих святилищах, судя по всему, бывали все члены общин: мужчины и женщины, старые и молодые [15].
Негативные и позитивные отпечатки рук, найденные в Куэва-де-лас-Манос, Санта-Крус, Аргентина (ок. 15 000–11 000 гг. до н. э.)
© Mariano / CC-BY-SA‐3.0 / Wikimedia Commons
При слабом свете мерцающего пламени Адам и Ева осторожно, на ощупь пробираются по залу, чувствуя любые изменения в стене: неровность поверхности, теплые и холодные участки. Они ищут именно то место, где можно оставить отпечатки своих рук. Это процесс долгий и интимный, требующий тщательного ознакомления с каменистой поверхностью. Только оставив свои отпечатки, они готовы продолжить путешествие в самое сердце пещеры – в маленькое, тесное пространство, спрятавшееся в опасно скошенном, почти недоступном уголке комплекса. Эту комнатку Брёйль назвал Святилищем.
Стены здесь практически пульсируют ярко раскрашенными изображениями животных – как нарисованными, так и вырезанными в скале. Их здесь сотни, они часто нанесены одно поверх другого и застыли в ажиотаже движения: бизоны, медведи, лошади, северные олени, мамонты, горные козлы, а также существа загадочные и неопознаваемые – одни слишком фантастичны, чтобы быть настоящими, другие размывают границу между человеком и животным.
Называть эти рисунки изображениями не совсем корректно. Как и точки или отпечатки рук, это символы, отражающие анимистические представления наших далеких предков о том, что все живое взаимосвязано и обладает общим мировым духом. Именно поэтому животные редко изображаются в этих пещерах в естественной среде. Их обычно рисовали в движении, слегка расплывшимися. Но на рисунках нет ни травы, ни деревьев, ни кустарников, ни водных потоков, среди которых звери могли бы передвигаться; у них в прямом смысле нет почвы под ногами. Животные словно бы парят в пространстве вниз головой под странными, невозможными углами. Они кажутся плодом галлюцинаций, они лишены контекста, ирреальны [16].
Распространено предположение, что наскальные рисунки были элементом так называемой охотничьей магии и должны были помочь охотникам выследить и убить жертву. Однако животные, изображенные внутри пещер, по большей части не соответствуют тем, которые бродили по земле. Археологические находки доказали очень слабую связь между животными с рисунков и теми, кто на самом деле входил в рацион первобытных художников. Животные редко изображаются убитыми, пойманными или страдающими, в том числе от боли. В пещерах почти нет следов насилия. Некоторые рисунки иссечены резкими линиями, которые обычно считают копьями или стрелами, втыкающимися в бока животных. Но при более пристальном взгляде можно понять, что эти линии не входят в тело, а исходят из него. Эти линии изображают ауру или дух животного – его душу. Французский антрополог Клод Леви-Стросс писал, что первобытные люди выбирали животных для изображения не потому, что их было «приятно есть», а потому, что о них было «приятно думать» [17].
Адам и Ева приходили в эти пещеры не затем, чтобы рисовать известный им мир. Зачем бы им это делать? Они здесь, чтобы воображать мир, существующий помимо их собственного. Они не столько рисовали бизонов и медведей на стене пещеры, сколько высвобождали изображения из стены. Стоя в тусклом свете узкого прохода, осматривая и ощупывая стену пещеры, они ждут, когда им явится изображение. Кривая линия на стене становится бедром антилопы. Скол или разлом – начало изображения рога северного оленя. Иногда нужно всего лишь что-то добавить – немного краски здесь, глубокий желобок там, – и естественная форма стены пещеры превратится в мамонта или козерога. Их задача в любом случае состояла не в том, чтобы создать изображение с нуля, а в том, чтобы его закончить.
Изображения часто спрятаны за столбами или размещены так, чтобы их можно было заметить только с определенных углов и только несколькими людьми одновременно. Это свидетельствует о том, что вся пещера, а не только изображения в ней, считалась частью духовного опыта. Пещера становится мифограммой – ее нужно интерпретировать, как, например, скульптуры [18].
Если пещеры Вольп – это форма письма, то Адам и Ева уже подбираются к его основному принципу, и это именно тот момент, когда тайна всего, что было ими испытано до сих пор, будет открыта самым великолепным образом.
В дальнем углу Святилища есть туннель – такой узкий, что пройти по нему одновременно могут только один-два человека. Для этого им приходится медленно карабкаться на четвереньках, потому что туннель еще и уходит вверх по узкому уступу в паре метров от пола пещеры. Забравшись, они могут выпрямиться и осторожно пойти по уступу, спиной к стене, держась руками за скалу, чтобы не упасть. Через несколько метров уступ расширяется, что позволяет им наконец развернуться к стене лицом. И только тогда, подняв глаза к потолку, они могут увидеть величественное изображение целого комплекса – настолько потрясающее, настолько непостижимое уму, что его почти невозможно описать.
Это изображение человека, можно сказать наверняка. Но это больше, чем просто человек. У него человеческие ноги и ступни, уши оленя и глаза совы. Длинная кустистая борода спускается с подбородка на грудь. От головы отходят два прекрасно выполненных рога. Его руки напоминают медвежьи лапы. Мускулистые торс и бедра принадлежат антилопе или газели. Между задних ног – большой, полуэрегированный пенис, закручивающийся кверху и назад и почти задевающий поднятый конский хвост, который растет из ягодиц. Кажется, что фигура изображена в танце: контур тела наклонен влево. Но она смотрит на зрителя широко открытыми, подведенными черным совиными глазами с маленькими белыми зрачками, устремленными в одном направлении.
Фигура уникальна для этих пещер тем, что выгравирована и раскрашена одновременно; ее постоянно видоизменяли, перерисовывали и перекрашивали в течение, возможно, тысяч лет. Слабые следы краски сохранились на носу и лбу. В некоторых местах детализация просто превосходна: например, видна коленная чашечка на левой ноге. Другие же части выполнены небрежно. Передние лапы выглядят особенно спешно нарисованными и кажутся неоконченными. Высота всей фигуры – около 75 сантиметров, она намного превосходит размерами любое другое изображение в зале. Кем бы это существо ни было, оно господствует в пещерном зале, паря во тьме.
Колдун (согласно интерпретации Анри Брёйля). Пещера Труа-Фрер, Монтескьё-Авантес, Франция (ок. 18 000–16 000 гг. до н. э.)
© David Lindroth, Inc.
Когда век назад Анри Брёйль впервые увидел эту фигуру, он был поражен. Это было, безусловно, культовое изображение, предназначенное для почитания и, возможно, даже поклонения. Одна доминирующая антропоморфная фигура, обособленная от остальных, – такого в пещерах не встречали. Благодаря тому, что изображение существа находится гораздо выше уровня взгляда, кажется, что оно главенствует над всеми животными, собранными в Святилище. Сначала Брёйль предположил, что фигура изображает шамана, одетого в костюм некоего гибридного животного. Он окрестил изображение «колдуном», и имя прижилось [19].
Легко понять такую первичную интерпретацию. В первобытных сообществах считалось, что шаманы одной ногой стоят в этом мире, а другой – в мире ином. Они умели входить в измененное состояние сознания и покидать свои тела, путешествуя в мир духов и принося оттуда вести, обычно с помощью животного-проводника [20].
Именно из-за связи с животными Брёйль предположил, что загадочное существо – это шаман, возможно изображенный в процессе трансформации – покидающим свое тело для путешествия в мир иной. С тех пор в евразийских пещерах было найдено по меньшей мере семьдесят таких гибридных фигур людей-животных, и большинство из них, как предполагают, тоже изображают шаманов. Во французской пещере Шове на каплевидном камне, «свисающем» с потолка, выгравировано изображение получеловека-полубизона; его тело перекрыто безошибочно опознаваемым изображением вагины. На стенах Ласко изображен один человек с лошадиной головой, а другой – с головой птицы, лежащий перед атакующим быком. Недалеко от очертаний Колдуна в пещерах Вольп есть гораздо более мелкая фигура бизона с человеческими руками и ногами, играющего на чем-то вроде флейты, прикрепленной к ноздрям [21].
Однако эти гибридные фигуры изображают шаманов не в большей степени, чем рисунки животных – настоящих животных. Как и точки, как и отпечатки рук, как и практически все остальное в этих пещерах, гибридные фигуры – это символы, которые отражают «мир иной», то есть мир за гранью материи.
Уже Брёйль понимал, что в Колдуне есть что-то уникальное. Ведь это был не просто гибрид человека и животного, но некая смесь разных видов животных, дающая в итоге единое, активное, одушевленное существо, каких еще никогда не находили в пещерах с наскальной живописью. Так что, подумав, он изменил мнение относительно собственной находки и заключил, что странное, похожее на плод галлюцинации создание, взирающее на него свыше, на самом деле не было шаманом. В своем блокноте он записал, что нашел первое в истории изображение Бога [22].
2 Властелин животных
Бог, с которым Брёйль, по его мнению, внезапно столкнулся в пещерах Вольп, был уже многие годы известен специалистам по религии. Это древнее божество – возможно, одно из первых в истории – считалось повелителем животных, властелином и защитником лесов. К нему могли обращаться с молитвами о помощи в охоте или приносить жертвы, чтобы умилостивить его гнев, из-за которого пропали все животные. Ему принадлежали души всех животных; он один мог выпускать их на свободу, а после того, как их убьют на охоте и съедят, он один мог снова забирать их души себе. Его называют Властелином животных [1].
Властелин животных не только один из старейших богов в истории религии, но и один из самых широко распространенных. В каком-то варианте это божество присутствует почти на всех континентах – в Евразии, в Северной Америке, в Центральной Америке. Его изображение можно найти на каменных сосудах Месопотамии, датируемых концом IV тысячелетия до н. э. На ручке ножа из кремня и слоновой кости, изготовленного в Египте примерно в 3450 году до н. э., задолго до воцарения фараонов, выгравирована фигура Властелина животных, сжимающего в каждой руке по льву. В долине Инда Властелин животных ассоциировался как с зороастрийским богом Ахурамаздой, так и с индуистским Шивой, особенно в его воплощении Пашупати – Владыки всех животных. Энкиду, косматый герой вавилонского «Эпоса о Гильгамеше» – одного из первых письменно зафиксированных мифов в истории, – это типичный Властелин животных, как и Гермес, а иногда и Пан – полукозел-получеловек, бог природы из греческой мифологии.
Даже еврейский бог Яхве порой предстает в Библии как Властелин животных. В Книге Иова он похваляется тем, что пускает дикого осла на свободу; что заставляет страуса нести яйца на землю, чтобы их могли собирать люди; что приказывает дикому быку позволить усмирить себя веревками и боронить долины по велению человека (Иов. 39). В современном мире некоторые приверженцы викки и неоязычества почитают Властелина животных как Рогатого Бога – мифологическое существо из кельтских мифов.
Как идея странного доисторического божества, которая зародилась еще в палеолите, десятки тысяч лет назад, попала в Месопотамию и Египет, в Иран и Индию, к грекам и евреям, к американским ведьмам и европейским неоязычникам? Точнее, как наши доисторические предки перешли от примитивного анимизма к сложной системе верований, которая ставит Властелина животных на первое место?
Эти вопросы столетиями волнуют теологов и религиоведов. Что побуждало древних людей верить в «духовных существ»? Дал ли религиозный импульс нам преимущество в стремлении к доминированию над всеми остальными биологическими видами? Были ли Homo sapiens первым видом с религиозными убеждениями, или же свидетельства схожих верований существуют у их предшественников?
Большинство ученых согласны в том, что религиозный импульс восходит к нашему далекому палеолитическому прошлому. Но насколько далекому? Об этом идут ожесточенные споры. Палеолитическая эра формально разделена на три периода: нижний палеолит (2,5 млн – 200 000 лет до н. э.), когда Homo sapiens появились впервые; средний палеолит (200 000–40 000 лет до н. э.), к которому относятся первые образцы пещерной живописи; и верхний палеолит (40 000–10 000 лет до н. э.), когда наблюдается расцвет полноценных религиозных представлений, включающий свидетельства существования сложного ритуального поведения.
Неудивительно, что большая часть религиозных артефактов, открытых на данный момент – включая Колдуна, который датируется XVI–XIV тысячелетиями до н. э., – относится к верхнему палеолиту. Однако новые открытия и улучшение методов датировки постоянно заставляют нас пересматривать этап человеческой эволюции, к которому можно отнести появление религиозного чувства. Например, на отдаленных индонезийских островах исследователи недавно нашли пещеры с рисунками почти того же периода, что Эль-Кастильо в Испании (около 41 000 лет назад), причем не с абстрактными символами, как в испанской пещере, а с четко идентифицируемыми фигурами животных – например, бабируссы, «свиньи-оленя» с телом в форме луковицы. Наличие таких сложных изображений в другой части мира свидетельствует о том, что пещерная живопись может оказаться гораздо старше, чем мы думали, возможно, на десятки тысяч лет [2].
Эта точка зрения устоялась после недавнего открытия пещеры в испанской Малаге: там изображено нечто очень похожее на процессию морских котиков, сходящих со сталактитовой колонны. Интересно, что, по данным радиоуглеродного анализа, изображения были сделаны 42 300–43 500 лет назад, то есть даже не руками Homo sapiens, которые тогда еще не прибыли в Европу, а неандертальцами. В 2016 году во французской долине Аверон нашли еще более древнюю неандертальскую пещеру, в которой обнаружился «алтарь» из сломанных сталагмитов, явно намеренно уложенных на полу пещеры двумя концентрическими кругами – своего рода Стоунхендж эпохи палеолита. Первичный радиоуглеродный анализ колец показывает, что эта структура появилась более 176 000 лет назад – в самом конце нижнего палеолита [3].
Ручка ножа из слоновой кости и кремня с изображением Властелина животных, Египет (ок. 3450 г. до н. э.)
© Rama / CC BY-SA 2.0 FR / Wikimedia Commons
Многие современные ученые считают, что доисторическое религиозное мышление началось даже не с наших «двоюродных братьев» – неандертальцев. Археологи недавно нашли на Голанских высотах каменный идол длиной примерно 4 сантиметра в форме женщины с огромными грудями – возможно, беременной. Он получил название «Венера из Берехат-Рама» и, по первичным оценкам, был вырезан как минимум 300 000 лет назад, то есть он даже старше нашего вида. И хотя самые древние следы ритуальных погребений Homo sapiens имеют возраст примерно 100 000 лет, в последнее время были обнаружены гораздо более ранние места погребения, которые носят отчетливый отпечаток обрядовых действий – в том числе это могилы Homo erectus в Китае, которым может быть до полумиллиона лет [4].
Но все равно, пытаясь выяснить исключительно посредством датировки подобных археологических находок, с какого времени существуют проявления религиозных чувств, мы сталкиваемся с проблемой, потому что верования не фоссилизируются. Идеи нельзя зарыть в землю, а затем раскопать. Если мы встречаем в пещере или захоронении следы ритуального поведения, глупо с нашей стороны будет предполагать, что это поведение возникло внезапно и в одно время с верованиями, стимулировавшими его. Первые люди имели определенные представления о природе Вселенной и своем месте в ней задолго до того, как начали процарапывать то, во что верили, на стенах пещер. Наши предки, Адам и Ева, не блуждали в нигилистическом тумане, из которого внезапно восстали, как пророки после откровения. Скорее всего, Адам и Ева унаследовали свою систему верований во многом так же, как унаследовали охотничьи навыки или когнитивные и языковые способности – постепенно, в течение сотен тысяч лет умственной и духовной эволюции. Их приход в пещеры Вольп и полученный там, глубоко под землей, опыт – это одновременно результат тысячелетнего развития религиозной мысли и подготовка почвы еще на тысячи лет вперед. Все, что они знали, было основано на предыдущих знаниях. Все, что они создавали, – результат предыдущих творений.
Каменные кольца неандертальцев в виде алтаря. Пещера Брюникель, Аверон, Франция (ок. 174 500 г. до н. э.)
© Luc-Henri FAGE / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Все это я говорю, чтобы пояснить: если мы собираемся отследить историю религиозного мышления с самого начала, не нужно ограничиваться материальными свидетельствами. Мы должны поглубже заглянуть в наше эволюционное прошлое – до того времени, как мы стали людьми.
Серьезные научные споры о происхождении религии начались в XIX веке. Они основывались на характерном для следующих за эпохой Просвещения лет представлении о том, что на все вопросы – даже на те, что касаются божественного, – можно получить ответ благодаря тщательному анализу и научным исследованиям. То была эра Чарльза Дарвина и теории эволюции. Такие идеи, как естественный отбор и выживание сильнейших (гипотеза о том, что определенные адаптивные особенности могут дать организму лучшие шансы на выживание и тем самым передачу этих особенностей потомству), уже достаточно укоренились в биологии. Они все чаще использовались и для объяснения экономических и политических явлений (нередко с катастрофическими последствиями). Почему же не использовать теорию Дарвина для объяснения религии?
Нельзя отрицать, что религиозная вера настолько распространена, что должна быть признана сущностным элементом человеческого опыта. Человек – это Homo religiosus не по причине сознательного желания верить или тяги к религиозным институтам, не из-за обязательств перед определенными богами или теологическими теориями, но благодаря нашей экзистенциальной тяге к трансцендентному – тому, что лежит за пределами явного мира. Если пристрастие к религиозным представлениям для нашего вида является врожденным, в таком случае оно, по мнению ученых, должно быть результатом человеческой эволюции. Оно должно давать некое адаптивное конкурентное преимущество, иначе бы у религии не было причин существовать.
Одним из первых серьезных исследователей этой проблемы был английский антрополог середины XIX века Эдвард Бёрнетт Тайлор. Для Тайлора источник религиозного импульса и вызванных им вариантов поведения крылся в загадочной, сбивающей с толку вере человечества в душу как нечто отдельное от тела. Это верование в той или иной форме возникает во всех сообществах, во всех культурах, на разных этапах развития. «Как же эта идея появилась впервые?» – вопрошал Тайлор. Что могло убедить наших предков в том, что в их смертных телах скрыты бессмертные души?
Гипотеза Тайлора была высказана в его магистерской диссертации «Первобытная культура». Она состояла в том, что идея души как «одушевляющей, отделяемой, выживающей сущности, носителя индивидуального существования личности» могла прийти к нам лишь во сне. «Я считаю, – писал он, – что лишь сны и видения могли вложить в человеческий разум идею о том, что души – это эфирные образы тел»[5].
Представьте себе, как Адам кутается в мамонтову шкуру, доедая ужин при свете гаснущего костра. Он засыпает и во сне путешествует в другой мир – мир одновременно реальный и незнакомый, мир, чьи границы расплывчаты и ограничены лишь фантазией. Представьте себе, что во сне он встречает умерших родственников – отца, сестру. Как, спрашивает Тайлор, Адам истолкует их присутствие в своем сне? Почему бы ему просто не предположить, что на самом деле они не умерли? Что они существуют в другой реальности – столь же истинной и осязаемой, как эта? Почему бы Адаму не заключить после этого, что души мертвецов могут существовать в виде духов еще долго после разложения тела? И почему бы после этого ему не вернуться к могилам отца и сестры и попросить их духов помочь ему на охоте, прекратить дождь, вылечить детей? Так, по словам Тайлора, и должна была начаться религия.
Очень немногие коллеги-антропологи согласились с гипотезой Тайлора о сновидениях. Так, Макс Мюллер, немецкий оппонент Тайлора, считал, что первый религиозный опыт человечества был связан со столкновениями с природой. Дело не в том, что снится Адаму, возражал Мюллер, а в том, что он видит наяву, – именно реальность подпитывает его религиозные представления. В конце концов, Адам живет в огромном непознаваемом мире, переполненном загадками, которые наверняка не может объяснить. Он видит океаны без конца; он ходит по лесам, в которых деревья подпирают кронами небо и которые существуют так давно, что о них рассказывали истории еще его далекие предки; он видит, как солнце вечно преследует луну на небосводе; и он знает, что не имеет отношения к появлению всего этого. И он предполагает, что кто-то – или что-то – должен был сотворить все это для него.
Британский этнолог Роберт Маретт назвал это чувство изумления супернатурализмом – «состоянием ума, вызванным трепетом перед тайной». Маретт утверждал, что древние люди верили в невидимые силы – своего рода «всемирную душу», лежащую вне видимого мира. Эту силу он называл древним полинезийским словом со значением «мощь» – мана [6].
Мана представляет собой безличную, нематериальную, сверхъестественную силу, которая, согласно Маретту, «пребывает во всех неодушевленных и одушевленных объектах». Осознание присутствия маны в океанах и деревьях, в солнце и луне заставляло древних людей поклоняться этим объектам – или, точнее, чему-то в этих объектах. Со временем безличная мана преобразовалась в индивидуальные души. Каждая душа, покинув тело, становилась духом. Некоторые из этих духов вселялись в скалы, камни, обломки костей, которые тем самым становились тотемами, талисманами и идолами, то есть предметами активного поклонения. Другие духи стали индивидуализированными богами, которых люди могли просить о помощи. Каждый из этих богов выполнял определенную функцию (бог дождя, бог охоты и т. д.). И затем, по словам Маретта, после многих лет духовного развития эти индивидуализированные боги преобразовались в одного всемогущего, единого бога. Это общее для ученых конца XIX – начала XX века умозаключение: Маретт, Тайлор, Мюллер и другие рассматривали движение человечества к монотеизму как неизбежный ход от языческой дикости к христианскому просвещению.
Однако каким бы ни было объяснение – сны, встречи с природой, размышления об ушедших родственниках, – предполагалось, что религия возникла в ходе эволюции человека, чтобы ответить на вопросы без ответа и помочь первым людям освоиться в грозном и непредсказуемом мире. Такое объяснение религиозного опыта остается популярным и по сей день.
Нет сомнения, что очень большому количеству людей религия помогает придать смысл таинственному и изменчивому существованию. Вопрос, однако, в том, предоставляла ли религия адаптивное преимущество на ранних этапах развития человечества, и если да, то какое именно. Как получение утешительных, но постоянно меняющихся ответов на загадки Вселенной поддерживало наш вид в борьбе за выживание?
Некоторые ученые утверждают, что в ходе ритуальных практик активируются определенные чувства, которые, возможно, позволяли первобытным «верующим», например, контролировать свои страхи и в связи с этим достигать во время охоты большего успеха, чем «атеисты». Но даже если бы вера в сверхъестественное могла давать физические или психологические преимущества, увеличивающие эволюционную адаптивность (а это уже довольно сомнительно), нет причин полагать, что отсутствие таких убеждений снижало эволюционную адаптивность. Склонность очертя голову нестись на бизона, не боясь смерти, могла не только повышать, но и снижать шансы на выживание [7].
Однако, чтобы эта теория оказалась верной, нужно доказать наличие неких эмоций, характерных именно для религиозных чувств, или тот факт, что все религиозные чувства приводят к сходным эмоциям. Ни то ни другое не подтверждается. С одной стороны, мы можем почти в любых нерелигиозных ситуациях испытывать то же самое восхищение, тот же самый покой, то же самое бесстрашие, которые у многих тесно связаны с религией; с другой стороны, многие религии подобных чувств вообще не вызывают. Вопреки расхожим представлениям, нет свидетельств существования каких-либо специфических религиозных эмоций – даже в том, что касается трансцендентного, – поэтому нет причин считать, что религиозные чувства сыграли благотворную роль в вопросе выживания человека [8].
Если религиозный импульс нельзя адекватно объяснить поиском смысла жизни, то, возможно, следует обратиться к его роли в создании и поддержании чувства общности. Этот тезис был центральным для крупнейших социологов XIX века, в том числе и для человека, которого справедливо считают отцом данной дисциплины, – Эмиля Дюркгейма.
Дюркгейм отвергал идею, что религия появилась, чтобы помочь первобытным людям находить ответы на загадки бытия. Собственно говоря, Дюркгейм вообще отрицал связь между религией и сверхъестественным. Для Дюркгейма религия – это «вещь в высшей степени социальная», а потому, чтобы сыграть роль важного социального конструкта в раннем развитии человечества, она должна быть твердо укоренена в реальности и связана не с фантастической мифологией, дикими предположениями, причудами воображения и мистическими поверьями, а с реальными объектами и реальным опытом [9].
Сны не реальны. Мана не реальна. Духи не реальны. Реальны же, как подчеркивал Дюркгейм, конкретные действия общества, спаянного кровью и родством и работающего как единое целое, чтобы адаптироваться и выжить во враждебной среде. Истоки религиозных импульсов, таким образом, кроются в жизни общества, в привычках и ритуалах, которые помогают сформировать коллективное сознание.
В конце концов, наш предок Адам кутается в шкуру у затухающего костра не в одиночестве. Его окружает сообщество ему подобных. Мясо делится на всех; ему помогали выследить жертву, загнать ее в засаду и пронзить копьем, освежевать и разделать. Охота сама по себе уже своего рода духовный опыт, сопровождающийся жестко определенными ритуалами, которые передаются из поколения в поколение. Все действия охотников предопределены – от изготовления копий до движения через лес при преследовании жертвы. Благодаря всему этому охотники поддерживают чувство мистической солидарности со своим оружием – сакральным и обладающим духовной силой, необходимой для того, чтобы преобразовать такие тривиальные предметы, как камни, палки и кости, в инструменты, от которых зависит выживание общества. Выживание, само собой, очень важно, поэтому вполне логично, что такие повседневные объекты, как копья и ножи, люди постепенно стали считать сакральными, и не из-за неведомой присущей им силы, а благодаря приносимой ими пользе. У Дюркгейма вещь становится сакральной исключительно из-за того, какими способами ею пользуется человек.
Та же логика руководит и коллективными действиями охотников. Окружение животного и совместное нападение на него изначально имело стратегический смысл, благодаря чему эти действия и укоренились. Но нетрудно представить, как сама идея круга охотников положила начало религиозному обряду.
Допустим, перед охотой Адам и его друзья-охотники собираются в тесный круг, взявшись за руки и воображая опасности охоты в безопасности привычной среды. Возможно, в центр круга они кладут кости предыдущего убитого животного и сосредоточивают свои намерения на нем. В какой-то момент они могут заменить кости живым существом, которое неким образом помечается, отводится в сторону и приносится в жертву – в надежде на то, что кровь породит кровь. Прежде чем это сделать, они могут воззвать к его духу с просьбой помочь им найти жертву на охоте. Так вокруг охоты, жертвы, необходимости проливать кровь во имя умиротворения духов, во имя получения помощи богов и даже, возможно, во имя прощения грехов постепенно выстраивается мифология. И мало-помалу то, что начиналось как простая вылазка на охоту (нечто реальное), преобразуется в духовное событие (нечто сверхъестественное), тем самым прокладывая дорогу вере в человеческие души и божественных духов.
Теория Дюркгейма, что религия изначально была неким социальным клеем, способствующим сплоченности и поддержанию солидарности первобытных сообществ, остается до сих пор наиболее широко принятым объяснением истоков религиозного импульса. С точки зрения эволюции вполне разумно предположить, что, сплотившись вокруг общего набора символов и участвуя в совместных ритуальных действиях, наши далекие предки могли повысить свою коллективную жизнеспособность и тем самым увеличить свои шансы на выживание в мире яростной конкуренции.
Однако эти рассуждения наталкиваются на тот факт, что ничего особенно объединяющего или связующего в религии нет. Разумеется, религия способна сплачивать разобщенных людей. Но она столь же эффективна в качестве разобщающей силы, как и соединяющей. Религия вызывает как включенность, так и исключенность. Она порождает не только солидарность, но и конфликт. Некоторым членам сообщества она идет на пользу больше, причем чаще всего за счет других. Ниспровергает она так же часто, как и узаконивает [10].
Более того, теория социальной сплоченности основана на идее, что религия – это главный и первичный источник привязанностей внутри доисторических сообществ. А это определенно не так. Родство – более сильный и гораздо более ранний инструмент сплочения людей в истории человеческой эволюции. Наши палеолитические предки жили мелкими общинами – у каждой большой семьи было свое убежище. Их чувство солидарности создавалось прежде всего по принципу рождения и крови, а не с помощью символов и ритуалов. Чтобы утверждать, что религия возникла в ходе эволюции человека потому, что давала «верующим» сообществам адаптивное преимущество перед «неверующими», нужно признать за религией некую уникальную объединяющую силу, которой она просто не обладает. Несомненно, объединяющие свойства религии позволили ей сохраниться на протяжении всей человеческой истории, но помогали ли эти свойства религиозно настроенным людям выживать – большой вопрос.
Пока шли дискуссии об антропологических и социологических объяснениях роли религиозных убеждений в человеческой эволюции, в борьбу включилась еще одна новая дисциплина XIX века – психоанализ. Два самых знаменитых пионера психоанализа – Зигмунд Фрейд и Карл Юнг – пытались найти истоки религиозного чувства в человеческой душе, где-то в туманном пространстве между нашим сознанием и бессознательным. На самом деле оба ученых не делали разницы между душой и духом (психе). В отличие от Юнга, который в целом считал религию положительным фактором и просто пытался «психологизировать» традиционные религиозные понятия, такие как душа, Фрейд считал религию неврозом – психическим расстройством, способствующим вере в невидимые и невозможные вещи и ведущим к компульсивным действиям и обсессивному поведению [11].
Религиозные убеждения, как писал Фрейд в «Будущем одной иллюзии», порождены «потребностью сделать человеческую беспомощность легче переносимой»[3]. Фрейд считал, что религиозные чувства возникают из врожденного желания первобытного человека создать «фигуру отца», причем идеального и всемогущего. Люди поклоняются богам по тем же причинам, по которым ребенок творит кумира из отца: нам нужны любовь и защита, мы хотим утешения в наиболее глубинных и мрачных страхах.
По мнению Фрейда, наш предок Адам не интересовался ни снами, ни природой, ни обрядами, ни церемониями. Его основным желанием было предаваться звериным инстинктам. Он хочет заняться любовью с матерью и сестрами. Он хочет убить и съесть отца. Но поскольку он понимает всю общественную и психическую цену, которую ему придется за это заплатить, он подавляет свое либидо и изобретает религию, чтобы уменьшить чувство вины, которое возникает из желания отречься от базовой человеческой природы.
Не только Фрейд связывал религиозные чувства со страхом или жестокостью. Более чем за век до Фрейда шотландский философ Дэвид Юм писал, что «первоначальная религия человечества порождается главным образом тревожным страхом за будущее»[4]. Через век после Фрейда французский философ Рене Жирар рассуждал о том, что у примитивных народов религия появилась для того, чтобы смягчить жестокость, полностью сосредоточив ее на ритуальной жертве – «козле отпущения», по выражению Жирара.
В целом нужно отметить, что заявление Фрейда о том, что религиозные идеи – это «иллюзии, удовлетворяющие древнейшие, сильнейшие и острейшие желания человека», является эхом идей его немецких предшественников Карла Маркса, который, как известно, называл религию «опиумом народа», и Людвига Фейербаха, который определял Бога как «чувство желания», порожденное нашими сердцами. «То, чего желает человек… и есть Бог», – писал Фейербах в «Сущности христианства»[12].
Почти все, что писал Фрейд об истоках религиозного импульса, уже развенчано. Но его восприятие религии как «удовлетворения желаний» оказывает продолжительное воздействие на современных критиков религии, многие из которых с энтузиазмом соглашаются с тем, что основная цель религии в человеческой эволюции – облегчить недовольство, уменьшить страдания и тревогу, успокоить страх перед неизвестным. Однако и это объяснение религиозного побуждения слишком все упрощает и глубоко ошибочно.
Давайте представим на мгновение, что адаптивное преимущество смягчения тревоги и облегчения чувства вины действительно существует, хотя нет никаких научных данных, которые это подтвердили бы. Религию, исходя из самой ее сути, ни при каких условиях нельзя считать источником покоя. Напротив. Религия порождает у человека столько же тревоги и вины, сколько и снимает. Как писал великий американский антрополог Клиффорд Гирц, «религия, вероятно, обеспокоила стольких же людей, скольких и утешила»[13].
Религия часто оказывается гневной и своенравной, порой она требует очень значительных физических и психологических усилий со стороны верующих. С точки зрения эволюции она требует действий, которые влекут за собой огромные расходы энергии и ресурсов, в то время как то и другое гораздо лучше было бы потратить на выживание и воспроизводство [14].
В одном из вариантов теории Фрейда утверждается, что основная цель религии в эволюции человека – мотивировать альтруистическое поведение, контролировать первобытные общины и не давать им разорвать друг друга в клочья. Иными словами, единственное, что удерживало Адама от того, чтобы подняться с места у огня, ударить соседа ножом в грудь и отобрать у него мясо, – это вера в то, что за ним наблюдают духи его предков. Они выступают божественными законодателями, вынуждая его либо поступать в соответствии с моралью, либо подвергнуться риску наказания. Обещая вознаграждение в загробной жизни, религия убеждает Адама воздерживаться от определенных действий или корректировать их, тем самым снижая воздействие эгоизма на отдельных представителей сообщества [15].
Разумеется, религия действительно может способствовать развитию альтруистического поведения в межличностном общении (хотя может и поощрять эгоизм). Вопрос в том, действительно ли моральное влияние религии на общество так уникально. Когнитивный психолог Пол Блум много лет занимается проблемой влияния религии и религиозных взглядов на моральные убеждения. И он пришел к выводу: доказательств того, что «религии мира оказывают значительное воздействие на мораль человека», мало. Более того, множество исследований показывает, что положительное и отрицательное моральное действие религии не более и не менее значительно, чем положительное и отрицательное воздействие любой другой общественной практики [16].
Даже если чисто теоретически допустить, что религия может снижать влияние эгоистичного поведения в обществе, это по-прежнему недостаточно объясняет, как или почему религия возникла изначально. То, что мы именуем «религиозной моралью», не играло никакой роли в духовной жизни первобытных людей. Вера в «божественного законодателя», который определяет, что хорошо, а что дурно, появилась менее 5000 лет назад; вера в посмертное вознаграждение за надлежащее поведение еще моложе.
Боги Древнего мира едва ли были нравственными – они стояли выше пустяковых забот человеческой морали. Боги Месопотамии и Египта были жестокими и дикими; человека они считали прежде всего рабом своих прихотей. Греческие боги были капризными, тщеславными, корыстолюбивыми существами, которые возились с людьми шутки ради. Яхве – ревнивый бог, который постоянно требует убить всех мужчин, женщин и детей, которые не поклоняются одному ему. Аллах – воинственное божество, которое устанавливает множество драконовских наказаний в этой и последующей жизни для тех, кто ему противостоит. Как эти боги, для которых нравственность в лучшем случае за гранью их интересов (а в худшем случае они просто безнравственны), могли служить образцом морального поведения для людей?
В конечном счете все эти вроде бы разумные и общепринятые теории происхождения религиозного чувства имеют одну общую черту: они описывают то, что делает религия, а не то, откуда она взялась, как и почему возникла. Несмотря на все, что мы, казалось бы, знаем, есть доказательства, что религия не делает людей хорошими или дурными. Она не управляет нашим поведением и не способствует сотрудничеству в обществе. Она повышает альтруизм и формирует моральное поведение не в большей и не в меньшей степени, чем любой иной общественный механизм. Она не обладает по природе своей сплачивающим действием. Она не увеличивает преимущество одной соперничающей группы перед другой. Она не всегда утешает разум или успокаивает душу. Она не снижает тревожность автоматически и не способствует репродуктивному успеху. Она не содействует выживанию сильнейших [17].
Процитируем антрополога Скотта Атрана: религия «материально затратна, неумолимо противоречит фактам и даже здравому смыслу. Религиозная практика дорого обходится и с материальной точки зрения (хотя бы если учесть время на молитву), и с эмоциональной (вызывает страхи и надежды), и с когнитивной (развиваются и основанные на фактах, и противоречащие здравому смыслу системы верований)». Поэтому, как заключает Пол Блум, «религиозные верования – маловероятный кандидат для биологической адаптации»[18].
Но если это верно, если религиозный импульс не приносит адаптивного преимущества, а следовательно, не обладает эволюционным смыслом, то почему религия вообще возникла? Что подстегнуло анимизм наших далеких предков, их первобытную веру в себя как в воплощенные в теле души? Если религиозный импульс Адама возник не в ответ на его страхи или поиск предназначения, если он не связан с окружающей его средой или его тревожностью, если он не особенно помогает Адаму адаптироваться и выжить, как он вообще стал эволюционным фактором?
Ответ, видимо, состоит в том, что таковым он не стал. По крайней мере, это утверждают ученые нового поколения, которые в последние несколько десятилетий применяют когнитивный подход к проблеме истоков религии. Столкнувшись с эволюционной загадкой универсальности веры в сверхъестественное, эти ученые дают на нее принципиально новый ответ: религия, по их словам, – это не эволюционная адаптация; это случайный побочный продукт какой-то другой адаптации, предшествующей эволюционной.
3 Лицо на дереве
День у Евы начинается рано – гораздо раньше, чем у Адама. Еще до того, как взойдет солнце и лесная подстилка озарится светом, она разбудит детей и поведет их в лес, чтобы проверить поставленные накануне силки. Пока дети будут лазать по деревьям, собирая плоды, орехи и птичьи яйца из оставленных гнезд, Ева добьет и соберет попавшуюся дичь. Потом вся семья зайдет по колено в ближайшую реку, разыскивая в воде крабов и моллюсков, да и все остальное, что водится в воде и можно съесть. Возможно, им повезет и они найдут мертвое животное, тело которого разложилось, а плоть склевали птицы. Ну и пусть: они соберут кости, разломают их и выдолбят костный мозг, чтобы принести его в лагерь.
Так Ева и дети добывают большую часть пропитания для семьи. Адаму на то, чтобы выследить бизона, может понадобиться неделя. А Ева может приносить такое же количество еды раз в пару дней. В конце концов, полкило орехов содержит столько же жиров и белков, сколько полкило мяса, к тому же орехи не сопротивляются. Наши палеолитические предки в основном были охотниками, но выживать им помогали собирательство и копание в отбросах, чем в основном занимались женщины и дети.
А теперь представьте себе, как Ева с детьми бредет домой. Еще не до конца рассвело, и внезапно уголком глаза она видит, как сквозь деревья на нее смотрит чье-то лицо. Она цепенеет. Мышцы напрягаются. Кровеносные сосуды сужаются. Учащается пульс. Адреналин наполняет ее организм. Она готова драться или бежать.
А потом она присматривается и видит, что это вовсе не лицо, а сучки на стволе дерева. Мышцы расслабляются. Пульс нормализуется. Она с облегчением вздыхает и продолжает свой путь через лес.
Теоретики когнитивной науки дали терминологическое название тому, что только что испытала Ева. У нее включился так называемый гиперчувствительный датчик действия (Hypersensitive Agency Detection Device, HADD). Этот биологический процесс появился в нашем далеком эволюционном прошлом, когда гоминиды были все еще волосаты и сутулы. В общих чертах, HADD заставляет нас считать человеческие действия причиной любых необъяснимых событий, будь то раздавшийся в отдалении звук, вспышка света в небе или облачка тумана, стелющиеся по земле. HADD объясняет, почему мы считаем, что каждый ночной звук обусловлен чьими-то действиями.
Наша врожденная склонность приписывать участие человека природным феноменам может иметь очевидные эволюционные преимущества. Что, если бы то, что увидела Ева, было не деревом, а, например, медведем? Разве не лучше перестраховаться? Ничего страшного, если принять дерево за хищника, но явной ошибкой будет принять хищника за дерево. Лучше ошибиться, чем быть съеденным.
Приведенный пример ясно дает понять, как HADD повышает шансы Евы на выживание. Однако, согласно группе когнитивных психологов, изучающих религию, чувства Евы в этом темном лесу – это не просто бессознательная реакция на потенциальную угрозу. Это основа для нашей веры в Бога, истинные эволюционные истоки религиозного импульса.
Когнитивное изучение религии начинается с простой предпосылки: религия – это прежде всего неврологический феномен. Иными словами, религиозный импульс – это в конечном счете функция сложных электрохимических реакций мозга. Конечно, сам по себе этот факт нельзя назвать убедительным наблюдением, и он не может ни приуменьшить, ни развенчать религиозные чувства. Каждый импульс – каждый без исключения – порождается сложными электрохимическими реакциями в головном мозге. Так с чего бы религиозному импульсу быть иным? Знание нейронной механики религиозного импульса никак не умаляет достоинств религиозных чувств, как и понимание химических процессов, стоящих за романтическим влечением, не делает наши чувства менее реальными, а их объект менее достойным. Майкл Дж. Мюррей, один из ведущих мыслителей в этой области, отмечает: «Тот факт, что мы обладаем верованиями, которые возникают благодаря мыслительным реакциям, появившимся в ходе естественного отбора, сам по себе не имеет никакого отношения к оправданию этих верований»[1].
Так или иначе, если религия – это действительно неврологический феномен, то, возможно, истоки религиозного импульса стоит искать там же, где и любых импульсов, – в головном мозге.
Вернемся ненадолго к Еве и дереву. В тусклом утреннем свете когнитивное отклонение в сторону деятельности заставило Еву подумать, пусть на долю секунды, что дерево – это хищник. Но представьте себе, что Ева через несколько часов при свете дня возвращается к дереву и, присмотревшись, к своему изумлению, понимает, что дерево действительно выглядит так, как будто у него есть лицо. Здесь в игру вступает еще один когнитивный процесс – «компетентное сознание».
Компетентное сознание – это функция мозга, которая активируется в тот момент, когда мы приобретаем способность видеть и понимать других людей так же, как мы видим и понимаем себя: отдельными и особенными существами, которые обладают теми же основными чувствами, обдумывают те же мысли, у которых та же сущность, что и у нас. Компетентное сознание не только побуждает нас думать о других в тех же категориях, как мы думаем о себе, но и поощряет видеть в самих себе первичную модель того, как мы воспринимаем всех остальных.
Подумайте только: если я могу судить только о своем сознании, то у меня нет иного выбора, кроме как использовать себя самого в качестве модели для понимания Вселенной. Восприятие мной внутренних состояний других людей основано на моем внутреннем состоянии.
Однако компетентное сознание обладает удивительной особенностью: оно заставляет меня воспринимать не-людей, которые проявляют человеческие черты, так же, как я воспринимаю людей. Например, если мне встретится двуногое существо, на вид обладающее головой и лицом, я думаю: «Оно похоже на меня». Если оно похоже на меня, компетентное сознание приводит меня к мысли, что это существо должно быть таким, как я. Именно поэтому я инстинктивно приписываю собственные человеческие мысли и эмоции встреченному антропоморфному существу [2].
Вот почему дети обращаются с некоторыми игрушками как с живыми людьми, обладающими собственной волей и личными качествами. Дайте маленькому ребенку модель машинки, и он посчитает фары глазами, а решетку радиатора – ртом. Он автоматически начнет играть с ней, как если бы это было живое существо, а не кусок формованного пластика. Даже если он вполне понимает различия между одушевленным и неодушевленным, живым или неживым, игрушку он будет считать живой и приписывать ей действия [3].
Здесь мы подходим к когнитивной связи, которая, согласно мнению ряда ученых, существует между компетентным сознанием, HADD и зарождением религиозного импульса.
Мы знаем, что для самосознания Евы ключевым является убеждение в том, что она обладает душой, отдельной от тела. Ее тело существует и вполне осязаемо; ее душа невидима и нематериальна. Отложим на какое-то время рассуждения о том, откуда у Евы возникла такая идея. Важно то, что, поскольку Ева считает, что у нее есть душа, отдельная от тела, компетентное сознание заставляет ее думать, что душа есть у всех остальных. Но поскольку компетентное сознание склоняет Еву к тому, чтобы рассматривать не-людей, обладающих человеческими чертами, точно так же, как людей, она с тем же успехом приписывает наличие души и некоторым неодушевленным предметам. Иными словами, раз у дерева есть «лицо», как у Евы, оно должно обладать и «душой», как Ева.
Ребенок приписывает игрушечной машинке способность действовать и иметь намерения, Ева наделяет тем же самым дерево – сознательно и при свете дня. Она наделяет дерево духом. Возможно, она вынимает кремневый нож и обводит лицо на стволе. Она не рисует лицо. Как и в случае с рисунками в пещере, Ева просто высвобождает лицо, которое, по ее мнению, уже находится в дереве. Она делает из дерева тотем, объект поклонения. Она может совершать дереву подношения, даже молиться о помощи в том, чтобы поймать жертву в силки. Так зарождается религия – по чистой случайности.
Впрочем, это никакая не религия, пока верования Евы не начнет разделять ее община. Одно дело – пережить личный религиозный опыт с деревом на основании собственных уникальных наблюдений. Совсем другое – убедить других этот опыт разделить. HADD и компетентное сознание, возможно, объясняют возникновение конкретных религиозных верований. Но они не способны объяснить, как подобные верования могут успешно передаваться от одного верующего к другому, от культуры к культуре, из века в век. Почему некоторые религиозные убеждения – например, вера в бога, владычествующего над дикими зверями, – выживают и распространяются из поколения в поколение, а другие отвергаются и забываются?
Ответ может, опять же, лежать в области мозга. Согласно когнитивному антропологу Паскалю Буайе, наш мозг позволяет укорениться лишь определенным типам верований. Его исследования показывают, что мы с большей готовностью впитываем, сохраняем и распространяем идеи, если эти идеи слегка аномальны. Если идея нарушает одно или два базовых, интуитивных представления о чем-то, у нее гораздо больше шансов на закрепление в памяти и распространение [4].
Допустим, что Ева приводит к своему дереву Адама и показывает ему вырезанное на нем лицо (точнее, высвобожденное ею из дерева). Компетентное сознание Евы наделило дерево такой же душой, как у нее, и дало ей уникальную духовную связь с деревом. Чтобы Адам смог перенять отношения Евы с деревом и передать их остальным – чтобы дерево врезалось в память и оказалось подходящим объектом поклонения, – необходимо некое слегка противоестественное физическое или психологическое свойство, которое расширяет границы представлений Адама о дереве. Иными словами, один-два атрибута дерева в незначительной степени должны не вписываться в онтологическую категорию «дерево»[5].
Возможно, Ева говорит Адаму не только о лице на дереве, но и о том, как однажды ночью ей показалось, что дерево разговаривает. Нарушив одно из естественных, согласно ожиданиям Адама, свойств дерева («Оно говорит!»), Ева увеличивает шансы на то, что Адам запомнит ее рассказ и передаст его другим, даже если сам он не слышал речей дерева. Однако если Ева расскажет о слишком многих нарушениях типичных свойств дерева («Оно говорит! И ходит! И может становиться невидимым!»), Адаму будет слишком тяжело это представить, так что он вряд ли поверит в такое и передаст остальным. Чтобы вся община могла разделить отношения Евы с деревом, необходимо внести лишь незначительные изменения в природу дерева, простые, понятные, легко передаваемые, а главное – полезные.
Последнее стоит повторить. Какие бы изменения Ева ни вносила в природу своего священного дерева, они прежде всего должны делать его более полезным, чем при естественном ходе вещей. Дерево, которое может ходить или становиться невидимым, не очень-то полезно. А вот дерево, которое говорит, может оказаться полезным в высшей степени: оно может сообщить Еве и ее роду информацию о нематериальном мире. Оно способно отвечать на вопросы, предоставляя жизненно важную информацию о прошлом и даже предсказывая будущее.
Если Ева говорит Адаму, что дерево способно разговаривать, Адам с большей вероятностью сочтет аномальное дерево полезным. Он с большей вероятностью поверит в него сам. Он с большей вероятностью расскажет о нем членам общины, которые также с большей вероятностью оценят его пользу и поверят в него. Адам и Ева вместе могут создать целую мифологию вокруг говорящего дерева, а также соответствующие ритуалы, которые распространятся в их общине. Эти мифы и ритуалы затем могут попасть в другие общины, которым идея говорящего дерева тоже покажется полезной и которые, как следствие, примут ее и адаптируют к особенностям собственной культуры.
Например, греческий историк Геродот в V веке до н. э. писал о священном лесе близ города Додоны, где деревья говорили человеческим голосом и владели даром пророчества. Через полторы тысячи лет древний персидский эпос «Шахнаме» («Книга царей») рассказывает о встрече Александра Македонского с говорящим деревом, которое предсказывает ему скоропостижную смерть. «Ни твоя мать, ни твоя семья, ни замужние женщины твоей страны больше не увидят твоего лица», – говорит дерево молодому завоевателю мира.
Через триста лет после этого Марко Поло писал о встрече солнца и луны в Индии с деревом, у которого было два ствола: один говорил мужским голосом днем, а другой – женским голосом ночью. В Книге Бытия библейский патриарх Авраам дважды разговаривает с Богом рядом с вещими деревьями: сначала под Наблусом у дубравы Море (Быт. 12:6), а затем в Хевроне у дубравы Мамре (Быт. 18:1). Почти во всей Европе идея говорящих деревьев на протяжении тысячелетий была ключевой для кельтской и друидской духовности, она остается таковой и сейчас для современных приверженцев друидизма и неоязычества. Говорящие деревья есть даже в «Удивительном волшебнике страны Оз». Не забудем и о величественных энтах из Средиземья Дж. Р. Р. Толкина. Таким образом, слегка аномальная, но исключительно полезная идея, возникшая в какой-то миг отдаленного прошлого, переросла в успешное и широко распространенное верование, сумевшее проникнуть в бесчисленное количество культур и цивилизаций, при этом сохраняя свое исходное значение [6].
Похожая история, вероятно, случилась и с Властелином животных. Связанные с ним онтологические категории «человек» и «животное» подразумевают вполне определенные ожидания. Достаточно просто нарушить одно или два из них, бросить небольшой вызов здравому смыслу (ввести идею человека, общающегося с животными), придать новому созданию полезность (гибрид человека и зверя, который дает нам пропитание, необходимое для выживания) – и вы получите верование настолько прочное, что из древней мысленной абстракции оно развилось в фигуру Колдуна 18 000 лет назад, попало в Книгу Бытия около 2500 лет назад и останется актуальным для современных неоязычников. Так рождается конкретный бог, который сохраняется в человеческой культуре тысячелетиями.
Как мы увидим, в истории религии существует одна конкретная аномалия (идея, минимально противоречащая здравому смыслу), которая затмевает все остальные и порождает, безусловно, наиболее успешное, запоминающееся, значительное, полезное религиозное верование, когда-либо придуманное людьми. Это идея «бога-человека» – человеческого существа, которое незначительно отличается от обычных людей в каком-то отношении: обладает улучшенными физическими или умственными способностями, может становиться невидимым, может находиться во всех местах во все времена, знает прошлое и будущее, знает вообще все. Человеческое существо, являющееся, иными словами, богом. Однако это подождет до следующих глав книги [7].
Фигурка богини из Баллачулиша, вырезанная из ольхи, с кварцитовыми камешками вместо глаз. Найдена в графстве Инвернессшир, Шотландия (ок. 600 г. до н. э.)
© National Museums of Scotland
Пока же мы остаемся с интригующей теорией, поддерживаемой когнитивным направлением религиоведения: она состоит в том, что человеческие существа за миллионы лет эволюции развили определенные мыслительные процессы, которые в соответствующих обстоятельствах могут заставить нас приписывать неодушевленным объектам способность к действию, наделять их душой или духом и успешно передавать верования, берущие начало в этих объектах, иным культурам и поколениям. Это убедительное объяснение возникновения религиозного импульса, которое, в отличие от предыдущих, согласуется с естественным отбором.
Но и здесь возникает проблема.
Какой бы убедительной ни была когнитивная теория религии, она не может ответить на самый первый вопрос: как Ева пришла к мысли о том, что у нее есть душа? HADD, возможно, объясняет, почему Ева останавливается, увидев дерево, и почему она думает, что у дерева есть лицо. Компетентное сознание, возможно, объясняет, почему она одушевляет дерево и превращает его в объект поклонения, которым можно поделиться с общиной. Эти когнитивные процессы могут укрепить и подтвердить уже имеющиеся системы верований. Однако сами по себе они верований не создают. Чтобы Ева смогла сделать колоссальный шаг от распознавания действия до формулирования религиозных верований, она должна быть уже предрасположена к подобному мышлению. Иначе она просто отметит, что дерево выглядит довольно интересно, и пойдет дальше [8].
В конце концов, когнитивная реакция, присущая Еве по умолчанию, состоит в том, что дерево – это дерево. Чтобы она отошла от изначального рутинного восприятия дерева, ей нужно столь же правдоподобное альтернативное объяснение. Однако есть только два варианта, при которых Ева может посчитать «сверхъестественное» объяснение столь же вероятным: либо кто-то должен заставить ее поверить в то, что дерево – больше, чем просто дерево (а откуда этот кто-то возьмет подобную идею?), либо она должна сама развить подобные верования на основании представлений о себе самой как о воплощенной душе. В любом случае мы снова возвращаемся туда, откуда начали, – к проблеме, поставленной Эдвардом Бёрнеттом Тайлором двести лет назад: как появилась идея души? [9]
Самый честный ответ: мы не знаем. Однако очевидно, что вера в душу может быть первым верованием человечества. И действительно: если когнитивная теория религии верна, то вера в душу приводит к вере в Бога. Иными словами, истоки религиозного импульса кроются не в поиске смысла и не в страхе перед неведомым. Он не порожден бессознательными реакциями на мир природы. Это не случайное следствие сложных процессов в головном мозге. Это результат чего-то куда более примитивного и сложного для объяснения – нашего укоренившегося, интуитивного и полностью эмпирического убеждения в том, что мы, чем бы мы ни были, являемся воплощенными душами.
Цель следующих глав не в том, чтобы доказать или опровергнуть существование души (доказательств все равно нет), а скорее в том, чтобы показать, как всеобщая вера в существование души привела к идее активного, заинтересованного божественного присутствия в основе всего тварного мира; как это божественное присутствие постепенно персонализировалось, получало имена и истории, наделялось человеческими чертами и эмоциями и вылилось в тысячи различных форм, каждая со своей личностью и целями; и как через много лет и с огромными трудностями эти формы уступили место единой божественной личности, которую мы знаем сегодня как Бога.
Часть II Очеловеченный бог
4 Плуги вместо копий
Эдемский сад лежит где-то в юго-восточной Турции, рядом с доисторическим городом Урфой (современная Шанлыурфа), в нескольких километрах к северу от сирийской границы. По крайней мере, так считают жители города.
Согласно Библии, после того как Бог сотворил Адама, он высадил сад «на востоке» и поместил первого человека туда. Затем он сделал так, чтобы из сада вытекала река, и разделил ее на четыре потока, два из которых сейчас известны как Тигр и Евфрат. Из земли по воле Бога произрастали деревья всех видов – те, что были приятны на вид, и те, что годились в пищу. Бог предложил Адаму есть все плоды, какие тот ни пожелал бы (кроме одного, конечно). Затем он заселил сад всеми животными суши и всеми птицами воздуха, наделив Адама властью над каждым живым существом.
Вместе со своей спутницей Евой Адам блаженствовал в этом раю, свободный от трудов и трудностей. Им не было необходимости возделывать почву, сеять или жать – и вообще работать.
Но когда Адам и Ева ослушались Бога и съели плод древа познания добра и зла, их изгнали из Эдема навсегда, заставив выживать в лишениях и невзгодах. Сама земля была проклята. Урожай засыхал вместе с почвой. Блаженство обратилось в терния и волчцы, заставляя Адама и его наследников работать в поте лица каждый день до конца жизни, пока они не обратятся в прах, из которого вышли.
Конечно, настоящего Эдемского сада не существует. Как это обычно и бывает с древними писаниями, всю историю следует читать как миф. Но мифы – это не «сказочки», как мы нередко понимаем это слово сейчас. Значение мифа не в том, что он транслирует какие-то истины, а в его способности передать определенное восприятие мира. Миф объясняет не то, каковы вещи на самом деле, а то, почему они таковы. Древние евреи считали время семидневными неделями с седьмым днем, предназначавшимся для отдыха, не потому, что столько времени ушло у Бога на сотворение мира. Скорее всего, они заявляли, что Бог творил мир шесть дней и отдыхал на седьмой, потому что они уже считали время таким образом.
История Эдемского сада, как и бесчисленные древние рассказы о потопе на Ближнем Востоке, как и истории богов, которые умирают и возвращаются к жизни, относятся к отдельному классу мифов, который называется «коллективной памятью». Это универсальные мифы, относящиеся к коллективной памяти конкретной культуры или сообщества (какой бы химерической ни была эта память) и передаваемые устно из поколения в поколение. Их в какой-либо форме можно найти почти в любой религии и почти во всех культурах.
В мифе об Эдемском саде воплощена коллективная память давней эры, когда людям не приходилось работать в поте лица, денно и нощно копаясь в земле. Иными словами, это была эра до развития сельского хозяйства, когда наши далекие предки Адам и Ева были, если отойти от библейского языка, охотниками и собирателями.
А вот как древний город Урфа в коллективной памяти его жителей остался в качестве местоположения Эдема: указывается, что Урфа, как и библейский Эдем, расположена меж четырех рек, в том числе Тигра и Евфрата, а кроме того, находится, в точном соответствии с текстом Библии, «на востоке» – то есть к западу от древней Ассирии. Однако основная причина того, что так много людей во всем мире считают, что этот город покоится на руинах Эдема, связана не с расположением Урфы, а с тем, что находится в десяти милях к северо-востоку от нее – на вершине высокого горного хребта Гёбекли-Тепе, то есть Пузатого холма. Именно здесь, под рукотворным курганом прямо на высшей точке хребта, откуда открывается вид на пустынное плоскогорье, скрыты руины того, что многие считают самым ранним в истории религиозным храмом, – «храма Эдема», как в шутку называет его Клаус Шмидт, местный главный археолог.
Храм состоит из двадцати с чем-то крупных огороженных помещений из камня и цементного раствора: одни имеют круглую форму, другие – продолговатую. Некоторые из них спиральны, как галактики. Весь храмовый комплекс вытянулся на триста метров в длину и триста в ширину. В центре каждой каменной загородки стоят два одинаковых мегалитических столба в форме буквы Т. Некоторые из таких столбов достигают пяти метров в высоту и весят до десяти тонн. На центральных столбах вырезаны изображения свирепых хищников и смертоносных животных – львов, леопардов, стервятников, скорпионов, пауков и змей, которые ничем не напоминают сонных покорных зверей из разрисованных пещер палеолита. Рядом с этими животными по всей длине колонн сверху вниз виден замысловатый узор из геометрических фигур и абстрактных символов. Основная теория состоит в том, что это какой-то символический язык, гораздо более древний, чем египетские иероглифы, но у нас нет ключа к его дешифровке.
Художественная интерпретация постройки Гёбекли-Тепе (ок. 12 500–10 000 гг. до н. э.)
© Fernando G. Baptista / National Geographic Creative
Самое же поразительное в этом храме то, что он построен в конце последнего ледникового периода – 12 000–14 000 лет назад, то есть по меньшей мере шестью тысячелетиями раньше Стоунхенджа и семью тысячелетиями раньше первых египетских пирамид. Он настолько древний, что предшествует развитию сельского хозяйства, а значит, этот огромный, сложно устроенный памятник был создан полукочевыми охотниками и собирателями каменного века, которые носили звериные шкуры и еще не изобрели колесо.
Еще более поразителен тот факт, что нет никаких свидетельств, что на этом месте когда-либо кто-то жил. Поблизости от Гёбекли-Тепе не было найдено ни жилищ, ни очагов. Отсутствуют и явные источники воды: ближайший пресноводный ручей находится за много километров отсюда. Единственное объяснение такого отсутствия удобств кроется в том, что это было священное место, построенное исключительно для религиозных церемоний.
Люди собирались сюда из селений, рассеянных в радиусе сотен километров, для участия в любых проводившихся здесь ритуалах. Они представляли разные племена и почитали разных богов. И тем не менее каким-то образом разрозненные толпы людей палеолита смогли отложить в сторону различия и сосредоточить свое религиозное рвение на общем объединяющем символе. Археологические раскопки, которые проводили в Гёбекли-Тепе Шмидт и другие ученые, дают нам представление о том, чем мог быть этот единый символ. Это высший символ человеческой духовности, созданный из сырья наших когнитивных процессов, представленный в наших самых ранних попытках выразить идею божественного и успешно передаваемый почти в каждую религию и почти в каждую культуру в истории человечества. Этот символ – «очеловеченный бог», то есть бог, сделанный по нашему подобию. Он находится в центре всех каменных загородок в храме Эдема.
Т‐образные столбы, доминирующие в структуре храма, – это не просто каменные блоки. Приглядитесь – и вы увидите, что у каждой колонны по бокам вырезаны руки. Эти руки сходятся в передней части столба, прямо над полоской, которую можно считать поясом или набедренной повязкой. Некоторые из столбов словно носят украшения. Небольшие блоки, увенчивающие верхние части столбов и завершающие буквы Т, многими исследователями считаются головами. Все это указывает на то, что это не просто столбы – это абстрактные человеческие фигуры.
Лиц у этих фигур нет; на них не вырезано ни глаз, ни носа, ни рта, но дело не в том, что создателям не хватало умения. Достаточно посмотреть на тщательно выполненные детали некоторых изображений животных в Гёбекли-Тепе, чтобы понять, насколько искусными были здешние ремесленники: леопард вырезан сбоку на одном из столбов настолько подробно, что у него видны ребра. Нельзя усомниться, что строители храма легко могли превратить центральные столбы в более определенные изображения человеческих существ, если бы только захотели. Они сознательно решили изобразить их в самой абстрактной форме, и это указывает на то, что столбы должны были изображать не собственно людей, а скорее высших существ в человеческом обличье.
Неизвестно, являются ли очеловеченные боги из Гёбекли-Тепе пантеоном отдельных персонализированных богов или же просто анонимными обобщенными божествами. Ответ может лежать в уникальном наборе символов, которыми покрыт каждый столб. Они могут оказаться средством идентификации – именем бога или описанием его характеристик. Они могут рассказывать некий миф об этом боге или описывать то, о проявлении чего его следует молить – подобно тому, как в католичестве жития святых рассказывают верующим, к кому и с какой целью нужно обращаться. Если мы не сможем расшифровать письмена, то, видимо, так никогда и не узнаем ответа.
Но мы знаем, почему центральные столбы в Гёбекли-Тепе имеют человекообразную форму и почему разные племена, собиравшиеся там, выбрали человеческий облик для отражения зарождающегося представления о том, как выглядели боги. Дело в том, что у них почти не было выбора.
T‐образный столб в Гёбекли-Тепе с человеческими руками и поясом (ок. 12 500–10 000 гг. до н. э.)
© Vincent J. Musi / National Geographic Creative
Как мы уже убедились, эволюция обрекает нас наделять собственными верованиями, желаниями, ментальными и психологическими состояниями, а также душами, подобными нашим, других существ – и людей, и не-людей. Наш HADD – гиперчувствительный датчик действия – заставляет нас видеть действующую силу в природных явлениях. Благодаря компетентному сознанию мы по своей природе склонны очеловечивать все явления, с которыми сталкиваемся. Разве мы могли создать богов в иной, не человеческой форме? Мы сами – линза, через которую мы понимаем Вселенную и все в ней. Мы применяем личный опыт ко всему, что встречаем на своем пути, – как к людям, так и ко всему остальному. Тем самым мы очеловечиваем не только мир, но и богов, которые его, как мы полагаем, создали.
За века, которые последовали за строительством Гёбекли-Тепе, это бессознательное желание очеловечить богов возымело определенные последствия – как положительные, так и отрицательные. Чем больше мы представляем себе богов в виде людей, тем активнее проецируем на них человеческие свойства. Наши достоинства становятся достоинствами богов, наши черты характера – их чертами. Со временем появляется представление о царстве небесном как отражении царства земного, так что боги, которые обрели наши личностные качества, начинают и делать то же, что и мы, вплоть до бюрократических проволочек. Чтобы лучше узнать богов, мы создаем целые духовные системы, основанные, однако, на том единственном, что мы действительно знаем, – на нас самих. Богам нужна пища, поскольку она нужна нам, так что надо приносить им жертвы. Богам нужно убежище, поскольку оно нужно нам, так что надо строить им храмы. Богам нужны имена, так что мы назовем их. Им нужны личности – надо дать им их. Им нужны мифические истории, чтобы укоренить их в нашей реальности; формализованные ритуалы, которые можно воплотить в нашем мире; слуги и помощники, которые могут исполнять их желания (которые суть не что иное, как наши желания); правила и законы, чтобы они были довольны; мольбы и молитвы, чтобы умерить их гнев. Проще говоря, им нужны религии. И мы их изобретем.
Однако, вероятно, одним из наиболее значительных последствий нашего непреодолимого желания очеловечивать богов стало то, что, похоже, явилось прямым результатом строительства Гёбекли-Тепе, – зарождение сельского хозяйства. Поскольку именно воплощение конкретных богов в человеческом облике и возникшие в процессе этого мифы и ритуалы вытолкнули нас из палеолита, заставили перестать бродить по миру и осесть на земле, дали толчок к тому, чтобы начать изменять мир под наши потребности и изобрести сельское хозяйство. Иными словами, сделав людей из небесных богов, мы сделали из людей богов земных [1].
Примерно два с половиной миллиона лет нашей эволюции – то есть более 90 % времени нашего гоминидного существования – мы бродили по земле в поисках пищи. Мы были хищниками, рыскающими по лесам и равнинам, конкурируя за добычу с гораздо лучше приспособленными к этому животными, хотя они были далеко не так умны, как мы. Нас сформировал именно этот опыт жизни в качестве охотников и собирателей. Благодаря ему у нас увеличился мозг, повысились когнитивные возможности, а сами мы постепенно обрели разборчивость взамен импульсивности.
Все наши боги были, по сути, богами охоты. Наши обряды и ритуалы, мифы и легенды, подземные святилища, само наше представление об окружающем мире были сформированы тем мистическим единением, которое отличает отношения охотника и жертвы. Это единение распространялось на животных, которых мы убивали, и орудия, которыми мы это делали: костяные гарпуны, деревянные копья, рыболовные крючки, тканые сети – все это обладало священной силой. То, что мы вынуждены были ради своего выживания полагаться на эти орудия, сделало их не обычными предметами, а симулякрами духовного мира.
Охота дала нам возможность овладеть ландшафтом, благодаря ей у нас сформировалась ментальная карта мира, в котором мы жили, – его горных хребтов и склонов, долин и рек. Охота не только стимулировала наше творческое воображение, но и закрепила в сознании определенные общественные ценности, за которые мы боремся до сих пор. Необходимость сохранять мобильность ради охоты не давала копить материальные ценности, обретать собственность, а следовательно, мешала и расслоению общества на имущих и неимущих.
Затем, где-то 10 000–12 000 лет назад, мы необъяснимым образом сменили копья на плуги и преобразились из собирателей в фермеров. Мы перестали гоняться за едой и начали ее производить. Вместо того чтобы охотиться на животных, мы начали их выращивать.
Охота, возможно, и сделала нас людьми, но сельское хозяйство навсегда изменило представление о том, что, собственно, значит быть человеком. Если охота позволила нам овладеть пространством, то сельское хозяйство помогло нам овладеть временем, синхронизировать движения солнца и светил с сельскохозяйственным циклом. Мистическая связь с животными, с которыми мы делили землю, обратилась на саму эту землю. Мы перестали молиться о помощи в охоте и стали молиться об урожае. С неба, традиционно ассоциирующегося с мужскими, отеческими божествами, мы перенесли свое духовное внимание на землю – Богиню-Мать, что упрочило положение женщин в обществе. Плодородие земли стало ассоциироваться с фертильностью женщин, которые скрывают в своей утробе тайну жизни, так что, как отмечал легендарный историк религии Мирча Элиаде, физический труд за плугом стал напоминать половой акт [2].
Процесс изменения земли ради нашей выгоды привел к появлению набора совершенно новых ценностей и норм поведения, а также новых мифов, которые помогали понять изменившийся мир, в котором мы жили теперь. Примерно в это время впервые возникает представление о «принесенном в жертву божестве» – боге, который умирает и подвергается расчленению и из тела которого порождается все сущее. Вспомните Пань-гу, китайского бога-творца, череп которого стал куполом неба, кровь – реками и морями, а кости – горами и скалами; вспомните Осириса, который научил древних египтян возделывать землю, а затем был убит и расчленен своим жестоким братом Сетом, который рассеял куски его тела по плодородной долине Нила.
Эти новые мифы не только лучше объясняли рождение, смерть и перерождение наших зерновых культур – они помогали поддерживать более тесные отношения с божественным. В конце концов, если считать, что семена, которые мы сеем, возникли из расчлененного тела бога, то, отведав ростки, мы фактически поедаем тело бога. Эта идея впоследствии укрепится в религиозных практиках древнего Ближнего Востока, став в христианстве таинством причастия.
Как считается, занявшись сельским хозяйством, мы сразу же перестали кочевать. Мы осели и начали строить поселения и храмы. Поселения требуют правил, так что мы наделили некоторых из нас привилегиями устанавливать законы и следить за их соблюдением (что стало рождением организованного общества). Храмы требуют жрецов, и мы наделили некоторых из нас правом регулировать поклонение богам и разговаривать с ними от нашего имени (что стало рождением организованной религии). Разделение труда привело к разделению общества, породив новые идеи богатства и частной собственности. От обмена подарками мы перешли к меновой торговле, а затем и к купле-продаже, накоплению и потерям; обладанию и лишениям.
Когда пищу стало гораздо легче достать, население резко возросло. Сосредоточение больших групп людей в одном пространстве стимулировало ускорение обмена идеями и технологиями. Искусство процветало, технологии распространялись, зарождалась цивилизация – и все из-за судьбоносного решения отказаться от охоты и собирательства и заняться сельским хозяйством и одомашниванием.
Этот важнейший сдвиг в человеческом развитии фактически положил конец палеолиту и запустил явление, известное как неолитическая революция. Этот термин был придуман археологом Виром Гордоном Чайлдом, который считал возникновение сельского хозяйства самым значительным скачком в истории человечества после овладения огнем. Большинство людей, вероятно, согласятся с Чайлдом, что одомашнивание животных явно пошло людям на пользу, а сельское хозяйство имеет очевидные преимущества перед собирательством. Сельское хозяйство создало значительно более надежные источники питания, поскольку больше не нужно было гоняться за зверями по широко раскинувшимся охотничьим угодьям или прочесывать леса и поля в поисках чего-нибудь съедобного.
Вместо того чтобы срывать отдельные колосья пшеницы и ячменя и набивать зернами рот, теперь можно было засевать зерном значительные площади и собирать солидный урожай. Вместо того чтобы бегать по лесам за добычей, теперь можно было держать домашних животных и забивать их на еду в любой момент.
Но чем больше мы узнаем о возникновении сельского хозяйства, тем больше мы понимаем, что наши предки, возможно, пострадали от него больше, чем приобрели. Почти все время бодрствования, от заката до рассвета, теперь приходилось расчищать землю, пахать ее, собирать и сажать семена, вручную орошать поля и денно и нощно защищать урожай от саранчи и воров, что отнимало гораздо больше времени и труда, чем просто пойти в лес и поохотиться на зверей, которые все еще в изобилии там водились.
Сельское хозяйство заставляло делиться водой, которую для поддержания жизни общины нужно было носить из дальних источников, и зерном, жажда которого была неутолима. Это также значило, что леса, которые укрывали нас от стихий и защищали от хищников, теперь нужно сжечь, а на их месте создать поля и пастбища. Оно заставляло нас отдавать часть пищи животным, которых надо было накормить и защитить, вывести на пастбище, содержать в чистоте и здоровье. И какова была награда за все это самоотречение и тяжелую работу? Как ни странно, пищи стало меньше, а не больше [3].
Исследования показали, что сельскохозяйственная революция привела к тому, что люди стали потреблять меньше витаминов и минералов и значительно меньше белка. Изначально для сельского хозяйства подходило не так много зерновых культур, и того меньше удалось одомашнить видов животных. Охотник же поедал десятки различных видов животных и растений. Если какого-то их вида переставало хватать, человек мог просто перейти на остальные.
Крестьянину приходилось полагаться на небольшое количество одомашненных растений и животных. Если случалась засуха или порча зерен ячменя или пшеницы, он вместе с семьей был обречен на голодную смерть. Если его овца, коза или курица заболевала, мор мог выкосить все поголовье, и он вместе с семьей был обречен на голодную смерть. Если наступали проблемы, охотник просто собирался и следовал туда, где можно было найти еду. У крестьянина же выбора почти не было: нужно было оставаться на месте и ждать улучшений.
Неудивительно, что в большинстве древних сельскохозяйственных общин по меньшей мере каждый третий ребенок умирал в возрасте до двадцати лет. Как отмечает израильский историк Юваль Ной Харари, тела Homo sapiens были приспособлены к преследованию добычи, а не к расчистке и распахиванию земли. Исследования скелетов древних людей показывают, насколько жестоко проявлял себя переход к сельскому хозяйству. Крестьяне гораздо больше, чем охотники, были подвержены анемии и авитаминозам. Они чаще схватывали инфекционные заболевания и умирали молодыми. У них были хуже зубы, чаще ломались кости, они страдали от множества сравнительно новых недугов – смещения дисков, артрита и грыж.
Скелеты с раскопок, проведенных на древнем Ближнем Востоке, показывают, что за первые несколько тысяч лет неолитической революции люди потеряли примерно 15 сантиметров роста, в основном из-за неадекватной диеты. В свете всего этого переход от охоты к сельскому хозяйству кажется не просто проигранным пари человечества; по словам Харари, это было «величайшим в истории обманом»[5] [4].
Учитывая, сколько времени, энергии и ресурсов отнимало сельское хозяйство, почему же от охоты отказались в пользу тяжкого труда крестьянина? Чайлд считал, что резкие изменения климата в конце последнего ледникового периода (примерно 11 700 лет назад) мотивировали людей искать альтернативные источники пищи. С потеплением и отступлением ледников климатические условия оттеснили людей в несколько благоприятных географических зон, где они стали экспериментировать со сбором и выращиванием определенных видов злаков и бобов.
Однако дальнейшие исследования погодных условий древности показали, что климатические изменения в конце последнего ледникового периода происходили слишком медленно, чтобы стать причиной внезапных массовых миграций, о которых писал Чайлд. Ученый был прав, указывая, что климатические изменения могли способствовать развитию сельского хозяйства и одомашниванию животных. Но они не были их причиной [5].
Другие ученые утверждали, что появление сельского хозяйства стало результатом перенаселения неплодородных регионов; или что из-за слишком интенсивной охоты животные стали резко вымирать, и это заставило древних людей изобретать альтернативные источники питания. Археологические свидетельства не поддерживают ни одну из этих гипотез. Никаких следов вымирания обнаружено не было, а первые свидетельства сельскохозяйственной деятельности обнаружены как раз в таких богатых ресурсами регионах, как Плодородный полумесяц – дуга влажной, изобильной земли, которая тянется от нижней дельты Нила в Египте через Левант и Южную Турцию к Ираку и западным отрогам Ирана [6].
Основная проблема большинства этих теорий состоит в том, что они основаны на широко распространенном мнении, согласно которому сперва развилось сельское хозяйство, а постоянные поселения выступили следствием. Предполагается, что наши древние предки отказались от кочевания, потому что стали сажать семена и у них не было выбора, кроме как осесть на земле, чтобы о них заботиться. Однако обнаружение Гёбекли-Тепе и других древних святилищ, построенных охотниками и собирателями в Леванте, ставит эту идею с ног на голову. Теперь мы знаем, что сначала образовались постоянные поселения, а уж затем, спустя много лет, появилось сельское хозяйство. Мы жили в деревнях с постоянно растущим населением, строили огромные храмы, создавали прекрасные произведения искусства, обменивались технологиями за много веков до того, как нам пришло в голову самим выращивать пищу.
Итак, если одомашнивание растений и животных не было результатом внезапных изменений климата, массового вымирания или резкого роста населения, что же подстегнуло переход от охоты к сельскому хозяйству? Обнаружение Гёбекли-Тепе и других святилищ на древнем Ближнем Востоке указывает на то, что причина – в зарождении организованной религии.
Постройка храма такого размера и важности, как Гёбекли-Тепе, занимала много лет и требовала участия огромного количества людей – землекопов и камнеломов, каменщиков и ремесленников. Этим работникам требовалось постоянное питание в течение всего проекта. Охота на зубров и газелей, кабанов и оленей, пробегавших мимо, не дала бы достаточно мяса для прокорма. Поэтому люди стали выращивать травы, которые встречались по всему району, чтобы добавить их в рацион рабочих. Это привело к посеву семян и сбору урожая. Со временем люди, возможно, решили поймать и удерживать большое количество животных для легкого забоя при необходимости. В свою очередь, это впоследствии могло вылиться в выращивание овец, свиней, коз и крупного рогатого скота – все они, как свидетельствуют археологические данные, были впервые одомашнены на востоке Турции или неподалеку – рядом с Гёбекли-Тепе и примерно во время его постройки [7].
Физическая деятельность по постройке храма, возможно, вызвала необходимость в выращивании зерен и одомашнивании скота, чтобы накормить собравшихся рабочих и верующих. Но для того, чтобы постоянно осесть на земле, возделать и изменить ее, навязать свою волю животным и полностью поменять их естественное рождение, рост и всю жизнь, создать искусственные условия, имитирующие природные, – для всего этого требовался гигантский психологический скачок в самом подходе к отношениям между людьми и животными, людьми и землей. Еще важнее, чем технологическая революция, была революция психологическая – в подходе к естественным для человека условиям; «революция символов», как назвал это явление французский археолог Жак Ковен. У наших палеолитических предков эта революция наступила в виде институциональной религиозной системы, в которой доминировала вера в очеловеченных богов [8].
В конце концов, само представление богов в виде людей, утверждение, что мы обладаем теми же физическими и психическими характеристиками, что и боги, значило, что человечество уже рассматривается отдельно от остального мира природы. Впервые в истории эволюции мы стали считать себя не частью Вселенной, а ее центром. Мы отказались от анимистического мировоззрения, которое привязывало нас душой и духом к миру природы. А если мы больше не связаны по сути своей с животными и землей, то почему бы не начать ими пользоваться? Почему не вмешаться в природу, чтобы подчинить ее себе и одомашнить в поисках собственной выгоды?
Создание Гёбекли-Тепе, возможно, отмечает не только начало неолита. С него могла начаться совершенно новая концепция человечества, в которой люди ставились в центр духовной плоскости, превыше всех остальных живых существ. Они становились царями природы, земными богами. За тектоническим сдвигом от примитивного анимизма к организованной религии – в Месопотамии и Египте, в Европе и Греции, в Иране и Индии, в Китае и других местах – последовало образование целых пантеонов очеловеченных, наделенных собственными личностями богов. Каждый из них обладал конкретным человеческим свойством, пока не появились отдельные боги для всех добрых и дурных качеств, которые есть у человека.
Таким образом, то, что начиналось как бессознательный когнитивный импульс к воплощению божественного по человеческому подобию, наделению его человеческой душой, в течение следующих 10 000 лет духовного развития постепенно переросло в сознательные усилия по дальнейшему очеловечиванию богов, пока наконец Бог не стал человеком в буквальном смысле.
5 Величественные люди
Когда боги, а не люди, трудились и несли тяжелое бремя, копали и расчищали каналы, осушали болота и распахивали поля, они роптали и жаловались на непосильный труд. Работа была тяжела, страдания – слишком велики. И они сожгли свои инструменты, сожгли свои лопаты. И отправились они, все как один, к воротам великого бога Энлиля, советника богов.
«Нам нужно прекратить копать, – закричали они. – Нагрузка чрезмерна. Труд убивает нас! Работа слишком тяжела, страдания слишком велики!»
Энлиль посоветовался с Мами, повитухой богов. «Ты богиня материнской утробы, – сказал он. – Породи смертного, чтобы он мог носить ярмо. Пусть люди несут груз богов».
И Мами, с помощью мудрого бога Энки, смешала глину с кровью и сотворила семь мужчин и семь женщин. Она дала им кирки и лопаты и отвела их попарно вниз на землю, дабы освободить богов от труда.
Прошло шестьсот лет, и еще шестьсот, и земля стала слишком широка, а людей на ней – слишком много. Земля гудела, как ревущий бык. И не могли боги отдохнуть от грохота.
«Шума от человечества стало слишком много, – рявкнул Энлиль. – Я не могу спать».
Было созвано верховное собрание богов, и на нем все решили устроить великий потоп, который сотрет человечество с лица земли, так что боги наконец-то смогут отдохнуть от его гомона.
Меж тем на земле жил благочестивый человек по имени Атрахасис, чьи уши были открыты его богу Энки. Он говорил с Энки, а Энки говорил с ним.
Энки явился Атрахасису во сне и заставил себя услышать. «Оставь свой дом и построй лодку, – посоветовал мудрый бог Энки. – Брось свое имущество и возьми лишь образцы всех растений и животных. Сделай циркулярный план строения лодки. Длина и ширина ее пусть будут одинаковы. Построй верхнюю и нижнюю палубы».
И Атрахасис построил лодку и наполнил ее семенами всех растений. Он взял с собой свой род и семейство. Он взял с собой птиц, летающих в небе. Он взял с собой скот с полей, диких зверей с равнин, диких зверей из степей. Пара за парой они входили на корабль. Потом Атрахасис тоже взошел в лодку и закрыл за собой дверь.
С первым лучом солнца черная туча взошла на небе. И свет обратился во тьму. Буря наступала, как вражеская армия. Анзу, бог бури, львиноголовый орел, разрывал небо своими когтями.
И пришел потоп. Ветер завывал, подобно крикам дикого осла. Тьма была кромешной; солнца не было. Никто не видел своего соседа, ничего нельзя было различить на фоне неба. Потоп напугал даже самих богов. Они бежали на небо, где ежились от страха, как жмущиеся к стене собаки. Семь дней и семь ночей бушевала буря, продолжался потоп, прибывала вода. Вся земля покрылась водой, в которой, как стрекозы, плавали мертвые тела. Когда наступил седьмой день, буря, которая до того металась, как женщина в родах, утихла. Море успокоилось, а поверхность воды стала плоской, как крыша.
Лодка причалила к горе Нимуш, и Атрахасис вышел. Он выпустил голубя. Голубь вернулся, ибо не нашел, куда ему сесть. Атрахасис выпустил ласточку. Ласточка вернулась, ибо не нашла, куда ей сесть. Атрахасис выпустил ворона. Ворон не вернулся. Тогда Атрахасис, и его род, и семья, и птицы небесные, и скот с полей, и дикие звери с равнин, и дикие звери из степей вышли из лодки. И он принес благодарственную жертву своему богу Энки.
Но когда Энлиль учуял жертву и увидел лодку, он пришел в ярость. Он снова созвал собрание богов. «Все мы принесли клятву. Ни одна форма жизни не должна была уцелеть. Как кто-то смог пережить катастрофу?»
И мудрый Энки сказал: «Я сделал это вопреки вам! Это я постарался, чтобы жизнь сохранилась».
От слов Энки боги присмирели. Они плакали и были полны сожаления. Мами, повитуха богов, рыдала: «Как я могла говорить такие злые слова в собрании богов? Я сама породила их; это мои люди».
Так Энлиль и Энки пришли к соглашению. «Вместо потопа пусть приходит лев и терзает людей. Вместо потопа пусть приходит волк и терзает людей. Вместо потопа пусть голод истощает землю. Пусть война и мор ожесточают людей».
Божественное согласие было достигнуто. Энки явился к лодке и взял Атрахасиса за руку. Он взял за руку его жену. Он прикоснулся к их лбам и заявил: «Отныне и впредь этот мужчина и эта женщина да будут такими же, как мы, боги»[1].
Если древний шумерский эпос об Атрахасисе и потопе, сочиненный более 4000 лет назад, вам что-то напоминает, то так и должно быть. Истории о губительном потопе, убивающем все человечество, кроме немногих счастливцев, – одни из самых древних и наиболее распространенных в человеческой истории. Этот миф – в каком-то смысле квинтэссенция коллективной памяти: большинство ученых считают, что он основан на действительно имевшем место в отдаленном прошлом катастрофическом наводнении. Собственные версии мифа о потопе имеются в Египте, Вавилоне, Греции, Индии, Европе, Восточной Азии, Северной и Южной Америке и Австралии. Причины потопа часто зависят от того, кто рассказывает историю. Различны условия, боги, концовки – все это переработано с учетом особенностей культуры и религии рассказчика.
Герой Атрахасис известен под многими именами. В вавилонском «Эпосе о Гильгамеше» его зовут Утнапиштим. В «Вавилонской истории», составленной греком Бероссом в III веке до н. э., его имя – Ксисутрос (Зиусудра), а вместо шумерского бога Энки действует греческий Кронос. В Библии Атрахасиса называют Ноем, а Энки становится еврейским богом Яхве. В Коране речь идет о Нухе и Аллахе.
Но какими бы ни были условия и причины потопа, как бы ни звали богов и героев, большую часть историй о потопе можно возвести к единому источнику, написанному на первом письменном языке первой великой цивилизацией – шумерами.
Аграрная революция, произошедшая около 10 000 лет назад, быстро распространилась по Плодородному полумесяцу, а пика достигла на изобильных аллювиальных равнинах древней Месопотамии. Вклинившаяся между двумя легендарными реками творения, Тигром и Евфратом, на территории современных Ирака и Сирии, Месопотамия (в переводе с греческого – Междуречье) обладала умеренным климатом и была подвержена периодическим наводнениям, что создало богатую минералами почву и подготовило расцвет сельского хозяйства.
К 9000 году до н. э. по всему региону уже существовали обширные сухие сельскохозяйственные пространства, особенно на юге, где в дельте двух великих рек, сливающихся и впадающих в Персидский залив, появились небольшие деревни рыбаков. К 7000 году до н. э. в Месопотамии были одомашнены наиболее распространенные виды растений и животных, за исключением лошадей и верблюдов. Следующие два тысячелетия происходила обширная экспансия сельского хозяйства на запад, в Египет, и на восток – на Иранское нагорье. Расположенные рядом деревеньки рыбаков и крестьян стали объединяться, формируя протогорода. В Чаталхёюке (Чатал-Хююке) в Южной Анатолии в 7000–6500 годах до н. э. в большом сельскохозяйственном поселении стояло около тысячи домов и существовали искусно украшенные святилища в честь богини плодородия. Около 6000 года до н. э. в Северной Месопотамии появилась халафская культура, известная своими гончарными изделиями. Примерно через тысячу лет халафскую культуру с доминирующих позиций в регионе сместила убейдская, которая доходила до юга Месопотамии и даже до современных Бахрейна и Омана.
Именно убейдцы, а не боги примерно в 5000 году до н. э. осушили болота и прорыли каналы из Тигра и Евфрата, тем самым создав первую в мире ирригационную систему. Никто точно не знает, когда эти жители Южной Месопотамии стали называться шумерами и были ли вообще шумеры и убейдцы связаны друг с другом. Само слово «шумер» аккадского происхождения – этот семитский язык был наиболее распространен в Месопотамии. Оно означает «земля культурных царей». Сами шумеры называли себя «черноголовыми». Однако откуда бы они ни пришли и каким бы образом ни возвысились, к 4500 году до н. э. шумеры укрепили свою власть над Месопотамией, основав, как считается, первый в истории крупный город – Урук.
Из своего поселения в Уруке шумеры создали самую мощную цивилизацию, какую когда-либо знал тогдашний мир. Они изобрели колесо и парусную лодку. Они расширили ирригационные каналы, что позволило круглый год заниматься сельским хозяйством в огромных масштабах. Это освободило шумеров от многих более обременительных сельскохозяйственных обязанностей, что привело к процветанию шумерской культуры и религии, появлению шедевров искусства и архитектуры, созданию сложных мифов, подобных эпосу об Атрахасисе, и изобретению письменности, которое имело самый потрясающий эффект.
Письменность меняет все. Ее появление – это граница между предысторией и историей. Собственно, причина, по которой Месопотамия считается колыбелью цивилизации, состоит в том, что где-то в IV тысячелетии до н. э. шумеры начали прижимать тупые тростниковые палочки к влажной глине, оставляя отчетливые клиновидные черты, которые мы называем клинописью. Люди впервые в истории получили возможность фиксировать свои самые абстрактные мысли [2].
Вскоре клинопись была приспособлена и для других месопотамских языков, в том числе аккадского и его двух основных диалектов – вавилонского на юге, ставшего языком литературы и надписей, и ассирийского на севере, который использовался в основном в экономических и политических документах, пока не угас с крахом Ассирийской империи в VII веке до н. э. Аккадский язык в устной форме держался на Ближнем Востоке три тысячелетия и лишь в I веке до н. э. был полностью вытеснен арамейским [3].
Благодаря клинописи мы имеем в своем распоряжении настоящую сокровищницу архивов и документов, списков царей и хроник крупных городов и династий; личных писем, которые проливают свет на жизнь общества, и правительственных документов, которые рассказывают, как функционировало древнее государство. Сохранились храмовые записи, подробно описывающие различные месопотамские культы. Едва ли не самое замечательное то, что у нас есть целая библиотека масштабных незабываемых мифов и легенд, которые предоставляют практически неограниченный доступ, возможно, к самой ранней и самой влиятельной комплексной религиозной системе в истории.
Шумеры были не единственной неолитической цивилизацией, разработавшей сложную религию; возможно, они даже не были в этом первыми. Но они впервые записали это – в том и вся разница. Это не просто позволило их религиозным идеям распространиться по региону: изобретение письма актуализировало желание очеловечить богов, предопределенное нашими когнитивными процессами и в грубой форме выраженное еще в Гёбекли-Тепе. Сам процесс писания о богах, необходимость описывать словами то, как выглядят боги, не только преобразил наше представление о них – так наше бессознательное и имплицитное желание сделать богов похожими на себя стало сознательным и эксплицитным. Дело в том, что, когда мы пишем о богах, помещая их в мифологический нарратив начала творения или обсуждения апокалиптического потопа, мы обязательно представляем себе, что боги думают и действуют точно так же, как это делали бы мы. Мы наделяем их нашими свойствами и эмоциями; приписываем им нашу волю и мотивы.
Слова, которые мы выбираем для описания богов, тоже влияют на наше понимание их природы, их личных качеств и даже физической формы. Например, шумерское слово «бог» звучит как ilu, то есть нечто вроде «величественный человек», и это дает нам полное представление о том, как изображали богов в шумерских текстах: это возвышенные существа с человеческими телами и в человеческой одежде, с человеческими эмоциями и качествами. Богов Шумера рождали матери, которые кормили их своим молоком в младенчестве. У них были отцы, с которыми они ссорились, когда вырастали. Они влюблялись и заключали браки. Они занимались сексом и рожали детей. Они жили в домах со своими семьями, имели родственников, образуя огромные небесные кланы. Они ели, пили и жаловались на тяжелую работу. Они спорили и дрались друг с другом. Они порой получали ранения и умирали. Они в полном смысле слова были людьми.
Как показывает широко распространившаяся история об Атрахасисе и потопе, мифы, порожденные землей Междуречья, быстро попали в Европу и Северную Африку. Они процветали и в Кавказских горах, и у Эгейского моря. Они нашли отражение в религиозных системах египтян и греков, индийцев и персов. Они попали на страницы Библии и Корана, где шумерское слово ilu стало еврейским «Элохим» и арабским «Аллах». И неудивительно, что везде, где распространялись месопотамские мифы, укоренилось и месопотамское представление о богах как о «величественных людях» [4].
В Месопотамии царил политеизм, то есть жители поклонялись множеству богов одновременно. И действительно, месопотамский пантеон содержал более 3000 божеств. Среди них были Айя, богиня света и жена Шамаша, бога солнца; целитель Даму; бог огня и металлургии Гирра; могущественный бог луны Син; мудрый Энки, который вместе с Энлилем, «вершителем судеб», и Аном (или Ану), богом небес, составлял тройку важнейших божеств раннего месопотамского пантеона. Собственно, богов в Междуречье было столько, что древним писцам приходилось составлять сложные «списки богов», чтобы вести им счет [5].
Как жители Месопотамии пришли к идее существования стольких богов, понять трудно. 9000 лет, которые потребовались человечеству на духовном пути от безликих человекоподобных столбов из Гёбекли-Тепе к многогранным, наделенным жизнью и личными качествами месопотамским божествам, оставили мало материальных свидетельств. Однако следует отметить серию находок в Иерихоне – одном из самых древних городов на земле, предшественнике великих городов-государств Месопотамии. Они помогли отчасти пролить свет на эту промежуточную стадию человеческой духовности.
В 1953 году знаменитый британский археолог Кэтлин Кеньон руководила раскопками в Телль-эс-Султане рядом с древним Иерихоном. Она обнаружила в раскопе гладкий купол неповрежденного человеческого черепа. Выкопав череп из земли, она с удивлением обнаружила, что тот покрыт штукатуркой. Глина идеально воссоздала черты лица, так что череп выглядел живым. В пустые глазницы были вставлены бледные жемчужные раковины. Череп отделили от захороненного тела и затем перезахоронили в частных владениях. Дальнейшие раскопки выявили еще шесть таких же черепов, все в одном месте. Они датируются 8000–6000 годами до н. э.
Со времен раскопок Кеньон в Иерихоне такие же тайники с человеческими черепами находили под полами и очагами, под кроватями и террасами в частных домах в иорданском Айн-Гхасале, сирийских Телль-Рамаде и Библе, турецком Чаталхёюке (Чатал-Хююке). Рядом с черепами часто обнаруживались украшения и оружие. Они были тщательно уложены по кругу, и их глазницы «смотрели» либо внутрь круга, либо наружу, в одном и том же направлении [6].
Покрытый штукатуркой череп из Иерихона
© Jononmac46 / CC-BY-SA‐3.0 / Wikimedia Commons
Мы знаем, что люди неолита считали голову (точнее, мозг) вместилищем души и потому часто собирали и хранили человеческие черепа. Но наличие таких больших захоронений под домами заставляет предположить существование частных святилищ и может свидетельствовать о зарождении в раннем неолите манизма – религии, известной как культ предков.
Как мы уже видели, почитание предков относится еще к эре палеолита. Это результат анимистических верований в то, что души мертвых продолжают существовать в мире как духи. Но с зарождением сельского хозяйства культ предков стал более сложным и выраженным. Земля, в которой хоронили предков, теперь стала почвой, на которой зиждилось наше существование. Таким образом, имело смысл сосредоточить духовные усилия на недавно умерших в надежде на то, что они смогут взаимодействовать с силами природы от имени живых – помогать сохранять зерно или поддерживать здоровье и живучесть скота. С течением времени некоторые умершие предки трансформировались в богов, лучше всего взаимодействовавших с природой, а затем посредники были устранены, и силы природы стали обожествляться сами по себе.
Эта теория подкрепляется тем фактом, что многие боги Месопотамии изначально были лишь обожествленными стихиями. Ан был не только богом неба, но и самим небом. Шамаш – и бог солнца, и само солнце. Потребность лучше управлять этими силами природы, удерживать власть над ними отчасти побудила жителей Месопотамии персонализировать этих богов, постепенно превратив их в пантеон отдельных божеств, каждое из которых имело свою сферу влияния – земную, культурную или космическую – и играло свою роль в жизни почитателей. Тогда оставалось только придать каждому богу личные характеристики, набор человеческих черт и собственную форму – так появились «величественные люди».
Большинство главных богов Месопотамии были связаны со своим городом-государством: Энлиль – с Ниппуром, Син – с Уром, Инанна – с Уруком и т. д. И хотя в каждом городе-государстве был собственный храм, он не был местом поклонения, а считался скорее земной резиденцией бога. Храм был буквально вторым обиталищем бога – своего рода загородным домом с садами, стенами, дверьми и изгородями, где боги могли отдохнуть от небесных забот и побыть с людьми на земле. Храмы часто строились в форме ступенчатых сооружений – зиккуратов, прямоугольных пирамидальных башен из обожженных глиняных кирпичей, – и это вершина месопотамской архитектуры. Однако, в отличие от более поздних египетских пирамид, месопотамские храмы были цельными строениями с последовательно «сдвигающимися» этажами, расположенными слоями. Они напоминали лестницы, по которым боги могли перемещаться в обоих направлениях между небом и землей. Венчались зиккураты небольшой комнатой, где боги могли спокойно отдохнуть [7].
Присутствие бога в любой из таких комнат обозначалось наличием в ней идола с чертами этого бога. Использование идолов не было месопотамской находкой. Как и культ предков, вырезание идолов, символизирующих духов и богов, относится еще к палеолиту. Десятки идолов – большинство из них беременные женщины с круглыми, надутыми животами, на которые свисают полные груди, – были найдены во время раскопок палеолитических поселений в Европе и Азии [8].
Однако в Месопотамии достижения в области лепки и формовки сделали использование идолов для поклонения гораздо более широко распространенной практикой. Каждый день жрец или жрица (в зависимости от пола божества) входили в камеру храма, омывали, одевали и кормили идола, натирали его благовониями и ладаном, покрывали косметикой, а в особых случаях выводили его на прогулку в гости к другим богам в соседних храмах. Только после этого простые горожане могли увидеть богов: светские люди в храмы не допускались и, следовательно, не имели прямого доступа к живущим там божествам.
Однако ни один житель Месопотамии не подумал бы, что этот маленький идол, которым жрец потрясает в воздухе, – это сам бог. Это полное непонимание термина «идолопоклонство». Древние люди поклонялись не каменным плитам, а находящимся в них духам. Идол не был богом; в нем был воплощен бог. Считалось, что в идоле бог обретает форму.
Результатом подобных верований стало то, что, когда дух одного из этих «величественных существ» попадал в идола, идол становился вместилищем духа. Его внешность была физическим воплощением бога на земле. Иными словами, хотя жители Месопотамии не считали идола богом, большинство из них с готовностью принимали идею, что идол выглядел как бог [9].
Эта идея сложна для понимания, но чрезвычайно важна. Когда мы пишем о боге, то инстинктивно приписываем ему человеческие эмоции и мотивы, а когда мы визуализируем бога – умело вырезая идола с чертами бога или рисуя бога на витражных окнах, – мы инстинктивно вызываем в воображении облик человека. Иногда мы снабжаем его крыльями, как у Энлиля, или языками пламени за плечами, как у Шамаша. Порой мы придаем богу огромные размеры или дополнительные руки и ноги. Но такие украшательства лишь наделяют бога минимально противоречащим здравому смыслу элементом, который необходим, чтобы идею бога запомнили и успешно передали дальше (вспомните говорящее дерево Евы). Если сверхъестественные добавки убрать, останется не неземная сила природы, а всего лишь человеческое существо со сверхчеловеческими возможностями.
Очень поучителен в этом отношении пример Древнего Египта – наследника месопотамской цивилизации. В начале своей истории, в так называемый додинастический период (около 5000–3000 годов до н. э.), египтяне были убежденными анимистами; они считали, что все сущее наделено единой божественной силой, которая пронизывает всю Вселенную. Эта сила проявляется в какой-то степени в богах и духах, но сама по себе аморфна – не имеет формы, материи и воли. Однако с изобретением иероглифической письменности около 3300 года до н. э. – вскоре после появления шумерской клинописи и, возможно, под ее влиянием – возникла необходимость сделать эту абстрактную силу более конкретной.
Ее нужно было визуализировать, чтобы затем вырезать на стенах храмов или рисовать на свитках папируса. Божественную силу нужно было сделать реальной и распознаваемой в мире, чтобы ее можно было понять и использовать. И поэтому, как и в Месопотамии, абстрактная божественная сила постепенно стала обретать человеческий облик. К началу Древнего царства (около 2686–2181 годов до н. э.) египетский пантеон очеловеченных богов полностью сформировался. Утвердилась религия Древнего Египта [10].
Месопотамские божества на печати Адды: Иштар (с крыльями), Шамаш (поднимается с мечом в руке) и Энки
© The Trustees of the British Museum
Однако, в отличие от месопотамских, египетских богов часто изображали разнообразными способами: они могли выглядеть как люди, как животные, а чаще – как сочетание тех и других. Именно поэтому Хатхор (Хатор), египетская богиня музыки, танца и плодородия, могла быть коровой с женским ожерельем, гибридом коровы и женщины или женщиной с шерстистыми коровьими ушами, торчащими по бокам головы. А Анубис, бог мумификации и защитник мертвых, изображался то как шакал, то как человек с головой шакала.
Эти образы не только содержали минимально противоречащие здравому смыслу свойства, способствующие лучшему запоминанию богов, но и позволяли египтянам управлять и даже манипулировать символическими функциями богов. Анубиса изображали с головой шакала, потому что шакал – это падальщик, который порой разрывает и пожирает тела, похороненные в пустыне. Изображая защитника гробниц в виде шакала-человека, египтяне пытались контролировать эту мощную и пугающую их силу природы, способную помешать погребальным обрядам, жизненно важным для их духовной жизни [11].
Впрочем, какую бы форму ни принимали египетские боги, их, как и месопотамских божеств, всегда описывали как людей – с человеческими побуждениями, желаниями и инстинктами. Даже когда в египетском искусстве и литературе боги изображались как животные, им все равно придавались человеческие черты и поведение; они по-прежнему занимались человеческими делами. Они ели, пили и спали, как люди. Они спорили друг с другом и дрались по самым мелочным поводам. У них были семейные проблемы. У них случались приступы дурного или хорошего настроения. Они бывали и всеведущими, и попросту глупыми.
Почти тот же процесс происходил тысячу лет спустя – на сей раз в слабо связанном между собой союзе племен, которых ученые относят к индоевропейцам, что должно отражать их влияние на формирование языков Европы. Около 7000 лет назад индоевропейцы начали миграцию со своей родины (скорее всего, в районе Кавказа, хотя этот вопрос остается спорным) на восток, к Каспийскому морю и Иранскому нагорью; на юг – к Черному морю, Анатолии и Греции; на запад – к Балтийскому морю и в Европу. Осев на новых землях и слившись с коренным населением или завоевав его, индоевропейцы оставили глубокий отпечаток на религиозных традициях этих обширных регионов: они породили иерархический пантеон ханаанских культов; почитание духов природы кельтами; основанную на религии кастовую систему Индии; жестко ритуализированные практики древнего Ирана; эллинские мифы Гомера и Гесиода; философские идеи Платона и Аристотеля – другими словами, все, что сформировало духовный ландшафт, на котором возникли иудаизм, христианство и ислам [12].
Индоевропейский пантеон богов появился точно так же, как месопотамский или египетский, – из обожествления сил природы. Дий был богом неба; Агни – богом огня; Индра – богом солнца; Варуна – богом первозданных вод и т. д. Но, как и в Месопотамии и Египте, когда об этих богах впервые написали (в «Ригведе», древнейшем священном тексте Индии, созданном на санскрите около 1500 года до н. э.), они отбросили свою эфирную природу и обрели конкретные человеческие качества и человеческий же облик. Когда в последующие века эти ведические описания «воплотились» в блестяще выполненных индуистских религиозных идолов, трансформация индоевропейских божеств из обожествленных стихий в очеловеченных богов приняла законченный вид: Индра получил золотистую кожу, волосы и бороду и облачился в благоуханные одежды; у Агни оказалось два лица и множество рук и ног; лучезарного Варуну посадили верхом на крокодила [13].
В каждой из этих цивилизаций чем больше люди привыкали видеть образы своих богов в общественных храмах и святилищах, чем чаще они слышали истории и легенды о них на праздниках и церемониях, тем проще им удавалось персонализировать абстрактные силы природы, которым поклонялись их предки. Как изобретение печатного станка сделало идеи более доступными массам, так массовое производство идолов с индивидуальными особенностями и улучшение технологий этого производства сделало богов более похожими на людей – пока в Древней Греции они не стали неотличимы от людей настолько, что их перестали воспринимать всерьез.
Греческая история не начинается с великих эпосов Гомера и Гесиода, которые вкупе дают нам, возможно, самую подробную картину благочестия и личности в древней цивилизации. Она начинается в бронзовом веке, примерно в 1600 году до н. э., – с загадочной цивилизации мореплавателей, известных как микенцы. Они стали первыми великими колонизаторами побережья Эгейского моря и оставили на греческих островах множество даров, за которые теперь мы благодарим древних греков, в том числе, возможно, классический греческий алфавит [14].
Микенцы оставили грекам многих своих богов, в частности Посейдона, бога моря, который, возможно, был верховным богом микенского пантеона (Зевс, воинственное божество, произошел от индоевропейского бога неба Дия и, судя по всему, взобрался на олимпийский трон намного позже). Будучи божеством первозданных вод, Посейдон был естественным образом связан с Геей – богиней земли, еще одним важным микенским божеством (само имя Посейдона означает «муж земли»). Неудивительно, что микенцы обожествляли и ветры – эта стихия природы была столь же неотъемлемой частью духовной жизни мореходов, что и земля и вода. Другие знакомые нам греческие божества, в том числе Афина и Гера, были тоже известны микенцам и тоже, судя по всему, начинали свое существование как божественные воплощения явлений мира природы: Афина, вероятно, изначально была солнечным божеством, а Гера представляла воздух.
Однако в греческих мифах эти боги становятся не столько олицетворением сил природы, сколько обожествлением человеческих свойств: Афина – богиня мудрости; Гера – богиня материнской любви. И хотя греческий пантеон изначально включал десятки различных божеств, отличающихся по происхождению и функциям, ко времени появления эпических поэм Гомера и Гесиода все они фактически сконденсировались в двенадцати основных богах – так называемых олимпийцах, которых греки считали членами одной большой семьи.
Греки не просто полагали, что гора Олимп была пристанищем богов, правящих человечеством; они считали ее местом жительства не очень дружной божественной семьи, все члены которой в причудливых комбинациях вовлечены в космическую драму, как персонажи долгоиграющей мыльной оперы, постоянно вмешивающиеся в дела и сюжетные линии друг друга. Был Зевс – патриарх, отец богов и людей; Гера, которую греки превратили в сестру и жену Зевса; их первенец Арес, бог войны. У Зевса было два брата – Посейдон, смещенный со своего верховного трона в микенском пантеоне, и Аид, бог подземного царства, а также сестра Деметра, богиня сельского хозяйства. Добавим к ним второго сына Зевса – Гермеса, которого верховный бог прижил от богини Майи; еще двух детей – близнецов Аполлона и Артемиду, результат свидания с богиней Лето; Диониса, бога вина и экстаза, сына Зевса и смертной женщины; Афину, которая в процессе эволюции из микенской богини в греческую оказалась дочерью Зевса, рожденной непосредственно из его головы, после того как он проглотил свою беременную жену Метиду; и любимую дочь Зевса – Афродиту, богиню любви и секса.
Древние египтяне тоже организовали своих богов в большую семью на основании отношений трех самых любимых египетских божеств: Осириса, его сестры и жены Исиды и их доблестного сына, сокологолового Гора. Но греки довели идею божественной семьи до совершенства. А почему бы и нет? Есть ли лучший способ определить отношения между богами? Теперь, когда мы просим их нам помочь в наших страданиях, мы можем быть уверены, что они поймут нас. Они понимают наши испытания и злоключения и относятся к ним как к собственным. Барбара Грациози в своей бесценной книге «Боги Олимпа» (The Gods of Olympus) пишет: «Греческие боги знакомы нам, потому что они, проще говоря, составляют семью» [15].
Однако для некоторых греков это-то и составляло проблему. Боги, о которых писали поэты Древней Греции, были слишком аморальны, слишком поглощены собой, их заботы были чересчур человеческими, чтобы можно было продолжать почитать их как богов. Как можно почитать такого бога, как Зевс, который постоянно вынужден улаживать мелочные конфликты своих многочисленных жен и детей и все время убегает с Олимпа, чтобы заводить интрижки с богинями, смертными женщинами и юношами?
Совет богов. Рафаэль и его мастерская. Фреска лоджии Психеи на вилле Фарнезина, Рим (1517–1518)
© Wikimedia Commons
Доведенное до логического конца желание изображать богов все более похожими на человека может быстро показаться довольно глупым. Одно дело – приписывать божеству человеческие качества. Другое – наделять богов всем спектром человеческих эмоций, благодаря чему они кажутся в древнегреческой литературе такими живыми. Действительно ли мы должны представлять высших существ такими, какие они в гомеровских мифах, – блудливыми, вороватыми, завистливыми, похотливыми, легко дающими себя одурачить и в целом развратными натурами, которым просто повезло оказаться бессмертными?
Столкнувшись с дилеммой, которая вытекала из очеловечивания богов в литературе, древние греки выдвигали те же возражения по поводу все более похожих на людей идолов, наполнявших храмы. Первые изображения греческих богов были отнюдь не теми героическими статуями, которые мы так часто видим в музеях, а довольно абстрактными предметами, сделанными из цельных кусков дерева или камня. Они были призваны отражать дух бога, а не его физическую форму. Например, в портовом городе Аргосе Геру изображали в виде колонны, а на острове Самос – в виде деревянной доски. Афину изначально почитали в облике плоской доски оливкового дерева, вымытой и украшенной драгоценностями, облаченной в дорогие одежды и окруженной сонмом жриц [16].
Когда великий греческий скульптор Фидий создал для Парфенона величественную статую Афины из слоновой кости и золота – самую знаменитую культовую статую во всей Греции, – изображение богини со щитом в руке и шлемом со сфинксом на голове стало образцом для подражания: узнавать и почитать богиню начали именно в этом облике. То же случилось и с обликами Геры, Посейдона, да и всех великих греческих богов [17].
Подобно искусному изображению богов в литературе, большое мастерство греческих скульпторов и их способность реалистично изображать богов в человеческой форме зародило зерно сомнения относительно природы, да и самого существования всего греческого пантеона. Могли ли боги на самом деле выглядеть как люди? Причем не просто люди, а этнические греки – с густыми бородами, вьющимися волосами и острыми орлиными носами? Как так вышло, что бессмертные, универсальные боги, отвечающие за всех и вся, напоминают своим обликом приосанившегося торговца рыбой с Крита?
Для многих греков процесс столь успешного очеловечивания богов на пергаменте и в мраморе обнажил логическую ошибку, внутренне присущую нашему желанию творить богов по собственному образу. Ксенофан Колофонский, один из первых критиков древнегреческой религии, сформулировал проблему лаконично. «Если бы у лошадей, волов или львов были руки, – писал он, – лошади изображали бы богов похожими на лошадей, а волы – в виде волов»[18].
Ксенофан был не одинок, ставя под сомнение то, на основании чего десятки тысяч лет развивалась человеческая духовность – и столбы Гёбекли-Тепе, и изображение Колдуна на стене пещер Вольп, вплоть до самого зарождения религиозного импульса. Многие другие греческие мыслители – например, Фалес Милетский, Гераклит Эфесский, Платон и Пифагор – тоже начали переосмысливать саму природу богов. Этим грекам нужно было от своих богов нечто другое, а не обычное сходство. Они мечтали о религии, основанной не на слезливых истериках Зевса и его семьи, а на идее бога как существа нечеловеческого – либо по внешнему облику, либо по своей природе; бога как единого принципа, управляющего всеми созданиями – неизменяющегося и неизменяемого, бесплотного и, прежде всего, единого.
«Один бог, – писал Ксенофан. – Не похожий на смертных ни формой, ни мыслями» [19].
Для Ксенофана и его единомышленников-греков вера в «единого бога» была основана не столько на теологических аргументах, сколько на их представлении о мире природы как чем-то едином и неизменном. В конце концов, если природа едина, то бог – «Разум, который сформировал и создал все сущее», как называл его Фалес, – тоже должен быть единым. Эта идея была вызвана к жизни стремлением к математической простоте: если единица (монада, по выражению Пифагора) – начало всех чисел и основа математического единства, то бог тоже должен быть один. Кроме того, к этому их подталкивало и понимание истины: если Платон был прав, считая, что Правда в своей вечной, идеальной форме едина, то бог тоже должен быть един.
В стремлении к «единому богу» эти греческие мыслители старались определить бога как чистую суть – реальность, лежащую в основе всего сущего. Они пытались активно подавлять желание очеловечить бога и выступали за более раннюю, анимистическую концепцию расчеловеченного бога, без формы, тела, личности и воли; бога, почитать которого, как мы увидим, не особенно стремились ни в Греции, ни где-то еще.
6 Верховный бог
При рождении «фараон-еретик», известный в истории как Эхнатон, получил имя Аменхотеп. Он был четвертым фараоном с этим именем, десятым фараоном XVIII династии, с воцарением которой началась эпоха Нового царства (около 1570–1070 годов до н. э.) – период мира и процветания, когда Египет оказался на культурном и политическом пике своего существования.
Эхнатон, который вступил на престол примерно в 1350 году до н. э., по любым меркам был довольно странным фараоном. Высокий, с длинными конечностями, узким лицом, заостренным подбородком и выпученными глазами, он настолько отличается от других фигур на статуях и рельефах, сохранившихся до наших дней, что ученые не знают, что и думать. Некоторые статуи изображают его причудливым, едва ли не андрогином; на других у него полные груди и женские бедра. На рельефах, где фараон изображен со своей знаменитой женой, царицей Нефертити, порой их трудно отличить друг от друга [1].
Особенности Эхнатона не ограничивались внешним видом. Уже в молодости он выказывал безграничное почитание солнцу. Обожествление солнца всегда было важной частью духовной жизни Египта. Как и жители Месопотамии прежде, как и индоевропейцы впоследствии, древние египтяне поклонялись солнцу, отводя ему важное место в Эннеаде – девятке первых египетских богов творения. Среди них бог солнца носил имя Шу. Однако египтяне почитали солнце и во многих других воплощениях, из которых наиболее популярен был бог Ра, божество южного города, который греки называли Гелиополем – солнечным городом. (Слово «ра» – также обычное египетское название солнца [2].)
В начале XVIII династии, когда Египет быстро расширял границы, захватывая новые территории, потребовалось более универсальное божество, которое бы шло в ногу с имперскими амбициями государства. Именно в то время бог Ра, которому поклонялись на юге страны, слился с богом Амоном – божеством столичных Фив на севере Египта. Вместе эти два бога стали новым всемогущим общенациональным божеством Амоном-Ра («Амон, который есть Ра») [3].
Почти через двести лет, когда Эхнатон стал фараоном, Амон-Ра уже возглавлял египетский пантеон. Теперь его называли царем богов – не только в Египте, но и во всех его вассальных государствах и на колонизированных территориях. Посвященный ему храмовый комплекс в Карнаке под Фивами украшался самым щедрым образом, а жрецы Амона-Ра были самыми богатыми и могущественными в Египте [4].
Однако Эхнатон никогда не выказывал особенной преданности Амону-Ра, несмотря на его солнечное происхождение. Молодой фараон почитал солнце в совершенно иной форме – в образе древнего, но довольно малоизвестного божества Атона, солнечного диска, ослепительного небесного шара, лучи которого, как считалось, озаряют всех людей во всех уголках мира. Атон, впрочем, уже был достаточно важным божеством для семьи Эхнатона: его отец, Аменхотеп III, ассоциировался с этим богом и до, и после своей смерти. Но отношения Эхнатона с богом были уникальны: они носили своего рода интимный характер. Эхнатон утверждал, что он «нашел Атона». Его гимны в честь этого бога описывают не что иное, как опыт обращения – богоявление, видимое проявление божества, в котором Атон говорил с ним и являл свою природу. Этот опыт произвел на фараона неизгладимое впечатление. Вскоре после восшествия на египетский трон Эхнатон по приказанию своего бога в одиночку сделал его из мелкого божества, о котором обычные египтяне почти ничего не знали, главой египетского пантеона, а через несколько лет и вовсе единственным богом Вселенной. «Да здравствует Атон, и нет другого бога, кроме него!» – повелел молодой фараон [5].
В целом для фараонов было характерно благоволить одному из богов в ущерб другим – например, отводить больше ресурсов на храм этого бога или нанимать для служения ему больше жрецов. Но исключительное почитание одного бога не имело прецедентов в Египте, а отрицание существования других богов было непостижимо. Однако именно это и следовало из установления Эхнатоном культа Атона. В результате молодой фараон из XVIII династии Нового царства Древнего Египта стал первым монотеистом в истории человечества.
Монотеистическая революция Эхнатона произошла не в одно мгновение. Сначала он сменил имя – из Аменхотепа IV стал Эхнатоном I: не «Амон доволен», а «полезный Атону». Затем он оставил традиционную столицу своей династии – Фивы, где располагался храм Амона-Ра в Карнаке, и перенес столицу империи в неразвитый и малонаселенный регион Египта, как повелел ему Атон. Новый город он назвал Ахетатоном (горизонт Атона) – сейчас город известен под названием Амарна. Отсюда он начал обширный проект строительства храмов во имя Атона по всему Египту. Хотя из-за этого храмы других богов, особенно Амона-Ра в Карнаке, стали приходить в упадок и запустение из-за нехватки ресурсов, на этом этапе своего правления он еще не инициировал активные гонения за поклонение другим богам.
Однако на пятый год правления монотеистическая революция Эхнатона переросла в полномасштабные религиозные репрессии – беспрецедентные усилия по распространению монотеизма на всю империю. Почитание любых богов, кроме Атона, было объявлено в Египте незаконным. Все храмы, кроме храмов в честь Солнечного диска, были закрыты, а их жрецов распустили. Огромная армия маршировала от храма к храму, от города к городу, от Нубии на юге до Синая на востоке, громя идолы других богов, стесывая их изображения с памятников, исключая их имена из документов (древние египтяне верили, что в имени заключается суть вещи, так что стирание имени бога эквивалентно прекращению его существования). Это был самый настоящий погром египетских богов – жестокий, деструктивный, беспощадный и в конечном счете безуспешный.
Почти сразу же после смерти Эхнатона умерла и его религия. Рвение, с которым фараон уничтожал идолов других богов, теперь обратилось на его бога. Монотеизм был признан ересью, святотатством, которое людей принудили совершить. Храмы Атона были разобраны, по всей империи поставили тысячи новых статуй Амона-Ра. Большинство же статуй самого Эхнатона либо уничтожили, либо закопали в пустыне лицом вниз – преднамеренный акт кощунства. Его могила была осквернена, а саркофаг с мумифицированными останками разбили на кусочки. Его имя стерли с общественных памятников и исключили из официального перечня фараонов XVIII династии. Просто чудо, что мы вообще что-то знаем об Эхнатоне. Его сын и затем преемник Тутанхатон, то есть «живой образ Атона», сменил имя на Тутанхамон, «живой образ Амона», под которым и вошел в историю. Это была демонстративная попытка стереть последние воспоминания о своем отце и о ереси Атона. Так первая в истории попытка ввести монотеизм была похоронена в песках Египта и забыта.
Прошло чуть более двухсот лет, и примерно в 1100 году до н. э. монотеизм проявился вновь – на этот раз благодаря проповедям иранского пророка Заратустры Спитамы [6].
Человек, которого греки знали под именем Зороастр, родился на плодородных равнинах северо-восточного Ирана в одном из многочисленных индоиранских, или арийских, племен, которые отделились от индоевропейского дерева и расселились в степях Центральной Азии. Арийское общество во времена Заратустры жестко делилось на три класса: воинов, которые защищали племя от нападений; крестьян и пастухов, которые кормили все население, и жрецов (известных как маги), которые следили за исполнением строгих ритуалов религиозной системы.
В религии древнего Ирана существовал пантеон богов, многие из которых были иранскими вариантами ведических божеств (Индры, Варуны, Сомы, Митры). Однако иранские божества, в отличие от богов других древних цивилизаций, появились не вследствие обожествления природных стихий, а как олицетворение абстрактных понятий – Правды, Добродетели, Справедливости. Выдающаяся исследовательница иранских религий Мэри Бойс сравнивает процесс, в ходе которого произошло обожествление этих абстракций, обретение ими личных качеств и конкретных физических черт, с образованием жемчуга: «Слой за слоем верования и наблюдения накладывались на песчинку исходной идеи»[7].
Стела Эхнатона и Нефертити, поклоняющихся Атону, из Тель-эль-Амарны (ок. 1340 г. до н. э.)
© Wikimedia Commons
Согласно большинству источников, Заратустра принадлежал к жреческому сословию Ирана. Он унаследовал пост жреца, который и принял в семь лет. В юности он прилежно заучивал наизусть каждый слог и каждую цезуру в священных гимнах и мантрах (так называемых яштах), чтобы умилостивить богов и убедить их излить свои щедроты на людей. В пятнадцать лет он закончил обучение и стал полноценным иранским жрецом.
Жрецы в древнем Иране обычно были прикреплены к семьям, которые платили им за исполнение строго определенных и отнимающих много времени ритуалов и жертвоприношений от их имени. Однако Заратустра неожиданно отказался от своих жреческих обязанностей и в двадцать лет стал странствовать по степям и долинам Ирана, пытаясь узнать богов лучше, чем удавалось по заученным наизусть мантрам и рутинным жреческим ритуалам.
Однажды, приняв участие в религиозном весеннем празднике у горы Себелан в Северо-Западном Иране, Заратустра вошел в реку, чтобы набрать немного воды для утренней церемонии. Когда он посмотрел назад на берег, его поразил слепящий белый свет. Ему предстало видение незнакомого бога, не входившего ни в один пантеон того времени.
Согласно записям самого Заратустры – так называемым Гатам, древнейшим писаниям зороастризма, религии, которую он впоследствии основал, – неизвестное божество объявило себя единственным богом во Вселенной: «Я есть Первый и Последний». Этот бог сотворил небо и землю, ночь и день, отделил свет от тьмы, определил пути солнца и светил, заставил луну расти и убывать [8].
Этот бог был уникален тем, что не был каким-то племенным божеством, пробравшимся на вершину пантеона других богов; других богов просто не существовало. Он не был связан ни с отдельным племенем, ни с конкретным городом-государством. Он не жил внутри храма – он пребывал повсюду, во всем сотворенном, вне времени и пространства. Хотя Заратустра называл этого бога Ахурамазда, то есть «мудрый господин», это был просто эпитет: имени у бога не было. Его можно было познать только через шесть божественных воплощений, которые он вызвал к жизни самим своим существованием: мудрость, истину, власть, любовь, единство и бессмертие. Это не столько атрибуты Ахурамазды, сколько шесть субстанций, которые составляют его существование. Иными словами, это отражения Ахурамазды в мире [9].
Встреча Заратустры с Ахурамаздой ознаменовала поворотный момент в истории религии, и не только потому, что была всего второй известной человечеству попыткой ввести монотеистическую систему, но и потому, что она предсказала новый способ взаимоотношений между богами и людьми. Дело в том, что Заратустра не просто встретил Мазду – он получил откровение от этого бога. Мазда говорил с Заратустрой, а затем Заратустра записал его слова, чтобы их прочли другие. Тем самым Заратустра Спитама стал первым в истории человеком, ставшим тем, кого бы мы сейчас назвали пророком.
Как и большинство пророков, которые пойдут по его стопам, Заратустра был отвергнут обществом из-за монотеистических идей. За первые десять лет проповедей он обратил в свою новую религию ровно одного человека – собственного двоюродного брата. Соотечественники Заратустры и в принципе не собирались отказываться от своих племенных богов, но особенно им не хотелось признавать в одном-единственном боге источник всех абстрактных понятий, в соответствии с которыми был сформирован иранский пантеон: тьмы и света, добродетели и порока, истины и лжи. Как один бог может быть источником и добра, и зла?
Понимая эту дилемму (и разделяя этот подход), Заратустра предложил хитроумное решение. Он заявил, что зло – это не внешняя, тварная сила, а лишь побочный продукт добра. Мазда не создавал зло; он создал лишь добро. Но доброе не может жить без недоброго (то есть зла), как не может существовать свет без отсутствия света (тьмы). Таким образом, добро и зло – противоположные духовные силы, порожденные творением Ахурамазды и его противоположностью.
Заратустра назвал «хороший», или «положительный», дух Спента-Майнью, а «плохой», или «отрицательный», – Ангра-Майнью. Хотя он именовал их «близнецами» Мазды, они не существовали отдельно от него, являясь духовным воплощением Истины и Лжи. Тем самым Заратустра дополнил свою монотеистическую систему дуалистической космологией.
Однако, несмотря на это разумное нововведение, религия Заратустры не получила широкого распространения. Хотя в конце жизни Заратустра пользовался некоторым успехом, зороастризм, как и атонизм, канул в Лету после смерти основателя.
Однако, в отличие от атонизма, зороастризм внезапно ожил через несколько веков, став государственной религией империи Ахеменидов – династии завоевателей мира, основанной Киром Великим в VI веке до н. э. Но маги при дворе Кира, воскресившие теологию Заратустры, полностью ее переосмыслили: во‐первых, трансформировали шесть первотворений Ахурамазды в шесть божественных существ, которые наряду с Маздой стали именоваться амешаспентами, или «священными бессмертными», а во‐вторых, что важнее, сделали из двух первичных духов Заратустры – Спента-Майнью и Ангра-Майнью – двух первичных божеств: доброго бога Ормузда (сокращение от Ахурамазды) и злого бога Аримана.
Зороастр/Заратустра. Рельеф на двери иранского святилища (V в.)
© Kuni Takahashi / Contributor / Getty Images
Монотеизм Заратустры стал зороастрийским дуализмом. Вера в одного бога, воплощающего в себе все доброе и злое, стала верой в двух богов – доброго и злого, которые сражаются друг с другом за души человечества. И снова эксперимент с монотеизмом провалился [10].
Удивительно, что из сотен тысяч лет, в течение которых религиозный импульс человечества выражался в вере в существование души, в культе предков, в создании духов, формировании богов и их пантеонов, сооружении храмов и святилищ и передаче мифов и ритуалов, то, что мы сегодня понимаем под монотеизмом – вера в единого и единственного бога, – существует от силы 3000 лет. Нельзя сказать, чтобы монотеистические системы не возникали спорадически в ходе истории религий: примеры Эхнатона и Заратустры свидетельствуют об обратном. Но когда они возникали, их отрицали и не принимали, порой с жестокостью. Почему же монотеизм столько времени находился на отшибе истории религии?
Частично это связано с его уникальностью. Нужно понимать, что монотеизм определяется не как почитание только одного бога: такая система называется монолатрией и гораздо более распространена в истории. Монотеизм – это почитание одного бога и отрицание всех остальных богов. Он требует от верующего считать всех остальных богов ложными. А если все остальные боги ложные, то любые истины, основанные на вере в этих богов, тоже ложные. Монотеизм отвергает саму возможность существования субъективной истины, что объясняет, почему, как в случае с Эхнатоном, монотеистические системы часто должны устанавливаться силой, чтобы преодолеть естественные верования и убеждения людей.
Эхнатон не просто хотел заставить подданных почитать своего бога и не верить в остальных. Во время его правления форма множественного числа слова «бог» была исключена из египетского словаря. Таким образом, само слово «бог» перестало существовать как слово в языке египтян. Искореняя многобожие как мыслительную категорию, Эхнатон утверждал, что теперь существует лишь один истинный путь к пониманию природы Вселенной [11].
Заратустра не обладал военной мощью фараона и не мог физически заставить людей признать его правоту единственно возможной. Но и он объявлял своего бога единственным источником человеческой морали – «истинным Создателем Правды и Добра». Он утверждал, что Ахурамазда будет судить каждого человека на земле по его мыслям, словам и делам, а затем вознаграждать или наказывать его после смерти. Это была исключительная идея. Представление о рае и аде – а Заратустра фактически рассказывал именно об этом – стало беспрецедентным в истории человеческой духовности. До того времени большинство древних людей просто полагали, что мир мертвых – это продолжение мира живых: воин в этой жизни будет продолжать биться и в следующей; крестьянин на земле продолжит распахивать поля и на небесах. Мораль не играла никакой роли в загробной жизни человека. Заратустра отказался от этой идеи, заявив, что этичность наших действий на земле (о которой может судить лишь его бог) будет иметь последствия в следующей жизни в форме вечного вознаграждения или вечного наказания [12].
И хотя уникальная природа монотеизма может объяснить отказ людей воспринимать его, основная причина, по которой монотеизму многие тысячелетия не удавалось пустить корни в нашем религиозном сознании, состоит в том, что идея единого бога вступает в противоречие с нашим повсеместным желанием очеловечивать божественное.
В сложных политеистических системах Месопотамии, Египта, Ирана и Греции, о которых мы уже говорили, наше врожденное и бессознательное желание переносить человеческие качества на богов могло распространяться на множество божеств, так что в итоге каждой добродетели и каждому пороку могло соответствовать по богу. Так у нас появились боги для различных вариантов любви и похоти (Иштар в Месопотамии, Кама у индоевропейцев, Эрос и Афродита в Греции); боги, иллюстрирующие нашу страсть к войнам и насилию (Инанна, Анхур, Индра, Арес); боги, отражающие наши материнские (Хатхор и Гера) и отцовские (Осирис и Зевс) качества, и т. д.
Однако представление о едином боге, который воплощает в себе все наши добродетели и пороки, все качества и атрибуты разом, было попросту чуждо древнему человеку. Как может бог быть одновременно отцом и матерью? Как один бог мог сотворить сразу свет и тьму? Древние люди очень даже признавали наличие у себя таких противоположных качеств. Но, судя по всему, они предпочитали четко разделять своих богов по атрибутам, чтобы было удобнее просить их о конкретных одолжениях или услугах.
Борясь с этим ощущением, Эхнатон заявлял, что все остальные «боги» и приписываемые им атрибуты – это лишь отражения Атона и его атрибутов. «Ты один, – воспевал фараон своего бога, – но ты имеешь множество форм: ты восходишь и сияешь, ты отходишь и приближаешься; ты существуешь в миллионах форм». Но, кажется, такое объяснение подданных не устраивало.
Заратустра придумал более гибкое решение проблемы, преобразовав древних богов политеистического Ирана в первых в истории религии «ангелов» и «демонов». Боги, отражавшие добродетели людей, стали ангелами, а те, в ком воплощались наши пороки, – демонами. Но и это арийцев не устроило, и через сотни лет после смерти Заратустры маги вернули почти всех богов древнего Ирана в свой обновленный вариант зороастризма.
Однако древние люди с готовностью принимали существование единого всемогущего и всеобъемлющего Верховного бога, который выступал как верховное божество в пантеоне более мелких божеств, которые, впрочем, также были достойны почитания. Эта религиозная система называется генотеизмом. Она быстро стала доминирующей формой выражения духовности не только на древнем Ближнем Востоке, но и почти во всех мировых цивилизациях [13].
Причины успеха генотеизма можно отнести к одному из неизбежных последствий нашего бессознательного стремления очеловечивать божественное: восприятие божественного сквозь призму человеческого побуждает нас представлять себе мир богов как возвышенное отражение нашего. Царство небесное отражает царство земное, его общественные и политические институты. И поскольку наши земные институты изменяются, то же происходит и на небесах.
Пока мы жили небольшими кочующими родовыми общинами охотников и собирателей, мы считали, что мир иной – это сказочная версия нашего мира: он кишит стадами ручных животных, которых пасет Властелин животных и которых легко убивать. Когда мы поселились в маленьких деревнях и стали растить себе пищу, а не охотиться на нее, Властелин животных уступил место Матери-Земле, а небесное царство стало восприниматься как место, где боги плодородия вечно снимают урожай. Когда маленькие деревни стали независимыми городами-государствами, в каждом из которых появилось собственное племенное божество, находящееся в вечном конфликте с остальными, небо стало вместилищем пантеона явно воинственных богов, божественных покровителей соответствующего земного города. А когда города-государства слились в обширные империи, управляемые могущественными царями, появилась иерархическая организация богов, которая отражала новый порядок на земле.
Для этого явления есть свой термин – политикоморфизм, или «обожествление земной политики». И по сей день это одно из основных качеств почти любой религиозной системы мира.
Краткий экскурс в историю Месопотамии хорошо проиллюстрирует то, как работает политикоморфизм и почему он так часто приводит к генотеизму. В IV тысячелетии до н. э., во время становления месопотамской цивилизации, цари не обладали всей полнотой земной власти. Она находилась в руках «общего собрания», которое включало в себя всех свободных мужчин города-государства – «людей старых и молодых». Собрание служило судом, регулирующим гражданские и уголовные вопросы. Оно имело право улаживать споры с другими городами-государствами, а если переговоры не удавались, оно могло объявить войну соседям. Оно даже могло выбирать и смещать царей [14].
Весьма демократическая природа древней месопотамской цивилизации, как уже было показано в предыдущей главе, отражалась в ранних месопотамских представлениях о небесных порядках. Возьмем миф об Атрахасисе. Здесь боги явно организованы по «демократическому» принципу. У них тоже есть совет – «божественное собрание»: они собираются на огражденном дворе Энлиля и обсуждают небесные и земные проблемы. Будучи «величественными существами», они сначала приветствуют коллег по пантеону, болтают и обнимаются. Они едят, наполняют чаши вином, а потом, когда беседы окончены, переходят к обсуждению вопросов Вселенной. Ни один бог не имеет права пойти против решения этого божественного собрания, хотя порой кто-нибудь это все же делает: например, Энки тайно спас Атрахасиса при потопе.
Затем, в середине III тысячелетия до н. э., во время так называемого Раннего династического периода, в Месопотамии появляются крупные деспотии. Большие города-государства Лагаш и Умма вступают в вековой спор о границах. Легендарный аккадский царь Саргон завоевывает большинство шумерских городов-государств на юге и создает первую в Междуречье империю. После падения Аккадской империи Саргона возникают Вавилонская империя на юге и Ассирийская империя на севере. В то же время банды грабителей-кочевников из южных пустынь и с северных гор стали совершать набеги на оседлые города-государства. Перенаселение и нехватка ресурсов в регионе привела к состоянию почти постоянной войны.
Всеобщая паранойя в Месопотамии была умело использована группой аристократов, которые потребовали абсолютной власти, чтобы защитить народ и сокрушить врагов. Политическая власть была централизована, появилась новая, деспотическая концепция царствования, а все следы общественного собрания «людей молодых и старых» сошли со сцены истории.
Новая политическая реальность отразилась в месопотамских мифах того времени. В «Энума элиш» – великом вавилонском эпосе о сотворении мира, созданном в середине II тысячелетия до н. э., мы находим совершенно иной небесный порядок. Теперь всеми богами управляет вавилонское божество, которое в шумерские времена было почти неизвестным и уж точно незначительным, – Мардук.
Согласно эпосу, на богов неба напало первобытное морское чудовище Тиамат. Они созывают божественное собрание, на котором вводится своего рода чрезвычайное положение. Молодой бог Мардук вызывается сразиться с Тиамат от лица всех богов, но только если его признают царем богов и дадут абсолютную власть над землей и небом. «Если я мстителем за вас стану, чтоб Тиамат осилить и спасти ваши жизни, – соберите Совет, возвысьте мой жребий! – требует Мардук. – Мое Слово, как ваше, да решает судьбы! Неизменным да будет все то, что создам я! И никто приказ моих уст не отменит!»[6] [15]
Боги, испуганные и отчаянно стремящиеся установить мир и покой на небесах, соглашаются. «Мардук, славнейший средь богов великих! – кричат они в порыве энтузиазма, распуская божественное собрание. – Надо всей Вселенной мы даем тебе царство!» Затем боги вручают Мардуку скипетр и трон, отмечая его новое положение во главе месопотамского пантеона, и он отбывает сражаться с Тиамат.
Так же развивалась мифология и в Ассирийской империи, которая подвергалась с севера примерно тем же опасностям, что и вавилоняне с юга, только в ассирийской версии царем богов признавали не Мардука, а местного бога Ашшура. В то же время в царстве Исин, расположенном в тридцати с небольшим километрах к югу от Ниппура, бог Ан из верховного небесного божества превратился в безусловного царя небес [16].
Во всех случаях, во всех империях, по всей Месопотамии с изменением политической ситуации на земле менялась и политика на небесах. Как свободные жители независимых городов-государств Месопотамии от страха и ужаса отказывались от примитивной демократии и добровольно вручали своим царям абсолютную власть, так и жители небес делали одного или другого бога верховным правителем. Теология приспосабливалась к реальности, а дела небесные становились расширенной проекцией дел земных.
При таком мировом порядке генотеизм – вера в Верховного бога, который правит всеми остальными богами, – вполне логичен. Чем больше власти сосредоточено в руках одного человека на земле, тем больше власти у одного бога на небе, будь то Мардук в Вавилоне, Ашшур в Ассирии, Ан в Исине, Амон-Ра в Египте, Хумпан в Эламе, Халди в Урарту, Зевс в Греции, Юпитер в Риме, Один у скандинавов, Тянь у китайской династии Чжоу и т. д.
Но чем выше божество взбирается в пантеоне, оттесняя других, менее властных богов, тем больше оно забирает себе атрибутов, ранее традиционно приписываемых этим богам, пока наконец противоречия и несоответствия с исходным представлением о Верховном боге не достигают крайней точки. Возьмем индуистского бога Шиву – верховного бога в шиваизме, который вместе с Брахмой и Вишну образует триумвират, известный как индуистская троица Тримурти. Шива изначально был сравнительно мелким божеством – его имя даже не упоминается в «Ригведе». Однако в послеведической литературе, особенно в «Упанишадах» и великом индийском эпосе «Махабхарата», по мере того как Шива все выше и выше поднимается в индуистском пантеоне, можно заметить, как он присваивает себе качества и атрибуты богов, которых заменяет. Так что сейчас Шива – это созидатель и разрушитель, целитель и убийца, аскет и гедонист, бог бурь и бог танца [17].
Именно из-за этой крайней точки генотеизм редко переходит в монотеизм. Одно дело, когда Верховный бог постоянно забирает себе качества и атрибуты мелких богов, пусть эти качества не сочетаются друг с другом или даже находятся в прямом противоречии. Совсем другое дело – представить себе единого бога, который обладает всеми этими атрибутами и качествами сразу.
Конечно, существует простой и довольно очевидный способ разрешить эту дилемму. Расчеловечить бога – освободить божественное от всех человеческих атрибутов и переосмыслить бога в духе Ксенофана, Платона и других греческих философов, то есть творческой субстанции, лежащей в основе Вселенной. Собственно, именно это пытались сделать и Эхнатон, и Заратустра. Заратустра представлял Ахурамазду как чистый одушевляющий дух, не имеющий формы, полностью трансцендентный и безличный. В Гатах поэтически описываются вознаграждающие руки Мазды и его всевидящие глаза, но это просто метафоры. Пожалуй, в Гатах человеческие качества приписываются божественному реже, чем почти в любом другом священном тексте.
Эхнатон не только разрушил идолов других богов, но и запретил создавать статуи Атона и делать из него идолов. Официально Атона можно было изображать только в форме диска с исходящими от него лучами света, ниспадающими на землю, подобно благословляющим все сущее рукам божества (это единственная человеческая черта, которой Эхнатон оставался верен). Хотя в великих гимнах времен Эхнатона для обозначения Атона используется личное местоимение мужского рода «он», бог в этих произведениях не проявляет человеческих качеств, не обладает человеческими атрибутами и не руководствуется человеческими эмоциями или мотивами. И это тоже объясняет, почему монотеистические устремления Эхнатона (да и Заратустры) не увенчались успехом.
Трудности, с которыми столкнулись Эхнатон и Заратустра, связаны с тем, что людям обычно сложно иметь дело с богом, который не имеет не только человеческих свойств и атрибутов, но и человеческих потребностей. Если у бога нет ни человеческого облика, ни человеческих атрибутов, ни человеческих качеств, то как люди должны связываться и общаться с ним? Само представление о расчеловеченном боге противоречит когнитивным процессам, благодаря которым и возникла идея бога. Оно подобно попыткам представить себе непредставимое – например, облик существа, не имеющего облика. Это слишком ненадежный путь, который обречен на неудачу.
Чтобы принять идею существования единственного и единого бога без человеческого облика, атрибутов и качеств, потребовались бы либо значительные мыслительные усилия со стороны верующих, либо глубокие изменения в духовной эволюции религиозной общины – глубочайший духовный кризис, который заставил бы людей забыть обо всех противоречиях, неизбежных для идеи единого бога, и о своей естественной склонности создавать себе бога по собственному образу и подобию.
И оказалось, что именно такой кризис через восемь веков после Эхнатона и через шесть веков после Заратустры заставил небольшое семитское племя с земли Ханаан, которое именовало себя Израилем, провести, как впоследствии выяснилось, первый в мире успешный эксперимент с монотеизмом.
Часть III Что есть Бог?
7 Бог – один
В 586 году до н. э. царь Навуходоносор II, властитель могущественного Вавилонского царства и представитель на земле бога Мардука, царя богов, разрушил стены Иерусалима, разграбил столицу Израильского царства и сжег дотла еврейский храм. Тысячи евреев были преданы мечу; те немногие, что уцелели (главным образом образованная элита – жрецы, воины и царственные особы), были отправлены в изгнание. Цель была очевидна – покончить с израильтянами как с нацией. А если бы Израиль перестал существовать, то перестал бы существовать и бог Израиля – Яхве [1].
На древнем Ближнем Востоке племя и его бог считались единой сущностью, соединенной договором, по которому племя заботилось о боге, почитая его и принося ему жертвы, а бог в обмен защищал племя от невзгод, будь то наводнение, голод, а чаще всего соседние племена и их боги. Собственно, война на древнем Ближнем Востоке считалась не столько битвой армий, сколько состязанием божеств. Вавилоняне захватывали Израиль не во имя своего царя Навуходоносора, но именем своего бога Мардука. Считалось, что Мардук действовал на стороне вавилонян прямо на поле боя в соответствии с соглашением, которое он заключил с Навуходоносором.
У израильтян было такое же соглашение с их богом. Яхве управлял Израилем, и на Яхве ложилось бремя по его защите. Кровавые бои между израильтянами и их врагами, которые занимают столько места в первых книгах Библии, считались на деле битвами между Яхве и враждебными богами. Яхве часто приписывалось планирование, командование и управление битвами на стороне Израиля: «И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне против Филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И Он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи…» (2-я Цар. 5:19–23) [2].
Такая непосредственная идентификация племени со своим божеством имела глубокие теологические последствия для древних людей. Когда Яхве помог израильтянам сокрушить филистимлян, это доказало, что бог израильтян более могуществен, чем бог филистимлян Дагон. Когда же вавилоняне разгромили израильтян, теоологическим выводом было то, что Мардук, бог Вавилона, могущественнее Яхве.
Для множества израильтян разрушение храма – Дома Яхве – значило больше, чем просто конец национальных амбиций. Оно свидетельствовало о конце их религии. Без обрядов и ритуалов, которые занимали центральное место в их религиозных чувствах и даже в чувстве собственной идентичности, у них не было выбора, кроме как подчиниться новой реальности. Они приняли вавилонские имена, стали изучать вавилонские тексты и почитать вавилонских богов.
Но среди плененных евреев оказалась небольшая группа религиозных реформаторов, которые, столкнувшись с неприемлемой перспективой согласиться с уничтожением Яхве руками Мардука, предложили альтернативное объяснение: возможно, разрушение Израиля и пленение евреев – это часть божьего промысла Яхве. Возможно, Яхве наказал израильтян за то, что они вообще верили в существование Мардука. Возможно, никакого Мардука нет.
Именно в этот момент духовного разлада, когда Израильское царство лежало в руинах, а храм Яхве был разрушен и покинут, была создана новая идентичность, а вместе с ней – совершенно новая точка зрения на божественное.
Бог, который впоследствии стал известен как Яхве, впервые явился в виде неопалимой купины где-то в каменистых пустынях Северо-Восточного Синая. Яхве говорит пророку Моисею: «Вот имя Мое навеки, и памятование о Мне из рода в род» (Исх. 3:15) [3].
Согласно Библии, Моисей оказался в этой пустынной земле, потому что бежал от гнева фараона. В Исходе рассказывается, как израильтяне, которые за несколько поколений до этого последовали за потомками праотца Авраама в Египет, стали так многочисленны и могущественны, что их решили лишить богатства и свободы и обратить в рабство. Египтяне так боялись евреев, что сам фараон приказал топить в Ниле всех новорожденных сынов Израилевых.
Но каким-то образом один ребенок спасся. Его родители, потомки жрецов-левитов, положили его, трехмесячного, в корзину из папируса и отправили по поросшим камышом речным отмелям. Там его нашла дочь фараона. Она сжалилась над мальчиком, принесла его в свой дом и воспитала как члена египетской царской семьи [4].
Однажды, когда Моисей уже вырос, он вышел в люди и сам увидел, насколько тяжело приходится работать евреям. Он увидел, как хозяин-египтянин бьет израильского раба, и в приступе гнева убил египтянина. В страхе за свою жизнь Моисей бежал из Египта в так называемую землю Мадиамскую. Там он встретил «священника мадиамского», который принял его в своем доме и племени и дал в жены собственную дочь Сепфору [5].
Много лет Моисей прожил со своей мадианитянской семьей в доме своего тестя-жреца. Однажды днем, когда он пас стадо своего тестя, он направил скот в дикую местность, к подножию святыни мадианитян, известной как «божественная гора». Именно там он и встретил загадочное божество, которое представилось как Яхве.
Где именно там, установить вряд ли возможно. В Исходе вроде бы четко написано, что «божественная гора» расположена на северо-востоке Синая. Но во Второзаконии и других местах Библии говорится, что это гора из хребта Сеир в Южной Трансиордании. Трудно сказать даже, что в Библии подразумевается под «землей Мадиамской». Насколько нам известно, мадианитяне были довольно слабо связанным друг с другом союзом несемитских племен – обитателей пустыни в Северо-Западной Аравии, а вовсе не Синая или Трансиордании. Собственно говоря, путаницы и противоречий в истории Моисея так много (например, тестя Моисея называют Рагуилом (Исх. 2:18), а через несколько стихов (Исх. 3:1) он оказывается Иофором), что историки никак не могут в ней что-либо понять [6].
Проблема еще и в том, что не существует никаких археологических свидетельств присутствия израильтян в Древнем Египте. А это довольно существенно, учитывая изощренный бюрократизм египетского Нового царства (периода, когда вроде бы и происходила история с Моисеем) и легендарную тягу местных писцов к ведению записей. Египтяне регулярно пользовались рабским трудом, известны роли и социальные категории рабов: рабы, взятые в плен на войне; рабы, продавшие в рабство сами себя ради выплаты долга; рабы, которые, подобно крепостным, работали на государство в течение определенного периода.
Моисей и горящий куст. Монастырь Св. Екатерины, Синай (Египет)
© K. Weitzmann: “Die Ikone” / Wikimedia Commons
Однако израильтяне не попадают ни в одну из этих категорий, так что представление о том, что египтяне могли обратить в рабство целый народ, с трудом выдерживает какую-либо критику. Еще более невероятна причина, которую указывает Библия для столь массового порабощения: якобы племя семитов-кочевников каким-то образом стало «более многочисленным и более сильным», чем египтяне, которые в то время были самой крупной, самой богатой и самой могущественной в военном отношении империей, которую когда-либо знал мир (Исх. 1:9–10) [7].
Но едва ли не самый удивительный фрагмент истории Моисея – это встреча с божеством в пустыне. Откуда взялся Яхве, остается загадкой. Это имя не фигурирует ни в одном списке богов древнего Ближнего Востока, и это поразительный пробел, учитывая, что в списках упоминаются тысячи божеств. Однако имеются два иероглифических упоминания Яхве в Нубии, которые датируются как раз периодом Нового царства – одно в храме, построенном в XIV веке до н. э. Аменхотепом III, отцом Эхнатона, другое – в храме, который построил в XIII веке до н. э. Рамсес II. В них фигурирует нечто под названием «земля кочевников Яхве». Хотя существуют споры относительно того, где именно находится эта земля, большинство ученых полагают, что так именуют широкий пустынный район к югу от Ханаана, то есть собственно «землю Мадиамскую».
Таким образом, Моисей, который женился на представительнице племени мадианитян, встречается с божеством мадианитян (Яхве), находясь на службе у священника мадианитян (своего тестя) в земле Мадиамской [8].
Если бы история здесь и заканчивалась, а мы могли игнорировать перечисленные выше исторические проблемы, это имело бы некий смысл. Но это вовсе не конец, поскольку первая задача, которую ставит мадиамский бог Моисею, – вернуться в Египет, освободить израильтян от рабства и вернуть их на родину, в землю Ханаанскую: «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам» (Исх. 3:15).
Это заявление вызвало бы некоторое удивление у Авраама, Исаака и Иакова, поскольку на самом деле эти библейские патриархи поклонялись не мадиамскому пустынному божеству Яхве. Они почитали совершенно другого бога – ханаанское божество, которое знали под именем Эль.
Ученые уже много веков знают, что израильтяне в Библии почитают двух совершенно разных богов, которые отличаются друг от друга именами, происхождением и свойствами. Пятикнижие – первые пять книг Библии (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие), сборник текстов из различных источников, которые могут на сотни лет отличаться по времени создания. Пристальное рассмотрение дает возможность заметить швы на месте соединения двух и более различных традиций. Например, есть две отдельные истории творения, написанные независимо друг от друга: глава 1 Бытия, в которой мужчина и женщина сотворены вместе и одновременно, и глава 2 Бытия, гораздо более популярная, в которой Ева сотворяется из ребра Адама. Есть и два разных рассказа о потопе, которые, впрочем, в отличие от двух историй творения, сшиты вместе, чтобы получить единое, но противоречащее само себе свидетельство о том, как потоп длится не то 40 (Быт. 7:17), не то 150 дней (Быт. 7:24); животных на ковчег берут не то по семь пар (Быт. 7:2), не то всего по паре каждого вида (Быт. 6:19); потоп начинается не то через семь дней после входа Ноя на ковчег (Быт. 7:10), не то сразу после того, как он погружается на ковчег вместе с семьей (Быт. 7:11–13).
Тщательно отслеживая каждую из этих отдельных нитей повествования, исследователи Библии сумели определить по меньшей мере четыре разных письменных источника, из которых в основном составлены первые книги Библии. Они получили названия: Яхвист, или J (читается как Й), который восходит к X–IX векам до н. э. и проходит по большей части Бытия, Исхода и Чисел; Элохист, или Е, который относится к VIII–VII векам до н. э. и в основном прослеживается в Бытии и частично в Исходе; Священнический кодекс, или Р, который был написан во время Вавилонского пленения в 586 году до н. э. или сразу после него и представляет собой в основном переработку материалов источников J и Е; и Второзаконие, или источник D, на котором основаны книги от Второзакония до Царств I и II и который можно датировать где-то VII–V веками до н. э.
Между этими источниками наблюдаются многочисленные расхождения. Например, в материале Элохиста, который, вероятно, был написан священником с севера Израиля, гора Синай именуется горой Хорив (Исх. 3:1), а ханаанеяне – амореями. Бог в этих отрывках являет себя в основном в видениях и снах, в отличие от более югоцентричного материала Яхвиста, где Бог часто имеет очевидные антропоморфные черты. Он творит мир посредством проб и ошибок, забывает создать пару для Адама (Быт. 2:18); Он прохаживается по Эдемскому саду, наслаждаясь вечерним ветерком (Быт. 3:8). Он в какой-то момент утрачивает контроль над своими творениями, Адамом и Евой, и не может их найти, когда они прячутся за деревьями. «Где ты?» – кричит Яхве в ночной тиши (Быт. 3:9).
Однако основное различие между Яхвистом и Элохистом в Пятикнижии состоит в том, что Бог в этих источниках именуется различными именами. Бог Элохиста – это Эль или Элохим (множественное число от Эль), который в русском переводе Библии обозначается как Бог с большой буквы Б: «И было, после сих происшествий Бог [Элохим] искушал Авраама» (Быт. 22:1). Бог же яхвистской традиции известен как Яхве – в русском переводе Библии это Господь: «И сказал Господь [Яхве]: Я увидел страдание народа Моего в Египте» (Исх. 3:7). В значительно более позднем Священническом кодексе наравне встречаются и Яхве, и Элохим – очевидная попытка свести воедино этих двух явно различных богов.
Хотя материал Яхвиста примерно на сотню лет старше Элохиста, в традиции Элохиста представлено более раннее божество. Если о природе Яхве мы не знаем ничего, кроме предположения, что он мог быть богом мадианитян, Эль – одно из самых известных и хорошо задокументированных божеств древнего Ближнего Востока.
Это мягкое, отстраненное, отеческое божество, которое традиционно изображалось либо как бородатый царь, либо как бык или теленок, было верховным богом Ханаана. Он был известен также как Творец Всего Тварного и Ветхий денми и был одним из главных ханаанских богов плодородия. Но главным образом Эль был царем небесным, отцом и покровителем земных царей Ханаана. Восседая на небесном троне, Эль был главой совета ханаанских богов, в который входили Ашера, Мать-Богиня и супруга Эля; Баал, молодой бог бури, «всадник облаков»; Анат, богиня войны; Астарта, она же Иштар; и множество других богов более низкого статуса [9].
Эль, безусловно, был первым богом Израиля. Даже само слово «Израиль» означает «Эль упорствует».
Первые израильтяне поклонялись Элю под множеством имен: Эль Шаддаи (Бог Всемогущий, или Бог Гор, – Быт. 17:1); Эль Олам (Бог вечный – Быт. 21:33); Эль Рой (Бог видящий – Быт. 16:13); Эль Эльон (Бог Всевышний – Быт. 14:18–24), и это лишь некоторые из них. И хотя может показаться странным, что израильтяне, живущие в Ханаане, с такой готовностью стали поклоняться ханаанскому богу как собственному, влияние ханаанской теологии на Библию несомненно. На самом деле даже не всегда легко провести четкую этническую, культурную и даже религиозную границу между хананеянами и израильтянами, по крайней мере если говорить о древней истории Израиля (около 1200–1000 годов до н. э.) [10].
Традиционно считается, что израильтяне были строгими монотеистами, преданными единому и единственному Богу Вселенной и окруженными со всех сторон политеистами-хананеянами с их множеством ложных богов. Однако эта точка зрения не выдерживает исторической и археологической проверки. Прежде всего, не существовало какой-то отдельной группы хананеян; этот термин – общее наименование всего множества племен, что населяли горы, долины и прибрежные области Ханаанской земли (Южного Леванта – ныне это части современных Сирии, Ливана, Иордании, Израиля и Палестины). Практически невозможно четко выделить именно израильскую культуру из общего массива культуры ханаанской. Сегодня многие ученые полагают, что израильтяне были одним из горных ханаанских племен, которые облюбовали себе какой-то горный массив и впоследствии постепенно выделились из более обширной племенной группы, выражая обособленную идентичность, которая тем не менее оставалась укорененной в ханаанской культуре и религии. Обе группы были западносемитскими народностями, которые говорили на схожих языках, использовали схожее письмо и обладали схожими ритуалами и обычаями. Схожей была даже религиозная терминология для церемоний и жертвоприношений, так что многие слова, заимствованные ивритом из ханаанских языков, относятся к религиозной сфере [11].
Статуя сидящего Эля
© Oriental Institute of the University of Chicago
Ну и, конечно, у них был один и тот же бог – Эль.
Впрочем, точнее было бы сказать, что у израильтян и хананеян были одни и те же боги, поскольку древних израильтян никоим образом нельзя назвать монотеистами. В крайнем случае можно признать за ними монолатрию, то есть они почитали одного бога – Эля, но не отрицали существования других богов ханаанского пантеона. Вообще-то израильтяне порой поклонялись и другим богам, в особенности Баалу и Ашере, а также, хоть и в меньшей степени, Анат. И хотя Библия пестрит пассажами (созданными в основном авторами позднего Священнического кодекса), порицающими поклонение другим богам, такие осуждения лишь доказывают, что израильтяне действительно почитали этих богов – не только регулярно, но и официально, что подтверждается их присутствием в самом Иерусалимском храме. Царь Саул, первый царь Израиля, даже назвал в честь бога Баала двух своих сыновей – Ишбаала (Иевосфея) и Мериббаала (Мемфивосфея), а в честь Яхве – лишь одного Ионафана [12].
Все это позволяет предположить, что древние израильтяне, вероятно, рассматривали своего бога Эля так же, как и хананеяне, то есть видели в нем верховное божество, главенствующее в божественном собрании более мелких богов, подобно Энлилю, Амону-Ра, Мардуку, Зевсу или любому другому верховному богу. Они признавали других божеств ханаанского пантеона и порой даже поклонялись им. Но верность они хранили богу, в честь которого получили свое племенное название, – Элю.
Это был тот самый Эль, с кем праотец Авраам, который большую часть жизни провел в Ханаанской земле и был тесно связан с ханаанской культурой и религией (если вообще сам не был ханаанцем), заключил завет в обмен на обещание потомства (а ведь это было одной из главных функций Эля): «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен… и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя…» (Быт. 17:1, 6)
Это Эль потребовал от Авраама принести в жертву его сына Исаака, чтобы проверить его веру и преданность; Эль возобновил завет с сыном Исаака Иаковом: «Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль» (Быт. 35:10). И именем того же Эля – «Бога отца твоего» (Быт. 49:25) – Иаков передал завет собственному сыну Иосифу, который, как утверждает Библия, первым из израильтян покинул Ханаан и поселился в Египте, где через много поколений его потомки встретятся с неизвестным им прежде богом мадианитян, называвшим себя Яхве. История, как монотеизм после многих веков неудач и отверженности в конце концов навсегда пустил корни в человеческой духовности, начинается с рассказа о том, как Эль, бог Авраама, и Яхве, бог Моисея, постепенно слились в единое божество, которое теперь мы знаем как Бог [13].
После первой встречи с Яхве в пустыне Моисей вернулся в Египет с посланием для евреев: бог их предков – Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа – услышал плач людей и вскоре освободит их от рабства. Но израильтяне не были знакомы с богом Моисея. Даже после того как Моисей продемонстрировал его могущество и убедил израильтян следовать за ним в «землю Мадиамскую», то есть в «землю кочевников Яхве», где израильтяне предположительно расселились после бегства из Египта, они не выказывали особой лояльности этому неизвестному божеству. Пока Моисей стоял на вершине «горы бога» и получал новые указания от Яхве (десять заповедей), которые должны были заменить завет, заключенный Авраамом с Элем, израильтяне у подножия горы уже вновь обратились к почитанию бога Авраама, изготовив идола в виде золотого тельца – изначального символа Эля [14].
Автор Священнического кодекса, писавший через сотни лет после этого события, пытается разрешить конфликт между двумя различными ветвями веры древних израильтян, вкладывая в уста бога Моисея следующие слова: «Я Господь. Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем “Бог Всемогущий”, а с именем Моим “Господь” не открылся им» (Исх. 6:2–3). Однако это заявление лишь подчеркивает тот факт, что древнееврейские патриархи, о которых говорит Яхве-Господь, никакого Яхве не знали.
Яхве и Эль в итоге все же слились в Израиле воедино, но история этого слияния не так однозначна, как предполагает Священнический кодекс. Судя по всему, почитание Яхве распространилось в Ханаанской земле с юга, и именно юг большую часть времени был его центром. В северных районах Ханаана израильтяне, которые долгие годы жили на этой земле, почитали Эля как Верховного бога, но также признавали и других богов Ханаана, а порой и поклонялись им, поэтому им было несложно просто добавить Яхве к этому пантеону, хотя, как свидетельствует Библия, этот процесс шел медленно и постепенно. Следы этого мы можем заметить в так называемой Песни Моисеевой во Второзаконии:
Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых; ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его (Втор. 32:8, 9).
Этот удивительный фрагмент не только подтверждает почитание в Израиле других богов под предводительством Эля-Всевышнего, но и четко указывает на Яхве-Господа как на одного из этих богов. Здесь утверждается, что каждое божество получило в дар, или в «удел», от Эля собственное племя и уделом Яхве был Израиль [15].
Когда израильская нация стала Израильским царством около 1050 года до н. э., это ускорило процесс слияния Яхве и Эля. Даже их имена стали порой употребляться вместе: Яхве-Эль или Яхве-Элохим, что в русском переводе чаще всего передается как Господь Бог: «Сын мой! воздай славу Господу, Богу [Яхве-Элохим] Израилеву и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал» (ИсНав. 7:19) [16].
Консолидация Израиля в царство была ответом на усиление угроз со стороны соседних племен. Чтобы сохранить независимость и поддержать жизнеспособность племени, Израиль провел централизацию власти и из теократии, управляемой судьями и пророками, стал монархией, управляемой царями. Как и в Вавилоне, Ассирии, Египте и других местах, изменение природы земной власти сопровождалось изменением природы власти богов на небесах – другими словами, политикоморфизмом [17].
Расцветающей израильской монархии требовалось национальное божество – царь небесный с той же властью, что у царя земного. Учитывая, что столица царства, Иерусалим, располагалась на юге, в Иудее, было вполне естественно, что со временем Яхве (в то время уже Яхве-Эль) стал играть эту роль. Так пустынное божество синайских кочевников забралось на вершину израильского пантеона, став царем небесным и властителем всех остальных богов: «Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает» (Псал. 102:19).
Яхве изначально был богом-покровителем царей Израиля. В Иерусалиме ему был построен храм, и новый национальный бог был помещен туда в виду Ковчега Завета – имелся в виду завет Моисеев. Под покровительством израильских царей культ Яхве переродился в структурированный массив ритуальных жертвоприношений, мифических историй и мелодичных молитв – в соответствии с общим шаблоном племенного поклонения богам, существовавшим на всем Ближнем Востоке в древности.
Как было с Мардуком, Ашшуром, Амоном-Ра и всеми остальными верховными богами, чем выше Яхве забирался в израильском пантеоне, тем больше он перенимал качества и свойства других богов. И в Псалтири (основной форме царской пропаганды в Библии) мы видим, как он замещает Эля в роли царя небесного, сидящего на троне и окруженного советом небесных созданий, как некогда Эль.
И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его (Псал. 88:6–8; см. также Псалмы 81, 96 и 98).
Яхве стал воплощать и образ бога бури Баала, «всадника облаков»: «Делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра» (Псал. 103:3). «Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их» (Псал. 88:10), – поет автор псалмов.
Яхве даже приобрел женские черты богини Ашеры, особенно материнские, заботливые свойства: например, Яхве кричит, «как рождающая» (Ис. 42:14). Яхве говорит: «Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые Мною от чрева, носимые Мною от утробы матерней» (Ис. 46:3).
Но даже в этой точке истории Израиля, с укреплением позиций Яхве, евреи не отрицали существования других божеств. Хотя сохранились свидетельства существования в Иерусалиме секты поклонников «единого Яхве», сами цари израильские никогда не запрещали поклонение другим богам и не призывали к нему; они просто сосредоточивали свое внимание на собственном национальном боге. Знаменитый исследователь Библии Мортон Смит писал: «Бога Израиля [Яхве] сами евреи, как и все древние жители Ближнего Востока, просто считали… более могущественным, чем боги их соседей».
«Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» (Исх. 15:11)
Это по-прежнему не монотеизм, а в лучшем случае монолатрия, хотя и это название вряд ли стоит считать удачным, если посмотреть, насколько безболезненно другие божества вписывались в израильский пантеон. Как и другие жители древнего мира, израильтяне с трудом представляли себе Яхве как единственного бога во Вселенной. Они считали, что Яхве – просто лучший бог в мире: «…ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами» (Псал. 96:9). Итак, Яхве считался царем и правителем среди других богов, высшим богом, сильнейшим богом – богом богов.
И тут однажды пришел более сильный бог Мардук и разбил Яхве, сбросив бога Израиля с трона небесного и тем самым подготовив почву для нового представления не только о Яхве, но и о самой природе Вселенной. Только в этот период истории Израиля, когда евреи были изгнаны с земли, которую их бог обещал им, и рассеяны по Ближнему Востоку, мы видим первые во всей Библии ростки недвусмысленного монотеизма: «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его… Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44:6) [18].
Таким образом, зарождение монотеизма у евреев стало средством рационализации катастрофического поражения Израиля от вавилонян. Кризис идентичности во время вавилонского пленения заставил израильтян пересмотреть свою священную историю и переосмыслить религиозную идеологию. Когнитивный диссонанс, порожденный изгнанием, потребовал совершенно новой, неведомой ранее религиозной концепции, которая помогла бы извлечь смысл и из этого опыта. Предыдущие теологические идеи, которые сложно было принять (может ли один бог стоять за добром и злом? может ли один бог воплощать все человеческие качества разом?), вдруг стали приемлемыми. Если племя и его бог – это действительно одна сущность, а поражение племени свидетельствовало и о падении бога, то монотеистическим реформаторам, находящимся в вавилонском плену, легче было согласиться с существованием единого, пусть мстительного и противоречивого бога, чем совсем отказаться от бога и собственной идентичности. И таким образом все исторические аргументы против веры в единого бога внезапно отступили перед всепобеждающим желанием крохотного, малозначительного семитского племени выжить.
«Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:6,7).
Это зарождение известного нам иудаизма – не в завете с Авраамом, не в Исходе из Египта, а на дымящихся углях разрушенного храма и отказе побежденных людей принять идею побежденного бога. Сам иудаистский символ веры, известный как Шма («Внемли, Израиль, Господь – бог наш, Господь – один!»), был создан после этого поворотного момента в еврейской истории. Тогда же появилась и большая часть текстов, составляющих нынешний Ветхий Завет, еврейскую Библию. Даже библейский материал, созданный до вавилонского пленения (Яхвист и Элохист), был переработан и переписан авторами Священнического кодекса и Второзакония после пленения, чтобы отразить новое представление о Единственном Боге.
Бог, созданный в вавилонском плену, – это не то абстрактное божество, которому поклонялся Эхнатон. Не тот чистый одушевляющий дух, который представлялся Заратустре. Не та бесформенная субстанция Вселенной, о которой писали греческие философы. Это был новый тип Бога – единого и личностного. Единственный Бог без человеческого обличья, который, однако, создал людей по образу и подобию своему. Вечный и неделимый Бог, который проявляет весь спектр человеческих эмоций и качеств – хороших и дурных.
Это выдающееся в истории религий достижение, подготовленное сотнями тысяч лет развития человечества, будет превзойдено, однако, всего через пять сотен лет сектой апокалиптически настроенных евреев, называвших себя христианами [19].
8 Бог – триедин
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан. 1:1).
Таковы первые слова Евангелия от Иоанна. И прямо в тот момент, когда они были написаны больше 2000 лет назад, они ознаменовали принципиальное расхождение между христианством и иудейской религией, из которой оно выросло.
Евангелие от Иоанна не похоже на три других Евангелия Нового Завета. Матфей, Марк и Лука считаются евангелистами-синоптиками, поскольку их работа строится по большей части на одних и тех же источниках и, соответственно, рассказывает примерно одну и ту же историю о бродячем еврейском проповеднике и крестьянине из Назарета по имени Иешуа (по-гречески Иисус), который творил чудеса и исцелял больных, проповедовал Царствие Божие, был объявлен Мессией и спасителем мира и за это был арестован и казнен римскими властями, а через три дня восстал из мертвых.
Евангелие от Иоанна основано на других традициях; в нем имеются уникальные рассказы и приводится совершенно иная хронология жизни Иисуса, включая дни его смерти и воскресения. Синоптики излагают историю Иисуса либо с начала его служения, либо с момента чудотворного рождения. Евангелие от Иоанна начинает историю Иисуса с начала времен.
Однако самое значительное различие между Иоанном и синоптиками в том, что если Матфей, Марк и Лука приводят различные версии, кем же был Иисус (еврейский раввин – Мр. 9:5; царь из колена Давидова – Лук. 19:38; пророк и законоучитель, подобный Моисею – Матф. 2:16–18), то в Евангелии от Иоанна Иисус недвусмысленно назван воплощенным Богом [1].
Это происходит уже в первых строчках Евангелия: «В начале было Слово…». «Слово» – это перевод термина из греческой философии («Логос»), обозначающего разум или логику, но даже эти определения не могут передать его подлинного смысла. Для греков Логос был той рациональной силой, что управляет Вселенной. Иными словами, это божественный разум, вдохновляющий творение. Логос – это то, что имели в виду Ксенофан, Пифагор и Платон, когда говорили о «едином боге» как едином принципе, управляющем всем сущим [2].
Кто бы ни написал Евангелие от Иоанна (это был не апостол Иоанн, который ко времени его написания – около 100 года – уже давно умер), это был грекоязычный гражданин Римской империи, хорошо знакомый с эллинистической философией. И писал он для таких же грекоязычных римских граждан, живущих в эллинистическом мире, поэтому, когда Иоанн начинает свое Евангелие со слова «Логос», он, вполне вероятно, имеет в виду именно то, что подразумевали греческие философы, – первичную силу творения, одушевившую все в мире.
И тут Иоанн совершает нечто неожиданное. Он заявляет, что эта первичная сила – человек. Собственно, основная цель Евангелия от Иоанна – показать, как абстрактная, вечная, божественная суть творения, одновременно отделенная от Бога и единая с Богом, проявилась на земле в образе Иисуса Христа: «И Слово стало плотию и обитало с нами» (Иоан. 1:14).
Итак, Иоанн заявляет, что создатель неба и земли провел тридцать лет на окраине Галилеи, будучи еврейским крестьянином; что единый и единственный Бог пребывал в чреве женщины и был рожден ею; что всеведущий Господь сосал грудь своей матери, ел, спал и испражнялся, как обычный беспомощный младенец; что создатель человечества был воспитан людьми, а в конце своей земной жизни был убит людьми.
«Я и Отец – одно, – заявляет Иисус Иоанну. – Видевший Меня видел Отца» (Иоан. 10:30; 14:9).
Представление о «боге-человеке» не было чем-то новым для древнего Ближнего Востока. Римляне постоянно обожествляли своих императоров после смерти, а порой, как Юлия Цезаря, и прямо во время правления. Из шестидесяти императоров, правивших Римской империей в I–IV веках, обожествлены были тридцать шесть, а также двадцать семь членов их семей. Создавались алтари и храмы с их изображениями, учреждались жреческие коллегии для принесения им жертвоприношений, разрабатывались религиозные церемонии для тех, кто почитал их как богов [3].
На римлян, вероятно, значительное влияние оказали греки, которые нередко обожествляли людей. В греческой теологии никогда не было четкой границы между человеческим и божественным: в великих греческих мифах множество полубогов и героев, которые достигают божественного статуса в награду за службу богам. Александр Македонский считался богом во время правления (336–323 годы до н. э.), как и его отец Филипп II (359–336 годы до н. э.), который даже установил сам себе статую в ряду двенадцати олимпийских богов греческого пантеона [4].
Сами же греки, возможно, переняли эту практику у египтян, которые считали богами своих фараонов. Хотя фараон мог быть живым воплощением любого божества египетского пантеона, теснее всего он был связан с сокологоловым богом Гором. Точнее говоря, Гор вселялся в тело фараона, когда тот сидел на троне. Во время занятий, составляющих суть монаршей деятельности, человеческая природа фараона наполнялась божественностью. Затем после смерти правитель окончательно избавлялся от человеческого и занимал свое место среди звезд как бог, достойный почитания [5].
А на египтян, вполне вероятно, повлияли месопотамские правители. Собственно, представление о божественном царе берет начало в Месопотамии и часто приписывается Саргону Древнему – аккадскому правителю, который ненадолго объединил под своей властью почти всю Месопотамию между 2340 и 2284 годами до н. э. Четвертый царь аккадской династии Саргона, Нарам-Син, создал совершенно новую идеологию царской власти, объявив себя богом и присоединив свое имя Нарам к имени могущественной богини луны Син [6].
Монета Октавиана Августа с надписью CAESAR DIVI F, то есть «Цезарь, сын бога»
© Classical Numismatic Group, Inc.
Как уже говорилось, идея бога-человека – вероятно, самое успешное минимально противоречащее здравому смыслу понятие в истории религии. Собственно, на Ближнем Востоке была лишь одна религия без устойчивой традиции обожествления человеческих существ, и это была религия самого Иисуса – иудаизм.
Мы знаем, что стремление очеловечивать божественное укоренено в наших когнитивных процессах. Но что может побудить общество обожествить человека – почитать его как бога, наделить его божественной речью, божественными знаниями и божественной энергией, молиться ему, обращаться за помощью в этой и последующей жизни?
Не должно удивлять, что очеловечивание божественного и обожествление человеческого – это две стороны одной медали. За первые несколько тысяч лет истории организованной религии – от Гёбекли-Тепе до Греции, когда боги постоянно обретали человеческие свойства и характеристики, казалось совершенно естественным, что они обладают и отчетливо человеческими желанием власти и тягой к доминированию и контролю над другими. Чем чаще богам приписывалась эта мотивация, тем сильнее менялись их взаимоотношения с человечеством, так что боги уже не были тем, чем раньше, – обожествленной природой. Теперь божество стало царем. Божества не просто даровали свет, дождь или иные силы природы, необходимые нам. Теперь они даровали правосудие. Собственными устами они сообщали нам свою волю. Собственными глазами они видели все наши поступки. Собственными руками они сокрушали тех, кто осмеливался бросить им вызов.
Конечно, на самом деле у богов нет ни рта, чтобы говорить, ни глаз, чтобы видеть, ни рук, чтобы сокрушать. Все это – свойства людей, а не богов. Так что представителям богов на земле предоставлялось право говорить за них, вершить правосудие от их имени, поражать их врагов, сосредоточивая в своих человеческих руках ту власть, которую боги требовали себе.
Роль посредников между людьми и богами естественным образом досталась тем, кто правил на земле, – прежде всего царям, фараонам и императорам, но также жрецам и пророкам, мистикам и мессиям. Мы видели, как это происходило в Древней Месопотамии: с консолидацией власти в руках аристократической верхушки та присвоила себе и божественную силу. Как и в Месопотамии, как только появилась необходимость в посреднике между богами и людьми, вскоре возникло и желание обожествлять этих посредников. В конце концов, довольно логично считать, что посредник между богами и людьми тоже имеет божественную или, по крайней мере, полубожественную природу.
Однако в обожествлении Иисуса было нечто совершенно удивительное. И дело даже не в том, что Иисус представлял религию, в которой людей никогда не обожествляли. И не в том, что Иисус был простым крестьянином, в то время как большинство других людей-богов древнего Ближнего Востока – царями и императорами [7].
Уникальным обожествление Иисуса делал не он сам, а то, какое именно божественное начало он воплощал. В то время как все остальные люди-боги древнего Ближнего Востока считались одними из многих человеческих воплощений одного из множества богов, Иисус считался единственным человеческим воплощением единственного Бога во Вселенной.
Подавляющему большинству христиан в первые века этой религии такая идея казалась неудобоваримой. В ранней церкви довольно быстро сформировались противоположные мнения по поводу восприятия Иоанном Иисуса как Логоса: либо Иоанн ошибался – и Иисус был всего лишь человеком, а не Богом; либо Иоанн был прав – и Иисус действительно был богом, но не единым и не единственным Богом на земле. Не кто иной, как выдающийся христианский теолог Иустин Философ (100–165), был вынужден признать, что если Иисус и впрямь божественный Логос, как говорил Иоанн, то он должен быть другим богом, не «тем Богом, который все создал». Павел Самосатский (200–275), епископ Антиохии – христианской общины, которая по могуществу и влиянию уступала только римской, – утверждал, что Иоанн имел в виду, будто бы Логос обитал внутри Иисуса, а не был Иисусом; Логос был дан ему единым и единственным Богом в награду за «добродетельную жизнь». Влиятельный отец церкви Арий Антиохийский (256–336) зашел еще дальше и заявил, что Бог один, и этот Бог по определению должен быть неделимым, несотворенным и существующим с начала времен, поэтому попросту невозможно считать Иисуса Логосом. Иначе получится, что во Вселенной два Бога, а этого, по словам Ария, и представить себе нельзя [8].
Но не всем представление о двух богах казалось таким уж абсурдным. Собственно говоря, в жарких дебатах о том, был ли Иисус человеком или вторым богом, и в условиях отсутствия компромисса между двумя этими позициями, которого удалось достигнуть лишь к середине IV века, многие ранние христиане стали считать, что во Вселенной не просто два бога – один по имени Яхве, а второй по имени Иисус, – но что эти боги враждуют между собой.
Самым знаменитым сторонником идеи двух богов в христианстве, известной как дитеизм, был хорошо образованный молодой ученый из Малой Азии по имени Маркион. Он родился примерно во время создания Евангелия от Иоанна и был представителем первого поколения неевреев, воспитанного в только что возникшей христианской вере. Его отец был епископом Синопа – города на берегу Черного моря, где семья владела прибыльным кораблестроительным делом.
Богатство позволило Маркиону вести жизнь, полную удовольствий и учебы. Он погрузился в греческую философию и христианскую мысль, а также, судя по всему, был хорошо знаком с древнееврейскими писаниями. Однако именно эти глубокие познания как в древнееврейской религии, так и в новом и не до конца еще едином христианстве – столь недавно отпочковавшейся от иудаизма секте – повергли Маркиона в самый настоящий ужас, потому что ему никак не удавалось, как бы он ни пытался, примирить Бога из еврейской Библии, Яхве, с тем Богом, которого Иисус называет Отцом.
Библейский Яхве – это кровожадный «муж брани» (Исх. 15:3; Ис. 63:3) – ревностное божество, которое с ликованием призывает истреблять всех, кто недостаточно его почитает (Исх. 22:20). Это Бог, по распоряжению которого сорок два ребенка были растерзаны медведицами лишь за то, что дразнили одного из пророков, потому что тот был плешивым (4-я Цар. 2:23–24). Как единый и единственный Бог во Вселенной может быть таким мелочным и ограниченным, таким ревнивым и алчным? Более того, что общего у этого Бога с Богом, явленным Иисусом, – с Богом любви и всепрощения, мира и милосердия?
Маркион принимал идею божественного происхождения Иисуса; он полностью соглашался с мнением Иоанна о том, что Логос – это Бог. Когда он говорил о «Боге, явленном Иисусом», он имел в виду, что Бог явился в образе Иисуса. В то же время Маркион признавал Яхве, Бога еврейской Библии, создателем мира. Судя по всему, Книгу Бытия он воспринимал буквально, но из-за этого Иисус и Яхве казались ему еще более непохожими. Что же за Бог, недоумевал он, создал такой никудышный мир – мир алчбы и разрушения, вражды и ненависти? Разве не говорил Иисус: «По плодам их узнаете их» (Матф. 7:16)? Если это правда, то плоды этого Бога были гнилыми до сердцевины [9].
Единственный ответ, который нашел Маркион, состоял в том, что богов должно быть два: жестокий создатель – Бог еврейской Библии, известный как Яхве, Бог Израиля, и любящий, милосердный Бог, который всегда существовал как Логос, но впервые был явлен миру в образе Иисуса Христа.
Маркион был вовсе не единственным представителем первых христиан, пришедшим к этому выводу. Многие грекоговорящие христиане, которых мы теперь называем гностиками (от греческого слова gnosis – знание), тоже проводили разницу между Богом еврейской Библии и Богом Иисусом, хотя, в отличие от Маркиона, большинство гностиков как раз отказывались признавать в Яхве творца мира. Они считали, что творение было делом рук менее значимого бога – так называемого Демиурга, уродливого и несовершенного божества, которое наивно считало себя единственным богом во Вселенной.
«И нечестив он в своей надменности, – пишет гностик, автор «Тайного Евангелия от Иоанна». – Ибо сказал он: “Я есмь Бог и нет другого Бога кроме меня”, ибо не знал он своей силы и места, откуда сам он появился» [10].
Это Демиург обратил в пепел города Содом и Гоморру; Демиург убил большую часть человечества катастрофическим потопом; Демиург изгнал Адама и Еву из Эдемского сада.
«Какой же он, этот Бог? – взывал гностик, автор «Свидетельства истины». – Во-первых, он позавидовал Адаму и не захотел, чтобы он съел с древа познания, и, во‐вторых, он сказал: “Адам, где ты?”… Он показал себя злым завистником» [11].
Отдавая создание Вселенной в руки менее значительного божества, будь то Яхве или Демиург, Маркион и гностики не просто пытались объяснить противоречие между фигурой безгрешного и беспорочного Создателя и грешным и порочным миром, но и пытались освободить Иисуса от груза тех отвратительных деяний, которые приписывает Яхве еврейская Библия.
Но было и еще кое-что. Утверждая наличие двух богов, эти христиане пытались освободить христианство от иудейских корней, объявив его совершенно новой религией с новыми откровениями и новым Богом [12].
В 139 году Маркион оставил родительский дом на Балтийском море и отправился в Рим, чтобы поделиться своими идеями с самой крупной и влиятельной христианской общиной того времени. Начал он с Римской церкви, пожертвовав ей огромную сумму 200 000 сестерциев – эквивалент миллионов долларов в современной валюте. Это пожертвование дало возможность Маркиону остаться в городе как почетному гостю Церкви.
Именно в Риме Маркион начал излагать свое учение в двух рукописях, в одной из которых нашли отражение его теологические взгляды (она затерялась в истории, но частично ее содержание известно по работам опровергавших Маркиона отцов Церкви), а вторая содержала первую попытку сведения вместе книг Нового Завета. Канон Маркиона состоял из отредактированной версии Евангелия от Луки и десяти посланий апостола Павла, представления которого о Христе как о космическом вневременном существе прекрасно соответствовали взглядам Маркиона.
После пяти лет тщательной работы Маркион собрал глав Римской церкви и поведал им о своей теологии двух богов. Он начал с того, что Иисус был воплощенным Богом: эту позицию разделяли многие из собравшихся, хотя и не все. Затем Маркион заявил, что Иисус – не тот Бог, которого все они знали как Яхве, а совершенно иной, доселе неведомый Бог, только теперь явившийся человечеству. Целью сошествия Христа на землю, объяснял Маркион, как раз и было освобождение человечества от злобного Создателя – библейского Бога. А следовательно, христианство – религия, основанная во имя Христа, – должно отринуть все связи с иудаизмом, из которого возникло. Еврейские священные писания устарели; необходима новая Библия. Кстати, по счастью, ее он и принес с собой [13].
Отцам Церкви это не понравилось: они вернули все, что осталось от значительного вклада Маркиона, и безотлагательно выслали его из Рима. Маркион, однако, не утратил присутствия духа. Он вернулся домой и стал успешно проповедовать по всей Малой Азии, где нашел благодарную аудиторию, воспринявшую его доктрину о двух богах. Дитеистическая церковь, основанная Маркионом, оказалась одной из крупнейших христианских церквей. Она процветала на обширной части территории современных Турции и Сирии вплоть до V века.
Апостол Иоанн и Маркион Синопский (лицо последнего намеренно изуродовано) на изображении из итальянского евангельского кодекса, написанного на древнегреческом (MS M.748, fol. 150v, XI в.)
© The Morgan Library & Museum / Janny Chiu / Art Resource, NY
Возникает логичный вопрос, почему же старейшины Церкви в Риме так непреклонно отстаивали еврейский монотеизм. Даже на самых ранних этапах своей истории христианство мало походило на иудаизм. Оно декларировало совершенно новую веру, демонизировало евреев как убийц Христа, священные тексты составлялись на древнегреческом, а не на древнееврейском, а божественная сущность Иисуса противоречила самому иудейскому определению Бога как единого и неделимого существа.
На самом деле желание ранних христиан сохранить верность еврейской вере в единого Бога, вероятно, имело не меньше политических причин, чем теологических. Поскольку в то время, как Маркион и гностики спорили с представителями христианской Церкви о природе Бога, они спорили и о природе власти. По словам видного религиоведа Элейн Пейджелс, настаивая на вере в единого Бога, ранняя Церковь подтверждала тем самым легитимность своего управления одним епископом, а именно епископом Рима.
«Как Бог властвует в небесах как правитель, хозяин, начальник, судья и царь, – пишет Пейджелс, – так на земле он передает свою волю членам церковной иерархии, которые выступают как генералы, командующие армией подчиненных; цари, управляющие “народом”; судьи, творящие правосудие во имя Бога»[14].
Это был, без всякого сомнения, политикоморфизм – «обожествление земной политики». Влиятельный отец Церкви Игнатий Богоносец (около 35–108) емко выразил эту позицию: «Один Бог, один епископ». Любое оскорбление первого очевидным образом подрывает и власть второго. Долг любого христианина, по словам Игнатия, – слушаться епископа, «как если бы это был Бог». Климент I (ум. в 101 году), первый епископ Рима и, следовательно, первый папа, предупреждал, что любой, кто не «склонит голову» перед его епископской властью, будет виновен в восстании против Бога и должен быть предан смерти.
Церковная иерархия, утверждавшая принцип «Один Бог, один епископ», не произвела особого впечатления ни на последователей Маркиона, ни на множество гностических сект, которые процветали в годы раннего христианства. Однако этот принцип посеял противоречия в сердце нарождающейся веры. Поскольку если Церковь собиралась продолжать настаивать на принятии еврейского определения Бога, которое появилось после вавилонского плена (Бог един и неделим), то ей нужно было объяснить, как еврейский крестьянин с галилейских холмов тоже может быть Богом. Эта проблема грозила Церкви расколом, который мог положить конец христианству буквально накануне того, как оно добилось своего крупнейшего успеха.
К концу II века христианство настолько распространилось по Римской империи, что власти больше не могли его игнорировать. Более того, некоторые высокопоставленные лица при дворе даже обратились в новую религию. В 202 году в Риме вышел эдикт, запрещающий обращения, а в середине III века начались массовые преследования христиан. Многие римляне считали, что политическая и экономическая нестабильность, характерная для этой эпохи империи, вызвана тем, что люди отвернулись от старых богов, и, естественно, большая часть их гнева обратилась на христиан, которые как минимум последовательно отказывались приносить жертвы римским божествам.
После того как римский гражданин низкого происхождения по имени Диоклетиан, быстро сделавший военную карьеру, в 284 году был провозглашен императором, он поставил себе личную цель – избавить империю от христианства во всех его видах. Церкви сжигали, священные тексты конфисковывали, христиан-мирян и представителей духовенства убивали ради развлечения в ходе так называемого Великого Гонения.
Когда через несколько лет Диоклетиан внезапно решил покинуть императорский престол, он принял роковое решение превратить империю в тетрархию, управляемую двумя старшими и двумя младшими императорами – на востоке и западе. Такая нерациональная ситуация быстро обернулась гражданской войной между враждующими претендентами на трон. В 312 году один из этих претендентов перешел вместе с армией реку Тибр, чтобы вновь занять единый императорский трон. Этого человека звали Константин, и он навсегда изменил историю и Рима, и христианства.
По легенде, в канун битвы у Мульвийского моста Константину приснился сон: он увидел светящийся крест в небесах и слова «Сим победиши!». На следующий день он велел своим войскам нанести на щиты неизвестный символ – Хи Ро: крест, составленный из первых двух греческих букв имени Христос. Победа в битве помогла Константину объявить себя единственным бесспорным императором Рима.
Приписав свой успех христианскому Богу, Константин положил конец преследованиям христиан в Риме и легализовал христианство после восшествия на престол. Однако новый император мало что понимал в своей новой религии; кажется, он считал, что это нечто вроде солнечного культа. Главным, в его понимании, было то, что христиане верили в единого Бога. Человек, который пережил столько битв, чтобы восстановить правление единого императора в Риме, инстинктивно осознал политические преимущества перехода к монотеизму, хотя девиз Константина несколько отличался от того, которого придерживались Игнатий Богоносец и представители христианского духовенства. Он гласил: «Один Бог, один Император» [15].
Можно только представить себе удивление Константина, когда он обнаружил, что многие его единоверцы-христиане не верят в существование единого Бога и что вообще нет согласия по поводу взаимоотношений между этим Богом и Иисусом Христом. Гностики и Александрийская церковь подчеркивали божественную природу Иисуса, а некоторые гностики даже отрицали его человеческую природу (докетизм). Евиониты (еврейские христиане, представители самого первого христианства) и Антиохийская церковь делали упор на человечности Христа, притом евиониты рассматривали Иисуса как пророка и чудотворца, который говорил от божественного имени, но сам по себе богом не был.
Некоторые христианские секты пытались устранить эти различия, утверждая, что Иисус родился человеком и стал Богом только после воскресения (эта точка зрения называется динамизмом). Другие объявляли, что Иисус – человек, «усыновленный» Богом и получивший божественный статус после крещения Святым Духом в реке Иордан (такой подход называется адопцианством).
Константин был солдатом, а не теологом и терпеть эти раздоры не собирался. Он потребовал ясного ответа на вопрос о природе Иисуса и взаимоотношениях Сына с Отцом. Если он собирался предстать перед разделенными подданными империи как ее единственный подлинный правитель, ему нужно было подтверждение существования единственного подлинного правителя на небесах [16].
В 325 году император созвал отцов Церкви на собор в городе Никее, чтобы раз и навсегда урегулировать эти вопросы. Чтобы подчеркнуть серьезность мероприятия, он сам решил председательствовать на соборе, облаченный в императорские одеяния и окруженный личной гвардией. Единственное, что точно знали собравшиеся, – император не потерпел бы выводов, которые ставили бы под сомнение единство Бога. Так сразу же была исключена позиция гностиков, последователей Маркиона и всех остальных христианских сект, которые проповедовали дитеизм. В то же время старейшины Церкви не хотели становиться на позицию отрицания божественной природы Христа, что исключало из рассмотрения подходы евионитов, ариан и многих представителей Антиохийской церкви.
Но как примирить между собой эти два требования? Какая гимнастика ума может помочь сокрушить тот очевидный факт, что единый и неделимый Бог, существующий в нескольких обличьях, – это по определению уже не единый и неделимый Бог?
Компромисс, выработанный на Никейском соборе, заключался в том, что Сына, Иисуса Христа, объявили «единосущным» Богу Отцу. Эта идея была основана на работах одного из наиболее выдающихся раннехристианских теологов – Тертуллиана из Карфагена (около 160–220). Тертуллиан соглашался с древнегреческими философами прошлого в том, что Бог – это «субстанция». Однако, в отличие от этих философов, Тертуллиан полагал, что субстанция принимала форму трех отдельных сущностей: Отца (Яхве), Сына (Иисуса Христа) и Святого Духа (божественного духа, пребывающего в мире). Чтобы объяснить свою теорию, Тертуллиан приводил аналогию: «И хотя луч удаляется от солнца, часть от целого; однако солнце находится в луче, и субстанция при этом не отделяется, но распространяется. Так от Духа – Дух и от Бога – Бог, как свет, зажженный от света»[7]. Тертуллиан придумал новый термин для своей новаторской теологии: trinitas, то есть Троица [17].
Никейский компромисс устроил императора, но почти все остальные члены Церкви остались в растерянности с еще большим количеством вопросов. В равной ли степени Отец, Сын и Святой Дух обладают божественной субстанцией? В конце концов, хотя луч света от солнца содержит субстанцию солнца, он содержит не то же количество субстанции, что солнце. И кто из троих получил божественную субстанцию первым? Солнце и луч могут состоять из одной субстанции, но солнце – это единственный источник этой субстанции; луч полностью зависит от солнца. Верно ли то же самое для Отца и Сына? Является ли Отец источником субстанции, зависит ли от него Сын? И если так, то как мог неделимый Бог создать из себя Иисуса? Не нарушает ли это единства Бога? Не делает ли это Христа частью тварного мира, что противоречит утверждению Евангелия от Иоанна, что Иисус был с Богом «с начала»? И наоборот: если Отец и Сын оба заключают в себе божественную субстанцию, не значит ли это, что в начале творения они были двумя отдельными, но равно божественными существами? [18]
Некоторые отцы Церкви, следуя учению теолога Афанасия Александрийского (298–373), пытались устранить противоречие, утверждая, что Отец и Сын не «единосущны», а лишь «подобосущны». Но это только запутывало все еще больше.
В итоге последнее слово осталось за Блаженным Августином (354–430) – человеком, который в большей степени, чем кто-либо другой, сформировал христианскую теологию в западном мире, сказав последнее слово. В своем труде «О Троице» Августин писал: Бог един, вечен и неизменен, но при этом существует в трех формах – Отца, Сына и Святого Духа. Ни одна из этих форм не подчинена другим. Все они одинаково божественны. Все они существуют с начала времен. И если эта идея вызывает смущение, противоречит логике и здравому смыслу, а также самому определению Бога, то верующий просто должен принять ее как великую тайну и продолжать верить [19].
Когда через несколько лет после смерти Августина Церковь на Халкидонском соборе в 451 году приняла положение о том, что Иисус Христос, будучи истинным Богом, был также и истинным человеком («единосущен с Отцом в своей Божественности, единосущен с нами в своей человечности»), христианство не только фактически отказалось от возникшей после вавилонского плена еврейской концепции Бога как единого и неделимого, но и полностью уступило самому древнему и глубоко укорененному импульсу в истории человечества. Оно сделало Бога небесного и земного полностью человеком. Тем самым неизбежным стало столкновение с новой монотеистической религией, которая через полтора века после Халкидонского собора возникла в Аравийской пустыне как противовес христианской концепции очеловеченного Бога [20].
9 Бог есть всё
Две армии смотрели друг на друга с разных сторон побитых орудиями стен Иерусалима. Шел 614 год. В осажденном городе несколько тысяч воинов, верных византийскому императору Ираклию – молодому красивому воину, который захватил трон, лично свергнув и четвертовав предыдущего монарха, – с нетерпением ожидали штурма крепости армией царя Хосрова II, шахиншаха и властителя Персидской (Сасанидской) империи.
Триста лет две супердержавы – одна христианская, другая зороастрийская – сражались друг с другом за власть над Ближним Востоком. С каждой кровопролитной битвой маятник качался то в одну, то в другую сторону. И речь шла не просто о сражении за землю. Это было противостояние разных религиозных доктрин двух теократических государств, каждое из которых было основано на официально принятой и поддерживаемой законом концепции существования божественного начала в двух (зороастрийский дуализм) или в трех формах (христианское учение о Троице).
К началу VII века непрекращающийся конфликт истощил силы империй, лишившихся былой мощи и богатства. Но неукротимый дух обоих государств по-прежнему вынуждал их устраивать одну резню за другой. Недавнее восшествие Ираклия на престол вызвало хаос в Византийской империи, и Хосров решил воспользоваться ситуацией, отправив свою армию, тоже пребывавшую не в лучшем состоянии, яростно грабить христианские земли. Его войска уже взяли Антиохию и Дамаск. Теперь они стояли у стен Иерусалима, намереваясь покорить священный город и тем самым нанести символичный удар по христианству.
Стены города были окружены десятком тысяч вооруженных до зубов персидских воинов Хосрова, которым помогали почти 2000 союзников-евреев, надеявшихся отомстить за три века угнетения, массовые убийства и насильное обращение в христианство. Евреи исполнили свое желание. Когда стены пали и персидская армия праздновала победу, царь Хосров передал им Иерусалим, и они стали сеять смерть и разрушения среди христианских обитателей города.
Византийцы оправились от поражения. Ираклий снова собрал армию и выгнал сасанидские войска из только что завоеванных городов. В 630 году он отвоевал Иерусалим. Персов он отправил домой – в столицу империи Ктесифон, а уцелевших евреев истребил. Ослабевшие, уставшие от войн, две сверхдержавы решили заключить мир и стали готовиться, как они полагали, к краткой передышке в бесконечной борьбе увядающих империй. И тут произошло нечто совершенно неожиданное.
Через несколько месяцев после того, как Ираклий и Хосров заключили мир в каппадокийском местечке, обоих посетили эмиссары из неведомых пустынь Аравийского полуострова. Эмиссары везли послания обоим императорам от арабского пророка, который утверждал, что говорит от имени некоего бога, о котором не слышали ни тринитарии, ни дуалисты, но который, по утверждению пророка, был единственным Богом во Вселенной.
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, – начинались послания. – Да будет мир с тем, кто следует праведным путем. Я призываю тебя к исламу, и если ты станешь мусульманином, то будешь спасен, и Аллах удвоит твои награды, а если ты отвергнешь призыв к исламу, ты совершишь грех, введя в заблуждение своих подданных».
Письма были подписаны Мухаммедом, посланником Аллаха [1].
Царь Хосров, в нарушение всех царственных норм поведения, убил эмиссара и приказал своему наместнику найти пустынного пророка и отрубить ему голову. Ираклия же, напротив, так позабавила смелость послания, что он, как рассказывают, разразился смехом. Он отпустил посланца, порвал послание и, вероятно, больше об этом не думал.
Не прошло и десятилетия, как сторонники того же пустынного пророка поглотили почти всю Сасанидскую империю, положив конец зороастризму как мировой религии. Они изгнали Византию с Ближнего Востока, оставив ей примерно пятую часть былых владений. Они даже позволили евреям вновь вернуться в Иерусалим и исповедовать там свою религию. Устремившись из Аравийской пустыни сражаться с миром, в котором преобладали два варианта толкования божественного – триединый и двуединый, армии этой новой религии, получившей название ислам, стремились искоренить обе этих трактовки и заменить их иудейским представлением о Боге, всецело воспринятым их пророком Мухаммедом: Бог Един [2].
Мухаммед ибн Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб родился во второй половине VI века в Мекке на Аравийском полуострове. Он был единственным сыном вдовы в городе, где о вдовах не заботились. Он еще в детстве стал сиротой в обществе, которое считало сирот товаром для покупки и продажи. Благодаря доброму дяде юный Мухаммед сумел избежать этой судьбы и стал зарабатывать себе на скромное существование, ходя с караванами на север, в Сирию, и на юг, в Йемен. В двадцать с небольшим его перспективы внезапно улучшились: ему удалось жениться на женщине старше себя по имени Хадиджа и получить в управление ее успешное караванное дело.
Однако Мухаммед, несмотря на сравнительное богатство и комфорт своей новой жизни, никак не мог отделаться от ощущения, что с обществом, которое едва не довело его до рабства и отчаяния и в котором беззащитные массы могли эксплуатироваться могущественными и влиятельными людьми ради собственной выгоды, что-то не так. Он чувствовал беспокойство и глубокую неудовлетворенность. Он стал раздавать имущество и искать уединения в горах и лощинах Мекканской долины, где проводил ночи в молитвах и медитации, прося у небес об ответе на печали и несправедливости этого мира.
И однажды небеса ответили.
Согласно преданию, Мухаммед медитировал в пещере на горе Хира, когда некто незримый сказал ему: «Читай». За этим первым откровением последовали двадцать два года почти беспрестанных пророческих откровений от бога, которого он называл Аллахом, – откровений, что со временем были собраны в книгу, ныне известную как Коран, то есть «чтение вслух».
Древние арабы уже были знакомы с Аллахом, который, возможно, был арабским эквивалентом индоевропейского божества Дия или греческого Зевса, то есть бога неба. Он постоянно поднимался по ступеням арабского пантеона и в итоге стал верховным богом. Непонятно, однако, считали ли арабы Аллаха персонализированным божеством или неким абстрактным духом, родственным той божественной силе, которая, по мнению древних египтян и жителей Месопотамии, лежала в основе Вселенной. Аллах – это не имя собственное, а сокращение арабского слова «аль-илах», которое просто означает «бог». Это может свидетельствовать о том, что Аллаха считали скорее божественным духом, чем божественной личностью. Кроме того, в отличие от сотен других божеств, признававшихся древними арабами, Аллаху, видимо, никогда не ставили идолов, что тоже может указывать на его восприятие как одушевляющего духа без физической оболочки.
В то же время арабы считали Аллаха создателем неба и земли, так что, очевидно, приписывали ему наличие воли и намерения. Они воспринимали его как материальное существо, у которого, как и у Зевса, были сыновья и дочери. Три дочери Аллаха – Аллат, которая ассоциировалась с греческой богиней Афиной; Манат, вероятно связанная с месопотамской богиней Иштар; и аль-Узза, арабский эквивалент Афродиты, – играли центральную роль в духовности древних арабов, будучи посредницами в их общении с Аллахом.
Так или иначе, древние арабы мало апеллировали к абстрактному божеству, ведь они не могли ни видеть его, ни как-то взаимодействовать с ним в повседневной жизни. Арабский пантеон буквально кишел богами и богинями, ангелами, демонами и джиннами. Все они отвечали за определенные потребности своих почитателей из пустыни, и почти всех их представляли в недвусмысленно человеческом облике. Боги арабского мира ели и пили, занимались сексом и рожали детей, носили одежду и оружие (у богини Манат, например, было два панциря и два меча). Большинство этих богов, кроме Аллаха, были вырезаны в камне в человеческом облике (или иногда в облике какого-то другого живого существа) и помещены в главное святилище Мекки – Каабу, где их посещали арабы со всего полуострова, приносили им дары и жертвоприношения в обмен на благосклонность и благословение [3].
Однако это была уже высокоорганизованная форма политеизма, которая легко впитывала в себя богов других религий, в том числе иудаизма и христианства. У еврейского патриарха Авраама был собственный идол в Каабе, как и у Иисуса Христа и его матери Марии. Собственно, подавляющее большинство арабов считало этих богов всего лишь многочисленными проявлениями единственного божественного, хотя и далекого и недостижимого существа – Аллаха.
Поэтому, когда Мухаммед сошел с горы Хира с посланием от этого самого Аллаха, где утверждалось, что он – единственный бог во Вселенной, это не вызвало особого теологического сопротивления. Мекка была оживленным, исповедующим религиозный плюрализм, многонациональным городом – центром торговли и коммерции, в котором иудеи, христиане, зороастрийцы, индуисты и политеисты жили в среде, которая поощряла смелые религиозные эксперименты. Объявление Мухаммедом монотеизма для большинства обитателей Мекки не было ни новым, ни кощунственным. Даже слова, которые Мухаммед выбрал для описания Аллаха как Создателя и Царя, как Смирителя людей и Вершителя судеб, мало чем отличались от того, как описывали Аллаха древние арабы.
Однако Мухаммед внес два принципиальных новшества в арабскую религиозную систему, которые поссорили его с мекканскими властями и обособили его движение. Первое заключалось в том, что он твердо держался за эксклюзивность своей монотеистической системы. Недостаточно было считать, что Аллах – единственный Бог во Вселенной; теперь нужно было отрицать существование любых других богов.
Страница «Путешествия пророка Мухаммеда» из книги Хафизи Абру «Маджма ат-таварих» (ок. 1425)
© Metropolitan Museum of Art / CC0 1.0
«О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него» (Сура 7:59).
Это был не просто новый способ представления Аллаха; это была прямая атака на установленный порядок вещей. Утверждая, что никаких других богов не существует, Мухаммед подрывал основы экономики Мекки, которые определялись статусом города как священного для почитателей всех известных в Аравии богов. Если же других богов не существовало, то не было нужды и в Каабе, а следовательно, и в особом положении Мекки как религиозного и экономического центра Аравии.
Второе новшество, до некоторой степени связанное с первым, состояло в том, что Мухаммед прямо отождествил Аллаха с Яхве, богом евреев. Арабы, разумеется, хорошо знали о Яхве. Евреи жили на Аравийском полуострове уже сотни лет, едва ли не со времен вавилонского пленения, и всячески участвовали в жизни арабского общества. Арабы даже более-менее признавали отождествление Яхве с Аллахом, в особенности если речь шла о роли Аллаха как создателя всего сущего.
Но Мухаммед пересмотрел взаимоотношения этих двух богов, заявив, что именно Аллах заключил завет с Авраамом в обмен на обещание потомства (Сура 2:124–133); что это Аллах явился Моисею (Мусе) в виде горящего куста и велел ему вернуться в Египет и освободить израильтян (Сура 28); что это Аллах опустошил мир катастрофическим потопом, позволив спастись лишь Ною (Нуху) и его семье (Сура 71); что это Аллах послал ангела к Марии (Марьям) с благой вестью, что она родит Мессию – Иисуса (Ису) (Сура 3:45–51); что от имени Аллаха написаны Тора и Евангелия (Сура 5:44–46).
Таким образом, Мухаммед не заменял Яхве Аллахом; он просто считал Яхве и Аллаха одним и тем же Богом. По сути, Мухаммед заявлял, что сам он – лишь один из длинной череды пророков, восходящей к Адаму, и его задача – явить не новое писание, а «подтверждение тому, что было до него» (Сура 12:111). «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба) и в то, что было даровано Мусе (Моисею), Исе (Иисусу) и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними…» (Сура 3:84).
Трудно сомневаться в том, что Мухаммед был хорошо знаком с иудаизмом, в свете постоянного упоминания им еврейских мифов, почтения к еврейским пророкам, благоговения перед священным еврейским городом Иерусалимом и практически полного принятия еврейских правил кашрута и чистоты. Влияние иудаизма на мышление Мухаммеда настолько заметно, что многие историки даже предполагают, что ислам, как и христианство, начинал свое существование как иудейская секта и лишь потом отделился, став самостоятельной религией. Хотя большинство ученых эту позицию не поддерживают, нельзя отрицать, что большое влияние на Мухаммеда могли оказать его контакты с арабскими евреями. И нигде это влияние так не очевидно, как в безоговорочном принятии Мухаммедом еврейского видения Бога как единого и неделимого. «Скажи: “Он-Аллах-един; Извечен Аллах один; Не рождал Он, и не был рожден, И с Ним никто не сравним”», – настойчиво утверждает Коран (Сура 112:1–4) [4].
Это утверждение особенно важно, потому что в то время в одной части Ближнего Востока еврейский монотеизм как религиозная идея подавлялся византийским тринитаризмом, а в другом подменялся зороастрийским дуализмом. Сознательно или нет, решение Мухаммеда отринуть и зороастризм, и христианство («Не говорите: “Бог – Троица”, – предупреждает Коран. – Поистине, Аллах един» (Сура 4:171) и безоговорочно поддержать еврейский монотеизм не просто вдохнуло новую жизнь в еврейское определение Бога как единого и неделимого, но и привело к созданию совершенно новой мировой религии [5].
Основополагающим для этой новой религии было существенное усиление самого понятия монотеизма, которое в исламе зиждется на сложной богословской идее под названием таухид. Само это арабское слово означает «единобожие», но таухид – это не столько доказательство единственности Бога, сколько описание сущности Бога. Оно означает не то, что Бог только один, а то, что Бог по своей форме и природе есть единство.
Как выражение «божественного единства», таухид утверждает, что Бог не только неделим, но и строго единственен. Аллах – это «вещь не такая, как другие вещи», по выражению Абу Ханифа ан-Ну’мана (699–767), одного из первых мусульманских богословов, писавших на эту тему. «Он не похож ни на что из сотворенного, и ничто из сотворенного не похоже на Него» [6].
Это означает, что в принципе не может существовать никакого физического сходства между Аллахом и его созданием, и поэтому Коран, в отличие почти от любого мифа о творении, зародившегося на Ближнем Востоке, настойчиво отрицает, что Бог создал людей по своему образу и подобию. У Бога нет образа. У него нет тела, нет материального воплощения, он не принимает никакой формы – ни человеческой, ни какой бы то ни было иной.
Поверхностному наблюдателю может показаться, что Мухаммед сознательно предпринимал попытки расчеловечить Аллаха. И действительно, его презрение к почитанию идолов было хорошо известно. Одним из первых деяний Мухаммеда после завоевания Мекки во имя новой религии было очищение Каабы от идолов, которых он приказал разбить на куски.
Однако Коран наполнен антропоморфными описаниями Бога. Аллах, как утверждается, «держит человечество в своих руках» и имеет «всевидящие глаза» и лицо – «где бы мусульмане ни совершали молитву, везде лик Аллаха» (Сура 2:115). Коран также приписывает ему целый набор человеческих черт и качеств, иногда называемых Прекрасными Именами Аллаха, что определенно придает божественную личность существу, которое, если всерьез воспринимать доктрину таухида, с технической точки зрения личностью обладать не должно.
Очевидное объяснение этой кажущейся непоследовательности между тем, чем Аллах должен быть, и тем, как он описывается в Коране, состоит в том, что читать эти фрагменты следует метафорически, а не как буквальные описания тела Бога. Иначе это было бы нарушением принципов таухида.
Однако большинство мусульман читают Коран не так. По крайней мере, Абу Ханифа. Будучи основателем одной из четырех основных школ права суннитского ислама, он установил прецедент толкования Корана, страстно отвергая любые возможности его фигурального прочтения. Практически все школы права в исламе настаивают на буквальном понимании слов Бога в Коране. Ведь если Бог, как требует того таухид, неделим, его нельзя отделить от его слов. Он и есть его слова. Следовательно, они должны быть столь же вечными и божественными, столь же неизменными и неизменяемыми, как Он сам. Так что если уж Коран упоминает руки, глаза или лик Аллаха, это значит, что у Аллаха действительно, в прямом смысле есть руки, глаза и лик. Оставим в стороне теологические выверты и ухищрения, которые необходимы, чтобы принять эту точку зрения (Сколько у Аллаха рук – всего две? А почему не три или тысяча? Разве две руки не ограничивают всемогущество Аллаха?). Абу-ль-Хасан аль-Ашари (874–936), духовный последователь Абу Ханифы и основатель самой влиятельной традиционалистской школы мысли в исламе, утверждал, что у Аллаха есть лицо, потому что так сказано в Коране, а если такое дословное толкование противоречит ключевым принципам таухида и вообще всему, на чем зиждется ислам как религия, то так тому и быть [7].
Позиция этих мусульманских богословов – и подавляющего большинства мусульман, которые до сих пор следуют их проповедям, – не просто доказывает, насколько жизнеспособен наш внутренний эволюционный импульс очеловечивать божественное, но и выявляет парадокс в самой сути исламского определения Бога. Если Бог действительно имеет качества и атрибуты и действительно неделим, как требует того идея Божественного Единства, то получается, что Бог неотделим от любого из этих качеств и атрибутов. Если Бог вечен и всегда существовал, то и атрибуты Бога тоже должны быть вечны; они тоже должны были всегда существовать вместе с Богом, иначе их нужно считать отделимыми от Бога, а это противоречит таухиду. Даже Абу Ханифа в итоге вынужден был признать: «Он знает посредством своего знания, его знание – вечное качество; он всемогущ посредством своего могущества, его могущество – вечное качество; он творит посредством своей творческой силы, его творческая сила – вечное качество».
Именно последний указанный Абу Ханифой атрибут – способность создавать из ничего – ярче всего выявляет парадокс. Вопрос можно сформулировать так: если Бог неделим и Бог – это Творец, как можно отделить Творца от его творения? Разве они не являются неминуемо одним и тем же?
Этот вопрос досаждал исламу с того времени, когда пророк Мухаммед впервые начал проповедовать в Мекке, хотя, честно говоря, большинство исламских теологов решили его попросту игнорировать. Собственно, подобные теологические проблемы образованные классы в исламе отбрасывали как пустую болтовню. Теология на арабском называется каламом, то есть речью, и в течение исламской истории тех мусульман, которые пытались разрешить теологические головоломки, презрительно называли «ахль-аль-калам», то есть болтунами. В итоге исламская мысль вот уже много веков в основном сосредоточена на правовых, а не на теологических вопросах.
Но с самого начала многие мусульманские мыслители публично пытались решить фундаментальную проблему примирения единства Бога с его способностью создавать из ничего. И эти мусульмане не только вдохнули новую жизнь в исламскую теологию, избавив ее от ортодоксальной жесткости, но и создали совершенно новую ветвь исламского мистицизма, известную как суфизм.
Существует много рассказов о первой встрече легендарного суфийского певца любви Джалаладдина Руми с его другом и духовным наставником Шамс ад-Дином Тебризи, к которому обращены многие стихи Руми. Эти двое подали пример самой известной в суфизме дружбы. Шамс ад-Дин после смерти стал святым, ну а Руми – самым известным суфием в истории, которого в мире называют просто Мевляной – «нашим Учителем». Но в день их первой встречи в 1244 году Руми был безвестным ученым, членом «сословия тюрбанов» в городе Конье на территории современной Турции, а Шамс – бродячим дервишем, которого за его странствия прозвали Птицей.
Свидетельства о первой встрече Руми и Шамса переросли в легенду; как и большинство суфийских биографий, их следует читать как аллегории, призванные выявить некую скрытую правду, а не как реальную историю. В некоторых версиях рассказа Руми сидел у пруда с книгами, когда туда же пришел Шамс.
– Что ты делаешь? – спросил Шамс.
Глядя на стоящего перед ним грязного дервиша, одетого в отрепья, Руми решил, что это какой-то бездомный крестьянин, и ответил:
– Ты не поймешь.
И в этот момент книги в руках Руми либо загорелись, либо слетели с его колен и упали в пруд – в зависимости от варианта рассказа. В обоих случаях, впрочем, книги волшебным образом не пострадали.
– Что это? – воскликнул Руми при виде чуда.
– А этого не поймешь ты, – ответил Шамс.
Есть и менее известная, более прозаическая версия этой истории, которую, как предполагают, изложил сам Шамс.
Согласно этой версии, Шамс увидел, как Руми на лошади едет по рынку в Конье, и встал перед ним, преградив ему путь. Однако как бы ни начиналась история их первого знакомства – у пруда или на рынке, – заканчивалась она всегда одинаково: Шамс спрашивает Руми о другом суфийском мистике, к тому времени уже давно умершем, – Тайфуре Абу Язиде аль-Бастами, которого все знали как Баязида [8].
Баязид родился около 804 года в городе Бастаме в Cеверо-Восточном Иране и происходил из семьи зороастрийских священников, которые обратились в ислам вскоре после арабского вторжения в Персию и падения Сасанидской империи в 651 году. Образование он получил в ханафитской школе, где познакомился с теологией таухида, понятием Божественного Единства и загадкой вечных атрибутов Бога.
Руми (верхом на лошади) встречает Шамса. Лист из «Джами ас-Сияр» Мухаммеда Тахира Сухраварди
© Topkapi Palace Museum / Wikimedia Commons
Что-то во всем этом тревожило Баязида, оставляя его в глубокой неудовлетворенности. Он бросил официальное образование и начал собственные поиски более личного опыта общения с Богом, которому не могли научить ни в одной школе. Со временем он попал под влияние группы суфиев под предводительством персидского мистика Сахля ат-Тустари.
Суфизм как религиозное движение не поддается категоризации. Он прежде всего связан с поисками прямого контакта с Богом, и потому суфии наотрез отказываются от традиционного круга вопросов исламского права и теологии в пользу непосредственного переживания божественного. Суфии не участвуют в дискуссиях о том, нужно ли читать Коран буквально или фигурально. Они утверждают, что в Коране есть два отдельных слоя смысла: внешний, к которому любой мусульманин имеет доступ (достаточно прочитать писание и истолковать его для себя), а также тайный, скрытый, который доступен лишь избранным, и притом только посредством своего рода интуитивного знания, которое достигается молитвами и медитацией на протяжении всей жизни. Внешний слой помогает верующему узнать о Боге; скрытый слой помогает верующему познать Бога.
Именно желание познать Бога и привело Баязида в ряды суфиев. День и ночь Баязид медитировал, отчаянно пытаясь узнать тайную правду, которая, по его представлениям, была скрыта в идее таухида. И однажды истина явилась ему и потрясла до глубины души. Он вскочил с места и в экстазе крикнул: «Слава Мне! Как огромно Мое величие!»
Те, кто слышал это, решили, что Баязид изрек ужасающую ересь. Он недвусмысленно объявлял себя Богом. Между тем подобные заявления не считались чем-то из ряда вон выходящим среди определенной группы суфийских мистиков, которых иногда называют пьяными суфиями как раз за склонность к подобным экстатическим восклицаниям. Так, известно, что учитель Баязида, ат-Тустари, как-то заявил: «Я доказательство Бога», а его соученик, Мансур аль-Халладж, был распят за то, что бежал по улицам Багдада и вопил: «Я есмь Истина!» [9]
Но если большинство мусульман считали, что пьяные суфии ассоциируют себя с божественным, то для таких суфиев, как Шамс, подобные заявления означали еще более шокирующие и важные предположения о самой природе реальности. Именно восприятие реальности – способность интуитивно понимать, что Баязид, ат-Тустари и аль-Халладж имели в виду, – было у суфиев своего рода ритуалом инициации. Вот почему, когда Шамс впервые встретил Руми в Конье, он прежде всего задал вопрос о заявлении Баязида: «Что имел в виду суфийский учитель, когда кричал: “Слава Мне!”?»
Ответ на вопрос Шамса, как это часто бывает, не имеет значения. Шамс просто оценивал, насколько Руми достоин стать одним из его учеников. В некоторых версиях истории Руми даже не пытается ответить. Он падает в обморок, впадает в транс или смотрит Шамсу прямо в глаза в поисках тайны, которая теперь связывает их двоих. Важна лишь истина, скрытая в самом вопросе. Шамс, спрашивая, что имел в виду Баязид, на самом деле задавал совершенно иной вопрос: «Что есть Бог?»
Этот вопрос с самого начала занимал ведущее место в попытках человека понять божественное. Является ли Бог одушевляющей силой, которая объединяет всех живых существ, как, вероятно, думали наши доисторические предки? Или обожествленной природой, как считали жители древней Месопотамии? Или абстрактной силой, пропитывающей Вселенную, как описывали его некоторые греческие философы? Или персонализированным божеством, которое выглядит и ведет себя как человек? Или же Бог – человек в прямом смысле?
Вопрос, что есть Бог, как бы на него ни отвечали, постоянно заботил и верующих, и неверующих сотни тысяч лет. Этот самый вопрос привел к созданию целых цивилизаций – и к их гибели. Он породил мир и процветание – и вместе с тем войны и насилие.
И вот появилась группа мистиков, которая из-за своей приверженности к строгому монотеизму сделала радикальное предположение: понять единство Творца можно, лишь приняв единство всего творения. Иными словами, если Бог един, то Бог – это всё.
Эта идея носит название «вахдат аль-вуджуд», или «единство бытия», которое было дано одним из величайших в истории философов Мухйиддином ибн аль-Араби (1165–1240). Пытаясь заложить твердые философские основы суфийской концепции божественного, Ибн аль-Араби начал с явного фундаментального недостатка в доктрине таухида. Если в начале не было ничего, кроме Бога, то как Бог мог создать что-либо, кроме как из самого себя? А если Бог создал нечто из самого себя, то не нарушает ли это принципов единственности и единства Бога, разделяя Бога на Творца и сотворенное?
Ибн аль-Араби предлагал решение этой проблемы, которое лишь подтверждало то, что говорили такие суфии, как Шамс и Баязид: если Бог неделим, то все сотворенное тоже должно являться Богом. Во всяком случае, Творец и творение должны обладать совершенно одинаковой вечной, неразличимой, неразделимой сущностью; то есть все, что существует во Вселенной, существует лишь потому, что разделяет существование Бога. Таким образом, Бог – это, по сути, сумма всего, что существует [10].
Итак, вот и ответ на вопрос, который Шамс задал Руми. Именно это имел в виду Баязид, когда говорил: «Слава Мне!» Вот почему Тустари называл себя «доказательством Бога». Эти суфии заявляли не о своей божественности, а о единстве с божественным. И действительно, для большинства суфиев ошибка христианства состоит не в нарушении неделимости Бога, выраженном в превращении Бога в человека, а в вере в то, что Бог – это лишь один конкретный человек, а не все остальные. Согласно же суфизму, если Бог действительно неделим, то Бог – это все творения, а все творения – это Бог.
Итак, мы дошли до неизбежного финала монотеистического эксперимента – кульминации сравнительно недавно появившейся веры в единого, единственного, нечеловеческого и неделимого Бога-Творца, сформированной в иудаизме времен вавилонского пленения, отвергнутой зороастрийским дуализмом и христианским тринитаризмом и возрожденной в суфийской интерпретации таухида. Бог – это не творец всего сущего.
Бог и есть всё сущее [11].
Заключение Единый
В библейской версии творения – точнее, в одной из двух библейских версий творения (в Яхвисте) – Бог, сотворив Адама и Еву по своему образу и подобию, оставляет их в Эдемском саду с простым указанием: «Вы можете есть плоды любого дерева в саду, но не вкушайте от плода познания добра и зла. Иначе вы умрете».
Но змей, умнейший из созданий Бога, говорит им совсем другое. «Вы точно не умрете, – утверждает он. – Потому что Бог знает, что, когда вы отведаете этот плод, у вас откроются глаза и вы будете как Бог, зная добро и зло».
Мужчина и женщина вкушают запретный плод и не умирают. Змей был прав. И Бог признает это, говоря небесному воинству: «Человек теперь стал как один из нас, зная добро и зло. Ему нельзя позволить протянуть руку к плоду древа жизни, и вкусить от него, и жить вечно».
Поэтому Бог изгоняет Адама и Еву из райского сада и ставит ангелов с огненными мечами у врат Эдема, чтобы мужчина и женщина не вернулись.
Когда я в детстве читал эту историю, то считал, что это – предупреждение никогда не идти против воли Бога, иначе меня накажут, как некогда Адама и Еву. Сейчас же мне кажется очевидным, что Адам и Ева были наказаны не за неподчинение Богу, а за попытки стать Богом. Возможно, древняя память народа скрывает более глубокую правду, которую наши доисторические предки могли понимать интуитивно, а мы, обратившись от былого чистого анимизма к жестким религиозным доктринам современности, позабыли. Бог не сотворил нас по своему образу, как и мы не сотворили себе Бога по нашему. Это мы – образ Бога на земле, и не по форме или подобию, а по сути [1].
Я пришел к этому откровению после долгого и довольно-таки окольного духовного пути – и как религиовед, и как верующий. История человеческой духовности, которую я разворачиваю в этой книге, отражает мой духовный путь – от мистически настроенного ребенка, который считал Бога стариком с магической силой, до истого христианина, считавшего Бога совершенным человеческим существом; от схоласта-мусульманина, который отверг христианство в пользу более строгого монотеизма ислама, до суфия, который вынужден был признать, что единственный способ согласиться с предположением о едином, вечном и неделимом Боге – это устранить любые различия между Творцом и творением.
Для этой концепции божественного есть современный термин – пантеизм, который означает «Бог есть всё», или «всё есть Бог». В простейшей форме пантеизм – это вера в то, что Бог и Вселенная – единое и одинаковое целое, и ничто не существует помимо необходимого существования Бога. Философ-пантеист Майкл Левин формулирует это так: «Ничто не может быть по существу независимым от Бога, потому что нет ничего, кроме Бога». Иными словами, то, что мы называем миром, и тот, кого мы называем Богом, не являются независимыми друг от друга или отделенными друг от друга. Скорее можно говорить о том, что мир – это самовыражение Бога. Это осознанная и пережитая сущность Бога [2].
Представьте себе, что Бог – это свет, который проходит сквозь призму и распадается на бесчисленное множество цветов. Эти цвета кажутся непохожими друг на друга, но в реальности суть одно и то же. У них одна сущность, один источник. Таким образом, то, что на поверхности кажется отдельным и несхожим, в реальности является одним и тем же. Эту реальность мы и называем Богом [3].
Именно в это и верили наши доисторические предки. Их примитивный анимизм был основан на вере в то, что всё в этом мире – живое и неживое – имеет одну суть – одну душу, если угодно. Те же верования побудили жителей Месопотамии обожествлять силы природы задолго до того, как они начали преобразовывать эти силы в индивидуальных, персонализированных богов. Эти верования лежали и в основе древнеегипетских представлений о существовании божественной силы, которая проявляется как в богах, так и в людях. То же самое имели в виду и древнегреческие философы, говорившие о «едином боге» как о единственном и объединяющем принципе, управляющем всем творением. Эти системы верований можно рассматривать как разные варианты пантеистической концепции Бога как суммы всего сущего.
Я пришел к пантеизму через суфизм, однако те же представления можно найти практически во всех религиозных традициях. Пантеизм присутствует в индуизме, как в Ведах, так и в Упанишадах, но в особенности в веданте, где утверждается, что существует лишь Брахман (абсолютная реальность), а все остальное – иллюзия: «Ничто то, что не Бог, а Бог – всё, что есть». Пантеизм можно найти в буддистской идее, что мир и все в нем – это лишь разные аспекты Будды и что все явления объясняются единой реальностью. Мыслитель Эйхэй Догэн (1200–1253) говорил: «Все сущее есть природа Будды»[8]. Пантеизм глубоко укоренен в даосизме, где божественный принцип предстает как основание всего сущего. «Нигде нет места, где бы не существовало [дао]… Нет ничего без дао», – писал китайский философ IV века до н. э. Чжуан-цзы [4].
К пантеизму можно прийти и через иудейский мистицизм и концепцию цимцума, то есть «божественного сжатия» – веры в то, что Богу пришлось освободить место для образования Вселенной. Даже в христианстве, самой очеловечивающей религии, можно обнаружить пантеистические тенденции в работах мыслителей-мистиков вроде Майстера Экхарта с его известной фразой: «Бог есть Бытие, и от Него все бытие непосредственно проистекает» [5].
Но к пантеизму можно прийти и вовсе не через религию, а через философию. Собственно, именно философа-рационалиста Бенедикта Спинозу (1632–1677) считают главным популяризатором пантеизма на Западе. Он заявлял, что в мире не может быть больше одной «сути» с бесконечными атрибутами, и как бы ни называлась эта суть – Бог или Природа, – она должна существовать как единственная, недифференцированная реальность [6].
Или давайте вообще отвлечемся от Бога и рассмотрим науку с ее объединяющей концепцией природы, с сохранением энергии и материи и их взаимосвязанной природой. Все, что существует сейчас, существовало всегда и будет существовать до тех пор, пока будет существовать сам мир.
Во всех случаях неизменна фундаментальная истина: Всё Едино, а Единое – это Всё. И сам человек может решать, что значит «Единое», как это определять и как это переживать.
Для меня и множества других это «Единое» и есть то, что я называю Богом. Но Бог, в которого я верую, – это не очеловеченный, а расчеловеченный Бог: Бог без материальной формы, Бог – чистое существование без имени, сути или личности.
Часто, когда я говорю о Боге подобным образом, я сталкиваюсь с той же отрицательной реакцией, с которой приходилось иметь дело Эхнатону, Заратустре, Ксенофану и едва ли не любому другому религиозному реформатору, который пытался расчеловечить божественное. Люди просто не знают, как общаться с Богом, у которого нет человеческих свойств, атрибутов или потребностей. Как строить глубокие отношения с таким Богом? Ведь мы, как уже говорилось, самой эволюцией приспособлены представлять себе Бога в человеческом обличье. Это функция нашего мозга, и поэтому те, кто смог отказаться от этого очеловечивающего импульса, поступили так осознанно, приложив усилия.
Но стоит рассмотреть и возможность того, что сам когнитивный импульс, побуждающий считать Бога божественным отражением нас самих, обусловлен тем, что мы – каждый из нас – и есть Бог. Не исключено, что, вместо того чтобы пытаться построить отношения с Богом, мы должны полностью сосредоточиться на тех отношениях, которые уже есть.
Большую часть своей духовной жизни я пытался преодолеть пропасть, которая, как я считал, существовала между мной и Богом, – посредством либо веры, либо науки, либо каким-то их сочетанием. Теперь же я уверен, что пропасти нет, поскольку между нами нет никакой разницы. Я по своей сути – проявление Бога. Как и все мы.
Как верующий и пантеист, я почитаю Бога не через страх и трепет, а через восторг и удивление творениями Вселенной – поскольку она и есть Бог. Я молюсь Богу не для того, чтобы о чем-то попросить, но для того, чтобы стать с ним единым целым. Я понимаю, что познание добра и зла, попадание которого к людям так страшило Бога Бытия, начинается с познания того, что добро и зло – не метафизические понятия, а варианты морального выбора. Свой моральный выбор я делаю не на основе страха вечного наказания или надежды на вечное вознаграждение. Я признаю божественность мира и каждого создания в нем и отношусь ко всем и всему так, как относился бы к Богу, поскольку они – и есть Бог. И я понимаю, что есть лишь один способ истинно познать Бога – это познать единственное, что я могу: самого себя. Ибн аль-Араби говорил: «Тот, кто знает свою душу, знает своего Господа».
Нельзя считать совпадением, что эта книга заканчивается там, где начиналась, – на разговоре о душе. Зовите ее как хотите: психе, как древние греки; нефеш, как евреи; ци, как китайцы; брахман, как индийцы. Можно называть ее Природой Будды или пурушей. Можно считать ее тем же самым, что представляет собой разум, или существующей вместе со Вселенной; воссоединяющейся после смерти с Богом или переходящей из тела в тело; вместилищем сущности человека или безличной силой в основе всего сущего. Как ее ни определяй, вера в душу как в нечто отдельное от тела присуща всем. Это наша первая вера, она намного древнее, чем вера в Бога. Это вера, которая породила нашу веру в Бога.
Многочисленные исследования сознания детей показывают их инстинктивную склонность к «сущностному дуализму» – вере в то, что тело и разум/душа различны по форме и природе. Это значит, что мы появляемся в этом мире с врожденным чувством (невыученным, безусловным, не подвергшимся никакому влиянию), что мы – не просто наши физические тела. Существуют определенные когнитивные процессы, которые позволяют нам применить эту врожденную веру в душу как к людям, так и к другим творениям. Ясно одно: если говорить о вере в душу, то все мы прирожденные верующие [7].
А вот останемся ли мы верующими – это уже вопрос выбора, ничего больше. Можно считать всеобщую веру человечества в душу порожденной недоразумением или неверной логикой – игрой ума или ошибкой эволюции. Можно верить в то, что всё – Большой взрыв, распределение пространства и времени, баланс между энергией и массой и т. д. – вызвано лишь случайным соединением атомов. Творение вполне могло произойти при помощи чисто физических процессов, которые отражают лишь проявление самых базовых свойств материи и энергии – без причины, цели или значения. Это вполне убедительное объяснение существования Вселенной и всего, что в ней есть. Оно столь же убедительно – и столь же мало поддается доказательству, – что и существование в основе одушевляющего духа, который объединяет Вселенную и соединяет души – вашу, мою, всех остальных – возможно, вообще всего остального, что есть, было или когда-либо будет.
Так что делайте выбор.
Верьте в Бога или нет. Считайте Бога кем хотите. В любом случае возьмите пример с наших мифологических предков Адама и Евы и съешьте запретный плод. Вам не нужно бояться Бога.
Ведь Бог – это вы.
Благодарности
Этой книгой, как и большей частью всего, что я делаю, я обязан постоянной поддержке моей жены Джессики Джекли – не только главной любви всей моей жизни, но и лучшего друга и партнера. Эта книга не была бы написана без помощи моего друга и коллеги доктора Иэна Уэрретта, чьи скрупулезные исследования и споры со мной до глубокой ночи о природе божественного оказали большое влияние на конечный результат. Также исследования для этой книги проводили Сафа Самеизаде-Язд и Джозеф Лернер. Как всегда, я благодарен своему великолепному литературному агенту Элайз Чейни, издателям Уиллу Мерфи и Хилари Редмон, а также Лондон Кинг, неутомимому пресс-атташе в Random House.
Примечания
Введение. По образу и подобию нашему
1. Дальнейшие исследования детей показали, что, хотя их представления о Боге действительно зависят от общего представления о людях вообще и об их родителях в частности, они не считают, что Бог ограничен человеческими возможностями. Например, когда четырехлетних детей спросили, откуда взялись такие природные объекты, как огромные скалы или горы, те ответили, что их создал Бог, а не люди. См.: Jean Piaget. The Child’s Conception of the World. Paterson, N. J.: Littlefield, Adams, 1960; Nicola Knight, Paulo Sousa, Justin L. Barrett, and Scott Atran. Children’s Attributions of Beliefs to Humans and God: Cross-Cultural Evidence // Cognitive Science 28 (2004). P. 117–126.
2. Ludwig Feuerbach. The Essence of Christianity. N. Y.: Pantheon, 1957. P. 58.
3. Во многом моя теория очеловечивания бога основана на работах антрополога Стюарта Гатри, одного из наиболее авторитетных теоретиков в этой области. В книге «Лица в облаках: Новая теория религии» (Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. N. Y.: Oxford University Press, 1995) Гатри утверждает, что все формы религиозности можно возвести к какому-либо роду антропоморфизма. Согласно его теории, это связано с наличием врожденных когнитивных структур, которые психологически подталкивают людей находить человеческое в природном, социальном и космологическом окружении. Антропоморфизация мира, согласно Гатри, «имеет смысл, потому что мир неопределенен, неясен и нуждается в интерпретации. Она имеет смысл потому, что наиболее значимые толкования – обычно те, что обнаруживают присутствие самых важных для нас вещей. А самое важное – это обычно другие люди» (P. 3).
Суть аргументов Гатри можно обрисовать в трех аспектах. Во-первых, он строит теоретическую базу для своих положений, утверждая, что религия – это взгляд на мир как на нечто подобное человеку. Он приводит в качестве обоснования этнографические данные: анимистические идеи о душах и духах относятся к богам, мифическим существам и даже природным явлениям – полету птиц, а также землетрясениям и другим стихийным бедствиям. Во-вторых, он доказывает, что рассмотрение религии как результата антропоморфизации мира правомочно. Он приводит четыре причины: (1) наш мир неоднозначен и постоянно рождается заново; (2) поэтому наша основная потребность – истолковать его; (3) толкование сосредоточивается на самых значительных возможностях; (4) самые значительные возможности связаны с людьми. В‐третьих, он приводит в поддержку своих мнений доказательства из области когнитивных наук и психологии развития. В целом Гатри считает религиозность своего рода противовесом нестабильности природы. Его интересует не определение или констатация важности религии в обществе, а создание теории, объясняющей истоки религиозного поведения.
4. В более крупной ветви буддизма, махаяне (в отличие от менее распространенной и менее теистической тхеравады), явление Будды на земле традиционно считается проявлением чистой дхармы в человеческом облике. О дэвах как очеловеченных богоподобных духах см.: Ninian Smart. Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World’s Beliefs. Berkeley: University of California Press, 1996.
5. Согласно исследованиям когнитивного психолога Джастина Барретта, религиозно настроенные участники, заполняя опросники о том, какими свойствами, по их мнению, обладает Бог, обычно давали «теологически верные» ответы: Бог вездесущ и всеведущ, обладает безошибочным восприятием или неограниченным вниманием. А вот в разговоре те же самые люди охотно приписывали Богу совсем другие свойства: ограниченность внимания, недостаточность восприятия или просто недостаток знания – это противоречило всем их письменным ответам. См.: Justin L. Barrett. Theological Correctness: Cognitive Constraint and the Study of Religion // Method and Theory in the Study of Religion 11 (1998). P. 325–339; Cognitive Constraints on Hindu Concepts of the Divine // Journal for the Scientific Study of Religion 37 (1998). P. 608–619.
1. Адам и Ева в раю
1. Люди начали свою эволюцию от австралопитеков (Australopithecus) где-то 2,5–3 миллиона лет назад в Восточной Африке, откуда со временем распространились по Северной Африке, Европе и Азии. В течение большей части последующих двух миллионов лет на земле жили многочисленные виды людей из рода Homo: Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo ergaster и т. д. Европейские Homo sapiens иногда именуются кроманьонцами: это название было дано им после находки в 1868 году в одноименной пещере близ Лез-Эзи-де-Тайак-Сирёй во Франции пяти скелетов Homo sapiens. Теория, обычно известная как «гипотеза недавнего единого происхождения», гласит, что анатомически современные люди появились в Африке около 200 000 лет назад и что примерно 125 000 лет назад одна ветвь этих первых Homo sapiens начала мигрировать и заселила Евразию, где пришла на смену более раннему виду людей – неандертальцам. Эта теория недавно была подкреплена свидетельствами ДНК. Однако находка останков Homo sapiens в Джебель-Ирхуде, Марокко, возраст которых свыше 300 000 лет, заставляет предположить, что наш вид может быть старше, чем мы думаем. См.: Jean-Jacques Hublin et al. New Fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the Pan-African Origin of Homo sapiens // Nature 546 (June 8, 2017). P. 289–292.
Некоторые исследователи достаточно убедительно доказывают, что истоки Homo sapiens следует искать не в Восточной или Южной Африке, как обычно предполагают, а в Северной, причем на 50 000 лет раньше, чем по прежней оценке. См.: Jean-Jacques Hublin, Shannon P. McPherron. Modern Origins: A North African Perspective. N. Y.: Springer, 2012; Simon J. Armitage et al. The Southern Route “Out of Africa”: Evidence for an Early Expansion of Modern Humans into Arabia // Science 331/6016 (2011). P. 453–456.
Обычно считается, что Homo sapiens и неандертальцы вместе населяли Европу в течение по меньшей мере десяти тысячелетий – вероятно, между 40 000 и 30 000 годами до н. э., и есть множество доказательств межвидового скрещивания (у всех живущих неафриканцев есть примерно 2 % ДНК неандертальцев). Правдоподобное объяснение этому открытию состоит в смешении неандертальцев и Homo sapiens во время верхнего палеолита. Однако недавно на берегах одной сибирской реки нашли кость представителя рода Homo, который восходил и к Homo sapiens, и к неандертальцам и жил около 45 000 лет назад. Поскольку исследователи полагают, что гибридизация с неандертальцами происходила за 7000–10 000 лет до этого периода, находка может отнести скрещивание людей с неандертальцами ко времени за 60 000 лет до н. э. См.: Richard E. Green et al. A Draft Sequence of the Neanderthal Genome // Science 328 (2010). P. 701–722; Jennifer Viegas. 45,000-Year-Old Man Was Human-Neanderthal Mix. URL:
2. Прекрасный материал о жизни предков Homo sapiens содержится в книге: Ian Tattersall. Becoming Human: Evolution and Human Uniqueness. N. Y.: Harvest, 1999. Лучший и самый доступный анализ роли женщины в палеолитических сообществах см.: J. M. Adovasio, Olga Soffer, Jake Page. The Invisible Sex. N. Y.: HarperCollins, 2007.
3. «Украшение тела, – отмечает Джиллиан Моррис-Кей, – судя по всему, стало важным этапом на пути создания искусства. Использование цвета для украшения кожи, костей и бус предполагает получение удовольствия от формы и цвета. Практика прокалывания зубов, раковин и костей и изготовления из них подвесок или ожерелий – древнейшая после раскрашивания тела форма украшения себя». Gillian Morris-Kay. The Evolution of Human Artistic Creativity // Journal of Anatomy 216 (2010). P. 161.
4. В пещере Мас-д’Азиль в Юго-Западной Франции был найден череп женщины, пустые глазницы которого были украшены резьбой по кости, а нижняя челюсть, возможно, была заменена оленьей. Череп относится к мадленской культуре (около 14 000 лет назад).
Согласно Полу Петтиту, «погребальная деятельность окончательно символически оформилась около 30 000 лет назад или, возможно, немного раньше; а на определенном символическом уровне ее следы заметны еще в погребении среднего палеолита – 100 000 лет назад». См.: Paul Pettitt. The Palaeolithic Origins of Human Burial. N. Y.: Routledge, 2011. P. 269.
«Хотя палеолитические захоронения ясно свидетельствуют о наличии идеи загробной жизни, – говорит Брайан Хейден, – они ставят и вопрос о существовании самых ранних форм культов предков. 150 000 лет назад никаких форм погребения, судя по всему, еще не существовало. Когда человек умирал, его тело просто лежало на поверхности земли, разлагалось или поедалось хищниками, подобно тому как в Тибете оставляют тела на виду у животных… Возможно, первые люди клали трупы на возвышения, чтобы доступ к ним имели не хищники, а птицы и насекомые… Самое интересное, что, когда в археологии появляются свидетельства погребений, это не сопровождается полным отходом от прежних традиций. Нельзя сказать, что какая-то новая система верований и ритуалов пришла на смену старым методам, или что люди стали больше думать о гигиене, или что они внезапно осознали смерть. Погребение было чисто символическим. Оно требовало отдельных усилий и часто сопровождалось кострами, символическими жертвами или подбором камней особого рода и формы». См.: Brian Hayden. Shamans, Sorcerers and Saints. Washington, D. C.: Smithsonian, 2003. P. 115.
Я полностью согласен с утверждением Дэвида Уэнгроу: «Если искать устойчивый интерес в культурной реализации сложных существ среди ранних охотников и собирателей, наиболее вероятно найти его в погребальной практике палеолитических и мезолитических сообществ того времени, к которому относятся самые ранние датированные находки произвольных сочетаний останков человека и животных в захоронениях в пещерах Схул и Кафзех (возраст – около 80 000–100 000 лет) и далее в так называемых шаманских могилах натуфийского периода, а не в известных нам наскальных рисунках». См.: David Wengrow. Gods and Monsters: Image and Cognition in Neolithic Societies // Paléorient 37/1 (2011). P. 154–155.
5. Кстати, о слове «душа». Это, конечно, «западное» понятие, которое несет совершенно определенные религиозные коннотации и которое не стоило бы применять ко всем религиозным верованиям. Однако здесь оно употребляется просто как синоним «духовной сущности»: если хотите, это понятие можно заменить термином «разум». Об одном из первых использований слова «душа» можно прочитать в исследовании о недавней находке стелы в Зынджирлы (древнем Сам’але) под современным Газиантепом. См.: Dennis Pardee. A New Aramaic Inscription from Zincirli // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 356 (2009). P. 51–71; J. David Schloen and Amir S. Fink. New Excavations at Zincirli Höyük in Turkey (Ancient Sam’al) and the Discovery of an Inscribed Mortuary Stele // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 356 (2009). P. 1–13; Eudora J. Struble and Virginia Rimmer Herrmann. An Eternal Feast at Sam’al: The New Iron Age Mortuary Stele from Zincirli in Context // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 356 (2009). P. 15–49.
6. Хотя все согласны с тем, что люди периода верхнего палеолита уже хоронили мертвых, продолжаются горячие споры о том, существовала ли эта практика также в среднем и нижнем палеолите. См.: Julien Riel-Salvatore, Geoffrey A. Clark. Grave Markers: Middle and Early Upper Paleolithic Burials and the Use of Chronotypology in Contemporary Paleolithic Research // Current Anthropology 42/4 (2001). P. 449–479.
«В последние десятилетия, – замечает Уильям Ренду, – ученые оспаривают существование в Западной Европе погребений до прихода анатомически современного человека. Поэтому к стоянке Ла-Шапель-о-Сен, в случае с которой гипотеза о неандертальских захоронениях возникла впервые, был применен подход, сочетающий полевые исследования и переоценку уже найденных останков неандертальцев. Оказалось, что неандертальцы из Ла-Шапель-о-Сен клали своих покойников в яму и быстро забрасывали землей, стремясь защитить от любого воздействия извне. Эти открытия свидетельствуют о существовании западноевропейских неандертальских захоронений и о том, что неандертальцы обладали достаточными когнитивными способностями для этого». См.: William Rendu. Evidence Supporting an Intentional Neandertal Burial at La Chapelle-aux-Saints // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111/1 (2014). P. 81.
Самые ранние и наименее противоречивые материальные свидетельства неандертальских захоронений относятся к местам погребений в израильских Схуле и Кафзехе (возраст – около 100 000 лет). Однако кости неандертальцев были найдены во многих захоронениях в Европе и Азии – например, в Тешик-Таше в Узбекистане и в Шанидаре в Ираке: там была обнаружена большая пещера с останками нескольких неандертальцев. В некоторых погребениях прослеживается каннибализм. См.: Rainer Grun et al. U‐series and ESR Analyses of Bones and Teeth Relating to the Human Burials from Skhul // Journal of Human Evolution 49/3 (2005). P. 316–334; André Leroi-Gourhan. The Hunters of Prehistory. N. Y.: Atheneum, 1989. P. 52.
7. Анимизм – конечно, не совсем религия; на этом этапе эволюции говорить о религии просто нельзя. Лучше считать анимизм системой верований – своего рода линзой, через которую Адам и Ева смотрели на мир и на свое место в нем.
8. Нет недостатка в теориях о значении и использовании пещерной живописи палеолита. Есть приверженцы модели «искусства для искусства», которая утверждает отсутствие у наскальной живописи какого-либо внутреннего смысла. Хотя эта теория, главным образом вызванная к жизни низкой оценкой когнитивных способностей доисторических людей, современной наукой в основном отвергнута, она все же до сих пор имеет последователей. Например, Джон Халверсон пишет: «Предполагается, что пещерное искусство не имеет “cмысла” в обычном значении слова, как и религиозных, мифических или метафизических отсылок, не обладает магической или практической ценностью. Его следует понимать скорее как отражение ранней стадии когнитивного развития – зачатков абстракции в форме представленных изображений. Эта деятельность была самоцельной, родом игры – свободной игры со знаками. Следовательно, палеолитическое искусство можно в довольно точном и поучительном смысле считать настоящим искусством ради искусства». См.: John Halverson. Art for Art’s Sake in the Paleolithic // Current Anthropology 28/1 (1987). P. 63.
Многие другие ученые рассматривают палеолитическое искусство как средство обмена информацией. Например, не исключено, что пещерная живопись – отражение «демографического стресса», вызванного «утратой социальных связей в условиях увеличивающейся плотности населения». Согласно Бартону, Кларку и Коэн, наскальная живопись эпохи палеолита может быть связана с заявлением прав собственности: «Заявления этих прав могли символически выражаться в искусстве. Хотя эту функцию предположительно могло выполнять и мобильное искусство, наскальная живопись более эффективно утверждала права собственности, зримым (и “постоянным”) образом изменяя ландшафт». См.: C. Michael Barton, G. A. Clark, Allison E. Cohen. Art as Information: Explaining Upper Palaeolithic Art in Western Europe // World Archaeology 26/2 (1994). P. 199–200. См. также: Clive Gamble. Interaction and Alliance in Palaeolithic Society // Man 17/1 (1982). P. 92–107; The Palaeolithic Settlement of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1986; Michael Jochim. Palaeolithic Cave Art in Ecological Perspective // Hunter-Gatherer Economy in Prehistory. G. N. Bailey (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 212–219.
Те, кто придерживается структуралистских позиций, полагают, что палеолитическая наскальная живопись – это выражение более масштабного мировоззрения, космологии или системы взглядов, которая жестко организовывала жизнь и культуру эпохи палеолита согласно универсальным смыслам. Прародителем и наиболее известным пропагандистом такой теории был Андре Леруа-Гуран, который при этом, однако, отвергал религиозное значение пещер. Согласно Леруа-Гурану и Михельсон, «мы в этом случае имеем не реликты ритуальных практик, как ранее были уверены археологи, изучающие доисторическую эпоху, или даже религии или метафизики, а скорее каркас инфраструктуры, который мог служить основой бесконечного количества моральных символов и практик поведения… Темы, которые более непосредственно вытекают из палеолитического искусства, требуют скорее психоаналитического исследования, чем обращения к истории религии». См.: André Leroi-Gourhan, Annette Michelson. The Religion of the Caves: Magic or Metaphysics? // October 37 (1986). P. 16.
Вероятно, наиболее известная теория палеолитического искусства связана с понятием «симпатической магии». Проще говоря, эта теория утверждает, что пещерное искусство было призвано обеспечить успех на охоте в магическом/духовном смысле. Это искусство создавалось для обеспечения безопасности охотников и добычи пропитания путем дарования художникам-охотникам духовной и физической власти над будущей жертвой. Один из основных аргументов в пользу такой теории – предположение (на мой взгляд, ошибочное, что я и пытаюсь доказать в этой книге) о том, что палеолитическая живопись в основном изображает животных, пронзенных копьями, истекающих кровью и/или имеющих следы ранений.
Самым значительным сторонником теории «искусства как симпатической магии» был аббат Анри Брёйль, который считал, что доисторические изображения создавались в загадочных земных глубинах с целью обрести контроль над природой. Древние художники пытались обеспечить себе успех на охоте и постоянный приток добычи, спускаясь в глубины земли (возможно, это что-то связанное с деторождением/беременностью?) и магически порабощая дух определенных животных в самых темных и недоступных уголках пещер. См.: Henri Breuil. Four Hundred Centuries of Cave Art. Mary Boyle (transl.). N. Y.: Hacker Art Books, 1979.
Наконец, есть ученые (к ним отношусь и я), которые считают палеолитическую пещерную живопись выражением религиозного чувства и потому обладающей духовной значимостью. Дэвид Льюис-Уильямс пишет, что это искусство создавалось в трансоподобных состояниях, достигнутых при помощи шамана, а пещера была своего рода завесой или границей между нашим миром и миром духовным. См.: Jean Clottes and David Lewis-Williams. The Shamans of Prehistory: Trance Magic and the Painted Caves. N. Y.: Abrams, 1998; David Lewis-Williams and David Pearce. Inside the Neolithic Mind: Consciousness, Cosmos, and the Realm of the God. London: Thames and Hudson, 2005.
Однако Кевин Шарп и Лесли Ван Гелдер поставили под сомнение представление о том, что рисунки и изображения в пещерах – это религиозное «искусство». Они пишут: «Шаманская гипотеза следует в русле известной традиции интерпретации пещерного “искусства” Юго-Западной Европы, при которой его создатели эпохи верхнего палеолита наделяли его религиозным смыслом и обладали соответствующими намерениями. (Отметим, что, как и многие другие, мы закавычиваем слово “искусство”, поскольку, хотя корпус этих артефактов и содержит некоторые художественные изображения, далеко не все из них соответствуют этому определению и, возможно, не создавались как форма искусства.) Пионером в открытии, фиксации и интерпретации доисторического “искусства” в Юго-Западной Европе был Анри Брёйль… Брёйль, как и его знаменитый последователь Андре Глори, был католическим священником (не забудем и о иезуитском теологе и археологе Пьере Тейяре де Шардене), и потому вполне естественно, что они, столкнувшись с величием “искусства” и восхищающей природой древности, вложили в них религиозные смыслы и намерения. С тех же позиций они подошли и к пещерам, в которых было найдено это “искусство”: назвали их “святилищами”, “соборами”, “часовнями” и т. д. Они заложили основы традиции, которая отражает культурный этос Франции и Испании конца XIX и большей части XX века и продолжается по сей день – достаточно бегло пройтись по сайтам о доисторическом искусстве или ознакомиться с литературой нового времени на эту тему. Льюис-Уильямс всецело принадлежит этой традиции. “Искусство” кажется романтическим и загадочным, и его религиозное толкование возникает автоматически. Появляется убедительный нарратив, а современным исследователям не обязательно самим копаться в пещерах». См.: Kevin Sharpe, Leslie Van Gelder. Human Uniqueness and Upper Paleolithic “Art”: An Archaeologist’s Reaction to Wentzel van Huyssteen’s Gifford Lectures // American Journal of Theology and Philosophy 28/3 (2007). P. 313–314.
Разумеется, я не согласен с этим анализом и в ответ просто процитирую Льюиса-Уильямса: «Невзирая на все многообразие [наскальной живописи во французских пещерах], можно выделить несколько устойчивых паттернов. Самый очевидный из них – тот поразительный факт, что изображения делались глубоко под землей, часто в тех местах, где их мог увидеть только один человек; многие, собственно, вообще мог видеть только сам творец. Трудно представить себе причину создания столь удаленных от наблюдателя изображений, если бы эти древние художники не верили в существование иного мира, населенного сверхъестественными животными и, возможно, духами. Как и все общества в мире, люди верхнего палеолита, возможно, верили в многоуровневый мир: подземный мир; мир людей; мир небесный. О том, кто именно, по мнению людей верхнего палеолита, населял духовные уровни мира и как эти существа влияли на людей, остается только гадать». См.: David Lewis-Williams. Into the Dark: Upper Palaeolithic Caves in Western Europe // Digging Stick 27/2 (2010). P. 5. См. также: Kevin Sharpe, Leslie Van Gelder. Human Uniqueness and Upper Paleolithic “Art”. P. 311–345.
9. Именно Льюис-Уильямс блестяще сформулировал упомянутое положение о «многоуровневом мире», отметив: «Люди верхнего палеолита, возможно, считали вход в пещеру эквивалентом входа в подземный мир… Проходы в пещерах были “тропами” нижнего мира, а стены, полы и потолки – тонкими “мембранами”, через которые можно проникнуть в иной мир. Таким образом, зоны деятельности пещерных художников были частью иного мира». См.: David Lewis-Williams. Conceiving God: The Cognitive Origin and Evolution of Religion. London: Thames and Hudson, 2010. P. 210.
10. Среди других великолепно сохранившихся образцов пещерного искусства – живопись пещер Альтамира и Тито Бустильо в Испании. Изображение из Эль-Кастильо – это «большой красный пунктирный диск» на «стене рук». См.: Pike et al. U-Series Dating of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain // Science 336 (2012). P. 1411–1412. См. также: M. Garcia-Diez, D. L. Hoffman, J. Zilhao, C. de las Heras, J. A. Lasheras, R. Montes, A. W. G. Pike. Uranium Series Dating Reveals a Long Sequence of Rock Art at Altamira Cave (Santilana del Mar, Cantabria) // Journal of Archaeological Science 40 (2013). P. 4098–4106.
Полезная информация о наскальном и мобильном искусстве верхнего палеолита, а также его географическом распределении, возрасте и разнообразии содержится в следующих источниках: Oscar Moro Abadia, Manuel R. Gonzalez Morales. Paleolithic Art: A Cultural History // Journal of Archaeological Research 21 (2013). P. 269–306; Paul Bahn, Natalie Franklin, Matthias Stecker. Rock Art Studies: News of the World IV. Oxford: Oxbow Books, 2012; Gillian M. Morris-Kay The Evolution of Human Artistic Creativity // Journal of Anatomy 216 (2010). P. 158–176; Michel Lorblanchet. The Origin of Art // Diogenes 214 (2007). P. 98–109; Paul Pettitt, Alistair Pike. Dating European Palaeolithic Cave Art: Progress, Prospects, Problems // Journal of Archaeological Method and Theory 14/1 (2007). P. 27–47; Curtis Gregory. The Cave Painters: Probing the Mysteries of the World’s First Artists. N. Y.: Alfred A. Knopf, 2006; Gunter Berghaus. New Perspectives on Prehistoric Art. Westport, Conn.: Praeger, 2004; Randall White. Prehistoric Art: The Symbolic Journey of Humankind. N. Y.: Harry N. Abrams, 2003; Paul Bahn. The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art. Cambridge: Cambridge University Press, 1998; Margaret W. Conkey. A Century of Palaeolithic Cave Art // Archaeology 34/4 (1981). P. 21–22.
11. Пещеры Вольп были впервые исследованы тремя сыновьями графа Анри Бегуэна, профессора протоистории Тулузского университета (отсюда и название Труа-Фрер – «три брата»). Жарким летним днем 1912 года братья построили себе лодку из ненужных коробок и пустых бочек от керосина и доплыли на ней по рукаву реки Вольп к наполовину затопленному входу в одну из пещер. Даже в полутьме они смогли разглядеть царапины на стенах пещеры, хотя и не поняли всей значимости увиденного. Исследование ими пещер прекратилось с началом Первой мировой войны, когда братьев одного за другим призвали на фронт. Только после войны в 1918 году они вернулись к своим детским приключениям в пещерах. К тому времени их отец, граф Бегуэн, уже осознал важность находки и связался со своим другом, французским священником и археологом – аббатом Анри Брёйлем. Мое описание пещер Вольп во многом позаимствовано из книги самого Брёйля: Four Hundred Centuries of Cave Art. P. 153–177.
12. Подробнее о палеолитических «инструментах» см.: Ian Tattersall. Becoming Human. P. 13–14, 213. Согласно Рэнделлу Уайту, «все больше свидетельств в пользу того, что некоторую роль в выборе места для рисунков в пещере играла акустика. Мишель Довуа в исследовании трех пещер (Фонтане, Ле-Порталь и Ньо) показал… четкое соответствие между зонами качественной акустики и плотностью рисунков и вырезанных изображений. Такие исследования только начинаются, но легко предположить, что качество звука принималось во внимание, особенно если пещерные ритуалы включали в себя пение, скандирование, игру на флейте или литофонах». См.: Randall White. Prehistoric Art. P. 16.
13. Льюис-Уильямс утверждает, что точки – это отражения тех видений (то есть странных образов иного мира, которые видит шаман, вступая в этот иной мир), что пытались зафиксировать доисторические люди, побывав в «измененном состоянии сознания». Напротив, Леруа-Гуран и Михельсон говорят, что геометрические мотивы – это изображение половых органов: «[Мотивы] состоят из мужских и женских фигур; изображений гениталий; знаков самых разных типов, которые, однако, делятся на две категории: “полные” знаки (овалы, треугольники, прямоугольники) и “тонкие” знаки (прямые, кривые или ветвящиеся линии и группы точек); наконец, на стенах имеются отпечатки рук, обведенные цветом. Сравнение изображений каждого типа дает основание полагать, что это различные варианты сексуальных символов: “тонкие” – мужские, “полные” – женские». См.: David Lewis-Williams. Debating Rock Art: Myth and Ritual, Theories and Facts // South African Archaeological Bulletin 61/183 (2006): P. 105–111; The Mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art. London: Thames and Hudson, 2004; André Leroi-Gourhan. The Religion of the Caves. P. 12–13.
14. Ильга Загорска так пишет о символизме красной охры в погребальных обрядах каменного века: «Красный цвет напоминает о природных субстанциях того же цвета – например, крови. Наличие красного цвета в погребениях считается связанным с идеей смерти и сохранением энергии жизни и обеспечивающим магическую защиту на пути в иной мир. В широком смысле использование охры связано с духовным миром человека и расширением знания, а в погребальном контексте относится к зачаткам символического мышления… Однако исследователи подчеркивают также, что охра не всегда использовалась одинаково в разных местах в разное время и ее присутствие или отсутствие не всегда понятно и поддается толкованию». См.: Ilga Zagorska. The Use of Ochre in Stone Age Burials of the East Baltic // The Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs. Fredrik Fahlander, Terje Oestigaard (eds.). Oxford: Archaeopress, 2008. P. 115.
Жюльен Риль-Сальваторе и Джеффри Кларк отмечают, что широкое использование охры можно объяснить с функциональной, а не с символической точки зрения: «Она могла обеспечить прекрасную защиту от холода и влажности, лучше ложилась на землю и полированные костяные бусы, служила вяжущим или антисептическим средством и даже могла замедлять разложение… Поэтому ее наличие в могилах может просто свидетельствовать о знакомстве с этим полезным веществом, которое в течение верхнего палеолита постепенно приобрело эстетические и/или ритуальные свойства. Наличие охры в некоторых погребениях Кафзеха доказывает, что ее знали (и, вероятно, использовали) и в среднем палеолите. Однако можно предполагать, что широко применять охру стали позже – возможно, не ранее чем 20 000 лет назад». См.: Julien Riel-Salvatore, Geoffrey A. Clark. Grave Markers: Middle and Early Upper Paleolithic Burials and the Use of Chronotypology in Contemporary Paleolithic Research // Current Anthropology 42/4 (2001). P. 449–479. См. также: Erella Hovers, Shimon Ilani, Ofer Bar-Yosef, Bernard Vandermeersch. An Early Case of Color Symbolism: Ochre Use by Modern Humans in Qafzeh Cave // Current Anthropology 44/4 (2003). P. 491–522.
15. Одна из древнейших форм художественного выражения в палеолите – позитивные и негативные отпечатки рук, покрытые красной (чаще всего), черной, белой и желтой (реже всего) охрой. Если позитивные отпечатки получались, когда руку погружали во влажный пигмент и прижимали ее к стене пещеры, то негативные, вероятно, создавались разбрызгиванием пигмента ртом – тем самым создавался эффект ореола вокруг пальцев, запястья и тыльной стороны ладони. Позитивные и негативные отпечатки найдены во многих пещерах Южной Франции, Северной Испании и Италии, но эта форма выражения вовсе не была ограничена пещерами Западной Европы.
Открытие негативных отпечатков ладоней в Индонезии, современных отпечаткам из Эль-Кастильо и Альтамиры, не говоря уже об обнаружении фигуративного искусства, такого же древнего, как искусство Шове, потенциально может помочь нам лучше понять истоки и развитие искусства верхнего палеолита и его значение. См.: Paul Pettitt, A. Maximiano Castillejo, Pablo Arias, Roberto Peredo, Rebecca Harrison. New Views on Old Hands: The Context of Stencils in El Castillo and La Garma Caves (Cantabria, Spain) // Antiquity 88 (2014). P. 48; M. Aubert, A. Brumm, M. Ramli, T. Sutikna, E. W. Saptomo, B. Hakim, M. J. Morwood, G. D. van den Bergh, L. Kinsley, A. Dosseto, Pleistocene Cave Art from Sulawesi, Indonesia // Nature (2014). P. 223–237; Michel Lorblanchet. Claw Marks and Ritual Traces in the Paleolithic Sanctuaries of the Quercy // An Enquiring Mind: Studies in Honour of Alexander Marshack. Paul Bahn (ed.). Oxford: Oxbow Books, 2009. P. 165–170.
Большинство отпечатков оставлено левыми ладонями, а не правыми. Вероятно, это связано с методом нанесения отпечатков (то есть в правой руке держали раковину, другую емкость или соломинку с пигментом). Кроме того, довольно сильная зависимость установлена между наличием отпечатков и разломами, провалами и вмятинами на стенах пещеры. Отпечатки ладоней, как отмечают Петтит и другие, «очевидным образом связаны с естественными чертами рельефа – в частности, трещинами, выпуклостями и впадинами… 80 % имеющихся отпечатков в Ла-Гарме и 74 % в Эль-Кастильо находятся близко к трещинам или неровностям поверхности пещер. Поскольку участки “гладкой” скалы были в каждой пещере легкодоступны и находились в непосредственной близости к отпечаткам, эти соотношения нельзя считать случайными. Некоторые отпечатки словно бы “вписаны” в тонкие топографические особенности стены, другие размещены на выступах так, как будто они “хватаются” за стену, как спелеологи при исследовании пещер». См.: Paul Pettitt et al. New Views on Old Hands. P. 53.
В двух разных статьях Дин Сноу утверждает, что большую часть негативных отпечатков ладоней времен верхнего палеолита оставили женщины. Проанализировав 32 отпечатка из 8 пещер Испании и Франции, Сноу заключил в своем исследовании, что женщинам принадлежат 24 из них (75 %). И хотя алгоритм Сноу во время эксперимента помог определить пол человека по отпечаткам лишь с 60 %-ной вероятностью, ученый утверждает, что половой диморфизм древних Homo sapiens был в верхнем палеолите значительно более выражен, чем сейчас. Если отбросить критику гипотезы Сноу, то она порождает ряд интересных вопросов об искусстве верхнего палеолита. А именно: кто в основном создавал искусство того периода, мужчины или женщины, – и можно ли о таком разделении вообще говорить? И если женщины действительно в основном делали наскальные изображения, то как применить этот факт к теориям Брёйля и Льюиса-Уильямса, которые утверждали, что рисунки и изображения относятся к области «симпатической магии» или наносились в измененных состояниях сознания, переживаемых шаманами? Наконец, оказывала ли половая принадлежность художника какое-либо влияние на значение, преднамеренность или цель искусства верхнего палеолита? См.: Dean Snow. Sexual Dimorphism in Upper Palaeolithic Hand Stencils // Antiquity 80 (2006). P. 390–404; Sexual Dimorphism in European Upper Paleolithic Cave Art // American Antiquity 4 (2013). P. 746–761.
В пещере Гаргас, открытой в 1906 году и расположенной в пиренейской части Южной Франции, обнаружено более 150 отпечатков ладоней, оставленных около 25 000–27 000 лет назад. Однако на ладонях из Гаргаса, в отличие от отпечатков из других верхнепалеолитических пещер, во многих случаях не хватает пальцев. Неудивительно, что эти отпечатки стали предметом многочисленных предположений сразу после того, как Эмиль Картальяк впервые упомянул их в печати. Различные толкования этих отпечатков можно свести к трем гипотезам: (1) пальцы «художника» отрезались по причинам сакрального характера (ритуалы, «симпатическая магия», групповая идентификация); (2) пальцы были утрачены естественным или случайным образом (обморожение, травмы, заболевания, генетический дефект при рождении); (3) пальцы сознательно загибались для создания различных форм и конфигураций (возможно, это был своего рода жестовый язык охотников и собирателей для обозначения разных видов животных). Хотя последняя гипотеза, вероятно, наиболее убедительна, особым правдоподобием не обладает ни одна из них.
Если бы пальцы удалялись с сакральными целями, логично было бы обнаружить у отпечатков из Гаргаса стандартный шаблон, но он, видимо, отсутствует. Если бы увечья были намеренными или пальцы умышленно сгибали для изображения определенных животных, можно было бы ожидать распространения этой практики в других пещерах, но аналогичные изображения зафиксированы лишь еще в двух. К тому же умышленное удаление пальцев совершенно нелогично, поскольку ставит под удар как безопасность, так и продуктивность человека и его/ее племени, выживание которого зависит от всех его членов. Наконец, некоторые отпечатки из Гаргаса, похоже, оставлены одним человеком, но отсутствуют на них разные пальцы, что свидетельствует в пользу их сгибания, художественной игры или просто плохой техники, а не в пользу ритуальных увечий, естественной или случайной потери пальцев. См.: André Leroi-Gourhan. The Hands of Gargas: Toward a General Study // October 37 (1986). P. 18–34; Ali Sahly. Les Mains mutilées dans l’art préhistorique. Toulouse: privately published, 1966; Henri Breuil. Four Hundred Centuries of Cave Art. P. 246–257; Émile Cartailhac. Les mains inscrites de rouge ou de noir de Gargas // L’anthropologie 17 (1906). P. 624–625.
16. Говоря о символической природе искусства верхнего палеолита, Льюис-Уильямс отмечает: «Изображения, таким образом, не являются рисунками животных, встречающихся за пределами пещеры, как это часто предполагается; нигде нет изображений земной поверхности… травы, деревьев, рек – чего-либо из реального мира. Это скорее фиксированные изображения, гармонирующие с формой скалы: так, естественные жеоды часто служат глазами животных. В других случаях рисунки как будто вступают на поверхность скалы или покидают ее через трещины и разломы, а некоторые начертаны лишь частично, притом что оставшаяся часть изображения создается тенью при определенном положении света». См.: David Lewis-Williams. Inside the Neolithic Mind. London: Thames and Hudson, 2009. P. 83–84.
17. Археологические свидетельства верхнего палеолита не обнаруживают практически никакой связи между животными из верхнепалеолитического пещерного искусства и основным рационом Homo sapiens. Говоря о видах животных, изображенных в пещерах верхнего палеолита, Леруа-Гуран отмечает: «Со статистической точки зрения количество видов [изображенных в искусстве верхнего палеолита] значительно меньше, чем количество известных видов, существовавших в то время вообще. Художники палеолита изображали не всех животных подряд, а животных определенных видов, которые не всегда играли существенную роль в их повседневной жизни». См.: André Leroi-Gourhan. The Dawn of European Art: An Introduction to Palaeolithic Cave Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. P. 45.
В другой публикации Леруа-Гуран снова возвращается к тому же вопросу: «Этот список, в сопоставлении с животными, кости которых чаще всего находятся на большинстве стоянок, ставит вопрос о том, насколько вообще репрезентативны списки животных в искусстве. Для начала можно провести параллель с общими традициями всей Европы: лев и орел – пища редкая и посредственная, но в западной геральдике эти животные присутствуют куда чаще, чем теленок или свинья. Мы еще вернемся к этому вопросу, но есть серьезные основания полагать, что из изображений палеолитических животных можно составить скорее бестиарий, чем список съедобных видов». См.: André Leroi-Gourhan. Treasures of Prehistoric Art. N. Y.: Harry Abrams, 1967. P. 111.
Наконец, Маргарет Конки отмечает: «Частота изображений определенных животных резко контрастировала с доступностью этих животных и с тем, насколько часто их остатки находят среди остатков пищи древних людей. Можно сделать вывод, разделяемый также в книге Патрисии Винникомб “Люди Эланды” (People of the Eland), замечательном исследовании наскального искусства кунгов в ЮАР, и совпадающий с наблюдением Леви-Стросса о том, что некоторые виды изображали не потому, что их было “приятно есть”, а потому, что о них было “приятно думать”». См.: Margaret W. Conkey. A Century of Palaeolithic Cave Art // Archaeology 34/4 (1981). P. 23. См. также: Patricia Vinnicombe. People of Eland: Rock Paintings of the Drakensburg Bushmen as a Reflection of Their Life and Thought. 2nd ed. Johannesburg: Wits University Press, 2009. Оригинал цитаты Леви-Стросса взят из книги: Totemism. Rodney Needham (transl.). London: Merlin Press, 1991. P. 89.
Уайт отмечает: «Еще одно наблюдение, которое, похоже, опровергает магическое объяснение пещерного искусства (а также мобильного изображения животных): почти никогда животные не изображаются больными и страдающими. Почти никогда не изображается насилие и собственно охота. Есть лишь редкие исключения – например, выпотрошенный бизон из Ласко или сцена охоты с луками из Ла-Ваш». См.: Randall White. Prehistoric Art. P. 119.
18. «Сама по себе пещера, – утверждает Леруа-Гуран, – интегрирована в инфраструктурную схему, поскольку ее естественные формы используются художниками. Эти формы могут быть двух видов. Первая – естественные рельефы, которые сообщают свою форму спине, шее или бедру животного, дополняемым художником; вторая – трещины или галереи, которые использованы для отображения женской символики, что и демонстрируется добавлением тонких знаков или точек. Пещера тем самым становится “активным участником” событий». См.: André Leroi-Gourhan. The Religion of the Caves. P. 16.
19. Брёйлевское описание Колдуна особенно убедительно: «“Бог”, изначально названный мною и графом Бегуэном Колдуном, единственная из всех изображенных в Святилище фигур нарисована черным и расположена на четыре метра выше уровня пола, в явно недоступном месте – достичь его можно, лишь взбираясь вверх по спирали тайным коридором. Очевидно, что он возвышается над всеми животными, собранными там в невероятных количествах и часто в страшном беспорядке. Его высота – 75 сантиметров, а ширина – 50. Вырезан он полностью, но краска распределена неравномерно: на голове есть лишь несколько следов – на глазах, носу, лбу и правом ухе. Есть лицо, глаза круглые с белками; между глаз прочерчена линия носа, заканчивающаяся небольшой дугой. Проколотые уши – это уши оленя. Из черной полосы на лбу растут два больших оленьих рога без фронтальных отростков, но с единственным коротким отростком, расположенным достаточно высоко на каждой ветви, наклоненным вперед и снова ветвящимся вправо или влево. У фигуры нет рта, но есть очень длинная борода, вырезанная линиями и падающая на грудь. Руки подняты и сведены вместе горизонтально, заканчиваются двумя сложенными вместе ладонями, короткие пальцы вытянуты; они бесцветные и почти невидимы. Широкая черная лента обрисовывает все тело, утончаясь в поясничной области и обвиваясь вокруг согнутых ног. Точка отмечает левый коленный сустав. Ноги и крупные пальцы на ногах выполнены довольно тщательно – их движения напоминают шаг в танце кекуок. Мужской половой орган подчеркнут, но не возбужден, направлен назад, хорошо развит, помещен под пушистым хвостом волка или коня, обладающим небольшой кисточкой на конце. Эта мадленская фигура, как мы полагаем, была наиболее важной во всей пещере. После долгих размышлений мы пришли к выводу, что это Дух, ответственный за умножение добычи и охоту». См.: Henri Breuil. Four Hundred Centuries of Cave Art. P. 176–77.
20. Такие отношения с животными дают шаману определенную власть над ними. Он может видеть глазами животного. Они помогают ему решать проблемы, читать предзнаменования или исцелять больных. Хосе Антонио Лашерас пишет: «Связь, установленная между отчетливо разными уровнями реальности, требует предстоятеля, посредника, шамана или священника, который общается с малыми духами, дающими жизнь всему живому, и вмешивается в реальность вокруг нас, которую мы видим вокруг себя постоянно, или воздействует на нее. Художник или шаман видит на рельефах потолка Альтамиры бизона, оленя и лошадей и соотносит их с теми, кого они изображают. В палеолитическом искусстве был особый бестиарий, связанный с устной традицией, с распространенными сюжетами – мифами, что объясняет их присутствие и распространение по всей Европе на протяжении тысячелетий». См.: Jose Antonio Lasheras. The Cave of Altamira: 22,000 Years of History // Andoranten (2009). P. 32.
21. Рисунок так называемого Птицеголового Человека из Ласко изображает человеческую фигуру, падающую назад или лежащую распростертой перед угрожающим зубром. Атакующее животное нацелилось рогами в грудь человеку, но, видимо, ранено в живот копьем или заостренной палкой. Справа от человека – палка (или посох), украшенная изображением птицы. Под зубром, там, где древко пронзает тело, из живота зверя выходит нечто округлое. Учитывая сходство между чертами лица человека и птицей на посохе, некоторые трактуют это изображение как свидетельство шаманизма. См.: Matt Rossano. Ritual Behaviour and the Origins of Modern Cognition // Cambridge Archaeological Journal 19/2 (2009). P. 249–250; Jean Clottes and David Lewis-Williams. The Shamans of Prehistory: Trance and Magic in the Painted Caves. N. Y.: Harry Abrams, 1998. P. 94–95; Noel Smith. An Analysis of Ice Age Art: Its Psychology and Belief System. American University Studies, Series XX, “Fine Arts”, vol. 15, book 15. N. Y.: Peter Lang, 1992; Henri Breuil and Raymond Lantier. The Men of the Old Stone Age. N. Y.: St. Martin’s Press, 1965. P. 263–264; Jacquetta Hawkes, Sir Leonard Woolley. Prehistory and the Beginnings of Civilization. N. Y.: Harper and Row, 1963. P. 204–205.
Вероятно, самый известный гибрид человека и животного палеолитической эры – это Человеколев, статуя из слоновой кости, выполненная 30 000 лет назад и изображающая человека с длинными конечностями и искусно вырезанной головой льва. Она была найдена в пещере в долине реки Лан в Юго-Западной Германии. У 28-сантиметровой статуи отсутствуют правая рука и нога; на левой руке и вокруг ушей на равном расстоянии сделаны засечки, предназначение которых – загадка. Человеколев – это не только одно из самых древних и самых известных териантропических изображений, но и один из древнейших образцов мобильного искусства. См.: Joachim Hahn. Kraft und Aggression: Die Botschaft der Eiszeitkunst in Aurignacien Suddeutschlands? Tübingen: Verlag Archaeologica Venatoria, 1986; Thomas Wynn, Frederick Coolidge, Martha Bright. Hohlenstein-Stadel and the Evolution of Human Conceptual Thought // Cambridge Archaeological Journal 19/1 (2009). P. 73–84.
22. Брёйль утверждал, что, нанося изображения животных на стены и потолки пещер, люди палеолита пытались обеспечить себе успешную охоту и оградить охотников от травм. Эта теория, согласно Брёйлю, объясняет и произвольность изображений в пещере, которая просто отражает случайный характер встречаемости животных в природе, и присутствие засечек или отметок на изображениях, которые сделаны какими-то заостренными инструментами и могут свидетельствовать о пантомиме или магической охоте. Теории Брёйля о наскальной живописи палеолита и «симпатической магии» были общепризнанными вплоть до 1960-х годов и до сих пор встречаются во многих хрестоматийных работах о палеолитическом искусстве.
Однако в 1960-е годы точка зрения Брёйля подверглась значительной критике. Например, некоторые исследователи отмечали, что пещерные изображения нельзя было использовать для симпатической магии, поскольку многие из изображенных животных не входили в рацион людей палеолита. Другие указывали, что Брёйль был предрасположен видеть в пещерах сакральные места, поскольку был французским священником и отличался чувствительностью к религиозным вопросам; а работа его пестрит методологическими ошибками – например, излишним доверием к чрезмерно упрощенной этнографической интерпретации бушменов Южной Африки. Кроме этого, Брёйля критиковали за европоцентричность и колониалистское понимание пещерного искусства, которое ставило наскальное выше мобильного: эти формы искусства он называл высоким и низким соответственно.
Даже калькировки Брёйля подверглись критике: например, Рональд Хаттон поставил под сомнение рога, добавленные в изображении Брёйлем Колдуна из Труа-Фрер. Однако, несмотря на эти негативные оценки и найденные в некоторых рисунках ошибки, Жан Клотт (один из немногих, сумевших получить доступ в Труа-Фрер) неуклонно утверждает аутентичность изображения Колдуна и точность калькировки Брёйля. Подробнее см.: Oscar Moro Abadia, Manuel R. Gonzalez Morales. Paleolithic Art: A Cultural History // Journal of Archaeological Research 21 (2013). P. 269–306; Margaret Conkey. A Century of Palaeolithic Cave Art // Archaeology 43/4 (1981). P. 20–28; Paul Bahn. The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 62–63; Ronald Hutton. Witches, Druids, and King Arthur. N. Y.: Bloomsbury Academic, 2003. P. 33–35; Peter Ucko. Subjectivity and the Recording of Palaeolithic Cave Art // The Limitations of Archaeological Knowledge. T. Shay, J. Clottes (eds.). Liege: University of Liege Press, 1992. P. 141–180; Robert Bégouën and Jean Clottes. Les Trois-Frères After Breuil // Antiquity 61 (1987). P. 180–187; Jean Clottes and David Lewis-Williams. The Shamans of Prehistory: Trance Magic and the Painted Caves. N. Y.: Abrams, 1998.
2. Властелин животных
1. Согласно Альберто Блану, «вырезанная и раскрашенная фигура так называемого Колдуна из пещеры Труа-Фрер в Арьеже, впервые описанная аббатом Брёйлем как фигура шамана в своеобразном костюме из частей различных животных (оленьи рога, медвежьи лапы, глаза совы, хвост волка или коня), на самом деле очевидным образом представляет собой фигуру бога или духа – покровителя охотников. Аббат Брёйль первым опроверг собственное первоначальное мнение и уже в 1931 году четко указал, что так называемый Колдун, скорее всего, изображает мифическое сверхъестественное существо, снабженное атрибутами животных, которые были объектами охоты племени… Остальные так называемые фигуры в масках, встречающиеся в искусстве верхнего палеолита, вероятно, тоже изображают схожих богов или духов-покровителей». См.: Alberto C. Blanc. Some Evidence for the Ideologies of Early Man // Social Life of Early Man. Sherwood Washburn (ed.). London: Routledge, 2004. P. 121.
«Изначально считалось, что фигура изображает танцующего колдуна. После дальнейших размышлений Брёйль заключил, что это фигура не колдуна, а такого бога, которого сейчас называют Властелином животных… Но название “Колдун” уже закрепилось за этой фигурой и так и не было заменено в литературе, например, на “рогатого бога”. Нужно отметить, что для Брёйля фигура бога была “снабжена теми же символами магической власти (маска), что и фигуры его служителей-людей” (Bégouën and Breuil 1958:54). Итак, это был бог в маске». См.: Henry Pernet. Ritual Masks: Deceptions and Revelations. Eugene, Ore.: Wipf and Stock, 1992. P. 26.
Альби Стоун соглашается с тем, что Брёйль меняет точку зрения на Властелина животных: «Колдун из Труа-Фрер может изображать и человека в ритуальном костюме зверя, и бога или могущественного духа. Возможно, это даже был метафорический портрет почитаемого или облеченного властью человека». См.: Alby Stone. Explore Shamanism. Loughborough, U. K.: Explore Books, 2003. P. 130. См. также: Gillian Morris-Kay. The Evolution of Human Artistic Creativity. P. 169.
Беттина Арнольд и Дерек Каунтс описывают Властелина животных как «хозяина животного мира, власть и опека которого распространяется как на диких животных (например, львов и кабанов), так и на домашних (например, мулов, коров и овец), а также на процесс охоты». См.: Bettina Arnold and Derek Counts. The Master of Animals in Old World Iconography. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, 2010. P. 9.
Согласно Жакетте Хоукс и сэру Леонарду Вулли, «нет сомнения, что пещерное искусство, как и домашнее (хотя и в меньшем объеме), обслуживало культ животных, отчасти магический и отчасти подлинно религиозный… Статус человека и жизнь всего племени полностью зависели от умножения поголовья животных и успешности охоты на них, и искусство отвечало на эти две важнейшие потребности. Утилитарные сами по себе, эти изображения не могут рассматриваться отдельно от религиозного чувства единения с животными и природой, ощущения мистической сопричастности». См.: Jacquetta Hawkes, Sir Leonard Woolley. Prehistory and the Beginnings of Civilization. N. Y.: Harper and Row, 1963. P. 204–205.
Подробнее о Властелине животных см.: Jacqueline Chittenden. The Master of Animals // Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens 16/2 (1947). P. 89–114; Nanno Marinatos. The Goddess and the Warrior: The Naked Goddess and Mistress of the Animals in Early Greek Religion. London: Routledge, 2000. P. 11–12.
2. Недавние результаты анализа находок в девяти пещерах острова Сулавеси в Индонезии показывают, что негативные отпечатки ладоней оставлялись в пещерах этого региона еще 40 000 лет назад – это древнейшие негативные отпечатки в мире. Затем анализы двух образцов фигуративного искусства из индонезийских пещер Леанг-Тимпусенг I и II (изображение бабируссы и неопознанного, похожего на свинью животного) показали их возраст как 35 400 и 35 700 лет соответственно. Подробнее об открытии и датировке рисунков в пещерах Сулавеси см.: M. Aubert, A. Brumm, M. Ramli, T. Sutikna, E. W. Saptomo, B. Hakim, M. J. Morwood, G. D. van den Bergh, L. Kinsley, A. Dosseto. Pleistocene Cave Art from Sulawesi, Indonesia // Nature 514 (2014). P. 223–227.
В статье Обера и его соавторов написано: «Результаты наших датировок из Сулавеси позволяют предположить, что фигуративное искусство входило в культурный репертуар уже первых популяций современных людей, достигших этого региона более 40 000 лет назад. Возможно, наскальная живопись появилась независимо примерно в одно и то же время на обоих концах зоны обитания первых современных людей. Есть и альтернативный сценарий: пещерная живопись могла широко практиковаться уже первыми Homo sapiens, покинувшими Африку за десятки тысяч лет до того, так что натуралистические изображения животных из Леанг-Тимпусенга и Леанг-Баругайя II – а также из французской пещеры Шове – могут иметь гораздо более глубокие истоки вовсе не в Западной Европе и не на Сулавеси. В этом случае можно ожидать дальнейших находок отпечатков рук, фигуративного искусства и других образцов изображений, относящихся к древнейшему периоду расселения нашего вида по миру». См.: Maxime Aubert et al. Pleistocene Cave Art from Sulawesi, Indonesia. P. 226.
3. Подробнее о пещерах близ Малаги см.: Alistair Pike et al. U-Series Dating of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain // Science 336 (2012). P. 1409–1413. Подробнее о находке в Авероне см.: Jacques Jaubert et al. Early Neanderthal Constructions Deep in Bruniquel Cave in Southwestern France // Nature 534 (2016): 111–127.
4. О дискуссии вокруг находки черепов Homo erectus в пещерной системе Чжоукоудянь под Пекином (так называемый пекинский человек) см.: Brian M. Fagan, Charlotte Beck. The Oxford Companion to Archaeology. London: Oxford University Press, 1996. P. 774. Датировки костей из Чжоукоудяня колеблются от 700 000 до 200 000 г. до н. э., но общепризнанным является мнение, согласно которому кости не могут быть существенно старше 500 000 лет. См. также: Peter Peregrine, Melvin Ember. Encyclopedia of Prehistory, vol. 3: East Asia and Oceania. N. Y.: Springer, 2001. P. 352. О погребальных практиках Homo erectus, следы которых обнаружены в пещерной системе Чжоукоудянь под Пекином см.: Brian M. Fagan, Charlotte Beck. The Oxford Companion to Archaeology. N. Y.: Oxford University Press, 1996. P. 774; Peter Peregrine, Melvin Ember. Encyclopedia of Prehistory, vol. 3: East Asia and Oceania. N. Y.: Springer, 2001. P. 352.
5. «Характер учения о душе у примитивных обществ можно выяснить из рассмотрения его развития. По-видимому, мыслящих людей, стоящих на низкой ступени культуры, всего более занимали две группы биологических вопросов. Они старались понять, во‐первых, что составляет разницу между живущим и мертвым телом, что составляет причину бодрствования, сна, экстаза, болезни и смерти? Во-вторых, они задавались вопросом, что такое человеческие образы, появляющиеся в снах и видениях? Видя эти две группы явлений, древние дикари-философы, вероятно, прежде всего сделали само собой напрашивавшееся заключение, что у каждого человека есть жизнь и есть призрак». См.: Edward Burnett Tylor. Primitive Culture. London: J. Murray, 1889. P. 428. [Цит. по рус. изд.: Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989.]
6. О Максе Мюллере и «встрече с природой» см. его книги: Introduction to the Science of Religion. London: Longmans, Green, 1873 [рус. изд.: Мюллер Ф. М. Введение в науку о религии. М.: Книжный дом «Университет»; Высшая школа, 2002]; Comparative Mythology. London: Routledge and Sons, 1909. Нужно отметить, что книга Маретта, в которой излагается его теория преанимизма, была написана как критика теории анимизма Тайлора. См.: Robert Ranulph Marett. The Threshold of Religion. London: Methuen and Co., 1914. P. 14.
7. Аргумент, что ритуальные практики могут вызывать определенные чувства, которые приводят к адаптивным преимуществам, можно найти в следующей книге: Walter Burkert. Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996. P. 177.
8. Сам термин «трансцендентность», как можно предположить, подразумевает западную философскую перспективу, которая, возможно, неприменима к так называемым восточным религиям. Тем не менее, определив трансцендентность как «то, что находится за пределами», мы можем заметить, что идея нирваны как финального освобождения от цикла перерождений, а также идея мокши как свободы от уз кармы и иллюзии реальности (майи) в целом соответствуют нашим понятиям о трансцендентности. Также и концепция Пустоты (шуньята) как «общих усилий понять смысл», лежащий в основе реальности, в свою очередь предполагает трансцендентность, особенно если учесть утверждение Нагарджуны, что не существует «не-пустых сущностей». Поэтому все, что можно сказать о трансцендентной реальности, верно и для Пустоты. См.: J. G. Arapura. Transcendent Brahman or Transcendent Void: Which Is Ultimately Real? Transcendence and the Sacred // Transcendence and the Sacred. A. M. Olson, L. S. Rouner (eds.). Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1981. P. 83–99.
9. Émile Durkheim. The Elementary Forms of Religious Life. N. Y.: Free Press, 1995. P. 227. [Сокращ. рус. перевод – Э. Дюркгейм. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемистическая система в Австралии. (Введение, Глава 1.) // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1998. С. 174–230.] См. также: W. Robertson Smith. Lectures on the Religion of the Semites: The Fundamental Institutions. N. Y.: Ktav Publishers, 1969.
10. Отзвуки теории Дюркгейма сохранили до наших дней его интеллектуальные наследники. Социолог Петер Бюргер, например, утверждает, что религия, придавая космическую значимость действиям людей, не только порождает смысл и цели для общины, но и легитимизирует ее. Бюргер пишет, что религия – это «установление благодаря человеческой деятельности всеобъемлющего сакрального порядка, то есть сакрального космоса, который сможет поддерживать сам себя перед лицом постоянного хаоса». См.: Peter Burger. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. N. Y.: Doubleday, 1967. P. 51.
11. Взгляды Фрейда на религию см. в его книгах: Totem and Taboo: Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics. Abraham Arden Brill (transl.). N. Y.: Moffat, 1918; The Future of an Illusion. W. D. Robson-Scott (transl.). London: Hogarth Press, 1928. [Рус. изд.: Фрейд З. Тотем и табу. СПб.: Азбука-классика, 2005; Фрейд З. Будущее одной иллюзии. М.: АСТ, 2011.]
12. David Hume. Four Dissertations. London: A. and H. Bradlaugh Bonner, 1757. P. 94; Ludwig Feuerbach. The Essence of Christianity. Marian Evans (transl.). N. Y.: Calvin Blanchard, 1855. P. 105; Ludwig Feuerbach. Lectures on the Essence of Religion. Ralph Manheim (transl.). N. Y.: Harper and Row, 1967. [Рус. изд.: Юм Д. Естественная история религий // Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1965. Т. 2; Фейербах Л. Сущность христианства // Сочинения в 2 т. М.: Наука, 1995. Т. 2.]
Жирар считал, что насилие обусловлено миметической враждой, причина которой в том, что наши желания «заимствуются» у других людей в сообществе. См.: René Girard. Violence and the Sacred. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1979. [Рус. изд.: Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2010.] Религия, по словам современного германо-американского исследователя Мартина Ризебродта, обещает «оградить от несчастий, помочь справиться с кризисом и обеспечить спасение». Martin Riesebrodt. The Promise of Salvation: A Theory of Religion. Chicago: University of Chicago Press, 2010. P. xiii.
13. Гирц определяет религию по ее цели – вдохновлять и мотивировать людей, заставляя их верить в осмысленную и связную Вселенную. См.: Clifford Geertz. The Interpretation of Cultures. N. Y.: Basic Books, 1973. P. 87–125, 103. А. Р. Радклифф-Браун схожим образом отмечает: «Одна из антропологических теорий гласит, что магия и религия даруют людям уверенность в себе, но также можно сказать, что они дают людям такие страхи и тревоги, от которых иначе они были бы свободны: это боязнь черной магии, злых духов, бога, дьявола и ада». См.: Alfred Reginald Radcliffe-Brown. Taboo // Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach. William A. Lessa, Evon Z. Vogt (eds.). N. Y.: Harper and Row, 1979, P. 46–56.
14. Питер ван Инваген пишет о проблеме эволюционного подхода к истолкованию религии: «Вера в сверхъестественное имеет свою цену: она очень часто приводит к действиям (например, ритуалам или молитвам), подразумевающим трату ресурсов, которые стоило бы расходовать на выживание и воспроизводство. А в эволюционной биологии общим местом является то, что любое свойство вида, сопряженное со значительной тратой энергии и ресурсов, требует каких-то объяснений, как, например, яркие плюмажи самцов многих видов птиц». См.: Peter van Inwagen. Explaining Belief in the Supernatural: Some Thoughts on Paul Bloom’s “Religious Belief as an Evolutionary Accident” // The Believing Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. Jeffrey Schloss, Michael Murray (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 129.
15. Согласно Мэтту Россано, «наиболее древние черты религии представляют собой расширение общественного мира людей за счет мира сверхъестественного. Тем самым укрепляется сотрудничество внутри группы, ведь духовные наблюдатели не дремлют. Вера в то, что за человеком постоянно следят духи, могла помочь сократить количество членов группы, не желающих сотрудничать, и укрепить групповые нормы поведения, переводя сотрудничество на новый уровень». См.: Matt Rossano. Supernaturalizing Social Life: Religion and the Evolution of Human Cooperation // Human Nature 18/3 (2007). P. 272. См. также: Robert Boyd et al. The Evolution of Altruistic Punishment // Proceedings of the National Academy of Sciences 100/3 (2003). P. 3531–3535.
16. Блум указывает на альтернативный подход, в котором «религия – это… собрание моделей поведения и воззрений, которые возникли для блага общества – в частности, для решения проблемы его членов, получающих блага задаром и незаслуженно». В этом отношении религия призвана умерять социальный эффект эгоистичного поведения членов группы. Однако этот подход плохо объясняет то, почему и как религии возникли изначально. Некоторые считают, что религия может появиться в результате так называемого культурного группового отбора, в рамках которого религия и религиозные ритуалы возникают и преуспевают сначала в тех сообществах, которым они обеспечивают преимущество над другими. Таким образом, получается, что группы, обладающие религией, были более конкурентоспособны и имели более высокие шансы на выживание. В этом случае религия – не генетическое, а миметическое явление – очень противоречивый способ передачи знания, параллельный генетическому. Однако Тим Ингольд и Гисли Палссон выступают против применения дарвиновской эволюции к объяснению культурных процессов, поскольку это ведет к логическому порочному кругу. Эта проблема вступает в противоречие с более антропологическими теориями эволюции сотрудничества. Они часто основаны на идее альтруистического наказания – затратного действия, которое предпринимает человек, чтобы наказать другого человека, который не соблюдает норм морали или сотрудничества. Наказание в этом смысле повышает уровень сотрудничества в небольших группах, а потенциально и в больших, если затраты и частотность наказаний невысоки. См.: Paul Bloom. Religion, Morality, Evolution // Annual Review of Psychology 63 (2012). P. 186, 196; Tim Ingold, Gisli Palsson. Biosocial Becomings: Integrating Social and Biological Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
17. Некоторые исследователи продолжают настаивать на том, что религиозность дает какие-то адаптивные преимущества – например, возможность завести нужных друзей, как предполагает Джесси М. Беринг (The Folk Psychology of Souls // Behavioral and Brain Sciences 29 (2006). P. 453–462), или позволяет некоторым сообществам пережить и перерасти другие – эту гипотезу приводит Дэвид Слоун-Уилсон (Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society. Chicago: University of Chicago Press, 2002).
18. Scott Atran. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. N. Y.: Oxford University Press, 2002. P. 43; Paul Bloom. Religious Belief as an Evolutionary Accident // The Believing Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. J. Schloss and M. Murray (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 118–127.
3. Лицо на дереве
1. Michael J. Murray. Scientific Explanations of Religion and the Justification of Religious Belief // The Believing Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. J. Schloss, M. Murray (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 169.
Чтобы понять, что подразумевается под религией как нейропсихологическим феноменом, вспомните, что Колдун был создан около 18 000 лет назад. Однако мозг, необходимый для того, чтобы представить себе Колдуна, развился за сотни тысяч лет до этого. Этот мозг должен был быть способен к символическому восприятию. Он должен был обладать концептуальным мышлением, необходимым для того, чтобы представить себе абстрактную сущность из иного мира. Он должен был иметь способность к соединению отдельных друг от друга категорий «человек» и «животное» для создания новой несуществующей категории – сознательно и с направленными усилиями. Эти мыслительные задачи – порождение определенных исполнительных функций лобной и теменной долей головного мозга, которые развивались в течение миллионов лет.
Уинн, Кулидж и Брайт, говоря о другой гибридной фигуре – уже упомянутом Человекольве, – утверждают, что абстрактные представления, лежащие в основе появления таких гибридов, изначально развились благодаря внимательному и настойчивому связыванию идей «животного» и «человека» в сети оперативной памяти лобной и теменной долей мозга. «Эти идеи “животного” и “человека” были по большей части бессознательными биологическими категориями, возникшими в теменной мозговой сети, которая развилась еще раньше – вероятно, она была уже у первых Homo sapiens. В свою очередь, эти категории были основаны на еще более базовых онтологических категориях “одушевленных” и “управляемых” объектов, которые связаны с областью височной доли и появились еще раньше – вероятно, с приходом Homo erectus». См.: Thomas Wynn, Frederick Coolidge, Martha Bright. Hohlenstein-Stadel and the Evolution of Human Conceptual Thought // Cambridge Archaeological Journal 19/1 (2009). P. 73.
2. Подробнее о компетентном сознании в его отношении к анимизму см.: Maurice Bloch. In and Out of Each Other’s Bodies: Theory of Mind, Evolution, Truth, and the Nature of the Social. N. Y.: Routledge, 2016; Christine S. VanPool, Elizabeth Newsome. The Spirit in the Material: A Case Study of Animism in the American Southwest // American Antiquity 77/2 (2012). P. 243–262.
3. Жан Пиаже и другие специалисты по психологии развития давно отметили у детей тенденцию «представлять предметы живыми и одушевленными». Вслед за Пиаже Джастин Барретт описал то, как дети не только наделяют способностью к действию неодушевленные предметы, но и инстинктивно пытаются найти цель и замысел в природном мире. В исследованиях Гергея Чибры и Деборы Келемен были получены эмпирические доказательства, что дети невольно приписывают цель движущимся объектам, даже если эти объекты движутся самостоятельно и без видимой причины. Говоря о концепции смертности, Джесси Беринг приводит свидетельства, что некоторые дети имеют представление о физической смерти, хотя интуитивно придерживаются мнения, что разум переживает тело. Таким образом, предполагается, что телеологические идеи существуют у нас изначально и, возможно, не обусловлены культурным влиянием. Телеологические идеи позволяют представить невидимого творца явления – не заметить, а предположить его существование. Таким образом, дети – это «интуитивные теоретики». См.: Jean Piaget. Children’s Philosophies // A Handbook of Child Psychology. C. Murchison (ed.). Worcester, Mass.: Clark University Press, 1933. P. 537; Justin L. Barrett. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief. N. Y.: Atria Books, 2012; Gergely Csibra et al. Goal Attribution Without Agency Cues: The Perception of “Pure Reason” in Infancy // Cognition 72/3 (1999). P. 237–267; Deborah Kelemen. Are Children Intuitive Theists? Reasoning About Purpose and Design in Nature // Psychological Science 15/5 (2004). P. 295–301; Deborah Kelemen, Cara DiYanni. Intuitions About Origins: Purpose and Intelligent Design in Children’s Reasoning About Nature // Journal of Cognition and Development 6/1 (2005). P. 3–31; Jesse Bering. Intuitive Conceptions of Dead Agents’ Minds: The Natural Foundations of Afterlife Beliefs as Phenomenological Boundary // Journal of Cognition and Culture 2/4 (2002). P. 263–308. См. также замечательные исследования Альфреда Ирвинга Холлоуэлла о нечеловеческих силах, представлении о себе и о космосе в человеческой культуре на материале североамериканских индейцев оджибве: Alfred Irving Hallowell. Ojibwa Ontology, Behavior, and World View // Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin. S. Diamond (ed.). N. Y.: Columbia University Press, 1960. P. 20–52.
4. Наиболее доступные для понимания книги Паскаля Буайе с изложением его теорий передачи религиозных верований: Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. N. Y.: Basic Books, 2001 [рус. изд.: Буайе П. Объясняя религию. М.: Альпина нон-фикшн, 2016]; The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1994.
5. Термин «минимально противоречащая здравому смыслу идея» впервые предложил Джастин Барретт, который работал с Буайе над многими его экспериментами по демонстрации влияния аномальных идей. См.: Justin L. Barrett. Why Would Anyone Believe in God? Lanham, Md.: Altamira Press, 2004; Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief. N. Y.: Atria Books, 2012.
6. Старое, но полезное собрание древесных мифов – Cultus Arborum: A Descriptive Account of Phallic Tree Worship, with Illustrative Legends, Superstitions, Usages, &c., Exhibiting Its Origin and Development Amongst the Eastern & Western Nations of the World, from the Earliest to Modern Times; with a Bibliography of Works Upon and Referring to the Phallic Cultus, частным образом изданное в Лондоне в 1890 году и доступное на Archive. org. Многие из мифов о говорящих деревьях взяты из этого компендиума.
Мы мало что знаем о дубраве Море или мамврийском дубе. Нахум Сарна кратко говорит о них в своем комментарии к Бытию: «Древо Морейское, на иврите ‘elon moreh, было, несомненно, могучим деревом с сакральными ассоциациями. Слово “море” должно означать “учитель”, “оракул”. Это дерево (или роща таких деревьев) было таким заметным и известным, что служило ориентиром для определения других мест в том же регионе. Феномен сакрального дерева, особенно связанного с сакральной местностью, хорошо известен во многих культурах. На особое дерево, особенно очень древнее, могли смотреть как на “древо жизни” или на “космическое древо”: ствол символизировал центр земли, а крона – небо. В этом смысле дерево могло считаться мостиком между сферой человеческого и сферой божественного, ареной встречи человека и богов, идеальной средой для пророчеств и откровений. Деревья также могли символизировать защиту или плодовитость, которые верующий надеялся получить от божества. Культы плодородия, расцветшие в связи с этими деревьями, были весьма многочисленными, и такая форма язычества казалась многим израильтянам привлекательной». См.: Nahum M. Sarna. The JPS Torah Commentary: Genesis. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1989. P. 91. Отметим, что пророчица Девора сидит под «пальмой Девориной» во время пророчеств (Суд. 4:5).
7. Смотрите, что змей говорит Еве в Эдеме о Древе познания добра и зла: «…но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5).
8. Джастин Барретт показывает, как HADD и компетентное сознание укрепляют, но не порождают веру в бога, при помощи следующих примеров: «Допустим, женщина идет в одиночестве по глубокому ущелью, в это время с крутой стены срываются камни и чуть не попадают в нее. HADD заставляет инстинктивно искать виноватого. Человек, идущий по незнакомому лесу, слышит какие-то звуки из-за ближайшего куста. Его HADD кричит: “Здесь кто-то есть!” Если после обнаружения намеренного действия на роль действующего лица предлагается сверхчеловеческая сила и это выглядит достаточно убедительно, то вера может укрепиться. Точно так же, когда идея бога уже выглядит хорошим кандидатом, значительными оказываются и события, не отмеченные HADD. Например, мальчик из Калифорнии молится о снеге в мае, а на следующий день ураганом наносит полметра снега. Контекст подразумевает действующее лицо. Или же человеку в Нью-Йорке врачи говорят, что он умирает, но он ощущает покалывание по всему телу и чувствует, что все будет хорошо. Он выздоравливает и свое чудодейственное спасение приписывает деянию Бога. Поскольку мы так склонны находить действующих лиц за событиями, в случае которых другие интуитивные системы объяснения (например, наивная физика или наивная биология) бессильны, сверхчеловеческому фактору могут быть приписаны самые разные события, которые затем и укрепляют веру». См.: Justin Barrett. Cognitive Science, Religion and Theology. P. 86.
9. Джесси Беринг пытается дать осмысленный ответ на вопрос об интуитивном знании о душе, которое, судя по всему, является частью врожденной веры в жизнь после смерти. Беринг утверждает: «Поскольку эпистемологически невозможно понять, каково это – быть мертвым, люди чаще всего приписывают мертвым такие типы ментальных состояний, отсутствие которых они не могут себе представить. Эта модель предполагает, что верить в жизнь после смерти естественно, а передача социального опыта лишь обогащает или обедняет интуитивные представления о загробной жизни». См.: Jesse Bering. Intuitive Conceptions of Dead Agents’ Minds. P. 263.
4. Плуги вместо копий
1. Рассматривая взаимоотношения между религией и производством пищи, Гилберт Мюррей отмечает, что сельское хозяйство некогда было «всецело вопросом религии; сейчас оно – почти полностью вопрос науки. Если в древности поле истощалось, его владелец, скорее всего, заключал, что истощение произошло из-за “осквернения” кем-то извне. Он рассматривал все возможные варианты осквернения со стороны соседей или предков, а когда наконец останавливался на вероятной причине, то занимался не установлением химического состава почвы, а удовлетворением собственных эмоций вины и страха или воображаемых эмоций воображаемого существа, которого он оскорбил. Современный человек в такой ситуации, вероятно, вообще не подумает о религии, по крайней мере на ранних стадиях проблемы; он посчитает, что нужно глубже пахать или лучше удобрять почву. Затем, если несчастья будут сменять друг друга и он почувствует себя проклятым, даже среднестатистический современный человек, думаю, начнет инстинктивно вспоминать собственные грехи. Третья характеристика вытекает из первой. Неизведанное окружает нас со всех сторон и кажется бесконечным; поэтому, как только нечто из этого неизведанного мира становится фактором нашего обычного состояния жизни, эти факторы опять становятся бесконечными и затмевают все остальные. То, что религия запрещает, нельзя делать никогда, и не все стимулы, предлагаемые этой жизнью, могут привести к равновесию. Собственно, равновесия и нет. Человек, который находится в согласии со своей совестью, по сути своей нерелигиозен; религиозный человек знает, что ему не пойдет на пользу, если он обретет весь этот конечный мир и потеряет все в мире вечном и бесконечном». См.: Gilbert Murray. Five Stages of Greek Religion. N. Y.: Anchor Books, 1955. P. 5–6.
2. Mircea Eliade. From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries // History of Religious Ideas, vol. 1. Willard Trask (transl.). Chicago: University of Chicago Press, 1978. P. 29–55. [Рус. изд.: Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1. От каменного века до элевсинских мистерий. М.: Академический проект, 2009.]
3. В первой половине ХХ века господствовало мнение, что для доисторических людей сельское хозяйство было более желательным вариантом, чем собирательство. Однако в 1960-е годы эта точка зрения стала терять популярность. Джейкоб Вейсдорф отмечает: «Появились свидетельства, что поначалу сельское хозяйство доставляло людям больше проблем, чем выгод. Исследования современных первобытных обществ показали, что сельское хозяйство – изнурительный, трудоемкий и отнимающий много времени процесс. Впоследствии эта точка зрения получила немало сторонников… Стала вырисовываться следующая картина: общины собирателей могли сохранять равновесие, если их не беспокоили, а новые культурные формы могли появиться лишь в неравновесных условиях. В свете того факта, что климатические условия вроде бы не изменялись так значительно, а собиратели явно неохотно, но перешли на земледелие, и появилась в очередной раз идея, что сельское хозяйство возникло по необходимости». Вторя Вейсдорфу, Майкл Геневер и Хиллард Каплан убедительно показали, что ожидаемая продолжительность жизни охотников и собирателей была намного выше, чем казалось раньше. См.: Jacob L. Weisdorf. From Foraging to Farming: Explaining the Neolithic Revolution // Journal of Economic Surveys 19/4 (2005). P. 565–566; Michael Guenevere, Hillard Kaplan. Longevity Among Hunter-Gatherers: A Cross-Cultural Examination // Population and Development Review 33/2 (2007). P. 321–365.
4. Переход от собирательства к сельскому хозяйству, по словам Харари, оказался «просчетом», поскольку неолитический человек не смог разобраться во всех последствиях своего решения выращивать еду, а не собирать ее. «Не предвидели люди и того, что, увеличивая свою зависимость от одного-единственного источника пищи, подвергают себя огромному риску в случае стихийных бедствий. К тому же переполненные амбары привлекали воров и врагов, и пришлось строить стены, вооружаться и сторожить свое добро». См.: Yuval Noah Harari. Sapiens: A Brief History of Humankind. N. Y.: HarperCollins, 2015. P. 87. [Цит. по рус. изд.: Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад, 2016.]
5. Согласно Чайлду, «неолитическая революция» стала результатом климатических изменений, которые привели к возникновению ряда географических оазисов, в которых земледелие и производство пищи были сравнительно легки. Последующие исследователи, например Роберт Брэйдвуд, не нашли никаких доказательств наличия таких климатических кризисов и заявляли, что появление земледелия стало результатом социальных и культурных явлений – например, технологических новшеств, которые позволили в течение долгого времени оставаться на территориях, примыкающих к Плодородному полумесяцу. Напротив, Льюис Бинфорд утверждал, что люди приспосабливались к изменениям среды благодаря развитию материальной культуры. Более того, подъем уровня моря вытеснил их на маргинальные территории, куда они смогли взять злаки и животных из других регионов. Жак Ковен высказывал совершенно иное мнение – о том, что зачатки сельскохозяйственной революции можно найти еще в начале голоцена (около 9000 лет назад), то есть во время крайнего изобилия, а это свидетельствует о том, что климатические и природные явления непричастны к переходу от охоты и собирательства к сельскохозяйственной деятельности. Еще важнее утверждение Ковена, что эволюция символической деятельности, подобно той, следы которой мы видим в Гёбекли-Тепе, предшествовала появлению сельскохозяйственной экономики по меньшей мере на тысячелетие. Тем самым можно утверждать, что когнитивное развитие Homo sapiens в отношении производства символов происходило задолго до перехода к оседлому образу жизни. См.: Vere Gordon Childe. Man Makes Himself. 3d ed. London: Watts and Company, 1936; Robert J. Braidwood. The Agricultural Revolution // Scientific American 203 (1960). P. 130–141; Robert J. Braidwood. Prehistoric Men. 6th ed. Chicago: Chicago Natural History Museum, 1963; Lewis R. Binford. Post-Pleistocene Adaptations // New Perspectives in Archaeology. L. R. Binford, S. R. Binford (eds.). Chicago: Aldine, 1968. P. 313–342; Jacques Cauvin. The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
6. Между учеными, рассматривающими зарождение сельского хозяйства и факторы, которые могли способствовать его развитию, согласие есть лишь в том, что согласия быть не может. «Широко распространено мнение, что ни одна из предложенных на данный момент моделей не является полностью удовлетворительной, – отмечает Вейсдорф, – и что для теоретиков, пытающихся рационализировать переход от собирательства к земледелию, новые свидетельства поступают постоянно. Например, существуют доказательства, что оседлый образ жизни появился до перехода к сельскому хозяйству и независимо от него, а инструменты для земледелия существовали уже у собирателей, которые со временем стали обрабатывать землю. Также есть свидетельства, что земледелие возникло в сравнительно сложных и богатых сообществах с разнообразными источниками питания и что эти сообщества были окружены другими общинами, жившими в менее богатых ресурсами природных зонах. Кроме того, судя по всему, эгалитарная природа собирательских сообществ постепенно сменилась иерархическими социальными структурами земледельцев; при этом племена охотников и собирателей жили коммунами, а земледельцы – домохозяйствами». См.: Jacob L. Weisdorf. From Foraging to Farming. P. 581–582.
7. Аллан Симмонс заметил: «Многие, хотя и не все исследователи согласны с выводом, что первое одомашнивание основных животных произошло в Северном Леванте и Юго-Восточной Турции, а не в Южном Леванте». В поддержку этого наблюдения и аргумента, что «одомашнивание животных следует считать результатом перехода к оседлому образу жизни, а не его катализатором», Симмонс приводит археологические данные из Гёбекли-Тепе и других неолитических стоянок Юго-Восточной Турции. Соглашаясь с Симмонсом, Йорис Петерс утверждает, что одомашнивание животных произошло гораздо позже того, как люди оставили жизнь охотников и собирателей и перешли к более оседлому образу жизни: «Морфометрические и косвенные свидетельства показывают, что одомашнивание овец и, возможно, коз происходило в южных предгорьях Тавра во время раннего докерамического неолита В [около 7600–6000 годов до н. э.]… Поэтому внедрение в экономику этих ранних поселений овец и коз менее “революционно”, чем можно подумать по самому термину “неолитическая революция”… Согласно археозоологическим и палеоботаническим свидетельствам, масштабные климатические изменения и/или ухудшение ландшафта сейчас кажутся маловероятными, что подкрепляет идею, что переход к одомашниванию животных был в основном вызван социокультурными факторами». См.: Allan Simmons. The Neolithic Revolution in the Near East: Transforming the Human Landscape. Tucson: University of Arizona Press, 2007. P. 141–142; Joris Peters et al. Early Animal Husbandry in the Northern Levant // Paléorient 25/2 (1999). P. 27–48.
8. Jacques Cauvin. Birth of the Gods. См. также: LeRon Shults. Spiritual Entanglement: Transforming Religious Symbols at Çatalhöyük // Religion in the Emergence of Civilization: Çatalhöyük as a Case Study. Ian Hodder (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 73–98; Ian Hodder. Symbolism and the Origins of Agriculture in the Near East // Cambridge Archaeological Journal 11/1 (2001). P. 108.
Иэн Ходдер верно отмечает, что «религия или новые формы представления о действующих силах не столько стали основными причинами одомашнивания растений и животных и появления постоянных деревень – религия и связанная с ней символика были прочно укоренены в новом образе жизни. Религия играла основную роль: позволяла представить себе новые формы действующих сил, учреждала новый символический мир насилия, посредством которого могли быть установлены новые долгосрочные общественные и экономические отношения; однако нет убедительных свидетельств, что она была главной и независимой причиной всех этих изменений». См.: Ian Hodder. The Role of Religion in the Neolithic of the Middle East and Anatolia with Particular Reference to Çatalhöyük // Paléorient 37/1 (2011). P. 111–122. См. также: Ian Hodder. Symbolism and the Origins of Agriculture in the Near East. P. 108.
5. Величественные люди
1. Версий шумерской легенды о потопе множество, но разделить их можно на три категории: шумерский рассказ о потопе, написанный на шумерском; сказание об Атрахасисе, написанное на аккадском и датируемое примерно 1700 годом до н. э.; и табличка XI «Эпоса о Гильгамеше», тоже написанная на аккадском и относящаяся к XII веку до н. э. Сюда же можно добавить недавно обнаруженную «табличку ковчега», которую ее переводчик Ирвинг Финкель датирует примерно 1750 годом до н. э. Моя версия шумерского рассказа о потопе составлена из двух переводов сказания об Атрахасисе – первого (и лучшего), выполненного Стефани Далли в «Мифах Месопотамии» (Myths from Mesopotamia), и второго, сделанного Бенджамином Фостером (Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature. Bethesda: University of Maryland Press, 2005); также я учел материал «таблички ковчега» в переводе Ирвинга Финкеля (The Ark Before Noah: Decoding the Story of the Flood. N. Y.: Doubleday, 2014) и вдобавок вавилонскую версию из «Эпоса о Гильгамеше» также в переводе Далли (с несколькими моими украшательствами).
2. Первые образцы шумерской письменности недалеко ушли от пиктограмм, когда каждый символ соответствует определенному физическому объекту. Например, изображение кувшина обозначает слово «пиво». Со временем эти изображения приобрели фонетические значения, дающие определенные звуки – например, bar, la или am. Соединяя и перекрещивая клинописные строчки, шумеры смогли создать своего рода алфавит примерно из шестисот символов.
Интересно, что первые письменные тексты были не мифами о сотворении мира или великими эпосами о деяниях богов и героев. Это были древние эквиваленты налоговой документации, списки доходов и расходов; подсчет овец, коз и крупного рогатого скота; методичная фиксация того, кто кому сколько должен. Таким образом, письменность возникла исключительно для облегчения бухгалтерии. Только намного позже в этих числовых текстах стали сочетаться слова и цифры, порождая сложные предложения; и еще позже эти предложения были наконец объединены в пространные, незабываемые мифы, которые на тысячелетия вперед определили религии этого региона.
На ранней стадии развития Междуречья религия, как следует отметить, была не столько доктриной, сколько своеобразным управлением имуществом богов. Дэниел Поттс, профессор археологии Ближнего Востока в Нью-Йоркском университете, провел великолепный анализ почти 4000 так называемых архаических текстов – первых образцов месопотамской протоклинописи, найденных в мусорохранилище Эанны в храмовом комплексе Инаны, богини Урука. Его заключение говорит о том, что эти тексты, судя по всему, являются архивом налоговых документов, что подкрепляет теорию об изобретении письменности для облегчения бухгалтерии и учета, и с этим трудно спорить. Я имел честь присутствовать при презентации им его находок на Энгельсбергском семинаре в Швеции, материалы которого были опубликованы издательством Axel and Margaret Ax: son Johnson Foundation. См. статью профессора Поттса: Accounting for Religion: Uruk and the Origins of the Sacred Economy // Religion: Perspectives from the Engelsberg Seminar 2014. Stockholm: Axel and Margaret Ax: son Johnson Foundation, 2014. P. 17–23.
3. Майкл Уайз пишет: «Установление арамейского языка в качестве общего для Палестины отражало политические реалии. Арамейский уже за много веков до иудейского пленения использовался на Ближнем Востоке как язык политического управления начиная с Новоассирийской империи; нововавилонская и персидская администрации продолжали использовать его как универсальный язык. Ср. слова Фицмейера: «Арамейские документы Элефантины – еврейской военной колонии V века до н. э. – известны с начала XX века и дают хорошее представление об официальном арамейском языке, который использовался в то время от Южного Египта до самой долины Инда (по всему Плодородному полумесяцу). На нем говорили в течение пяти веков, пока международным языком после завоеваний Александра не стал древнегреческий». Это может означать, что арамейский мог сменить аккадский в качестве разговорного языка элит и политического класса даже раньше I века до н. э. См.: Michael Wise. Language and Literacy in Roman Judaea: A Study of the Bar Kochba Documents. New Haven: Yale University Press, 2015. P. 9, 279. См. также: Joseph Fitzmyer. The Aramaic Language and the Study of the New Testament. Journal of Biblical Literature 99/1 (1980). P. 5–21.
4. Впрочем, этимология ilu, el (или Элохим) и ilah (откуда появилось слово al-ilah, или Allah) неоднозначна. Лучше всего она изложена в книге: Marvin H. Pope. El in the Ugaritic Texts. Leiden: Brill, 1955.
5. Никто в точности не знает, сколько богов было в месопотамском пантеоне. Жан Боттеро указывает, что в наиболее полном подсчете вавилонских ученых фигурирует почти 2000 имен. Однако Антониус Дамиэль в своей книге «Вавилонский пантеон» (Pantheon Babylonicum) насчитал 3300 имен. См.: Jean Bottéro. Religion in Ancient Mesopotamia. Teresa Lavender Fagen (transl.). Chicago: University of Chicago Press, 2004; Antonius Damiel. Pantheon Babylonicum: Nomina Deorum e Textibus Cuneiformibus Excerpta et Ordine Alphabetico Distributa. Rome: Sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1914.
Забавно, что, хотя месопотамские рассказы о богах и богинях в значительной мере проливают свет на религии Месопотамии, на самом деле шумерского аналога слова «религия» не существовало. Дело в том, что религия не составляла отдельную категорию месопотамской жизни. Религия и была жизнью. Существование бога было неотделимо от его функции. Иными словами, ни Ан, ни Шамаш не существовали вне естественного функционирования неба или солнца. Иными словами, боги – это то, что боги делают. Если бог не мог больше выполнять своих функций или цель существования бога переставала иметь значение для общества, то этот бог просто прекращал существовать.
6. С исследованием Кеньон по поводу черепов в Иерихоне можно ознакомиться в книге: Digging up Jericho. N. Y.: Praeger, 1957. Ходдер указывает, что отделение голов от тел и последующее гипсование и представление черепов в неолите, особенно в Иерихоне и Чаталхёюке (Чатал-Хююке), не обязательно свидетельствует о религиозной активности: «Отделение голов от тел ясно показано в искусстве, и в обоих случаях раскопок есть причины считать, что люди, с которыми поступали таким образом, были особенными. Они могли считаться важными старейшинами или духовными вождями. Сохранение черепов предполагает акцент на предках. Животные тоже либо символизируют предков, либо воспринимаются как посредники в общении с ними. Нет необходимости вводить сюда “богов”. Акцент определенно делается на прошлом – на предках, мифах и, возможно, ритуальных старейшинах или шаманах. Но ничто не указывает на то, что это было чем-то большим, нежели обычный домашний культ и забота о сохранении рода». См.: Ian Hodder. Symbolism and the Origins of Agriculture in the Near East // Cambridge Archaeological Journal 11/1 (2001). P. 111. При всем уважении я не согласен.
7. Стивен Бертман считает, что «термин “зиккурат” происходит от аккадского слова zigguratu – “вершина”, “высокое место”». См.: Stephen Bertman. Handbook to Life in Ancient Mesopotamia. N. Y.: Facts on File, 2003. P. 194, 197.
Не вполне понятно, однако, был ли зиккурат связан с храмом или сам являлся храмом. Геродот, чьи книги – один из самых ранних наших источников по вопросу целей и функций зиккурата, описывал его следующим образом: «В середине каждой части города воздвигнуто здание. В одной части – царский дворец, окруженный огромной и крепкой стеной; в другой – святилище Зевса Бела с медными вратами, сохранившимися еще до наших дней. Храмовой священный участок – четырехугольный, каждая сторона его длиной в 2 стадии. В середине этого храмового священного участка воздвигнута громадная башня, длиной и шириной в 1 стадию. На этой башне стоит вторая, а на ней – еще башня, в общем восемь башен – одна на другой. Наружная лестница ведет наверх вокруг всех этих башен. Примерно на середине лестницы находятся скамьи, должно быть для отдыха. На последней башне воздвигнут большой храм. В этом храме стоит большое, роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол. Никакого изображения божества там, однако, нет. Да и ни один человек не проводит здесь ночь, за исключением одной женщины, которую, по словам халдеев, жрецов этого бога, бог выбирает себе из всех местных женщин. Эти жрецы утверждают, что сам бог иногда посещает храм и проводит ночь на этом ложе. То же самое, по рассказам египтян, будто бы происходит и в египетских Фивах. И там в храме Зевса Фиванского также спит какая-то женщина. Обе эти женщины – и египтянка, и вавилонянка – как говорят, не вступают в связи со смертными мужчинами». См.: Herodotus I,181–182. [Цит. по рус. изд.: Геродот. История в девяти книгах. Л.: Наука, 1972. Перевод Г. А. Стратановского.] К сожалению, месопотамские источники не подтверждают существование упомянутого Геродотом сексуального ритуала.
Джон Уолтон пишет: «Зиккурат не играл никакой роли ни в одном из знакомых нам ритуалов Месопотамии. Если руководствоваться только известной нам литературой, нужно заключить, что обычным людям зиккураты были вообще не нужны. Это было сакральное пространство, и вход непосвященным туда строго воспрещался. Хотя строение наверху было предназначено для приема бога, это был не храм, куда ходят молиться. Там не находилось ни изображения божества, ни какого-то еще его представления. К зиккурату обычно был пристроен храм, где и стояло изображение бога и происходило его почитание… зиккурат был своего рода опорой лестницы [с земли на небо]. Эта лестница была визуальным отображением той, которой, как считается, пользуются боги, переходя из одного мира в другой. Она создавалась только для удобства богов, ее состояние поддерживалось для того, чтобы предоставить богу удобства на его пути. В верхней части зиккурата находились ворота богов – вход в их небесные чертоги. Снизу был храм, куда, как надеялись, будет спускаться бог, получая дары и хвалу от своих людей». См.: John H. Walton. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament: Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible. Grand Rapids: Baker, 2006. P. 120–22.
Интересно заметить, что технически любой гражданин был работником этого храма, поскольку храму принадлежала вся земля. Фермы, виноградники, травянистые луга-пастбища; реки, полные рыбы, – все это было личной собственностью бога. Земледелец обрабатывал свои поля по воле бога. Он приносил урожай в дар богу; его тщательно взвешивали и регистрировали храмовые жрецы, и часть урожая крестьянин получал назад в «оплату» своего труда. То же делали и рыбаки, ловившие рыбу в реках бога; пастухи овец и коров, пользовавшиеся пастбищами бога; виноградари, которые собирали и выжимали виноград бога, и т. д. На этом раннем этапе месопотамской истории религия была главным образом организованным трудом на службе определенного бога и под строгим контролем бюрократии, состоявшей из профессиональных жрецов. Взаимодействие светских лиц с храмом носило исключительно деловой характер. См.: Daniel T. Potts. Religion: Perspectives from the Engelsberg Seminar 2014.
8. Эти идолы все вместе известны как «фигурки Венеры» – крайне неудачный гипероним, придуманный обнаружившими их европейцами (к римской богине Венере фигурки не имеют никакого отношения). Сюда относятся уже упомянутая Венера из Берехат-Рама – не только самая древняя в мире статуя (ей около 300 000 лет), но и, возможно, вообще первый предмет культа в истории; а также Двойная Венера из Гримальди в Италии – самая экстраординарная из этих статуй, ритуальный характер которой наиболее очевиден. Двойная Венера, известная как «Красавица и Чудовище», – это идеально отполированная бледно-зеленая статуэтка, которая состоит из двух туловищ, повернутых спинами друг к другу и соединенных в областях головы, плеч и бедер. Одно из туловищ принадлежит гибкой беременной женщине, выгнувшей спину. Другое тело не человеческое. Никто не знает, чье оно. Это извивающееся змеиное туловище, а лицо принадлежит какому-то мифическому животному – возможно, с рогами. В голове идола проделана дырка, так что статуэтку могли носить как амулет.
Трудно ставить под сомнение ритуальные функции, которые эти статуэтки должны были иметь в духовной жизни наших предков. На Венере из Дольни-Вестонице, возраст которой составляет около 29 000 лет, есть четкие отверстия, проделанные в верхней части головы, – туда могли помещать благовония, цветы или травы. Лицо Венеры из Виллендорфа, вырезанной из известняка примерно 30 000 лет назад, закрыто не то тканой вуалью, не то заплетенными в косу волосами. У Венеры из Холе-Фельс (возраст – около 45 000–35 000 лет) вместо головы не то крючок, не то петля. Собственно, у многих статуэток Венер головы либо закрыты, либо вообще не вырезаны лица, как если бы они символизировали не какую-то конкретную женщину, а женственность вообще. Каталог так называемых палеолитических Венер в алфавитном порядке можно найти на сайте Don’s Maps: ; о теориях по поводу значения фигур см.: R. Dale Guthrie. The Nature of Paleolithic Art. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
9. «Культовая статуя была не просто религиозной картинкой, а изображением, воплощавшим бога, и поэтому отражала как земную реальность, так и божественное присутствие». См.: Angelika Berlejung. Washing the Mouth: The Consecration of Divine Images in Mesopotamia // The Image and the Book: Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of the Book Religion in Israel and the Ancient Near East. K. van der Toorn (ed.). Leuven: Peeters, 1997. P. 46.
«Утверждается, что статуэтки обладают двумя природами – божественной и материальной, одна – выше человеческой, другая – ниже человеческой. Люди, создатели этих фигур, напоминают себе о своем божественном происхождении, а благочестиво почитая статуэтки и следя за ними, они добиваются того, чтобы божества чувствовали себя как дома и на земле, – пишет Ян Ассман. Он продолжает: – Статуэтка – это не изображение тела божества, а само его тело. Она не отображает его форму, а придает ему ее. Божество обретает форму в статуе так же, как в животном или природном явлении. Статуи не создавались – они “рождались”… Египтяне никогда не забывали о различиях между изображением и богом, но эти различия шли в другом направлении и находились на другом уровне, чем это привычно для нас». См.: Jan Assman. The Search for God in Ancient Egypt. David Lorton (transl.). Ithaca and London: Cornell University Press, 2001. P. 41, 46.
10. Многие ученые считают, что на изобретение египетских иероглифов большое влияние оказала шумерская клинопись – или, по крайней мере, сама идея преобразования мыслей в слова пришла в Египет из Месопотамии (хотя и это остается предметом ожесточенных споров). См.: Geoffrey Sampson. Writing Systems: A Linguistic Introduction. Palo Alto: Stanford University Press, 1990.
11. Боги Египта могли принимать различные формы или вообще их менять. Иногда двое богов сливались воедино – получался единый бог, обладавший качествами обоих предыдущих. Так случилось с богом Амоном-Ра (см. главу 6).
По поводу дуализма богов (космического и активного/абстрактного) Ассман замечает: «В рамках нашего исследования космического измерения божественного как эвристической модели сущность Тота, бога письма и вычислений, бюрократического педантизма, точности, надзора и знания, проявляется как “лунность”, как религиозная интерпретация луны – часть полной религиозной интерпретации космоса в системе, которую мы называем египетским политеизмом… Эти примеры мы можем распространить на все египетские представления о божественном: его космическое измерение не было ограничено простой материальностью таких космических элементов, как земля, воздух, вода и т. д., или небесными телами – Солнцем и Луной; оно скорее относилось к комплексу определенных действий, черт, отношений и качеств, которые истолковывались как космические феномены “в действии” и в которых человечество также участвовало». См.: Jan Assman. Search for God in Ancient Egypt. P. 81.
12. Подробнее о лингвистических свидетельствах индоевропейских миграций см.: James Patrick Mallory. In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth. N. Y.: Thames and Hudson, 1989. Подробнее о религии индоевропейцев см.: Hans F. K. Gunther. The Religious Attitudes of the Indo-Europeans. Vivian Bird (transl.). London: Clare Press, 1967; Gerald James Larson. Myth in Indo-European Antiquity. Berkeley: University of California Press, 1974; J. P. Mallory, D. Q. Adams. The Encyclopedia of Indo-European Culture. London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997.
13. Даже сома – обычное растение, которое индоевропейцы ценили за способность изменять сознание и никогда не очеловечивали в том же смысле, что других богов, – иногда принимает форму Чандры, индуистского бога луны, и становится божеством, которое держит в одной из своих четырех рук чашу с опьяняющим напитком.
14. Микенская письменность известна под довольно прозаичным названием линейного письма B. Эдит Холл указывает, что поселения микенцев были раскопаны в Фивах, Тиринфе, Терапне, Пилосе, на Крите и, разумеется, собственно в Микенах. Холл прекрасно рассказывает о влиянии микенской культуры на древних греков в книге: Introducing the Ancient Greeks: From Bronze Age Seafarers to Navigators of the Western Mind. N. Y.: W. W. Norton, 2015. P. 29–49.
15. Barbara Graziosi. The Gods of Olympus: A History. N. Y.: Picador, 2014. P. 12.
16. Барбара Грациози отмечает, что, хотя знаменитая статуя девы Афины работы Фидия была установлена в Парфеноне, сами афиняне продолжали почитать Афину в образе оливкового дерева, а во время празднеств в честь богини именно оливе, а не статуе Фидия приносились церемониальные дары. См.: Gods of Olympus, P. 47. Описание фидиевой Athena Parthenos см.: Pausanias. Description of Greece. W. H. S. Jones (transl.). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1935. V,1–15. [Рус. изд.: Павсаний. Описание Эллады. В 2 т. М., 1938.]
17. Об Афине как о солярном божестве см.: Miriam Robbins Dexter. Proto-Indo-European Sun Maidens and Gods of the Moon // Mankind Quarterly 55 (1984). P. 137–144. Об изображениях Геры см.: Walter Burkert. Greek Religion. John Raffan (transl.). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. P. 31. [Рус. издание: Буркерт В. Греческая религия: Архаика и классика. СПб.: Алетейя, 2004.]
18. Джеймс Лешер в своих выдающихся комментариях к переведенному им же труду Ксенофана отмечает: «Во фрагменте 15 говорится… что различные виды животных, если бы могли, изображали бы своих богов похожими на себя самих; каждое животное приписывало бы богам собственное тело… По крайней мере на первый взгляд это рассуждения по поводу разнообразия верований и о склонности верующих приписывать богам качества, которыми обладают сами верующие. [Ксенофан] не говорит нам, могут ли эти соображения подрывать эти верования, выставляя их ложными или смешными, хотя часто этот эпизод именно так и читается». James H. Lesher. Xenophanes of Colophon: Fragments; A Text and Translation with Commentary. Toronto: University of Toronto Press, 1992). P. 89, 91.
Интересно, что Ксенофан жил в VI–V веках до н. э., то есть именно тогда, когда греки стали делать все более правдоподобные каменные и бронзовые изображения богов.
19. Ксенофан цит. по: Catherine Osborne. Presocratic Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004. Фалес цит. по: Cicero. The Nature of the Gods. Oxford: Oxford University Press, 2008. Подробнее о греческом монотеизме см.: Laurel Schneider. Beyond Monotheism: A Theology of Multiplicity. London: Routledge, 2007. Мартин Уэст называет этого «единого бога» древних греков «бездумным богом», хотя трудно считать, чтобы такие мыслители, как Платон, согласились бы с этим определением. Ср. краткое содержание диалога Платона «Тимей» из Oxford Companion to Classical Literature: «В начале существовал Бог, и он, будучи добр, создал Вселенную настолько совершенной, насколько возможно, из двух субстанций – бестелесных идей и материальных элементов. Из этих двух, смешанных в разных пропорциях, Бог сформировал мир, его душу, более мелких богов, звезды. Младшие боги, в свою очередь, создали человека и животных, следуя определенным геометрическим формулам. Затем прослеживается природа чувств и болезней, описываются три вида души, живущей в теле человека, и кратко рассказывается о судьбе человека после смерти». См.: Paul Harvey. The Oxford Companion to Classical Literature. Oxford: Clarendon Press, 1951. P. 431. Мартин Уэст цит. по: Towards Monotheism // Pagan Monotheism in Late Antiquity. Polymnia Athanassiadi, Michael Frede (eds.). Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 21–40.
6. Верховный бог
1. Рита Фрид отмечает: «[Эхнатон изображался] так, что это неизбежно повергало в шок древнего зрителя, привыкшего к традиционному художественному образу человеческой фигуры». Чтобы объяснить такой необычный вид египетских статуй и рисунков Эхнатона, ему приписывали многочисленные врожденные заболевания, в том числе синдром Марфана, но исследования ДНК в той или иной степени эти гипотезы опровергли. На их основании появилась версия, что необычные физические особенности Эхнатона и его семьи, в том числе жены Нефертити и сына Тутанхамона, были умышленно подчеркнуты художниками амарнского периода. Многие египтологи, как отмечает Джеймс Хоффмайер, пришли к выводу, что «уникальный амарнский стиль следует трактовать символическим образом, а не как натуралистичное (или преувеличенное) отражение патологий царя… есть течение мысли, которое связывает женские свойства мужской фигуры царя с отражением универсальной природы Атона как единственного (не имеющего партнера) творца, отца и мать одновременно». Соглашаясь с Хоффмайером, Гэй Робинс предполагает, что «поскольку одной из функций египетского искусства было визуальное выражение религиозных идей, то вполне вероятно, что изменения в художественном изображении фигуры царя были связаны с новаторскими религиозными идеями Аменхотепа IV/Эхнатона». См.: Rita Freed. Art in the Service of Religion and the State // Pharaohs of the Sun: Akhenaten, Nefertiti, Tutankhamun. Boston: Museum of Fine Arts in association with Bulfinch Press/Little, Brown, 1994. P. 112; James K. Hoffmeier. Akhenaten and the Origins of Monotheism. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 133; Ahad Eshraghian, Bart Loeys. Loeys-Dietz Syndrome: A Possible Solution for Akhenaten’s and His Family’s Mystery Syndrome // South African Medical Journal 102/8 (2012). P. 661–664; Gay Robins. The Representation of Sexual Characteristics in Amarna Art // Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 23 (1993). P. 36.
2. Эннеада состоит из бога-творца Атона, его детей Шу и Тефнут, их детей Нут и Геба и их детей Исиды, Осириса, Сета и Нефтиды. См.: Rudolf Anthes. Egyptian Theology in the Third Millennium B. C. // Journal of Near Eastern Studies 18/3 (1959). P. 169–212.
В разных районах Египта солнце почиталось под разными именами: Ра, Хепри, Гор и Атон, но к XIV веку до н. э. эти имена были объединены в общенациональном почитании солнца, и каждый из этих отдельных солнечных богов стал отражать различные аспекты бытия солнца. Первые примеры такой деятельности можно найти в «Текстах пирамид», которые, вероятно, были составлены при V или VI династиях (2350–2175 годы до н. э.): «Я сияю на востоке, подобно Ра; я следую на запад, подобно Хепри; я живу так, как живет Гор, властелин неба, по завету Гора, властелина неба» (888). В другом отрывке «Текстов пирамид» говорится: «Они сделают тебя как Ра во имя Хепри; ты будешь рядом с ними, как Ра во имя Ра; ты отвернешься от их лиц, как Ра во имя Атона» (1693–1695). См.: Raymond O. Faulkner. The Ancient Pyramid Texts. Oxford: Clarendon Press, 1969. P. 156, 250–251.
3. Примерно за двести лет до коронации Эхнатона Яхмос I (около 1539–1514 годов до н. э.), основатель XVIII династии, утвердил отождествление Амона и Ра – богов-покровителей северной столицы, Фив, и южной столицы, Гелиополя, соответственно. Слияние этих божеств зафиксировано на стеле Яхмоса I, вывезенной в 1901 году Жоржем Легреном из Карнака: «Гор: Великий проявлениями… Золотой Гор: связавший обе земли, царь Верхнего и Нижнего Египта Неб-пехти-Ра, сын Ра, Яхмос (да живет он вовеки!), сын Амона-Ра, от плоти его, его любимец; его наследник, которому дан был престол; истинно добрый бог; могущественный, в котором нет лжи; правитель, равный Ра…» На этой стеле, по словам Хоффмайера, мы находим конкретные свидетельства того, что имена Амона и Ра Яхмос I использовал «как синонимы, параллельно, уравнивая тем самым обоих божеств». Слияние фиванского династического дома с солярным культом Гелиополиса было умным политическим маневром со стороны Яхмоса I, который прежде всего стремился к объединению Верхнего и Нижнего Египта под руководством одного правителя после нескольких веков разделения и раздоров. Хоффмайер отмечает: «Идеология общего правителя-фараона требовала универсального божества, и Амон-Ра, объединявший в себе небо и солнце, прекрасно подходил на эту роль». См.: Mark-Jan Nederhof. Karnak Stela of Ahmose. URL: -andrews.ac.uk/egyptian/texts/corpus/pdf/urkIV‐005.pdf; Georges Legrain. Second Rapport sur les travaux exécutés à Karnak du 31 octobre 1901 au 15 mai 1902 // Annales du Service des Antiquités de L’Égypte 4 (1903). P. 27–29; James Breasted. Ancient Records of Egypt, vol. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1906. P. 13–14; James K. Hoffmeier. Akhenaten and the Origins of Monotheism. P. 50, 59.
4. Не вполне ясно, посещал ли Эхнатон в молодости Гелиополь и что он вообще знал о теологии Нижнего царства. Большинство египтологов согласны в том, что будущий царь Эхнатон, видимо, вырос в Мемфисе, который был освобожден от гиксосов Яхмосом I примерно за двести лет до этого. Но даже если Эхнатон никогда не бывал в Гелиополе, он все равно мог вступить в контакт с солярным культом и его учениями. Дональд Редфорд отмечает: «Солнечный бог и его теология были настолько общим местом для египетских культов, что было бы трудно полностью изолировать молодого принца от его влияния, где бы он ни воспитывался». См.: Donald Redford. Akhenaten the Heretic King. Princeton: Princeton University Press, 1984. P. 59.
5. Maj Sandman. Texts from the Time of Akhenaten. Bruxelles: Édition de la Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1938. P. 7.
Солнечный диск Атона был важным символом уже в правление отца Эхнатона, Аменхотепа III, что свидетельствует о том, что уклон в сторону «солярной религии» начался уже в начале XIV века до н. э. После смерти Аменхотепа III он был обожествлен и стал отождествляться с солнечным божеством. Согласно Рэймонду Джонсону, потеря отца и обожествление того в качестве Атона оказали глубокое влияние на религиозные чувства Эхнатона. Джонсон указывает, что действия Эхнатона после восшествия на престол не были ни монотеистическими, ни даже радикальными. Эхнатон просто ввел изощренную форму культа предков, так что обожествленный отец стал центральной фигурой в религиозных чаяниях и практиках сына. Однако большинство египтологов не поддерживают идеи Джонсона. См.: Raymond Johnson. Monuments and Monumental Art Under Amenhotep III: Evolution and Meaning // Amenhotep III: Perspectives on His Reign. David O’Connor, Eric H. Cline (eds.). Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001. P. 63–94; Donald B. Redford. The Sun-Disc in Akhenaten’s Program: Its Worship and Antecedents, I // Journal of the American Research Center in Egypt 13 (1976). P. 47–61; Erin Sobat. The Pharaoh’s Sun-Disc: The Religious Reforms of Akhenaten and the Cult of the Aten // Hirundo: The McGill Journal of Classical Studies 12 (2013–2014). P. 70–75.
6. Не вполне понятно, когда именно проповедовал Заратустра. Датировки колеблются от очевидно мифических (10 000 лет назад) до кануна возникновения Персидской империи (VII век до н. э.). На мой взгляд, наиболее логичная датировка зарождения зороастризма – 1100–1000 годы до н. э., что я объясняю в своей статье: Thus Sprang Zarathustra: A Brief Historiography on the Date of the Prophet of Zoroastrianism // Jusur 14 (1998–1999). P. 21–34.
7. Боги древнего Ирана обладали своими функциями и задачами, но их влияние было глобальным, а не локальным. Например, Митра был обожествленным «согласием», но стал ассоциироваться с солнцем, ведь солнце видит все. Тем не менее, как отмечает Бойс, «как и большинство других индоиранских божеств, Митра почитался в человеческом обличье, пусть и был более великим, чем любой смертный царь». Боги сами по себе абстрактны «в том отношении, что нет природного объекта, на который можно смотреть и видеть в нем их обычное физическое воплощение; хотя ассоциация Митры и Варуны Апам-Напата с огнем и водой явно бытовала уже в индоиранскую эпоху, это было не отождествление, необходимое для их существования. Была, однако, и другая группа богов, которая представляла физические явления и которая, можно сказать, и была этими явлениями». Например, Атар – бог огня, Анахита – богиня вод, Асман – бог неба. См.: Mary Boyce. A History of Zoroastrianism, vol. 1: The Early Traditions. Leiden: Brill, 1975. P. 24, 31, 68–69.
8. Зороастрийцы известны под многими названиями. В Иране их называют зартошти, хотя сами они чаще всего именуют себя бехдин. В Южной Азии их знают как парсов, а греки именовали их магами.
Хотя есть ученые (в том числе и Бойс), которые не считают, что Заратустра рассматривал Ахурамазду как единственного бога во Вселенной, факт состоит в том, что в Гатах нет другого бога. Гаты были созданы на древнем авестийском языке и предназначены для пения. Это сборник из семнадцати гимнов, якобы написанных самим Заратустрой. См.: Herman Lommell. Die Religion Zarathustras. Nach dem Awesta dargestellt. Hildesheim: Olms, 1971.
По всей вероятности, Ахурамазда был «прототипом» Варуны и, возможно, изначально был богом, имя которого до нас не дошло. Иными словами, это божество известно нам лишь по двум своим главным эпитетам: Ахура, то есть «Властелин», и Мазда, то есть «Мудрый» или «Мудрость». Дискуссию об этимологии имени см.: F. B. J. Kuiper. Ahura “Mazda” “Lord Wisdom”? // Indo-Iranian Journal 18/1–2 (1976). P. 25–42.
9. Эти отражения известны в зороастризме как Амешаспенты, или «Бессмертные Святые». Они проявляются в шести отдельных эманациях: Воху Мана («благой помысел»), Аша Вахишта («истина»), Хшатра Ваирья («любовь»), Спента Армаити («преданность»), Хаурватат («здоровье») и Амеретат («бессмертие»). Эти отражения появились по божественной воле Ахурамазды и призваны олицетворять основные атрибуты этого божества. Хотя зороастрийцы считали Амешаспенты достойными почитания, оно ограничивалось актом общения с Ахурамаздой.
Впервые Амешаспенты появляются в Гатах. Хотя само слово «Амешаспенты» в Гатах не фигурирует, там есть названия шести отражений (см.: Ясна 47.1). В более поздних частях Авесты – сборника, древнейшую часть которого и составляют Гаты, – Амешаспенты сами становятся богами, прислуживающими Ахурамазде на небесах. См.: Dinshaw J. Irani. Understanding the Gathas: The Hymns of Zarathushtra. Wolmsdorf, Pa.: Ahura Publishers, 1994.
10. Как уже отмечалось, не все исследователи зороастризма соглашаются с тем, что Заратустра был монотеистом: например, это отрицает Мэри Бойс в своем трехтомнике «История зороастризма» (History of Zoroastrianism, 3 vols. Leiden: Brill, 1975–1991). Противоположная точка зрения: Farhang Mehr. The Zoroastrian Tradition: An Introduction to the Ancient Wisdom of Zarathustra. Rockport, Mass.: Element, 1991.
11. Нужно также отметить, что «божественный детерминатив» – символ египетской иероглифики, указывавший на записанное имя бога и идентифицировавший его как принадлежащий богу, – никогда не использовался для имени Атона. По мнению Эхнатона, не было необходимости прямо указывать на божественность Атона, как будто он был одним богом из множества. См.: Erik Hornung. Akhenaten and the Religion of Light. David Lorton (transl.). Ithaca and London: Cornell University Press, 1999. P. 85, 199.
12. Подобные идеалы исключительности влекут за собой определенные политические и экономические последствия. Отрицание всех остальных богов ведет к «безработице» среди их жрецов и служителей и замешательству населения. Хорошо известно, что религиозные реформы Эхнатона значительно сократили власть и привилегии жречества Амона-Ра, которое в эпоху XVIII династии стало невероятно богатым. Религия Заратустры сходным образом угрожала власти и авторитету магов, заменяя всех их божеств одним богом, не нуждавшимся в мантрах и ритуалах. Неудивительно, что после смерти обоих именно жречество быстро и, в случае Египта, жестоко восстанавливало предшествующие религиозные традиции.
13. Генотеизм можно также определить как веру в единственную в конечном счете реальность, которая проявляет себя в облике множества богов и богинь, каждый из которых, будучи аватаром реальности, может быть достойным объектом почитания.
14. Термин «политикоморфизм» придумал Торкильд Якобсен, который наиболее красноречиво и описал этот процесс в Древней Месопотамии. См.: The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion. New Haven: Yale University Press, 1976. P. 73. [Рус. изд.: Якобсен Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии. М.: Восточная литература, 1995.]
Согласно Якобсену, «шумеры и аккадцы изображали своих богов в человеческом облике, движимыми человеческими эмоциями и живущими в том же мире, что и люди. Почти во всех тонкостях мир богов – это отражение земных условий… Точно так же можно объяснить демократическую политическую организацию богов, явно отличающуюся от автократических земных государств, которые существовали в те исторические периоды в Месопотамии. Среди богов мы находим отражение более древних форм – отзвуки месопотамских государств былых времен».
И снова слова Якобсена: «Наш материал, судя по всему, сохраняет следы того, что доисторическая Месопотамия была демократической в политическом смысле, а не автократической, как историческая Месопотамия. Свидетельства, которыми мы обладаем, указывают на форму управления, при которой обычно решения принимал совет старейшин, но главные из них – общим собранием всех членов общины, точнее, видимо, всех взрослых свободных мужчин». См.: Thorkild Jacobsen. Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia // Journal of Near Eastern Studies 2/3 (1943). P. 167, 172.
15. Подробнее о трансформации Мардука и метафоре бога как царя см.: Thorkild Jacobsen. The Treasures of Darkness.
16. Ассирийский бог Ашшур единственный не имел конкретной функции, власти, атрибута или даже личностной особенности. Но дело было в том, что Ашшура считали не просто богом-покровителем ассирийской столицы, носившей его имя: он сам был этим городом. Он был обожествленным городом, поэтому обладал характеристиками всех его граждан. Таким образом, когда город Ашшур примерно в XIII веке до н. э. преобразился из небольшого городка пастухов в столицу экспансионистской Ассирийской империи, трансформацию претерпел и бог Ашшур: из малопривлекательного, безликого божества он стал богом войны и властелином неба. Уилфред Ламберт пишет: «Видимо, в Южной Месопотамии не было случая, чтобы город носил имя местного бога. Единственное возможное исключение – Муру. Муру считается другим именем Адада, и город с таким названием тоже существовал. Но древние источники не именуют Адада его покровителем, так что идентичность названий может быть простым совпадением». См.: Wilfred G. Lambert. The God Aššur // Iraq 45/1 (1983). P. 82–86.
17. Ученые в основном согласны с тем, что Шива был изначально известен под именем Рудра, то есть «ревущий», а слово «шива» («благой, милостивый») использовалось в ведический период в качестве прилагательного к имени Рудры. Со временем имена стали взаимозаменяемыми, и после ведического периода Рудра и Шива используются как синонимы. Масла в огонь подливает то, что Шива известен под множеством имен, что свидетельствует о еще большем числе ассоциаций с другими божествами (Девендра, «вождь богов»; Трилокината, «властелин трех царств»; Гирнешвар, «властелин сострадания»; Махадева, «великий бог»; Махешвара, «великий властелин»; Парамешвара, «верховный властелин»). Марк Мюссе утверждает: «У Рудры не было друзей среди других богов, он предпочитал селиться в диких и страшных местах… Арии обычно оставляли дары Рудре за пределами своих сел и умоляли его оставаться подальше от них. Но, как ни странно, Рудра был и целителем… Многие ученые считают, что ведический дэв Рудра был прототипом бога, позднее ставшего известным как Шива».
Дорис Шринивасан также замечает: «Учащение появлений Рудры и расширение его зоны ответственности происходит в основном в самхитах, написанных после Ригведы. В этих текстах Рудра уже явно находится на пути к тому, чтобы стать великим богом, о котором было объявлено в шветашватара-упанишаде [т. е. Рудрой-Шивой]. В этом процессе свойства и связи Шивы перестают передавать мифические или буквальные образы. Все его черты должны обосновать теологическое утверждение об абсолютности Верховного бога. Этот бог заключает в себе все сущее, дает начало всему сущему и является Господином всего сущего… Радикальное учащение появлений Рудры и описаний его действий, таким образом, можно рассматривать как теоретические попытки определить природу всеобъемлющего Верховного бога в рамках ведической традиции». См.: Mark Muesse. The Hindu Traditions: A Concise Introduction. Minneapolis: Fortress Press, 2011. P. 47–48; Doris Srinivasan. Vedic Rudra-Śiva // Journal of the American Oriental Society 103/3 (1983). P. 544–545.
7. Бог – один
1. Ко времени вавилонского вторжения Израильское царство уже распалось надвое, причем северную часть ассирийские войска Саргона II покорили в 722–721 годах до н. э. Вследствие ассирийского кризиса грамотные северяне, возможно, отправились на юг, взяв с собой письмена и сюжеты (скорее всего, в устной форме, нежели в письменной). Если это верно, то влияние Элохиста могло начаться еще в конце VIII века до н. э. – во время глубокого кризиса северного и южного царств.
Два главных военных похода против царств, предпринятых ассирийцами (Саргоном II в 722–721 годах до н. э. и Синаххерибом в 701 году до н. э.), а также региональные стычки с соседями в Сирии, Моаве и т. д. привели в этом и последующем столетиях к появлению ряда пророков-оракулов, которые в своих книгах предпринимали попытку примирить существующее положение дел с собственным пониманием бога: появились Первая книга Исаии (юг), Амоса (север), Осии (север), Михея (юг), Наума (север), Софонии (юг), Аввакума (юг), Иисуса Навина, Судей, Самуила, все книги Царств, некоторые части Псалмов и Второзакония.
С теоретической точки зрения можно сказать, что почитание Элохим как отдельного бога (то есть северный подход) прекращается после 722–721 годов до н. э. с разрушением северного царства. Почитание Яхве на юге продолжается до 586 года до н. э., однако оно, возможно, испытывает влияние или воздействие со стороны северных мифов об Элохим (появляются источники J/E). Иными словами, сплав источников J и E мог бытовать 135 лет, прошедших от разрушения северного до разрушения южного царства. Но даже если слияния в это время не было, J и E определенно сочетаются, хотя бы номинально, у авторов Священнического кодекса, работавших в VI–V веках до н. э. Преобладание яхвистского материала, его связь с Моисеем и ощущение, что он древнее Элохиста, возможно, связано с тем фактом, что южное царство продержалось дольше северного, а бог северного царства (Элохим) был разбит ассирийским богом Ашшуром в 722 году до н. э. Если бы юг был разрушен раньше, то, вероятно, элохистский материал казался бы более ранним, чем яхвистский. Сейчас же элохистский источник представляется менее древним и менее личностным. Затем, после вавилонского пленения, предрассудки в отношении севера начинают исчезать, а авторы и редакторы Священнического кодекса стремятся сохранить как можно больше традиций и мифов северян, что в Книге пророка Исаии приводит к слиянию Яхве и Элохим в единого бога.
2. Л. Кёлер подчеркивает: «Бог – властвующий Господь: это главное положение теологии Ветхого Завета… Все остальное – производные от этой идеи. Все остальное основано на ней. Все остальное можно понять исходя из нее и только из нее». См.: Ludwig Köhler. Old Testament Theology. A. S. Todd (transl.). Philadelphia: Westminster Press, 1957. P. 30.
3. Строго говоря, слово «Яхве» не переводится как «я есть». Хотя Бог отвечает на просьбу Моисея представиться в стихе Исх. 3:14 словами «Я есмь Сущий» (ehyeh asher ehyeh), сразу после этого божество инструктирует Моисея передать израильтянам, что «Господь [Яхве], Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам» (Исх. 3:15). В отличие от слова ehyeh – первого лица единственного числа древнееврейского бытийного глагола hyh («я есть/буду»), Yahweh, собственное имя Бога в древнееврейской Библии, – это вариант формы третьего лица единственного числа того же самого глагола («он есть/будет»). См.: Francis Brown, S. R. Driver, Charles Briggs. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford: Oxford University Press, 1951. P. 217–218; Sigmund Mowinckel. The Name of the God of Moses // Hebrew Union College Annual 32 (1961). P. 121–133.
4. Имя Моисей имеет египетское происхождение и содержит тот же корень, что и теофорные имена Тутмос («рожденный Тотом») и Рамсес («рожденный Ра»). Моисей, как рассказывает еврейская Библия, был сыном еврейских родителей, которые, однако, в изначальной истории имен не имели и получили их лишь намного позже, когда потребовалось раскрыть происхождение Моисея и укрепить его связи с израильскими предками: «Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея» (Исх. 6:20).
Хотя не существует археологических свидетельств существования Моисея, он мог родиться в Новом царстве, возможно, через пару поколений после ниспровергающей основы, но в конечном счете обреченной монотеистической революции фараона-еретика Эхнатона. Это привело некоторых ученых к выводу, что на Моисея большое влияние оказал радикальный монотеизм Эхнатона, а израильская религия, таким образом, была формой атонизма, пережившей чистки после Эхнатона. См.: Donald B. Redford. Akhenaten: The Heretic King. Princeton: Princeton University Press, 1984; Jan Assman. Of Gods and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism. Madison: University of Wisconsin Press, 2008; From Akhenaten to Moses: Ancient Egypt and Religious Change. Cairo: American University in Cairo, 2014.
5. В Книге Бытия утверждается, что мадианитяне были потомками Мадиана, одного из сыновей Авраама от его жены Хеттуры (Быт. 25:1–2). Однако это выглядит редакторской правкой, призванной связать Моисея и Авраама, и рассматривать эту версию всерьез не стоит. Лучше всего, вероятно, будет считать мадианитян не локализованным народом, а конфедерацией несемитских обитателей пустыни, живших от Синая до Аравии. См.: William J. Dumbrell. Midian: A Land or a League? // Vetus Testamentum 25/2 (1975). P. 323–337.
6. О расположении «горы бога» близ Сеира см.: Втор. 33:2 и Суд. 5:4. Путаница и непоследовательность традиций, относящихся к Моисею, не ограничивается вопросами местоположения. Например, тесть Моисея носит в Библии три разных имени: Рагуил (Исх. 2, Чис. 10), Иофор (Исх. 3, 4 и 18) и Ховав (Чис. 10, Суд. 4). В одних местах тесть называется мадианитянином (Исх. 2, 18, Чис. 10), в других – кенеянином (Суд. 4). Частично проблема связана с Суд. 4:11, где Ховав – тесть Моисея, что противоречит Чис. 10:29, где Ховава называют сыном Рагуила, то есть шурином Моисея или членом племени Рагуила. Каким бы ни было объяснение, очевидно, что для создания рассказа о Моисее использовалось несколько источников, написанных в разное время разными авторами. См.: William Foxwell Albright. Jethro, Hobab, and Reuel in Early Hebrew Tradition // Catholic Biblical Quarterly 25/1 (1963). P. 1–11.
7. В принципе любой, кто трудился на государственных строительных работах, считался рабом фараона, а жрецы считались рабами храмов, при которых служили. См.: Schafik Allam. Slaves // The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. D. Redford (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 293–296.
В Исходе (Исх. 12:37) говорится, что израильтян насчитывалось «до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей» (см. также: Исх. 38, Чис. 2). Если это так, то общее число израильтян превысило бы миллион, что не уступает по численности всему населению Древнего Египта. Разумеется, это абсурдно и всерьез восприниматься не может.
Датировка истории, изложенной в Исходе, сильно разнится: в некоторых случаях предлагается ранняя дата – около 1447 года до н. э., в других – значительно более поздняя (до 1270 года до н. э.). Древнейшее упоминание Израиля как отдельной группы относится к так называемой Стеле Израиля (около 1208 года до н. э.), на которой перечисляются военные достижения фараона Мернептаха (правившего с 1213 по 1203 год до н. э. третьего сына Рамсеса II). В двадцать седьмой строчке стелы говорится: «Израиль опустошен, его семени нет», что должно свидетельствовать о том, что некий «Израиль» уже существовал к концу XIII века до н. э. Это противоречит библейской хронологии событий Исхода, которую многие относят примерно к 1280 году до н. э. (плюс 40 лет в пустыне, то есть завоевание Ханаана Иисусом Навином произошло около 1240 года до н. э.). Дело в том, что, согласно библейским источникам, прошла пара веков перед тем, как израильтяне стали объединенной нацией отдельных племен (то есть собственно «Израилем») при Сауле и Давиде – в XI веке до н. э. Эти источники – Книги Иисуса Навина, Судей (одна она описывает два века) и начало Первой книги Царств.
Рамсес II – фараон, при котором, как обычно считают, и происходили события Исхода (Исх. 1:8–11), правил с 1279 по 1213 год до н. э., что тоже не вполне согласуется с данными Стелы Израиля. Конечно, нужно помнить, что Книга Иисуса Навина не привязана ни к каким данным и что библеисты часто пользуются египетскими материалами для датировки Исхода. См.: Michael G. Hasel. Israel in the Merneptah Stela // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 296 (1994). P. 45–61; Anson F. Rainey. Israel in Merneptah’s Inscription and Reliefs // Israel Exploration Journal 51/1 (2001). P. 57–75; Hans Goedicke. Remarks on the “Israel-Stela” // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 94 (2004). P. 53–72; Bryant Wood. The Rise and Fall of the 13th-Century Exodus-Conquest Theory // Journal of the Evangelical Theological Society 48/3 (2005). P. 475–489.
8. Разгадка происхождения Яхве может крыться в том загадочном способе, которым он впервые представляется Моисею. «Я есть Сущий», – заявляет Яхве (Исх. 3:13), что, как отмечает де Моор, полностью соответствует фразе, которой описывал себя египетский солнечный бог Ра. Cм.: Johannes C. De Moor. The Rise of Yahwism: The Roots of Israelite Monotheism, 2nd ed. Leuven: Peeters, 1997. См. также: Walter Zimmerli. Old Testament Theology in Outline. Edinburgh: T&T Clark, 1978. P. 152; Michael C. Astour. Yahweh in Egyptian Topographic Lists // Festschrift Elmar Edel in Agypten und Altes Testament. Manfred Görg (ed.). Bamberg, Germany: Görg, 1979. P. 17–19; Horst Dietrich Preuss. Old Testament Theology. Louisville: Westminster John Knox Press, 1995. P. 69.
Связь с мадианитянами кажется вероятной, поскольку представляет собой своеобразное пятно на репутации Моисея. Именно за нее упрекали Моисея его брат Аарон и сестра Мириам: «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, – ибо он взял за себя Ефиоплянку» (Чиc. 12:1). Подобно путанице с именами тестя Моисея (см. выше), еврейская Библия здесь называет жену Моисея эфиопкой, хотя нигде не говорится о том, чтобы Моисей брал себе вторую жену. Несмотря на эти противоречия, связь с мадианитянами укрепляется историей Валаама, который был, по всей вероятности, мадианитяном и, что важнее, пророком Яхве (Чис. 22–24; Чис. 31:8). См.: L. Elliott Binns. Midianite Elements in Hebrew Religion // Journal of Theological Studies 31/124 (1930). P. 337–354; George W. Coats. Moses in Midian // Journal of Biblical Literature 92/1 (1973). P. 3–10; Karel van der Toorn. Family Religion in Babylonia, Ugarit, and Israel: Continuity and Change in the Forms of Religious Life. Leiden: Brill, 1996. P. 283.
9. Чаще всего имя Эль в Библии приводится во множественном числе – Элохим, то есть попросту «боги». Когда в Библии встречается слово «Элохим», обычно используются глаголы в третьем лице единственного числа («он сказал», «он создал»). В ряде случаев, однако, Элохим сочетается с первым лицом множественного числа: «сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26). Со времен перевода Библии короля Иакова, созданного в начале XVII века, носители английского языка обычно принимают это форму за множественное величия, игнорируя тот факт, что такой формы в древнееврейском языке не было. Подлинное же объяснение использования множественного числа состоит в том, что Эль здесь разговаривает с другими подчиненными ему божествами (например, Быт. 35:7, 2-я Цар. 7:23, Псал. 58:11; см. также: Быт. 11:7 и Ис. 6:7). Иными словами, Эль, согласно первой части Бытия, не единственный бог во Вселенной, а просто верховный бог генотеистического пантеона. См.: Frank Moore Cross. Yahweh and the God of the Patriarchs / Harvard Theological Review 55/4 (1962). P. 225–259; Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997; Mark S. Smith. The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans, 2002. P. 32–43; W. R. Garr. In His Own Image and Likeness: Humanity, Divinity, and Monotheism. Leiden: Brill, 2003; Samuel Sahviv. The Polytheistic Origins of the Biblical Flood Narrative // Vetus Testamentum 54/4 (2004). P. 527–548.
Богиня Ашера занимала исключительно почетное место в ханаанской религиозной традиции как супруга Эля и матриарх божественного семейства. Со временем, когда авторы Священнического кодекса слили Эля и Яхве в единое божество, почитание Ашеры как жены Яхве, похоже, какое-то время продолжалось. Уильям Девер пишет: «Молчание [в Библии] относительно Ашеры как супруги Яхве, наследника ханаанского Эля, можно считать результатом практически полного подавления ее культа реформаторами VIII–VI веков. В итоге отсылки к “Ашере” хотя и не удалось полностью изгнать [из еврейской Библии]… они были неправильно поняты более поздними редакторами или переистолкованы, так что от богини остался лишь смутный образ… Но сам факт необходимости реформ в Древнем Израиле напоминает о том, что почитание Ашеры, “матери богов”, иногда считавшейся супругой Яхве, было распространено вплоть до конца монархии». См.: William G. Dever. Asherah, Consort of Yahweh? New Evidence from Kuntillet ‘Ajrûd // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 255 (1984). P. 31. См. также: William G. Dever. Did God Have A Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel. Grand Rapids: Eerdmans, 2008. Об Ашере и других ханаанских божествах см.: Smith. The Early History of God; Dennis Pardee. Ritual and Cult at Ugarit. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002; John H. Walton. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament: Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible. 3d ed. Grand Rapids: Baker Academic, 2009.
Следы редакторской деятельности авторов Священнического кодекса очевидно присутствуют во множестве мест Библии. Так, Яхве порой прямо объявляет себя Элем: «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий [Эль]; ходи предо Мною и будь непорочен…» (Быт. 17:1). Бандстра отмечает: «Бог Авраама в Библии выступает под тремя разными именованиями: Яхве (Господь), Бог Всемогущий и Элохим (Бог). От творения до Авраама божеством был Элохим. Затем он представляется Аврааму и другим предкам как Бог Всемогущий. Никого по имени Яхве (Господь) патриархи не знали. Это один из редких случаев использования имени Яхве, и авторы Священнического кодекса стремятся прямо отождествить Яхве и Бога Всемогущего, чтобы читатели не запутались. До разговора с Моисеем Бог не проявлял себя как Бога Всемогущего и Господа одновременно. В Быт. 17:3 автор Священнического кодекса вновь переходит к Элохим – имени, которым Бог обычно и обозначается до Исхода». См.: Barry Bandstra. Reading the Old Testament: Introduction to the Hebrew Bible. 4th ed. Belmont, Calif.: Wadsworth, 2009. P. 86.
10. Имена различных ханаанских богов и богинь продолжают появляться в еврейской Библии значительно позже того, как перестали иметь какие-либо божественные коннотации. Например, имя Яма, ханаанского бога моря, становится в еврейской Библии словом, обозначающим море. Точно так же имена других ханаанских божеств – Мота, бога смерти, Баала, бога бурь, и Шемеша, бога солнца, становятся еврейскими словами, обозначающими смерть, бури и солнце соответственно.
Более того, обнаружение различных археологических артефактов и текстов, таких как угаритские архивы и переписка из Мари, а также надписей из Дейр-Алла, Кунтиллет-Аджруд и Хирбет эль-Ком помогло пролить свет на ханаанскую религию и ее взаимоотношения с израильской традицией. Марк Смит отмечает: «Несмотря на господствовавшую ранее гипотезу, что “ханаанцы” и израильтяне имели совершенно различную культуру, археологические данные заставляют в этом усомниться. Материальная культура региона указывает на наличие множества общих черт между израильтянами и “ханаанцами” эпохи раннего железного века (около 1200–1000 годов до н. э.). Судя по всему, израильская культура имела много общего с ханаанской и возникла благодаря ей». См.: Mark Smith. Early History of God. P. 6.
11. Ряд библеистов пришли к мнению, что израильтяне когда-то и были ханаанцами. Согласно этой теории, впервые выдвинутой Джорджем Менденхоллом и впоследствии доработанной Норманом Готтвальдом, никакого завоевания Ханаана извне, описанного в Книге Иисуса Навина, не было. А племена, которые позднее стали известны как израильтяне, были недовольными пастухами с ханаанских холмов, уставшими от гнета своих равнинных родственников. После нескольких жестоких бунтов против угнетателей из городов-государств сельские жители Ханаана сумели сформировать новую израильскую идентичность, которая, однако, в области культуры, языка и религии осталась глубоко укоренена в прежней. См.: George E. Mendenhall. The Hebrew Conquest of Palestine // Biblical Archaeologist 25/3 (1962). P. 65–87; Norman K. Gottwald. The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250–1050 b. c. e. Maryknoll, N. Y.: Orbis Books, 1979; George E. Mendenhall, G. A. Herion. Ancient Israel’s Faith and History: An Introduction to the Bible in Context. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001. Подробнее о сходствах между культурой израильтян и хананейцев см.: Michael David Coogan. Canaanite Origins and Lineage: Reflections on the Religion of Ancient Israel // Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross. Patrick D. Miller et al. (eds.). Philadelphia: Fortress Press, 1987. P. 115–184.
12. В Библии неоднократно рассказывается о том, как изображения Баала и Ашеры ставились в Иерусалимском храме и им сооружались алтари в «высоких местах», где израильтяне приносили им жертвы и молились (см., например, 2-я Цар. 21:1–7). Свидетельства монолатрии в Библии см.: Исх. 20:3 и Втор. 5:7. Свидетельства почитания израильтянами соседских богов: Суд. 10:6.
13. Хотя Исх. 17 открывается явлением Яхве Авраму, само божество представляется другим именем: «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь [Яхве] явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий [Эль Шаддаи]; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт. 17:1–2). Таким образом, Аврам совершает завет не с Яхве, а с Элем: «И пал Аврам на лицо свое. Бог [Элохим] продолжал говорить с ним и сказал: Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов…» (Быт. 17:3–5). Как и в случае с Исх. 6, мы видим попытки авторов Священнического кодекса соединить яхвистские и элохистские источники об Авраме-Аврааме в связное повествование с единым божеством. История Аврама-Авраама в Бытии, как и история Моисея в Исходе, только путается из-за стараний авторов позднейшего Священнического кодекса свести более древние и противоречащие друг другу яхвистскую и элохистскую версии истории в единый полусвязный нарратив. Но при пристальном анализе исходный элохистский материал просматривается через священническую переделку – например, когда Аврам отправляется из Ура в Харран со своей бесплодной женой Сарой и племянником Лотом (Быт. 11:31, 12:4–5). В Харране Аврама посетило божество, которое автор кодекса, составлявший этот раздел, называет Яхве (Господь – Быт. 12:1, 4), хотя в Исходе Яхве сообщает Моисею, что Авраам никогда не знал его под этим именем: «Я Господь [Яхве]. Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем “Бог Всемогущий” [Эль Шаддаи], а с именем Моим “Господь” не открылся им» (Исх. 6:2–3). Так или иначе, это божество приказывает Авраму покинуть Харран ради «земли Ханаанской» (Быт. 11:31, 12:5–6). Аврам подчиняется и тем самым становится первым евреем, что значит «тот, кто переходит» (Быт. 14:13). Вместе с родней он отправляется в город Сихем – центр культа Эля на севере Ханаана.
В Сихеме Аврам останавливается у священного дерева в дубраве Море, известного своими предсказаниями (говорящее дерево!), чтобы поставить жертвенник богу, призвавшему его в эту землю. Из Сихема Аврам направляется в горную деревушку к востоку от Вефиля – это не город, а скорее храм, посвященный Элю («Я Бог, явившийся тебе в Вефиле», – говорит Эль в Быт. 31:13), – а затем в Негев, где, видимо, оседает на некоторое время, после чего совершает краткое и весьма маловероятное путешествие в Египет, единственная цель которого – связать историю Аврама-Авраама (и его бога!) с историей Моисея (Быт. 12:10–13:1). Наконец, Аврам и его род постоянно поселяются в городе Хевроне рядом с еще одним священным деревом-оракулом – у дубравы Мамре (Быт. 13:18). В Хевроне Аврам живет богато и роскошно: каким-то образом ему удается накопить множество скота, золота и серебра, а также бессчетное количество рабов, слуг и обученных воинов под своим руководством – все это по благословению его бога. Воины пришлись очень кстати. После того как месопотамские захватчики внезапно атаковали ханаанский Салим (Иерусалим), Аврам послал их защищать город. В обмен благодарный царь-священник Салимский Мелхиседек предложил Авраму благословение от имени Бога Всевышнего [Эль Эльон] (Быт. 14:18–20).
14. Это положение подкрепляется и историей Иеровоама, который, вероятно, пытался своими «золотыми тельцами» возобновить культ Яхве-Эля в Дане и Вефиле. Или же золотого тельца можно рассматривать как попытку израильтян восстановить свою египетскую религию, почитая в его форме Хатор, богини материнства и любви, которая часто изображалась в виде коровы (в этом отношении особенно интересно, что золотой телец был создан из египетского материала: «И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исх. 32:4).
15. Марк Смит отмечает: «Это дает основания думать, что Яхве, изначально бог-воитель из Синая/Парана/Эдома/Теймана, был в раннем Израиле известен независимо от Эля. Возможно, благодаря торговле с Эдомом и Мадиамом Яхве во вторую очередь попал в религию нагорных израильтян. Такие пассажи, как Втор. 32:8–9, содержат первые литературные следы вхождения Яхве, южного бога-воителя, в общий пантеон нагорных жителей Ханаана с Элем во главе». См.: Mark Smith. The Early History of God. P. 32–33.
16. Происхождение Яхве-Эля видно только по нескольким пассажам: Быт. 14:18 – Бог Всевышний (Яхве Эль Эльон); Быт. 21:33 – Господь Бог Вечный (Яхве Эль-Олам); Псал. 31:6 – Господи, Боже истины (Яхве Эль-Эмет); Псал. 93:1 – Боже отмщений (Яхве Эль-Некамот); Псал. 139:7 – Господь Бог (Яхве Эли).
17. Марко Тревес отмечает: «Согласно Библии, первое Царство Божие существовало в дни Судей. Гидеон отказал израильтянам в просьбе стать их царем, ибо не хотел лишать Господа царства Его (Суд. 8:22–23). Когда старейшины Израиля просили Самуила дать им царя, пророк отверг их, ибо это значило отказ от Бога (1-я Цар. 5:4–7, 10:18–19, 12:12). Из этих двух эпизодов можно заключить, что: a) по мнению авторов, монархия человеческая и монархия божественная взаимно исключали друг друга; б) согласно традиции, в эпоху Судей Бог считался Царем Израиля; в) с помазанием Саула Царство Божие подошло к концу». Мартин Коэн высказывает схожую точку зрения: «Свидетельства Библии демонстрируют, что монархия изначально была идеологически подчинена силомскому жречеству. В обоих случаях выбора первого монарха помазание осуществляет силомский священник Самуил; он действует от имени Яхве и как официальный толкователь его воли. Именно Самуил Силомлянин полностью меняет традиционное отношение яхвистской идеологии к монархии. Если ранее идеологически утверждалось, что Израиль не может иметь царя, так как его царь – Яхве, то теперь Яхве санкционирует монархию под своей эгидой и, разумеется, под эгидой своих представителей – священников. Прежние вожди надеялись, что, подчинив монархию священничеству, ее можно ослабить, а если монархи попытаются набрать силу за счет жрецов, то те в любой момент могут услышать голос Яхве, повелевающий отстранить царя от должности. Так и случилось с Саулом». См.: Marco Treves. The Reign of God in the O. T. // Vetus Testamentum 19/2 (1969). P. 230–231; Martin Cohen. The Role of the Shilonite Priesthood in the United Monarchy of Ancient Israel // Hebrew Union College Annual 36 (1965). P. 59–98.
«Монархия, – утверждает Марк Смит, – была как политическим, так и религиозным институтом. Под царским влиянием религия выражала как собственно религиозную, так и государственную идеологию. С возрастанием престижа общенационального божества рос и престиж царской династии. Особые отношения между Яхве и династией Давида приняли форму настоящего договора, который в 2-й Цар. 23:5 получил название “вечного завета”… Религиозно-политические мотивы договора достигли полнейшего выражения в теологии династии Давида. Национализация этого завета утверждала Яхве в качестве национального божества единой монархии. Так в Древнем Израиле установилась гегемония Яхве».
Смит продолжает свою мысль так: «Инновационная централизация национального культа также была частью процесса перехода к монотеистическому яхвизму, поскольку поощряла почитание единого национального божества и умаляла значение местных проявлений божеств. Царская унификация политической и религиозной жизни помогла достичь политической и обрядовой централизации, сосредоточив власть и религиозный культ в единой столице. Это развитие шло параллельно с развитием самой монархии. Все началось с появления столицы при Давиде, продолжилось приданием религиозной значимости Иерусалиму при Соломоне и достигло кульминации в религиозных программах Езекии и Осии… Религиозная функция была лишь одним из аспектов общей централизации культа. Такая религиозная политика сопровождалась политическими и экономическими выгодами. Монархи были новаторами и консерваторами одновременно, реагируя на потребности развивающегося государства». См.: Mark Smith. Early History of God. P. 185–187.
18. Голосом этого нового религиозного восприятия стал пророк Исаия, точнее, так называемый Второй Исаия (Книга Исаии в Библии образована слиянием трех книг: Первая Исаии – главы 1–39 – написана до вавилонского плена; Вторая Исаии – главы 40–55 – в плену или сразу после него; Третья Исаии – главы 56–66 – создана много позже).
19. Появление в Книге пророка Иезекииля видения Бога как «подобия человека» (Иез. 1:26) или пассаж из Книги пророка Захарии о «сих, стоящих здесь» (Зах. 3:7) показывают, что старые мифические идеи очеловеченного бога не до конца исчезли и из библейских книг, созданных уже после изгнания. Однако их стало гораздо меньше. См.: Mark Smith. Early History of God. P. 141–147.
8. Бог – триедин
1. Иоанн прямо отождествляет Иисуса с Яхве. В поразительном фрагменте ближе к концу Евангелия толпа с фонарями и светильниками, состоящая из храмовой стражи и римских солдат, собирается арестовать Иисуса в Гефсиманском саду. «Кого ищете?» – спрашивает он. «Иисуса Назорея», – отвечают из толпы. И Иисус говорит: «Это я», точнее – ego eimi, греческий вариант имени Яхве в Септуагинте – переводе Ветхого Завета на греческий. И тут Иоанн, чтобы читатели не упустили значимости этого момента, заставляет всю толпу отступить назад и пасть на землю перед лицом этих слов Иисуса (Иоан. 18:1–8).
Как я уже писал, термин «Сын Божий», часто встречающийся у синоптиков применительно к Иисусу, – это не описание его природы, а просто именование: в Библии Сынами Бога именуются многие, в том числе и Сатана. Подробнее о термине «Сын Божий» см. мою книгу: Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth. N. Y.: Random House, 2013. [Рус. изд.: Аслан Р. Zealot. Иисус. Биография фанатика. М.: АСТ, 2014.]
2. Крис де Вет отмечает, что у греков «Логос функционирует так же, как рациональный принцип, которым управляется вселенная. Они проводили разграничения между разными типами логосов, а именно: 1) Логос spermatikos, то есть зачатки Логоса во всех человеческих существах; 2) Логос endiathetos, неизреченная мысль Бога…; 3) Логос prophorikos – выражение упомянутой выше божественной мысли. У стоиков Логос уже ассоциируется именно с выражением». См.: Chris de Wet. Mystical Expression and the „Logos“ in the Writings of St. John of the Cross // Neotestamentica 42/1 (2008). P. 35–50.
3. Халупа отмечает: «Римские императоры были богами – по крайней мере, многие из них объявлялись богами после смерти. Насколько мы знаем, с 14 по 337 год из 60 императоров Римской империи обожествлены были 36, а также 27 членов их семей. Они получили культы, имели собственное жречество и праздники. Им посвящались жертвенники и храмы. Считали ли их богами при жизни – вопрос все еще открытый, по нему ведутся ожесточенные научные споры». См.: Aleš Chalupa. How Did Roman Emperors Become Gods? Various Concepts of Imperial Apotheosis // Anodos – Studies of the Ancient World 6–7 (2006–2007). P. 201.
4. Греческий историк Диодор Сицилийский рассказывает, что Филипп II Македонский был убит своим телохранителем и любовником в театре в Эгах в 336 году до н. э., причем убийство произошло, когда Филипп руководил установкой статуи самому себе в числе двенадцати богов Олимпа. Непонятно, считался ли Филипп богом при жизни или его попытка самообожествления в Эгах как раз и стала одной из причин убийства. Ясно одно: после смерти он считался божеством. Артур Боук отметил: «С формальной точки зрения обожествление монарха у греков было возможным потому, что в их теологии и мифологии границы между сферой божественного и сферой человеческого никогда не были жесткими. Полубоги и герои облегчали переход от человека к богу. Большинство великих семейств Греции возводили свою родословную к какому-то богу или герою: так, македонский царский дом утверждал, что их предком был Геракл. Греческие колонии постоянно возводили своих ойкистов (после их смерти) в ранг героев, которым воздавались соответствующие почести. Подобные культы существовали во многих древних городах Греции. Однако следует отметить, что строгие религиозные традиции не одобряли обожествление человека при жизни. При этом такие почести воздавались знаменитым грекам при жизни задолго до Александра Македонского». Ларри Крейцер пишет: «Греки постоянно обожествляли своих царей. Эта практика восходит, судя по монетам, по меньшей мере ко времени правления Александра Македонского (336–323 годы до н. э.). Некоторые цари активно поощряли этот подход. Возможно, самый знаменитый пример – селевкидский царь Антиох IV (175–164 годы до н. э.), один из наследников Александра. Это в итоге привело Антиоха к прямому конфликту с его подданными-евреями и подготовило почву для восстания Маккавеев». См.: Arthur Edward Romilly Boak. The Theoretical Basis of the Deification of Rulers in Antiquity // Classical Journal 11/5 (1916). P. 293–294; Larry Kreitzer. Apotheosis of the Roman Emperor // Biblical Archaeologist 53/4 (1990). P. 212.
5. Нельзя сказать, чтобы древние египтяне считали своих фараонов в буквальном смысле воплощением Гора. Можно говорить скорее о том, что фараон восходил на престол в качестве Гора. Предполагалось, что Гор проникал в тело фараона. Египетские источники подтверждают божественную природу фараона, но явно рисуют его как человека, имеющего человеческие качества и человеческие ограничения. Конечно, само по себе наделение фараона человеческими качествами не противоречит заявлениям о его божественности, учитывая, что богов тоже во многом описывали как людей. Однако заметен контраст в описании силы богов и силы фараона: фараон по сравнению с богами явно неполноценен. Это заставляет некоторых египтологов предположить, что божественность фараона была обычной метафорой или инструментом пропаганды и что мало кто из египтян воспринимал ее серьезно. Но трудно себе представить, как в таком случае идея о божественности царской власти могла продержаться так долго, если не имела серьезного значения для всего населения. Наиболее правдоподобно такое объяснение: божественным считался не сам фараон, а его пост.
Фараон считался человеком, пока он или она (было несколько фараонов-женщин) не получал корону; обожествление происходило в ходе коронации, хотя со временем стали считать, что фараон с самого рождения предназначался в боги. Джон Бейнс так резюмирует это: «Царь Египта был смертным человеком в божественной роли на “вечном” посту». См.: John Baines. Kingship, Definition of Culture, and Legitimation // Ancient Egyptian Kingship. David O’Connor, David P. Silverman (eds.). Leiden: Brill, 1995. P. 3–48. См. также: Donald B. Redford. The Sun-Disc in Akhenaten’s Program: Its Worship and Antecedents, II // Journal of the American Research Center in Egypt 17 (1980). P. 21–38; Byron E. Shafer. Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths and Personal Practice. Ithaca and London: Cornell University Press, 1991; David P. Silverman. The Nature of Egyptian Kingship // Ancient Egyptian Kingship. David O’Connor, David P. Silverman (eds.). Leiden: Brill, 1995. P. 49–94.
6. Подробнее об идее божественной природы царской власти в Месопотамии см.: Henri Frankfort. Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature. Chicago: University of Chicago Press, 1948; Gillian Feeley-Harnik. Issues in Divine Kingship // Annual Review of Anthropology 14 (1985). P. 273–313; Gebhard Selz. “The Holy Drum, the Spear, and the Harp”: Towards an Understanding of the Problems of Deification in Third Millennium Mesopotamia // Sumerian Gods and Their Representations. I. J. Finkel, M. J. Geller (eds.). Groningen: Styx, 1997. P. 167–209; Nicole Brisch. The Priestess and the King: The Divine Kingship of Šū-Sîn of Ur // Journal of the American Oriental Society 126/2 (2006). P. 161–176.
7. Не стоит забывать, что Иисус на земле прежде всего считался Мессией – «царем иудейским», если говорить языком римлян. Царский статус Иисуса признавался как еврейскими, так и римскими его последователями. Христиане говорили об Иисусе точно так же, как римляне – о своем императоре. Надпись, сделанная в Эфесе в последние годы жизни Юлия Цезаря, называла его «Богом явленным и общим Спасителем человечества». День рождения наследника Цезаря, Августа, именовался «благой вестью» – теми же словами, которыми христиане называли рождение Христа (отсюда слово «евангелие»). А прибытие императора в город называлось словом «парусия», которым сейчас христиане именуют Второе пришествие Христа.
8. Иустин Философ цит. по: Dialogue with Trypho the Jew. Lukyn Williams (transl.). N. Y.: Macmillan, 1930. P. 113; Павел Самосатский цит. по: Dennis C. Duling. Jesus Christ Through History. N. Y.: Harcourt, 1979. P. 74.
9. Маркион был приверженцем так называемого докетизма (от греческого слова dokein – «казаться»), то есть верил, что Иисус только казался человеком и не мог, будучи Богом, обрести человеческую плоть или родиться от женщины. Его физическое тело было лишь иллюзией – средством, позволяющим людям взаимодействовать с чистым божественным духом. Дэвид Солтер Уильямс отмечает: «Маркион считается также проповедником докетической христологии, отрицающей телесность Иисуса». См.: David Salter Williams. Reconsidering Marcion’s Gospel // Journal of Biblical Literature 108/3 (1989). P. 477.
10. Гностики учили, что непознаваемый Бог Вселенной (Отец) создал также несколько малоизвестных божеств. Последняя из этих божеств, София, пожелала познать непознаваемого Бога – так на свет появился Демиург. Отец церкви II века Ириней говорил: «…хитро подделанною благовидностью они [гностики] обольщают ум неопытных и пленяют их, искажая изречения Господа и худо истолковывая то, что хорошо сказано; и под предлогом знания совращают многих и отвращают от Творца и Украсителя Вселенной, как будто они могут показать нечто более возвышенное и великое, нежели Бог, сотворивший небо и землю и все, что в них. При этом они нарочно искусными оборотами слов увлекают простых людей к пытливости, а между тем губят этих несчастных, не могущих отличить лжи от истины, возбуждая в них богохульные и нечестивые мысли против Творца… Посему, говорят, будучи творцом всего душевного и вещественного, он [Демиург] соделался Отцом и Богом сущего вне Плиромы; потому что привел в раздельность две слитые сущности, из бестелесного произвел тела, создал небесное и земное; стал зиждителем вещественного и душевного, правого и левого, легкого и тяжелого, стремящегося вверх и долу. Он уготовал семь небес… Но хотя Демиург думал, говорят они, что создал это сам собою, однако он творил при содействии Ахамофы. Он сотворил небо, не зная, что такое небо; создал человека, не зная, что такое человек; произвел на свет землю, не зная, что такое земля… не знал он идей того, что творил, не знал и самой Матери, а думал, что все это – он сам». (Цит. по: Ириней Лионский. Против ересей. I,1; V,2–3; Перевод Н. Сагарды, П. Преображенского.) О «Тайном Евангелии от Иоанна» см.: Frederik Wisse. The Apocryphon of John // The Nag Hammadi Library in English. James M. Robinson (ed.). San Francisco: HarperSanFrancisco, 1978. P. 104–123.
11. Soren Giversen and Birger A. Pearson. The Testimony of Truth // Nag Hammadi Library in English. P. 448–459.
12. Важно отметить, что Маркион писал всего через пятьдесят лет после иудейского восстания, которое привело к разрушению римлянами Иерусалима и запрещению иудаизма как религии. Полностью дистанцируясь от иудаизма, христиане преследовали не только теологическую задачу, но и стремились избежать судьбы евреев. Об этом см.: Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth. P. 57–70.
13. Тим Картер писал: «Маркион считал, что в Новый Завет вкрались учения последователей идеи бога-творца, и ставил себе задачу очистить текст от этих напластований, поэтому из четырех Евангелий он принимал лишь усеченную версию Евангелия от Луки, которое у него начиналось с появления Иисуса в Капернауме на пятнадцатый год принципата Тиберия. Маркион также принимал послания Павла, но отказывался от пастырских посланий, всех цитат из Ветхого Завета и отсылок к иудаизму». См.: Tim Carter. Marcion’s Christology and Its Possible Influence on Codex Bezae // Journal of Theological Studies 61/2 (2010). P. 551–552. См. также: Einar Thomassen. Orthodoxy and Heresy in Second-Century Rome // Harvard Theological Review 97/3 (2004). P. 241–256; Bart D. Ehrman. Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew. N. Y.: Oxford University Press, 2003. P. 104–109; Williston Walker. A History of the Christian Church. N. Y.: Scribner, 1918. P. 67–69; Williams. Reconsidering Marcion’s Gospel. P. 477–496.
14. Elaine Pagels. The Gnostic Gospels. N. Y.: Random House, 1979. P. 35. См. также: Elaine Pagels. The Demiurge and His Archons: A Gnostic View of the Bishop and Presbyters? // Harvard Theological Review 69/3–4 (1976). P. 301–324.
15. Елена, мать Константина и, судя по всем свидетельствам, ревностная христианка, как считается, нашла истинный крест, на котором был распят Христос, во время паломничества в Иерусалим в 326 году. Ей также приписывается создание или обновление ряда важных церквей в Леванте и возвращение в Рим с многочисленными реликвиями – например, землей с Голгофы. Как бы мы ни относились к этим утверждениям, ясно одно: статус Елены как христианки показывает, что к началу IV века христианство дошло до высших уровней римского общества.
В ответ на широкое распространение христианской веры по империи Константин издал Миланский эдикт (313 год), который узаконил существование христиан в римском государстве. Эдикт о веротерпимости, как и предполагает это название, разрешил религиозный плюрализм в Римской империи и обеспечил христианам свободу от преследований. Однако официальной религией Рима христианство стало лишь в 380 году, когда императоры Флавий Феодосий, Грациан и Валентиниан II приняли Фессалоникский эдикт.
16. Забавно, что Константин был одним из тридцати шести императоров, обожествленных после смерти римским сенатом (337 год), что свидетельствует о широком спектре религиозных убеждений римского общества. Согласно Арнальдо Момильяно, «важность “божественности” христианского императора умерялась лишь возможностью стать “святым”. Сам Константин вскоре после смерти был на Востоке канонизирован; он считался равноапостольным». См.: Arnaldo Momigliano. How Roman Emperors Became Gods // American Scholar 55/2 (1986). P. 191.
17. Tertullian. Apologetical Works; Minucius Felix. Octavius. Rudolph Arbesmann, Sister Emily Joseph Daly, Edwin A. Quain (transl.). Washington, D. C.: The Catholic University of America Pres, 1950. P. 63.
Тертуллиан считал, что три лика Троицы в неравной степени воплощают божественную сущность: сильнее всего божественное присуще Отцу, затем – Сыну, затем – Святому Духу. Иными словами, Иисус «единосущен» Богу, но не в той же степени.
Плотин (205–270), основатель неоплатонизма, тоже разделял идеи тринитаризма, считая, что божественная сила (выросшая из неприязни греков к антропоморфизму) выражается в трех формах: Единое, Ум и Мировая Душа. Диармайд Маккаллох отмечает: «Первое отражало абсолютное совершенство, второе было отражением первого, доступным нашим несовершенным чувствам, а третье являлось духом, наполнявшим мир и способным разделяться, в отличие от платоновского совершенства Единого и Ума». См.: Diarmaid MacCulloch. Christian History: An Introduction to the Western Tradition. London: SCM Press, 2012. P. 80.
18. Модалисты пытались решить вопрос, принимая толкование Тертуллиана о единой сущности и трех существах, но утверждая, что сущность не присуща трем существам одновременно: сначала она явилась как Отец, затем как Сын и, наконец, как Святой Дух.
19. В заявлении Августина важна не только готовность игнорировать логическую непоследовательность собственной позиции, но и то, что в идее Троицы укоренена характерная для эллинизма твердая уверенность в том, что Бога можно считать материальной субстанцией, делящейся и делимой и, в случае Иисуса, способной принимать человеческий облик. Само представление о Боге как о существе духовном, а не материальном в церкви V века практически отсутствовало. Сам Августин считал, что Бог – это очень большой человек в небе с «огромным сияющим телом».
20. R. V. Sellers. Council of Chalcedon: A Historical and Doctrinal Survey. London: SPCK, 1953. P. 210. См. также: Roland Teske. The Aim of Augustine’s Proof That God Truly Is // International Philosophical Quarterly 26 (1986). P. 253–268.
Удивительное историческое совпадение: евреев освободили от вавилонского плена войска Кира Великого – того же персидского царя, который помог возродить зороастризм в его дуалистической форме, сделав его официальной религией завоевательной империи Ахеменидов. Военные успехи Кира во многом объяснялись тем, что он отказывался верить в войну как битву богов, в которой бог-победитель одолевает бога-побежденного. Вместо этого он создал документ, который многие называют первой в мире декларацией прав человека (знаменитый Цилиндр Кира). В нем подчеркивалось, что побежденные могут совершенно свободно почитать своих богов, если хотят. Во всех взятых им городах он восстанавливал местные храмы, осыпал золотом местных жрецов и воздавал хвалу местным божествам. Задолго до отправки в Вавилон армии он послал туда своих зороастрийских священников – магов, которым поручил донести послание для вавилонян. Персидский царь хотел пояснить, что он не собирается уничтожить Мардука. Напротив, он утверждал, что Мардук и послал его, чтобы освободить вавилонян от никчемного и нечестивого царя Набонида. Маги передали это сообщение и всем находившимся в вавилонском плену, в том числе евреям. Это сработало. В 538 году до н. э., спустя почти полвека после разрушения Иерусалима вавилонянами, Кир мирно вошел в ворота Вавилона, и как сами вавилоняне, так и их пленные встречали его как освободителя. Едва ли не прежде всего он отправил плененных евреев домой, оплатив перестройку Храма Яхве из вавилонской казны. В результате Кир Великий был прозван евреями «пастырем Господним» (Ис. 44:28) и стал одним из немногих героев Библии – и единственным неевреем, – которого называют в ней «помазанником» (Ис. 45:1).
9. Бог есть всё
1. Согласно биографу пророка Мухаммеда Тафсиру ат-Табари, Мухаммед в письмах предлагал обратиться в ислам Ираклию, Хосрову, а также негусу Эфиопии, правителю Египта, правителю Бахрейна и губернатору Сирии. Хотя историчность этих писем признается большинством историков, некоторые из них, в том числе Гэбриел Саид Рейнольдс, сомневаются в достоверности заявлений ат-Табари. См.: The Emergence of Islam: Classical Traditions in Contemporary Perspective. Minneapolis: Fortress Press, 2012. P. 49.
2. Лучший обзор многовековой борьбы между Византийской и Персидской империями, начавшейся задолго до возникновения христианства, приводится в книге известного историка Дэвида Леверинга Льюиса: God’s Crucible: Islam and the Making of Europe, 570–1215. N. Y.: W. W. Norton, 2008.
3. Интересно, что Найма Саюти со ссылкой на историка XIV века Ибн Хальдуна отмечает: «Те, кто не мог позволить себе храм или идола, клали камень перед Каабой или любым другим храмом, а затем поклонялись ему так же, как поклонялись бы самой Каабе. Арабы-язычники называли такие камни ансабами; если же камни напоминали человека или другое живое существо, то назывались аснамами или автанами». См.: The Concept of Allah as the Highest God in Pre-Islamic Arabia // MA thesis, McGill University, 1999. P. 39.
4. Теория о том, что ислам начинался как иудейское мессианское движение, обычно называется агаризмом и была впервые выдвинута историками Патрисией Кроун и Майклом Куком в их книге: Hagarism: The Making of the Islamic World. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. Кук и Кроун опираются на сирийские и еврейские источники по возникновению ислама и заявляют, что Мухаммед был иудеем (на основании уже отмеченных сходств между иудаизмом и исламом) и что его последователи изначально именовались агарянами – по имени первой жены Авраама, Агари, к которой Мухаммед возводил свою родословную. Хотя исламоведы почти полностью опровергли идеи агаризма, его влияние все еще заметно в некоторых современных работах по исламской истории (см., например: Tom Holland. In the Shadow of the Sword: The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire. N. Y.: Doubleday, 2012).
Следует заметить, что познания Мухаммеда в иудаизме были почерпнуты не из Торы, а из разговоров с арабскими евреями. Хотя традиционное восприятие пророка Мухаммеда как человека неграмотного неверно (будучи успешным купцом из самого космополитичного арабского города, Мухаммед почти наверняка умел хоть как-то читать и писать, причем, возможно, даже на нескольких языках), он никак не мог получить доступ к еврейским письменам просто потому, что евреи в Аравии их не имели. Это я рассказываю в своей книге: No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam. N. Y.: Random House, 2005. P. 97–100.
Я перевел слова Allah-u Samad как «Бог единственен», поскольку это лучшее определение сложного арабского слова samad, которое порой переводится как «вечный». Буквально оно значит «ни от кого не зависящий», так что здесь я следую традиции, заложенной Али ибн-Хусейном, который характеризовал слово samad как «Тот, у Кого нет Равного, Кому нетрудно защищать все сущее и от Кого ничто не скрыто».
5. Нужно отметить, что, хотя евреи в империи Сасанидов были на лучшем положении, чем их единоверцы в Византии (под иранским правлением был составлен Вавилонский Талмуд, по всей империи созданы школы иудаизма), законы против прозелитизма ограничивали возможности иудеев участвовать в масштабных теологических дебатах при дворе.
6. См.: Arent Jan Wensinck. The Two Creeds, Fikh Akbar II // The Norton Anthology of World Religions, vol. 2. Jack Miles (ed.). N. Y.: W. W. Norton, 2015. P. 1553–1559.
7. Об аль-Ашари см.: Majid Fakhry. Philosophy and Theology: From the Eighth Century C. E. to the Present // The Oxford History of Islam. John L. Esposito (ed.). N. Y.: Oxford, 1999.
8. Стихотворения Руми можно найти в популярном переводе: Colman Barks. The Essential Rumi (1995); см. также двухтомное издание Mystical Poems of Rumi. A. J. Arberry (transl.). (1968) и Reynold Nicholson. Rumi: Poet and Mystic (1950). [Рус. изд.: Руми Дж. Поэма о скрытом смысле. Л.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986; Руми Дж. Розовый сад. М.: Весь, 2011; Руми Дж. Дорога превращений. Суфийские притчи. М.: Оклик, 2017 и др.] Подробнее о жизни Руми см.: Annemarie Schimmel. I Am Wind, You Are Fire: The Life and Works of Rumi (1992) и новейшую биографию Brad Gooch. Rumi’s Secret. N. Y.: Harper, 2017. Последние толкования первой встречи Шамса и Руми утверждают, что их разговор касался теологической доктрины о природе пророка Мухаммеда. Об этом см.: Omid Safi. Did the Two Oceans Meet? Historical Connections and Disconnections Between Ibn ‘Arabi and Rumi // Journal of Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society, 26 (1999). P. 55–88.
9. Подробнее о «пьяных суфиях» см.: Ahmet Karamustafa. Sufism: The Formative Period. Berkeley: University of California Press, 2007.
10. Ибн аль-Араби родился в испанской Мурсии в 1165 году, за век до встречи Шамса и Руми. Он вырос в Севилье, столице Андалусии, в эпоху, отмеченную не только значительными достижениями в области искусств и наук и широким распространением переводов греческих научных и философских трудов по арабскому миру, но и беспрецедентным количеством смешанных браков между иудеями, христианами и мусульманами. В то время в Андалусии жили знаменитый еврейский философ Маймонид и один из самых влиятельных мыслителей в истории Ибн Рушд, известный на Западе как Аверроэс. Подробнее об Андалусии при исламском правлении см.: María Rosa Menocal. Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain. N. Y.: Back Bay Books, 2003. История прозрения Ибн аль-Араби и ответа Ибн Рушда взята из предисловия к замечательной книге Уильяма Читтика: The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi’s Metaphysics of Imagination. Albany: SUNY Press, 1989.
11. «Есть лишь одно Существование. Это существование, естественно, является состоянием Существа. Таким образом, существует Единое и Единственное Бесконечное Существо. Оно существует через наше собственное существование безотносительно чего бы то ни было». См.: Bulent Rauf. Concerning the Universality of Ibn ‘Arabi // Journal of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society, vol. 6 (1987). Ибн аль-Араби опирался на великих мыслителей прошлого. В определенном смысле он усовершенствовал идеи великого исламского мыслителя Ибн Сины – на Западе Авиценны – и его доктрину о Необходимом Существовании, которая была основана на неоплатонистском понимании Бога как «чистого Существа».
Заключение. Единый
1. В первых главах Бытия есть по меньшей мере три истории, в которых люди пытаются быть как Бог или обрести божественные способности: это история об Эдеме, о падших ангелах из главы 6 и о Вавилонской башне («И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя…» (Быт. 11:4). Во всех случаях теологи Бытия ставят человечество на место в его попытках сравняться с богами.
2. См.: Michael P. Levine. Pantheism: A Non-Theistic Concept of Deity. London: Routledge, 1994. P. 91.
Стэнфордская философская энциклопедия так определяет пантеизм: «В самом общем смысле пантеизм можно позитивно определить как веру в тождественность Бога и космоса, в то, что не существует ничего вне Бога, а негативно – как отказ от точки зрения, при которой Бог рассматривается как нечто отдельное от Вселенной».
Разграничивают пантеизм и панентеизм. Первый предполагает, что Вселенная есть Бог. Второй утверждает, что, хотя Бог присутствует во Вселенной, он трансцендентен по отношению к ней. Уильям Роу пишет, что различие между этими двумя концепциями сводится к точке зрения на Вселенную: «В панентеизме мир конечен и пребывает в Боге, а Бог бесконечен и поэтому не может быть внутри Вселенной или как-то иначе быть ограниченным ее конечностью». Иными словами, разница между пантеизмом и панентеизмом зависит от того, верим мы в бесконечность Вселенной или нет. На мой взгляд, Вселенная – это по определению «все существующее», так что серьезной разницы между пантеизмом и панентеизмом быть не может. Я полагаю, что панентеизм – это еще одна форма веры в очеловеченного бога, обладающего внеположенными Вселенной волей и намерениями. См.: William Rowe. Does Panentheism Reduce to Pantheism? A Response to Craig // International Journal for Philosophy of Religion 61/2 (2007). P. 65–67.
Шопенгауэр высмеивал идею, что мир нужно называть Богом: «Если смотреть на мир непредвзято, никто и не подумает назвать его богом. Это должен быть очень неблагоразумный бог, который не нашел никакого способа себя проявить, кроме как превратиться в такой неприглядный мир».
Левин объясняет, что Бог и мир – это не одно и то же, в том числе и для пантеиста. Однако пантеисты считают, что мир и Бог имеют один и тот же смысл и одно и то же истолкование. Бог, мир и всепроникающее Божественное Единство обозначают одно и то же. Поэтому они, в отличие от непантеистов, считают, что мир и Бог – одно. Это вопрос расхождения не только в свойствах Бога и мира, но и в их значении. Когда пантеисты считают, что мир, или Бог, – это всепроникающее Божественное Единство, они подразумевают под Богом и миром не то, что те, кто не разделяет пантеистических идей. Подробнее о пантеизме см.: H. P. Owen. Concepts of Deity. London: Macmillan, 1971; Alasdair MacIntyre. Pantheism // Encyclopedia of Philosophy 6:31–35; John Macquarrie. In Search of Deity. London: SCM Press, 1984.
3. «Итак, все существа по своим сущностным характеристикам есть Бог, но Бог не есть эти существа – не в том смысле, что Его реальность исключает их, но в том, что перед лицом Его бесконечности их реальность ничтожна». См.: Titus Burckhardt. Introduction to Sufism. London: Thorsons, 1995. P. 29. Аналогия со светом, проходящим через призму, принадлежит самому Ибн аль-Араби, как отмечается в работе Мажеруддина Сиддики: A Historical Study of Iqbal’s views on Sufism // Islamic Studies 5/4 (1966). P. 411–427.
4. Веданта цит. по: W. S. Urquhart. Pantheism and the Value of Life with Special Reference to Indian Philosophy. London: Epworth Press, 1919. P. 25. Тимоти Спригг уточняет анализ Уркварта, отмечая, что «первое [то есть нет Ничего, что не является Богом] утверждает, что не существует ничего, кроме невыразимо единого Брахмана и что обычный мир со всем своим разнообразием – это иллюзия. Второе [Бог – это все сущее] утверждает, что хотя обычный мир – это не просто иллюзия, он полностью состоит из модификаций единственного всеобщего духа. Первое – это адвайта-веданта, великим классиком которой является Шанкара; второе – вишишта-веданта, сформулированная Рамануджей». См.: T. L. S. Sprigge. Pantheism // Monist 80/2 (1997). P. 199.
Радхакришнан так пишет о пантеизме в ведантах: «Систему веданты считают акосмическим пантеизмом, основанным на реальности только Абсолюта – Брахмана – и на иллюзорности его конечных проявлений. Существует лишь одна абсолютная недифференцированная реальность, природа которой образована знанием. Весь эмпирический мир, со своим разграничением конечных разумов и объектов мышления, представляет собой иллюзию. Субъекты и объекты – это лишь мимолетные образы, которые сосредоточивают в себе спящую душу и обращаются в ничто в момент пробуждения. Слово «майя» обозначает иллюзорный характер конечного мира. Концепцию Майи Шанкара объясняет через аналогию змеи и веревки, фокусника и фокусов, пустыни и миража, спящего и сна. Центральные черты философии веданты, характерной для сегодняшнего дня, можно охарактеризовать так: Брахман реален, Вселенная ложна, Атман есть Брахман. Больше нет ничего». См.: Sarvepalli Radhakrishnan. The Vedanta Philosophy and the Doctrine of Maya // International Journal of Ethics 24/4 (1914). P. 431.
Эйхэй Догэн цит. по: Zen Ritual: Studies of Zen Buddhist Theory in Practice. Steven Heine, Dale S. Wright (eds.). N. Y.: Oxford, 2008. Чжуан-цзы цит. по: Rodney A. Cooper. Tao Te Ching: Classic of the Way of Virtue – An English Version with Commentary. Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2013. P. xv. Купер отмечает: «Даосизм – это нечто гораздо большее, чем пантеизм, поскольку дао существует дольше, чем существует мир. Если сравнивать даосизм с другими системами верований, больше всего он напоминает панентеизм – систему, которая утверждает наличие божественной силы (будь то монотеистический Бог, политеистические боги или вечная одушевляющая космическая сила), пронизывающей каждую частичку Вселенной и выходящей за ее пределы вне времени. Панентеизм отличается от пантеизма, в котором божественное синонимично Вселенной» (P. xvi).
5. Концепция цимцума – это панентеистический подход, хотя многие исследователи отмечают противоречивость попытки отделить самого Бога от Его создания, если создание происходит от самого Бога. Руфус Джонс пишет: «Чтобы мир был полностью внеположен Богу, Он должен сосредоточиться на Своем Существе как Эйн Соф, ибо как может быть внешним мир, если Бог повсюду и во всем?» См.: Rufus M. Jones. Jewish Mysticism // Harvard Theological Review 36/2 (1943). P. 161–162. См. также: Gloria Wiederkehr Pollack Eliezer Zvi Hacohen Zweifel: Forgotten Father of Modern Scholarship on Hasidism // Proceedings of the American Academy for Jewish Research 49 (1982). P. 87–115.
Согласно Уинфриду Кордюану, понимание Экхартом Бога граничит с пантеизмом. «И тем не менее, хотя пантеизм и учение Экхарта очень близки друг другу, тот волосок, на который они расходятся, на деле представляет собой бесконечно широкую пропасть, поскольку созданный мир не является божественным. Лишь искупительная жертва Бога преобразует грешный мир, возвращая его Богу. То, что нельзя найти в природе и вне природы, может быть получено от Бога». См.: Winfried Corduan. A Hair’s Breadth from Pantheism: Meister Eckhart’s God-Centered Spirituality // Journal of the Evangelical Theological Society 37/2 (1994). P. 274.
6. Пантеизм Спинозы часто называют монизмом – «подходом, при котором существует лишь одна вещь или тип вещей». Нужно отметить, что Майкл Левин проводит четкую границу между пантеизмом и философским «монизмом» Спинозы и пишет: «Любое приравнивание монизма к пантеизму опровергается тем, что монисты порой отрицают любую божественность того “Единого”, о котором говорят» (P. 86).
Среди других философов-«пантеистов» можно назвать Плотина, Лао-цзы, Шеллинга и Гегеля. См.: Peter Forrest, Roman Majeran. Pantheism // Annals of Philosophy 64/4 (2016). P. 67–91.
7. Описывая нашу естественную склонность к «сущностному дуализму», когнитивный психолог Пол Блум отмечает, что это «естественный побочный продукт наличия у нас двух отдельных когнитивных систем, из которых одна оперирует материальными объектами, а другая – социальными сущностями». Paul Bloom. Religious Belief as Evolutionary Accident // The Believing Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. Jeffrey Schloss, Michael J. Murray (eds.). N. Y.: Oxford University Press, 2009. P. 118–127. Блум описывает ряд экспериментов, проведенных с детьми и свидетельствующих о врожденной вере в дуализм души и тела, в своей книге: Descartes’ Baby: How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human. N. Y.: Basic Books, 2004.
Мало кто провел больше подобных экспериментов, чем Джастин Барретт. Он заключает: «Все больше специалистов по когнитивной психологии считают, что какие-то особенности развития человеческого мышления, судя по всему, заставляют нас полагать, что мы после смерти сохраняем некую свою часть и что это нечто существует уже сейчас… Почему именно вера в души и духов, которые переживают смерть, так естественна для детей и взрослых, сейчас выясняется: это сфера активных исследований и дебатов. Пока существует консенсус в отношении того, что дети с рождения верят в некую загробную жизнь, но не в отношении причин этого». См.: Justin L. Barrett. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief. N. Y.: Atria Books, 2012. P. 118, 120.
Джесси Беринг пытается дать когнитивный ответ на проблему нашего интуитивного представления о душе, которое связано с врожденной верой в жизнь после смерти. Беринг пишет: «Поскольку эпистемологически невозможно понять, каково это – быть мертвым, люди чаще всего приписывают мертвым такие типы ментальных состояний, отсутствие которых они не могут себе представить. Эта модель предполагает, что верить в жизнь после смерти естественно, а передача социального опыта лишь обогащает или обедняет интуитивные представления о загробной жизни». См.: Jesse M. Bering. Intuitive Conceptions of Dead Agents’ Minds: The Natural Foundations of Afterlife Beliefs as Phenomenological Boundary // Journal of Cognition and Culture 2.4 (2002). P. 263–308; The Folk Psychology of Souls // Behavioral and Brain Sciences 29 (2006). P. 453–498.
Библиография
Abadia Oscar Moro, Manuel R. Gonzalez Morales. Paleolithic Art: A Cultural History // Journal of Archaeological Research 21 (2013). P. 269–306.
Adovasio J. M., Olga Soffer, Jake Page. The Invisible Sex. N. Y.: HarperCollins, 2007.
Albright William Foxwell. Jethro, Hobab, and Reuel in Early Hebrew Tradition. Catholic Biblical Quarterly 25/1 (1963). P. 1–11.
Allam Schafik. Slaves. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Donald Redford (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 293–296.
Anonymous. Cultus Arborum: A Descriptive Account of Phallic Tree Worship, with Illustrative Legends, Superstitions, Usages, &c., Exhibiting Its Origin and Development Amongst the Eastern & Western Nations of the World, from the Earliest to Modern Times; with a Bibliography of Works upon and Referring to the Phallic Cultus. London: privately published, 1890.
Anthes Rudolf. Egyptian Theology in the Third Millennium B. C. Journal of Near Eastern Studies 18/3 (1959). P. 169–212.
Arapura J. G. Transcendent Brahman or Transcendent Void: Which Is Ultimately Real? Transcendence and the Sacred. Transcendence and the Sacred. A. M. Olson, L. S. Rouner (eds.). Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1981. P. 83–99.
Archer W. G. Review: Four Hundred Centuries of Cave Art by Abbé H. Breuil // Burlington Magazine 95/607 (1953). P. 343–344.
Armitage Simon et al. The Southern Route “Out of Africa”: Evidence for an Early Expansion of Modern Humans into Arabia // Science 331/6016 (2011). P. 453–456.
Arnold Bettina, Derek B. Counts. Prolegomenon: The Many Masks of the Master of Animals. The Master of Animals in Old World Iconography. Derek B. Counts, Bettina Arnold (eds.). Budapest: Archaeolingua Alapitvany, 2010. P. 9–24.
Aslan Reza. Thus Sprang Zarathustra: A Brief Historiography on the Date of the Prophet of Zoroastrianism // Jusur 14 (1998–99). P. 21–34.
––. No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam. N. Y.: Random House, 2005.
––. Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth. N. Y.: Random House, 2013. [Рус. изд.: Аслан Р. ZEALOT. Иисус. Биография фанатика. М.: АСТ, 2014.]
Assman Jan. The Mind of Egypt. N. Y.: Metropolitan, 1996.
––. The Search for God in Ancient Egypt. David Lorton (transl.). Ithaca and London: Cornell University Press, 2001.
––. Of Gods and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism. Madison: University of Wisconsin Press, 2008.
––. From Akhenaten to Moses: Ancient Egypt and Religious Change. Cairo: American University in Cairo, 2014.
Astour Michael C. Yahweh in Egyptian Topographic Lists. Festschrift Elmar Edel in Ägypten und Altes Testament. Manfred Görg (ed.). Bamberg, Germany: Görg, 1979. P. 17–19.
Atlas S. The Philosophy of Maimonides and Its Systematic Place in the History of Philosophy // Philosophy 11/41 (1936). P. 60–75.
Atran Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. N. Y.: Oxford University Press, 2002.
Atwell James. An Egyptian Source for Genesis // Journal of Theological Studies 51/2 (2000). P. 441–477.
Aubert Maxime et al. Pleistocene Cave Art from Sulawesi, Indonesia // Nature 514 (2014). P. 223–227.
Bahn Paul. The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Bahn Paul, Natalie Franklin, Matthias Stecker (eds.). Rock Art Studies: News of the World IV. Oxford: Oxbow Books, 2012.
Baines John. Kingship, Definition of Culture, and Legitimation. Ancient Egyptian Kingship. David O’Connor, David P. Silverman (eds.). Leiden: Brill, 1995. P. 3–48.
Bandstra Barry. Reading the Old Testament: Introduction to the Hebrew Bible. 4th ed. Belmont, Calif.: Wadsworth, 2009.
Banning E. B. The Neolithic Period: Triumphs of Architecture, Agriculture, and Art // Near Eastern Archaeology 61/4 (1998). P. 188–237.
Barkley Russell A. Executive Functions: What They Are, How They Work, and Why They Evolved. N. Y.: Guilford Press, 2012.
Barks Coleman. The Essential Rumi. N. Y.: HarperOne, 2004.
Barrett Justin L. Cognitive Constraints on Hindu Concepts of the Divine // Journal for the Scientific Study of Religion 37 (1998). P. 608–619.
––. Theological Correctness: Cognitive Constraint and the Study of Religion // Method and Theory in the Study of Religion 11 (1998). P. 325–339.
––. Exploring the Natural Foundations of Religion // Trends in Cognitive Sciences 4/1 (2000). P. 29–34.
––. Why Would Anyone Believe in God? Lanham, Md.: Altamira Press, 2004.
––. Cognitive Science, Religion and Theology. The Believing Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. J. Schloss, M. Murray (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 76–99.
––. Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief. N. Y.: Atria Books, 2012.
Barton C. Michael, G. A. Clark, Allison E. Cohen. Art as Information: Explaining Upper Palaeolithic Art in Western Europe // World Archaeology 26/2 (1994). P. 185–207.
Barua Ankur. God’s Body at Work: Rāmānuja and Panentheism // International Journal of Hindu Studies 14/1 (2010). P. 1–30.
Bar-Yosef Ofer. The PPNA in the Levant – An Overview // Paléorient 15/1 (1989). P. 57–63.
Bausani Alessandro. Theism and Pantheism in Rumi // Iranian Studies 1/1 (1968). P. 8–24.
Begouën Robert, Jean Clottes. Les Trois-Frères after Breuil // Antiquity 61 (1987). P. 180–187.
Begouën Robert, Carole Fritz, and Gilles Tosello. Parietal Art and Archaeological Context: Activities of the Magdalenians in the Cave of Tuc d’Audoubert, France. A Companion to Rock Art. Jo McDonald, Peter Veth (eds.). London: Chichester, U. K.: Wiley-Blackwell, 2012. P. 364–380.
Berghaus Gunter. New Perspectives on Prehistoric Art. Westport, Conn.: Praeger, 2004.
Bering Jesse M. Intuitive Conceptions of Dead Agents’ Minds: The Natural Foundations of Afterlife Beliefs as Phenomenological Boundary // Journal of Cognition and Culture 2/4 (2002). P. 263–308.
––. The Cognitive Psychology of Belief in the Supernatural: Belief in a Deity or an Afterlife Could Be an Evolutionarily Advantageous By-product of People’s Ability to Reason About the Minds of Others // American Scientist 94/2 (2006). P. 142–149.
––. The Folk Psychology of Souls // Behavioral and Brain Sciences 29/5 (2006). P. 462–498.
Berlejung Angelika. Washing the Mouth: The Consecration of Divine Images in Mesopotamia. The Image and the Book: Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of the Book Religion in Israel and the Ancient Near East. K. van der Toorn (ed.). Leuven: Peeters, 1997. P. 45–72.
Binford Lewis R. Post-Pleistocene Adaptations. New Perspectives in Archaeology. L. R. Binford, S. R. Binford (eds.). Chicago: Aldine, 1968. P. 313–342.
Binns L. Elliott. Midianite Elements in Hebrew Religion // Journal of Theological Studies 31/124 (1930). P. 337–354.
Bird-David Nurit. “Animism” Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology // Current Anthropology 40/S1 (1999). P. S67–S91.
Black Whitney Davis et al. Art for Art’s Sake in the Paleolithic [and Comments and Reply] // Current Anthropology 28/1 (1987). P. 63–89.
Blanc Alberto C. Some Evidence for the Ideologies of Early Man. Social Life of Early Man. Sherwood Washburn (ed.). London: Routledge, 2004. P. 119–136.
Bloch Maurice. In and Out of Each Other’s Bodies: Theory of Mind, Evolution, Truth, and the Nature of the Social. N. Y.: Routledge, 2016.
Bloom Paul. Descartes’ Baby: How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human. N. Y.: Basic Books, 2004.
––. Religious Belief as an Evolutionary Accident. The Believing Primate. Jeffrey Schloss, Michael J. Murray (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 118–127.
––. Religion, Morality, Evolution // Annual Review of Psychology 63 (2012). P. 179–199.
Boak Arthur Edward Romilly. The Theoretical Basis of the Deification of Rulers in Antiquity // The Classical Journal 11/5 (1916). P. 293–297.
Bosch-Gimpera P. Review Four Hundred Centuries of Cave Art by Abbé H. Breuil // Boletín Bibliográfico de Antropología Americana 15/2 16/2 (1952–1953). P. 80–82.
Bottéro Jean. Religion in Ancient Mesopotamia. Teresa Lavender Fagan (transl.). Chicago: University of Chicago Press, 2004.
Boutwood Arthur. A Scientific Monism // Proceedings of the Aristotelian Society, New Series 1 (1900–1901). P. 140–166.
Boyce Mary. History of Zoroastrianism. 3 vols. Leiden: Brill, 1975–1991.
Boyd Robert et al. The Evolution of Altruistic Punishment // Proceedings of the National Academy of Sciences 100/3 (2003): 3531–3535.
Boyer Pascal. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1994.
––. Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. N. Y.: Basic Books, 2001. [Рус. изд.: Буайе П. Объясняя религию. М.: Альпина нон-фикшн, 2016.]
Braidwood Robert J. The Agricultural Revolution // Scientific American 203 (1960). P. 130–141.
––. Prehistoric Men. 6th ed. Chicago: Chicago Natural History Museum, 1963.
Brandon S. G. F. The Ritual Perpetuation of the Past // Numen 6/2 (1959). P. 112–129.
Breasted James. Ancient Records of Egypt. Vol. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1906.
Breuil Abbé Henri. Four Hundred Centuries of Cave Art. Mary E. Boyle (transl.). N. Y.: Hacker Art Books, 1979 [1952].
––. White Lady of Brandberg: Rock Paintings of South Africa. Vol. 1. London: Faber and Faber, 1955.
Breuil Abbé Henri, Raymond Lantier. The Men of the Old Stone Age. N. Y.: St. Martin’s Press, 1965.
Brisch Nicole. The Priestess and the King: The Divine Kingship of Šū-Sîn of Ur // Journal of the American Oriental Society 126/2 (2006). P. 161–76.
Broadie Sarah. Theological Sidelights from Plato’s “Timaeus” // Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes 82 (2008). P. 1–17.
Brown Francis, S. R. Driver, Charles Briggs. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Oxford: Oxford University Press, 1951.
Burckhardt Titus. Introduction to Sufism. London: Thorsons, 1995.
Burger Peter. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. N. Y.: Doubleday, 1967.
Burkert Walter. Greek Religion. John Raffan (transl.). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
––. Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.
Burkit Miles C. Review of La Signification de l’Art Rupestre Paléolithique // Man 63 (1963). P. 14.
Call Josep, Michael Tomasello. Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind? 30 Years Later // Trends in Cognitive Sciences 12/5 (2008). P. 187–92.
Carneiro Robert L. Review of The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture by Jacques Cauvin // American Antiquity 67/3 (2002). P. 575–576.
Cartailhac Émile. Les mains inscrites de rouge ou de noir de Gargas // L’anthropologie 17 (1906). P. 624–625.
Carter Tim. Marcion’s Christology and Its Possible Influence on Codex Bezae // The Journal of Theological Studies 61/2 (2010). P. 550–582.
Cauvin Jacques. The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture. Trevor Watkins (transl.). New Studies in Archaeology; Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Cauvin Jacques, Ian Hodder, Gary O. Rollefson, Ofer Bar-Yosef, Trevor Watkins. Review of The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture by Jacques Cauvin // Cambridge Archaeological Journal 11/01 (2001). P. 105–121.
Chalupa Aleš. How Did Roman Emperors Become Gods? Various Concepts of Imperial Apotheosis // Anodos – Studies of the Ancient World 6–7 (2006–2007). P. 201–207.
Childe Vere Gordon. The Urban Revolution // Town Planning Review 21/1 (1950). P. 3–17.
––. Man Makes Himself: History of the Rise of Civilization. 3d ed. London: Watts and Company, 1936.
Chipp Herschel B. Review of Palaeolithic Art // Art Journal 22/1 (1962). P. 54–56.
Chittenden Jacqueline. The Master of Animals // Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens 16/1 (1947). P. 89–114.
Chittick William C. The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabi’s Metaphysics of Imagination. Albany: SUNY Press, 1989.
Cicero. The Nature of the Gods. P. G. Walsh (transl.). Oxford: Oxford University Press, 2008.
Clark Geoffrey A. Grave Markers: Middle and Early Upper Paleolithic Burials and the Use of Chronotypology in Contemporary Paleolithic Research // Current Anthropology 42/4 (2001). P. 449–479.
Clottes Jean, David Lewis-Williams. The Shamans of Prehistory: Trance Magic and the Painted Caves. N. Y.: Abrams, 1998.
Coats George W. Moses in Midian // Journal of Biblical Literature 92/1 (1973). P. 3–10.
Cohen Martin. The Role of the Shilonite Priesthood in the United Monarchy of Ancient Israel // Hebrew Union College Annual 36 (1965). P. 59–98.
Conard Nicholas J. Palaeolithic Ivory Sculptures from Southwestern Germany and the Origins of Figurative Art // Nature 426/18 (2003). P. 830–832.
Conkey Margaret W. A Century of Palaeolithic Cave Art // Archaeology 34/4 (1981). P. 20–28.
Coogan Michael David. Canaanite Origins and Lineage: Reflections on the Religion of Ancient Israel // Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross. Patrick D. Miller et al. (eds.). Philadelphia: Fortress Press, 1987. P. 115–184.
Cooper Rodney A. Tao Te Ching: Classic of the Way and Virtue; An English Version with Commentary. Bloomington, Ind.: AuthorHouse, 2013.
Corduan Winfried. A Hair’s Breadth from Pantheism: Meister Eckhart’s God-Centered Spirituality // Journal of the Evangelical Theological Society 37/2 (1994). P. 263–74.
Crone Patricia, Michael Cook. Hagarism: The Making of the Islamic World. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
Cross Frank Moore. Yahweh and the God of the Patriarchs // Harvard Theological Review 55/4 (1962). P. 225–259.
––. Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.
Csibra Gergely et al. Goal Attribution Without Agency Cues: The Perception of “Pure Reason” in Infancy // Cognition 72/3 (1999). P. 237–267.
Dalley Stephanie. Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, and Others. N. Y.: Oxford University Press, 1989.
Davenport Guy. Robot // Hudson Review 25/3 (1972). P. 413–446.
Deimel Antonius. Pantheon Babylonicum: Nomina Deorum e Textibus Cuneiformibus Excerpta et Ordine Alphabetico Distributa. Rome: Sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1914.
De La Torre Miguel A., Albert Hernández. The Quest for the Historical Satan. Minneapolis: Fortress Press, 2011.
De Moor Johannes C. The Rise of Yahwism: The Roots of Israelite Monotheism. 2d ed. Leuven: Peeters, 1997.
Dever William G. Asherah, Consort of Yahweh? New Evidence from Kuntillet ‘Ajrûd // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 255 (1984). P. 21–37.
––. Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
de Wet Chris. Mystical Expression and the “Logos” in the Writings of St. John of the Cross // Neotestamentica 42/1 (2008). P. 35–50.
Dexter Miriam Robbins. Proto-Indo-European Sun Maidens and Gods of the Moon // Mankind Quarterly 55 (1984). P. 137–144.
Diaz-Andreu Margarita. An All-Embracing Universal Hunter-Gatherer Religion? Discussing Shamanism and Spanish Levantine Rock-Art // The Concept of Shamanism: Uses and Abuses. Henri-Paul Francfort, Roberte N. Hamayon (eds.). Budapest: Akademiai Kiado: 2001. P. 117–133.
Dion Paul E. YHWH as Storm-God and Sun-God: The Double Legacy of Egypt and Canaan as Reflected in Psalm 104 // Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 103/1 (1991). P. 43–71.
Duling Dennis C. Jesus Christ Through History. N. Y.: Harcourt, 1979.
Dumbrell William J. Midian: A Land or a League? // Vetus Testamentum 25/2 (1975). P. 323–337.
Durkheim Émile. The Elementary Forms of Religious Life. N. Y.: Free Press, 1995.
Ehrman Bart D. Lost Christianities: The Battle for Scripture and the Faiths We Never Knew. N. Y.: Oxford University Press, 2003.
Eliade Mircea. Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy. Princeton: Princeton/Bollingen, 1974.
––. From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries. Volume 1 of History of Religious Ideas. Willard Trask (transl.). Chicago: University of Chicago Press, 1978. [Рус. изд.: Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1. От каменного века до элевсинских мистерий. М.: Академический проект, 2009.]
Eliade Mircea et al. The Encyclopedia of Religion. 16 vols. N. Y.: Macmillan, 1987.
Eshraghian Ahad, Bart Loeys. Loeys-Dietz Syndrome: A Possible Solution for Akhenaten’s and His Family’s Mystery Syndrome // South African Medical Journal 102/8 (2012). P. 661–664.
Fagan Brian M., Charlotte Beck (eds.). The Oxford Companion to Archaeology. N. Y.: Oxford University Press, 1996.
Fakhry Majid. Philosophy and Theology: From the Eighth Century C. E. to the Present // The Oxford History of Islam. John L. Esposito (ed.). N. Y.: Oxford University Press, 1999. P. 269–304.
Faulkner Raymond O. The Ancient Pyramid Texts. Oxford: Clarendon Press, 1969.
Feeley-Harnik Gillian. Issues in Divine Kingship // Annual Review of Anthropology 14 (1985). P. 273–313.
Feld Edward. Spinoza the Jew // Modern Judaism 9/1 (1989). P. 101–119.
Feuerbach Ludwig. The Essence of Christianity. Marian Evans (transl.). N. Y.: Calvin Blanchard, 1855.
––. Lectures on the Essence of Religion. Ralph Manheim (transl.). N. Y.: Harper and Row, 1967.
––. Principles of the Philosophy of the Future. Manfred Vogel (transl.). Indianapolis: Hackett, 1986.
Finkel Irving. The Ark Before Noah: Decoding the Story of the Flood. N. Y.: Doubleday, 2014.
Fitzmyer Joseph. The Aramaic Language and the Study of the New Testament // Journal of Biblical Literature 99/1 (1980). P. 5–21.
Forrest Peter, Roman Majeran. Pantheism // Roczniki Filozoficzne / Annales de Philosophie / Annals of Philosophy 64/4 (2016). P. 67–91.
Foster Benjamin R. Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature. Bethesda: University of Maryland Press, 2005.
Frankfort Henri. Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature. Chicago: University of Chicago Press, 1948.
Fraser Douglas. Review of Palaeolithic Art: Indian Art in America // Art Bulletin 45/1 (1963). P. 61–62.
Freed Rita. Art in the Service of Religion and the State // Pharaohs of the Sun: Akhenaten, Nefertiti, Tutankhamun. Boston: Museum of Fine Arts in association with Bulfinch Press/Little, Brown, 1994. P. 110–129.
Freeman L. G. The Significance of Mammalian Faunas from Paleolithic Occupations in Cantabrian Spain // American Antiquity 38/1 (1973). P. 3–44.
Freud Sigmund. Totem and Taboo: Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics. Abraham Arden Brill (transl.). N. Y.: Moffat, Yard and Company, 1918. [Рус. изд.: Фрейд З. Тотем и табу. СПб.: Азбука-классика, 2005.]
––. The Future of an Illusion. W. D. Robson-Scott (transl.). London: Hogarth Press, 1928. [Рус. изд.: Фрейд З. Будущее одной иллюзии. М.: АСТ, 2011.]
Gamble Clive. Interaction and Alliance in Palaeolithic Society // Man 17/1 (1982). P. 92–107.
––. The Palaeolithic Settlement of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Garcia-Diez M., D. L. Hoffman, J. Zilhao, C. de las Heras, J. A. Lasheras, R. Montes, A. W. G. Pike. Uranium Series Dating Reveals a Long Sequence of Rock Art at Altamira Cave (Santillana del Mar, Cantabria) // Journal of Archaeological Science 40 (2013). P. 4098–4106.
Garr W. R. In His Own Image and Likeness: Humanity, Divinity, and Monotheism. Leiden: Brill, 2003.
Geertz Clifford. The Interpretation of Cultures. N. Y.: Basic Books, 1973.
Giedion Sigfried. Review: Four Hundred Centuries of Cave Art by Abbé H. Breuil // College Art Journal 12/4 (1953). P. 381–383.
Girard René. Violence and the Sacred. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1979. [Рус. изд.: Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2010.]
Giversen Soren, Birger A. Pearson. The Testimony of Truth // The Nag Hammadi Library in English. James M. Robinson (transl.). San Francisco: HarperSanFrancisco, 1978. P. 448–459.
Goedicke Hans. Remarks on the “Israel-Stela” // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 94 (2004). P. 53–72.
Gooch Brad. Rumi’s Secret: The Life of the Sufi Poet of Love. N. Y.: Harper, 2017.
Goodrich Norma Lorre. Ancient Myths. London: Mentor Books, 1960.
Gottwald Norman K. The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250–1050 B. C. E. Maryknoll, N. Y.: Orbis Books, 1979.
Gowlett John, Clive Gamble, Robin Dunbar. Human Evolution and the Archaeology of the Social Brain // Current Anthropology 53/6 (2012). P. 693–722.
Graziosi Barbara. The Gods of Olympus: A History. N. Y.: Picador, 2014.
Green Alberto R. W. The Storm-God in the Ancient Near East. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2003.
Green Richard E. et al. A Draft Sequence of the Neanderthal Genome // Science 328 (2010). P. 701–722.
Gregory Curtis. The Cave Painters: Probing the Mysteries of the World’s First Artists. N. Y.: Alfred A. Knopf, 2006.
Grun Rainer et al. U‐series and ESR analyses of bones and teeth relating to the human burials from Skhul // Journal of Human Evolution 49/3 (2005). P. 316–334.
Guenevere Michael, Hillard Kaplan. Longevity of Hunter-Gatherers: A Cross-Cultural Examination // Population and Development Review 33/2 (2007). P. 321–365.
Gunther Hans F. K. The Religious Attitudes of the Indo-Europeans. Vivian Bird (transl.). London: Clare Press, 1967.
Guthrie R. Dale. The Nature of Paleolithic Art. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
Guthrie Stewart. Faces in the Clouds. N. Y.: Oxford University Press, 1995.
––. On Animism // Current Anthropology 41/1 (2000). P. 106–107.
Hahn Joachim. Kraft und Aggression: Die Botschaft der Eiszeitkunst im Aurignacien Süddeutschlands? Tübingen: Verlag Archaeologica Venatoria, 1986.
Hall Edith. Introducing the Ancient Greeks: From Bronze Age Seafarers to Navigators of the Western Mind. N. Y.: W. W. Norton, 2015.
Hallowell Alfred Irving. Ojibwa Ontology, Behavior, and World View // Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin. Stanley Diamond (ed.). N. Y.: Columbia University Press, 1960. P. 20–52.
Halverson John et al. Art for Art’s Sake in the Paleolithic [and Comments and Reply] // Current Anthropology 28/1 (1987). P. 63–89.
Hammond Norman. Palaeolithic Mammalian Faunas and Parietal Art in Cantabria: A Comment on Freeman // American Antiquity 39/4 (1974). P. 618–619.
Harari Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. N. Y.: HarperCollins, 2015. [Рус. изд.: Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад, 2016.]
Harrison Paul. Elements of Pantheism. Coral Springs, Fla.: Lumina Press, 2004.
Harvey Paul (ed.). The Oxford Companion to Classical Literature. Oxford: Clarendon Press, 1951.
Hasel Michael G. Israel in the Merneptah Stela // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 296 (1994). P. 45–61.
Hawkes Jacquetta, Sir Leonard Woolley. Prehistory and the Beginnings of Civilization. N. Y.: Harper and Row, 1963.
Hayden Brian. Review of The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture by Jacques Cauvin // Canadian Journal of Archaeology/Journal Canadien d’Archéologie 26/1 (2002). P. 80–82.
––. Shamans, Sorcerers and Saints. Washington, D. C.: Smithsonian, 2003.
Hedley Douglas. Pantheism, Trinitarian Theism and the Idea of Unity: Reflections on the Christian Concept of God // Religious Studies 32/1 (1966). P. 61–77.
Herodotus. A. D. Godley (transl.). Loeb Classical Library. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1960.
Hodder Ian. The Role of Religion in the Neolithic of the Middle East and Anatolia with Particular Reference to Catalhöyük // Paléorient 37/1 (2001). P. 111–122.
––. Symbolism and the Origins of Agriculture in the Near East // Cambridge Archaeological Journal 11/1 (2001). P. 107–114.
Hodin J. P. Review: Four Hundred Centuries of Cave Art by Abbé H. Breuil; Art in the Ice Age by Johannes Maringer, Hans-Georg Bandi // Journal of Aesthetics and Art Criticism 13/2 (1954). P. 272–273.
Hoffmeier James K. Akhenaten and the Origins of Monotheism. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Holland Tom. In the Shadow of the Sword: The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire. N. Y.: Doubleday, 2012.
Hornung Erik. The Rediscovery of Akhenaten and His Place in Religion // Journal of the American Research Center in Egypt 29 (1992). P. 43–49.
––. Akhenaten and the Religion of Light. Translated by David Lorton. Ithaca and London: Cornell University Press, 1999.
Hovers Erella, Shimon Ilani, Ofer Bar-Yosef, Bernard Vandermeersch. An Early Case of Color Symbolism: Ochre Use by Modern Humans in Qafzeh Cave // Current Anthropology 44/4 (2003). P. 491–522.
Hublin Jean-Jacques, Shannon P. McPherron (eds.). Modern Origins: A North African Perspective. N. Y.: Springer, 2012.
Huchingson James E. The World as God’s Body: A Systems View // Journal of the American Academy of Religion 48/3 (1980). P. 335–344.
Hume David. Four Dissertations. London: A. and H. Bradlaugh Bonner, 1757.
Hutton Ronald. Witches, Druids, and King Arthur. N. Y.: Bloomsbury Academic, 2003.
Ingold Tim, Gisli Palsson (eds.). Biosocial Becomings: Integrating Social and Biological Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Irani Dinshaw J. Understanding the Gathas: The Hymns of Zarathushtra. Womelsdorf, Pa.: Ahura Publishers, 1994.
Jacobsen Thorkild. Ancient Mesopotamian Religion: The Central Concerns // Proceedings of the American Philosophical Society 107/6 (1963). P. 473–484.
––. Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia // Journal of Near Eastern Studies 2/3 (1943). P. 159–172.
––. The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1978. [Рус. изд.: Якобсен Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии. М.: Восточная литература, 1995.]
James E. O. The Threshold of Religion. The Marett Lecture, 1958 // Folklore 69/3 (1958). P. 160–174.
Jaubert Jacques et al. Early Neanderthal Constructions Deep in Bruniquel Cave in Southwestern France // Nature 534 (2016). P. 111–127.
Jochim Michael. Palaeolithic Cave Art in Ecological Perspective // Hunter Gatherer Economy in Prehistory. G. N. Bailey (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 212–219.
Johnson Raymond. Monuments and Monumental Art under Amenhotep III: Evolution and Meaning // Amenhotep III: Perspectives on His Reign. David O’Connor, Eric H. Cline (eds.). Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001. P. 63–94.
Jones Rufus M. Jewish Mysticism // Harvard Theological Review 36/2 (1943). P. 155–163.
Karamustafa Ahmet. Sufism: The Formative Period. Berkeley: University of California Press, 2007.
Kelemen Deborah. Are Children Intuitive Theists? Reasoning About Purpose and Design in Nature // Psychological Science 15/5 (2004). P. 295–301.
Kelemen Deborah, Cara DiYanni. Intuitions About Origins: Purpose and Intelligent Design in Children’s Reasoning About Nature // Journal of Cognition and Development 6/1 (2005). P. 3–31.
Kenyon Kathleen. Digging up Jericho. N. Y.: Praeger, 1957.
Keyser James D., David S. Whitley. Sympathetic Magic in Western North American Rock Art // American Antiquity 71/1 (2006). P. 3–26.
Knight Nicola, Paulo Sousa, Justin L. Barrett, Scott Atran. Children’s Attributions of Beliefs to Humans and God: Cross-Cultural Evidence // Cognitive Science 28 (2004). P. 117–126.
Köhler Ludwig. Old Testament Theology. A. S. Todd (transl.). Philadelphia: Westminster Press, 1957.
Kreitzer Larry. Apotheosis of the Roman Emperor // Biblical Archaeologist 53/4 (1990). P. 210–217.
Kubler George. Eidetic Imagery and Paleolithic Art // Yale University Art Gallery Bulletin 40/1 (1987). P. 78–85.
Kuiper F. B. J. Ahura “Mazda” “Lord Wisdom”? // Indo-Iranian Journal 18/1–2 (1976). P. 25–42.
Lambert Wilfred G. The God Aššur // Iraq 45/1 (1983). P. 82–86.
––. Babylonian Creation Myths. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2013.
Larson Gerald James (ed.). Myth in Indo-European Antiquity. Berkeley: University of California Press, 1974.
Lasheras Jose Antonio. The Cave of Altamira: 22,000 Years of History // Adoranten (2009): 5–33.
Leeming David, Margaret Leeming (eds.). A Dictionary of Creation Myths. N. Y.: Oxford, 1994.
Legrain Georges. Second rapport sur les travaux exécutés à Karnak du 31 octobre 1901 au 15 mai 1902 // Annales du Service des Antiquités de L’Égypte 4 (1903). P. 1–40.
Leroi-Gourhan André. The Dawn of European Art: An Introduction to Palaeolithic Cave Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
––. The Hands of Gargas: Toward a General Study // October 37 (1986). P. 18–34.
––. The Hunters of Prehistory. Claire Jacobson (transl.). N. Y.: Atheneum, 1989.
––. The Religion of the Caves: Magic or Metaphysics? // October 37 (1986). P. 6–17.
––. Treasures of Prehistoric Art. N. Y.: Harry Abrams, 1967.
Lesher James H. Xenophanes of Colophon: Fragments: A Text and Translation with Commentary. Toronto: University of Toronto Press, 1992.
Levine Michael P. Pantheism: A Non-Theistic Concept of Deity. N. Y.: Routledge, 1994.
––. Pantheism, Substance and Unity // International Journal for Philosophy of Religion 32/1 (1992). P. 1–23.
Levine Morton H. Review Four Hundred Centuries of Cave Art by Abbé H. Breuil // American Anthropologist, New Series, 59/1 (1957). P. 142–143.
––. Prehistoric Art and Ideology // American Anthropologist 59/6 (1957). P. 949–964.
Lévi-Strauss Claude. Totemism. Rodney Needham (transl.). London: Merlin Press, 1991. [Рус. изд.: Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. М.: Академический проект, 2008.]
Lewis David Levering. God’s Crucible: Islam and the Making of Europe, 570–1215. N. Y.: W. W. Norton, 2008.
Lewis-Williams David. Conceiving God: The Cognitive Origin and Evolution of Religion. London: Thames and Hudson, 2010.
––. Debating Rock Art: Myth and Ritual, Theories and Facts // South African Archaeological Bulletin 61/183 (2006). P. 105–114.
––. Inside the Neolithic Mind. London: Thames and Hudson, 2009.
––. The Mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art. London: Thames and Hudson, 2004.
Lewis-Williams David, David Pearce. Inside the Neolithic Mind: Consciousness, Cosmos, and the Realm of the God. London: Thames and Hudson, 2005.
Lommel Herman. Die Religion Zarathustras. Nach dem Awesta dargestellt. Hildesheim: Olms, 1971.
Lorblanchet Michel. The Origin of Art // Diogenes 214 (2007). P. 98–109.
––. Claw Marks and Ritual Traces in the Paleolithic Sanctuaries of the Quercy // An Enquiring Mind: Studies in Honour of Alexander Marshack. Paul Bahn (ed.). Oxford: Oxbow Books, 2009. P. 165–170.
MacCulloch Diarmaid. Christian History: An Introduction to the Western Tradition. London: SCM Press, 2012.
MacIntyre Alasdair. Pantheism // Encyclopedia of Philosophy. Paul Edwards (ed.). 10 vols. N. Y.: Macmillan, 1967. Vol. 6, p. 31–35.
Macquarrie John. In Search of Deity. London: SCM Press, 1984.
Mallory James Patrick. In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth. N. Y.: Thames and Hudson, 1989.
Mallory James Patrick and D. Q. Adams (eds.). The Encyclopedia of Indo-European Culture. London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997.
Marett Robert Ranulph. The Threshold of Religion. London: Methuen, 1914.
Marinatos Nanno. The Goddess and the Warrior: The Naked Goddess and Mistress of the Animals in Early Greek Religion. London: Routledge, 2000.
Maringer Johannes. Priests and Priestesses in Prehistoric Europe // History of Religions 17/2 (1977). P. 101–120.
Marshack Alexander. Images of the Ice Age // Archaeology 48/4 (1995). P. 28–36.
McFarland Thomas. Coleridge and the Pantheist Tradition. Oxford: Oxford University Press, 1969.
Mehr Farhang. The Zoroastrian Tradition: An Introduction to the Ancient Wisdom of Zarathustra. Rockport, Mass.: Element, 1991.
Mendenhall George E. The Hebrew Conquest of Palestine // Biblical Archaeologist 25/3 (1962). P. 65–87.
Mendenhall George E., G. A. Herion. Ancient Israel’s Faith and History: An Introduction to the Bible in Context. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.
Menocal Maria Rosa. Ornament of the World: How Muslims, Jews and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain. N. Y.: Back Bay Books, 2003.
Metso Sarianna. The Serekh Texts. N. Y.: T&T Clark, 2007.
Mithen Steven J. To Hunt or to Paint: Animals and Art in the Upper Palaeolithic // Man, New Series, 23/4 (1988). P. 671–695.
Mohr Richard D. Plato’s Theology Reconsidered: What the Demiurge Does // History of Philosophy Quarterly 2/2 (1985). P. 131–144.
Momigliano, Arnaldo. How Roman Emperors Became Gods // American Scholar 55/2 (1986). P. 181–193.
Moore-Colyer R. J. Review of The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture by Jacques Cauvin // Agricultural History Review 49/1 (2001). P. 114–115.
Morenz Siegfried. Egyptian Religion. Ann E. Keep (transl.). Ithaca: Cornell University Press, 1992.
Morkot James. Divine of Body: The Remains of Egyptian Kings – Preservation, Reverence, and Memory in a World Without Relics // Past and Present, Supplement 5 (2010). P. 37–55.
Morris-Kay Gillian. The Evolution of Human Artistic Creativity // Journal of Anatomy 216 (2010). P. 158–176.
Mowinckel Sigmund. The Name of the God of Moses // Hebrew Union College Annual 32 (1961). P. 121–133.
Muesse Mark. The Hindu Traditions: A Concise Introduction. Minneapolis: Fortress Press, 2011.
Müller Max. Introduction to the Science of Religion. London: Longmans, Green, 1873. [Рус. изд.: Мюллер Ф. М. Введение в науку о религии. М.: Книжный дом «Университет»; Высшая школа, 2002.]
––. Comparative Mythology: An Essay. London: Routledge and Sons, 1909.
Murray Gilbert. Five Stages of Greek Religion. N. Y.: Anchor Books, 1955.
Murray Michael. Scientific Explanations of Religion and the Justification of Religious Belief // The Believing Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. Jeffrey Schloss, Michael Murray (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 168–178.
Nadeau Randall L. (ed.). Asian Religions: A Cultural Perspective. Chichester, U. K.: Wiley-Blackwell, 2013.
Nederhof Mark-Jan. Karnak Stela of Ahmose. URL: https://mjn. host. cs. st-andrews. ac. uk/egyptian/texts/corpus/pdf/urkIV‐005. pdf
Nicholson Reynold A. Rumi: Poet and Mystic (1207–1273). Oxford: Oneworld, 1995.
O’Connor David, David P. Silverman (eds.). Ancient Egyptian Kingship. Leiden: Brill, 1995.
O’Connor David, Eric H. Cline (eds.). Amenhotep III: Perspectives on His Reign. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001.
Olyan Saul M. Asherah and the Cult of Yahweh in Israel. Atlanta: Society of Biblical Literature, 1988.
Osborne Catherine. Presocratic Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Owen Huw Parri. Concepts of Deity. London: Macmillan, 1971.
Pagels Elaine. The Demiurge and his Archons: A Gnostic View of the Bishop and Presbyters? Harvard Theological Review 69/3–4 (1976). P. 301–324.
––. The Gnostic Gospels. N. Y.: Random House, 1979.
Pardee Dennis. Ritual and Cult at Ugarit. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002.
––. A New Aramaic Inscription from Zincirli // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 356 (2009). P. 51–71.
Parkinson George Henry Radcliffe. Hegel, Pantheism, and Spinoza // Journal of the History of Ideas 38/3 (1977). P. 449–459.
Pausanias. Description of Greece. W. H. S. Jones (transl.). 5 vols. Loeb Classical Library. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1935.
Peregrine Peter and Melvin Ember (eds.). Encyclopedia of Prehistory, vol. 3: East Asia and Oceania. N. Y.: Springer, 2001.
Peters Joris et al. Early Animal Husbandry in the Northern Levant // Paléorient 25/2 (1999). P. 27–48.
Pettitt Paul. The Palaeolithic Origins of Human Burial. N. Y.: Routledge, 2010.
Pettitt Paul and Alistair Pike. Dating European Palaeolithic Cave Art: Progress, Prospects, Problems // Journal of Archaeological Method and Theory 14/1 (2007). P. 27–47.
Pettitt Paul et al. New Views on Old Hands: The Context of Stencils in El Castillo and La Garma Caves (Cantabria, Spain) // Antiquity 88 (2014). P. 47–63.
Piaget Jean. Children’s Philosophies // A Handbook of Child Psychology. C. Murchison (ed.). Worcester, Mass.: Clark University Press, 1933. P. 534–547.
––. The Child’s Conception of the World. New Jersey: Littlefield, Adams, 1960.
Picton J. Allanson. Pantheism: Some Preliminary Observations // New England Review: 24/1 (2003). P. 224–227.
Pike Alistair et al. U-Series Dating of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain // Science 336 (2012). P. 1409–1413.
Pitulko Vladimir V. et al. Early Human Presence in the Arctic: Evidence from 45,000-Year-Old Mammoth Remains // Science 351/6270 (2016). P. 260–263.
Pollack Gloria Wiederkehr. Eliezer Zvi Hacohen Zweifel: Forgotten Father of Modern Scholarship on Hasidism // Proceedings of the American Academy for Jewish Research 49 (1982). P. 87–115.
Pope Marvin H. El in the Ugaritic Texts. Leiden: Brill, 1955.
Potts Daniel T. Accounting for Religion: Uruk and the Origins of the Sacred Economy // Religion: Perspectives from the Engelsberg Seminar 2014. Stockholm: Axel and Margaret Ax: son Johnson Foundation, 2014. P. 17–23.
Preuss Horst Dietrich. Old Testament Theology. Louisville: Westminster John Knox Press, 1995.
Radcliffe-Brown Alfred Reginald. Structure and Function in Primitive Society: Essays and Addresses. N. Y.: Free Press, 1952.
––. Taboo // Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach. William A. Lessa, Evon Z. Vogt (eds.). N. Y.: Harper and Row, 1979. P. 46–56.
Radhakrishnan Sarvepalli. The Vedanta Philosophy and the Doctrine of Maya // International Journal of Ethics 24/4 (1914). P. 431–451.
Rainey Anson F. Israel in Merneptah’s Inscription and Reliefs // Israel Exploration Journal 51/1 (2001). P. 57–75.
Rauf Bulent. Concerning the Universality of Ibn ‘Arabi // Journal of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society, vol. 6, 1987.
Redford Donald B. Akhenaten the Heretic King. Princeton: Princeton University Press, 1984.
––. The Sun-Disc in Akhenaten’s Program: Its Worship and Antecedents, I // Journal of the American Research Center in Egypt 13 (1976). P. 47–61.
––. The Sun-Disc in Akhenaten’s Program: Its Worship and Antecedents, II // Journal of the American Research Center in Egypt 17 (1980). P. 21–38.
Reed Robert C. An Interpretation of Some Anthropomorphic Representations from the Upper Palaeolithic // Current Anthropology 17/1 (1976). P. 136–138.
Rendu William et al. Evidence Supporting an Intentional Neandertal Burial at La Chapelle-aux-Saints // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111/1 (2014). P. 81–86.
Reynolds Gabriel Said. The Emergence of Islam: Classical Traditions in Contemporary Perspective. Minneapolis: Fortress Press, 2012.
Rice Patricia C., Ann L. Paterson. Cave Art and Bones: Exploring the Interrelationships // American Anthropologist, New Series, 87/1 (1985). P. 94–100.
––. Validating the Cave Art – Archeofaunal Relationship in Cantabrian Spain // American Anthropologist, New Series, 88/3 (1986). P. 658–667.
Riel-Salvatore Julien, Geoffrey A. Clark. Grave Markers: Middle and Early Upper Paleolithic Burials and the Use of Chronotypology in Contemporary Paleolithic Research // Current Anthropology 42/4 (2001). P. 449–479.
Riel-Salvatore Julien and Claudine Gravel-Miguel. Upper Palaeolithic Mortuary Practices in Eurasia: A Critical Look at the Burial Record // The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial. Sarah Tarlow, Liv Nilsson Stutz (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 303–346.
Riesebrodt Martin. The Promise of Salvation: A Theory of Religion. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
Robins Gay. The Representation of Sexual Characteristics in Amarna Art // Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 23 (1993). P. 29–41.
Rollefson Gary. 2001: An Archaeological Odyssey // Cambridge Archaeological Journal 11/01 (2001). P. 112–114.
Rossano Matt J. Supernaturalizing Social Life: Religion and the Evolution of Human Cooperation // Human Nature 18/3 (2007). P. 272–294.
––. Ritual Behaviour and the Origins of Modern Cognition // Cambridge Archaeological Journal 19/2 (2009). P. 249–250.
Rowe William. Does Panentheism Reduce to Pantheism? A Response to Craig // International Journal for Philosophy of Religion 61/2 (2007). P. 65–67.
Safi Omid. Did the Two Oceans Meet? Historical Connections and Disconnections Between Ibn ‘Arabi and Rumi // Journal of Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society 26 (1999). P. 55–88.
Sahly Ali. Les Mains mutilées dans l’art préhistorique. Toulouse: privately published, 1966.
Sampson Geoffrey. Writing Systems: A Linguistic Introduction. Palo Alto: Stanford University Press, 1990.
Sandman Maj. Texts from the Time of Akhenaten. Bruxelles: Édition de la Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1938.
Schimmel Annemarie. I Am Wind, You Are Fire: The Life and Works of Rumi. Boston and London: Shambhala, 1992.
Schjoedt Uffe. The Religious Brain: A General Introduction to the Experimental Neuroscience of Religion // Method and Theory in the Study of Religion 21/3 (2009). P. 310–339.
Schloen J. David, Amir S. Fink. New Excavations at Zincirli Höyük in Turkey (Ancient Sam’al) and the Discovery of an Inscribed Mortuary Stele // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 356 (2009). P. 1–13.
Schloss Jeffrey, Michael J. Murray. The Believing Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Schneider Laurel. Beyond Monotheism: A Theology of Multiplicity. London: Routledge, 2007.
Sellers Robert Victor. Council of Chalcedon: A Historical and Doctrinal Survey. London: SPCK, 1953.
Selz Gebhard. “The Holy Drum, the Spear, and the Harp”: Towards an Understanding of the Problems of Deification in Third Millennium Mesopotamia // Sumerian Gods and Their Representations I. J. Finkel, M. J. Geller (eds.). Groningen: Styx, 1997. P. 167–209.
Shafer Byron E. (ed.). Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths and Personal Practice. Ithaca and London: Cornell University Press, 1991.
Sharpe Kevin, Leslie Van Gelder. Human Uniqueness and Upper Paleolithic “Art”: An Archaeologist’s Reaction to Wentzel van Huyssteen’s Gifford Lectures // American Journal of Theology & Philosophy 28/3 (2007). P. 311–345.
Shaviv Samuel. The Polytheistic Origins of the Biblical Flood Narrative // Vetus Testamentum 54/4 (2004). P. 527–548.
Shaw Ian (ed.). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford: Oxford University Press, 2003.
Shear Jonathan. On Mystical Experiences as Support for the Perennial Philosophy // Journal of the American Academy of Religion 62/2 (1994). P. 319–342.
Shults LeRon. Spiritual Entanglement: Transforming religious symbols at Çatalhõyiik // Religion in the Emergence of Civilization: Çatalhõyiik as a Case Study. Ian Hodder (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 73–98.
Siddiqi Mazheruddin. A Historical Study of Iqbal’s Views on Sufism // Islamic Studies 5/4 (1966). P. 411–427.
Silverman David. The Nature of Egyptian Kingship // Ancient Egyptian Kingship. David O’Connor, David P. Silverman (eds.). Leiden: Brill, 1995. P. 49–94.
Simmons Allan. The Neolithic Revolution in the Near East: Transforming the Human Landscape. Tucson: University of Arizona Press, 2007.
Smart Ninian. Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World’s Beliefs. Berkeley: University of California Press, 1996.
Smith Huston. The World’s Religions: Our Great Wisdom Traditions. N. Y.: HarperCollins, 1991.
––. Is There a Perennial Philosophy? // Journal of the American Academy of Religion 55/3 (1987). P. 553–566.
Smith Mark S. The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
Smith Morton. Studies in the Cult of Yahweh. 2 vols. Leiden: Brill, 1996.
––. The Common Theology of the Ancient Near East // Journal of Biblical Literature 71/3 (1952). P. 135–147.
Smith Noel. An Analysis of Ice Age Art: Its Psychology and Belief System. American University Studies: Series XX, „Fine Arts“, vol. 15 (book 15). N. Y.: Peter Lang, 1992.
Smith W. Robertson. Lectures on the Religion of the Semites: Fundamental Institutions. N. Y.: Ktav Publishers, 1969.
Snow Dean R. Sexual Dimorphism in Upper Palaeolithic Hand Stencils // Antiquity 80 (2006). P. 390–404.
––. Sexual Dimorphism in European Upper Paleolithic Cave Art // American Antiquity 4 (2013). P. 746–761.
Sobat Erin. The Pharaoh’s Sun-Disc: The Religious Reforms of Akhenaten and the Cult of the Aten // Hirundo: McGill Journal of Classical Studies 12 (2013–2014). P. 70–75.
Sprigge Timothy Lauro Squire. Pantheism // Monist 80/2 (1997). P. 191–217.
Sproul Barbara C. Primal Myths. N. Y.: HarperCollins, 1991.
Srinivasan Doris. Vedic Rudra-Śiva // Journal of the American Oriental Society 103/3 (1983). P. 543–556.
Stone Alby. Explore Shamanism. Loughborough, U. K.: Explore Books, 2003.
Stringer Chris. Lone Survivors: How We Came to Be the Only Humans on Earth. N. Y.: Henry Holt and Company, 2012.
Stringer Martin D. Rethinking Animism: Thoughts from the Infancy of Our Discipline // Journal of the Royal Anthropological Institute 5/4 (1999). P. 541–555.
Struble Eudora J., Virginia Rimmer Herrmann. An Eternal Feast at Sam’al: The New Iron Age Mortuary Stele from Zincirli in Context // Bulletin of the American Schools of Oriental Research 356 (2009). P. 15–49.
Taraporewala Irach J. S. The Divine Songs of Zarathustra: A Philological Study of the Gathas of Zarathustra, Containing the Text and Literal Translation into English, a Free English Rendering and Full Critical and Grammatical Notes, Metrical Index and Glossary. Bombay: D. B. Taraporevala Sons, 1951.
Tattersall Ian. Becoming Human: Evolution and Human Uniqueness. N. Y.: Harvest, 1999.
Tertullian, Apologetical Works, and Minucius Felix, Octavius. Rudolph Arbesmann, Sister Emily Joseph Daly, Edwin A. Quain (transl.). Fathers of the Church, vol. 10. Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 1950.
Teske Roland. The Aim of Augustine’s Proof that God Truly Is // International Philosophical Quarterly 26 (1986). P. 253–268.
Thomassen Einar. Orthodoxy and Heresy in Second-Century Rome // Harvard Theological Review 97/3 (2004). P. 241–256.
Tobin Frank. Mysticism and Meister Eckhart // Mystics Quarterly 10/1 (1984). P. 17–24.
Treves Marco. The Reign of God in the O. T. // Vetus Testamentum 19/2 (1969). P. 230–243.
Tylor Edward Burnett. Primitive Culture. London: J. Murray, 1889. [Рус. изд.: Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989.]
Ucko Peter. Subjectivity and the Recording of Palaeolithic Cave Art // The Limitations of Archaeological Knowledge. T. Shay, J. Clottes (eds.). Liege: University of Liege Press, 1992. P. 141–180.
Urquhart William Spence. Pantheism and the Values of Life with Special Reference to Indian Philosophy. London: Epworth Press, 1919.
––. The Fascination of Pantheism // International Journal of Ethics 21/3 (1911). P. 313–326.
VanderKam James. The Dead Sea Scrolls Today. 2nd ed. Grand Rapids: Eerdmans, 2010. [Рус. изд.: Вандеркам Дж. Свитки Мертвого моря. Долгий путь к разгадке. М.: АСТ, 2012.]
van der Toorn Karel. Family Religion in Babylonia, Ugarit, and Israel: Continuity and Change in the Forms of Religious Life. Leiden: Brill, 1996.
van Inwagen Peter. Explaining Belief in the Supernatural: Some Thoughts on Paul Bloom’s “Religious Belief as an Evolutionary Accident” // The Believing Primate: Scientific, Philosophical, and Theological Reflections on the Origin of Religion. Jeffrey Schloss, Michael Murray (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 128–138.
VanPool Christine S., Elizabeth Newsome. The Spirit in the Material: A Case Study of Animism in the American Southwest // American Antiquity 77/2 (2012). P. 243–262.
Verhoeven Marc. The Birth of a Concept and the Origins of the Neolithic: A History of Prehistoric Farmers in the Near East // Paléorient 37/1 (2001). P. 75–87.
Vinnicombe Patricia. People of Eland: Rock Paintings of the Drakensberg Bushmen as a Reflection of Their Life and Thought. 2d ed. Johannesburg: Wits University Press, 2009.
von Franz Marie-Louise. Creation Myths. Boston: Shambhala, 1995.
Walker Williston. A History of the Christian Church. N. Y.: Scribner, 1918.
Walton John H. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament: Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible. 3d ed. Grand Rapids: Baker Academic, 2009.
Watkins Trevor. Building Houses, Framing Concepts, Constructing Worlds // Paléorient 30/1 (2004). P. 5–23.
Weinberg Saul S. A Review Article: Man’s Earliest Art // Archaeology 6/3 (1953). P. 174–180.
Weisdorf Jacob L. From Foraging to Farming: Explaining the Neolithic Revolution // Journal of Economic Surveys 19/4 (2005). P. 561–586.
Wengrow David. Gods and Monsters: Image and Cognition in Neolithic Societies // Paléorient 37/1 (2011). P. 154–163.
Wensinck Arent Jan. The Two Creeds, Fikh Akbar II // The Norton Anthology of World Religions: Volume II. Jack Miles (ed.). N. Y.: W. W. Norton, 2015. P. 1553–1559.
West Martin. Towards Monotheism // Pagan Monotheism in Late Antiquity. Polymnia Athanassiadi, Michael Frede (eds.). Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 21–40.
White Randall. Prehistoric Art: The Symbolic Journey of Humankind. N. Y.: Harry N. Abrams, 2003.
Williams David Salter. Reconsidering Marcion’s Gospel // Journal of Biblical Literature 108/3 (1989). P. 477–496.
Williams Lukyn. Dialogue with Trypho the Jew. N. Y.: Macmillan, 1930.
Wilson David Sloan. Darwin’s Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
Wise Michael. Language and Literacy in Roman Judaea: A Study of the Bar Kokhba Documents. New Haven: Yale University Press, 2015.
Wisse Frederik. The Apocryphon of John // The Nag Hammadi Library in English. James M. Robinson (ed.). San Francisco: HarperSanFrancisco, 1978. P. 104–123.
Wobst H. Martin. The Archaeo-Ethnology of Hunter-Gatherers or the Tyranny of the Ethnographic Record in Archaeology // American Antiquity 43/2 (1978). P. 303–309.
Wolf Laibl. Practical Kabbalah: A Guide to Jewish Wisdom for Everyday Life. N. Y.: Three Rivers Press, 1999.
Wood Bryant. The Rise and Fall of the 13th-Century Exodus-Conquest Theory // Journal of the Evangelical Theological Society 48/3 (2005). P. 475–489.
Wray Tina J., Gregory Mobley. The Birth of Satan: Tracing the Devil’s Biblical Roots. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2005.
Wynn Thomas, Frederick Coolidge. Beyond Symbolism and Language: An Introduction to Supplement 1, Working Memory // Current Anthropology 51 (2010). P. S5–S16.
Wynn Thomas, Frederick Coolidge, and Martha Bright. Hohlenstein-Stadel and the Evolution of Human Conceptual Thought // Cambridge Archaeological Journal 19/1 (2009). P. 73–84.
Yarshater Ehsan (ed.). Mystical Poems of Rumi. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
Zagorska Ilga. The Use of Ochre in Stone Age Burials of the East Baltic // The Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs. Fredrik Fahlander, Terje Oestigaard (eds.). Oxford: Archaeopress, 2008. P. 115–124.
Zarrinkoob Abdol-Hosein. Persian Sufism in Its Historical Perspective // Iranian Studies 3/4 (1970) P. 139–220.
Zeder Melinda A. Religion and the Revolution: The Legacy of Jacques Cauvin // Paléorient 37/1 (2011). P. 39–60.
Zimmerli Walther. Old Testament Theology in Outline. Edinburgh: T&T Clark, 1978.
Примечания
1
Цит. по: Фейербах Л. Сущность христианства // Сочинения в двух томах. М.: Наука, 1995. Т. 2.
(обратно)2
Здесь и во всей книге сохранен авторский подход к датировкам. Часть дат может отличаться от принятых в отечественной историографии. – Прим. ред.
(обратно)3
Перевод И.Д. Ермакова.
(обратно)4
Перевод С.И. Церетели, В.С. Швырева.
(обратно)5
Перевод Л. Сумм.
(обратно)6
Перевод «Энума элиш» цит. по: Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии / Пер. с аккад., сост. В. К. Афанасьевой и И. М. Дьяконова; Институт востоковедения РАН. – М.: Алетейя, 2000.
(обратно)7
Перевод Н. Н. Щеглова.
(обратно)8
Цит. по: Дюмулен Г. История дзэн-буддизма. М.: Центрполиграф, 2003.
(обратно)


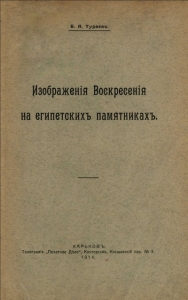


Комментарии к книге «Бог. История человечества», Реза Аслан
Всего 0 комментариев