Маргарита Вандалковская Прогнозы постбольшевистского устройства России в эмигрантской историографии (20–30-е гг. XX в.)
© Вандалковская М. Г., 2015
© Институт российской истории РАН, 2015
® Центр гуманитарных инициатив, 2015
* * *
Введение
Если у эмигрантов есть какая-нибудь задача, то она не может состоять ни в чем ином, как только в непрерывной работе над взращением в русской душе и в русском сознании образа России.
Ф. А. СтепунРоссийские эмигрантские мыслители 20–30-х гг. XX в. оставили огромное интеллектуальное наследие. Широко известны имена писателей В. В. Набокова, М. А. Алданова, Гайто Газданова, философов Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева, историков Г. В. Вернадского, Е. Ф. Шмурло, А. А. Кизеветтера, представителей других специальностей – медицины, биологии, авиации, внесших вклад в русскую и мировую науку.
Эмигрантское творчество в разных сферах деятельности, обогащая западную культуру, впитывало в себя и ее достижения. Культурное взаимодействие, соприкосновение с другими традициями, с другой ментальностью и образом мышления накладывало отпечаток на эмигрантскую, российскую и западную науку. Синтетическим подходом, включающим научные знания о российском развитии и опыт западноевропейской истории, отличались и построения эмигрантов о будущей России.
Размышляя о России, многие эмигранты связывали ее будущее не с вооруженной интервенцией, что было характерно в основном для консервативной военной части эмиграции, а с развитием внутрироссийских процессов. Они обращались к истории, сравнивали Россию с европейскими странами, выявляли специфические особенности и тенденции будущего российского развития. Возникали мысли о путях преобразований, прогнозы построения новой России. Эти прогнозы отличались индивидуальностью, сосредоточенностью на наиболее близкой их автору области – политической, хозяйственной, национальной, международной, культурной жизни; иногда они содержали совокупный объем представлений о различных сторонах общественной жизни.
Представления или пророчества, вернее, прорицания будущего, построенные на основе научного осмысления происходящего, свидетельствовали о политической культуре эмиграции, ее способности обоснованно понимать связь прошлого с будущим и перспективы развития России. Поэтому многие идеи прогнозов Г. П. Федотова, Ф. А. Степуна, В. А. Маклакова, Б. А. Бахметева, П. Б. Струве, Н. Н. Алексеева актуальны и в современной России.
Сам факт существования этих предвидений диктовался стремлением помочь России в создании новой страны. Интеллектуалы-эмигранты осознавали, что эта помощь может состоять лишь в одном – в создании образа будущей России, в мобилизации своих профессиональных знаний для строительства демократического государства и преобразований в области экономической, социальной и культурной жизни. Характерно при этом, что многие из создателей этих проектов понимали отдаленность возрождения России во времени и нереальность собственного возвращения на Родину, но считали своим долгом служить России и ее будущим поколениям.
Изучение темы «Прогнозы постбольшевистского устройства России в эмигрантской историографии (20–30-е гг. ХХ в.)» базируется на многочисленных исследованиях, посвященных либерализму, консерватизму, политическим партиям, отдельным представителям этих течений, тем или иным проблемам, имеющим отношение к теме. Хронологически эти труды относятся к разным периодам российской истории XIX и ХХ вв. Но они позволяют понять сущность явлений, на основе которых формировались изучаемые эмигрантские прогнозы российского будущего, их эволюцию и трансформацию[1].
Существенное значение имеют труды Н. В. Антоненко «Идеология и программатика русской монархической эмиграции» (Мичуринск, 2008), «Эмигрантские концепции и проекты переустройства России (20–30-е гг. ХХ в.)» (Мичуринск, 2011). Автор предпринял попытку комплексно рассмотреть эмигрантские проекты монархической, либеральной и социалистической направленности. Его исследования основаны на изучении большого числа документальных источников, главным образом партийного характера. Работы отличает историко-партийный подход к освещению темы (в подлинном, а не нарицательном смысле этого словосочетания); анализ программ политических партий является доминирующим.
Автор настоящей монографии использовал личностный подход, который позволяет сохранить индивидуальные черты изучаемого мыслителя, определить атмосферу, в которой формировались и развивались его научные взгляды. Кроме того, лишь при индивидуальном подходе возможно проследить, как именно тот или иной ученый выявлял природу исторических корней, связи и обусловленности исторических явлений или событий. Этот подход избавляет также от статичного и в известной мере формального фиксирования лишь результатов исследования ученого без учета сопровождавших это исследование раздумий, размышлений, выразительных деталей, которые не только обогащают представления о личности этого ученого, но и спасают сам достигнутый результат изучения от впечатления некоторой догматичности.
Предметом исследования являются труды ученых разных общественно-политических направлений. В книге рассматриваются религиозные мыслители Г. П. Федотов и Ф. А. Степун, творчество которых стало доступным в отечественной историографии лишь с 90-х гг. ХХ в. Они создали яркие представления о новой постбольшевистской России. В контексте данной темы их научное наследие рассматривается впервые. В творчестве этих ученых воплотились высочайшая культура европейского и российского образования и науки, а также свойственная религиозным мыслителям традиция связи христианского учения с его обоснованием историей. Современная историография церковной истории подчеркивает особое внимание ученых религиозного направления к историческим фактам и методам их использования. Одним из них является признание нерасторжимой связи настоящего с прошлым и будущим. Для Федотова и Степуна этот метод являлся основополагающим, на его основе строились прогнозы будущего России[2].
Либеральные консерваторы П. Б. Струве и В. А. Маклаков соединили в своих трудах черты либерализма и консерватизма. Они выступали защитниками гражданских и экономических свобод, правового устройства, целостного государства, уважения к государственной власти и закону, к ответственности в служении, за соблюдение чувства меры в политике. Обязательными признавались религиозное начало и верховенство церкви. Эти принципы являлись исходными в построении новой, постбольшевистской России.
К кругу рассматриваемых ученых относятся и либералы-демократы – П. Н. Милюков и Б. А. Бахметев. Отличные по своим воззрениям относительно настоящего и будущего России, они были близки по своей приверженности либеральным ценностям и видению России и ее истории через призму других стран. Для Милюкова таковым стал путь европейского, а для Бахметева – американского развития. Обоих отличал определенный прагматизм в подходе к историческому процессу.
Евразийское направление представлено в лице известного ученого-правоведа Н. Н. Алексеева, создавшего свой образ будущего российского государства как антитеза как западноевропейской, так и советской системам. По его мнению, новое российское государство должно было опираться на достижения советской власти, отрекаясь от ее классового принципа, внести в государственное строительство начала религиозности, социальности, «народного быта и духа».
Все эти направления, отмеченные характерными для них стержневыми чертами, дают представление о сложной и многообразной картине представлений о новой России. Необходимо учитывать также, что под влиянием международной обстановки 20–30-х гг., по мере осознания трудности противостояния советскому строю, а также трансформации собственных позиций, происходил процесс эволюции и корректировки многих прежних взглядов, снижался уровень категоричности и непререкаемости прежних суждений, допускался компромисс разных позиций. Все это вело и не могло не привести к сближению и общности представителей разных направлений. Так, например, религиозные мыслители сближались в ряде случаев в своих воззрениях с либеральными консерваторами, а некоторые взгляды последних становились общими с убеждениями либеральных демократов и т. д.
Источниками для написания монографии послужили труды Г. П. Федотова, Ф. А. Степуна, П. Б. Струве, В. А. Маклакова, П. Н. Милюкова, Н. Н. Алексеева, часто впервые используемые в исследовательской практике. По своему характеру это научные, литературно-художественные работы, публицистика.
Особую ценность для темы нашего исследования представляет эпистолярное наследие В. А. Маклакова и Б. А. Бахметева, талантливых политических деятелей, дипломатов и ярких выразителей интересов России. Они были различны по возрасту, менталитету и темпераменту, но их роднило отношение к России и ее будущему. Эта переписка впервые была опубликована О. В. Будницким в трехтомном издании «“Совершенно лично и доверительно!”: Б. А. Бахметев – В. А. Маклаков. Переписка 1919–1951» (Москва – Стэнфорд, 2010) по материалам Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфордском университете, а также Архива русской истории и культуры Колумбийского университета. В научный оборот был введен уникальный источник по истории Советской России, Гражданской войны, белого движения и истории российской эмиграции с ее постоянной устремленностью к России и ее будущему.
Структура монографии определяется ее замыслом. В отдельных главах или очерках исследуются взгляды представителей разных научных направлений о будущей России.
Религиозные мыслители
Георгий Петрович Федотов
Россия, ее история и культура занимали одно из главных мест в творчестве религиозного мыслителя, замечательного русского историка и публициста Георгия Петровича Федотова. Г. П. Федотов родился 1 октября 1886 г. в Саратове, где его отец служил чиновником в губернаторской канцелярии; мать была учительницей музыки. По его воспоминаниям, в детстве он жил в православной среде, увлекаясь духовной литературой. В гимназии под влиянием революционно-демократической публицистики, марксистской литературы в его мировоззрении совершается поворот от религиозной веры к революционной действенности. После окончания гимназии Федотов поступил в Петербургский Технологический институт «как наиболее демократический» в надежде стать инженером и быть ближе к рабочей среде. Во время революции 1905 г. он был арестован за пропаганду революционных идей и приговорен к ссылке в Архангельскую губернию. Но благодаря ослаблению полицейского режима при Святополк-Мирском и семейным связям ссылка была заменена высылкой за границу на два года.
Это время для Федотова было насыщено огромной интеллектуальной работой. Он слушал лекции по истории и философии в университетах Берлина и Йены. После возвращения в Россию он поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. Здесь, под влиянием его учителя И. М. Гревса, создателя блестящей петербургской школы медиевистов, формировались научные взгляды Федотова. В его окружении в эти годы находились будущий религиозный философ Л. П. Карсавин, С. С. Безобразов (впоследствии епископ Кассиан Катанский), В. В. Вейдле, в дальнейшем критик и литературовед, профессор богословского института, О. А. Добиаш-Рождественская, получившая известность как медиевист, источниковед, палеограф, и др.
Необычное трудолюбие, эрудиция, самодисциплина, талант глубоко проникать в суть изучаемых тем обусловили дальнейшее пребывание Федотова в университете для подготовки к профессорскому званию. После сдачи магистерских экзаменов (1914–1915 гг.) Федотов получил приват-доцентуру по кафедре средних веков. С 1917 г. он должен был приступить к чтению лекций в университете. Однако студентов, записавшихся на курсы лекций по средневековью, оказалось недостаточно для открытия курса. Во время революции 1917 г. Федотов не проявлял никакой политической активности, целиком погрузившись в религиозно-философские размышления.
Осенью 1917 г. Федотов поступил на работу в отдел истории Публичной библиотеки, где познакомился с философом А. А. Мейером и известным религиозным деятелем А. В. Карташевым, под воздействием которых развивалось его религиозно-христианское мировоззрение.
В советские годы Федотов работал переводчиком в разных издательствах, писал статьи о европейской культуре. В 1924 г. вышла единственная изданная в России книга Федотова «Абеляр». В этой книге трагическая судьба религиозной личности была показана как отражение историко-культурной эпохи. Эта тема станет одной из ведущих в трудах Федотова, посвященных разным конкретно-историческим условиям.
Критическое отношение к советской действительности, трудности быта, гонения на свободную творческую мысль заставили Федотова эмигрировать из России. В 1925 г. он поселился в Париже. В научном творчестве он успешно сочетал темы западной и российской истории. Для многих российских эмигрантов-интеллектуалов, как и для Федотова, обращение к России, ее истории и культуре являлось не только академическим занятием, но и актуальной жизненной темой. Труды Федотова разных лет «Святой Митрополит Московский», «Святые Древней Руси», «И есть, и будет», «Социальное значение христианства», «Эсхатология и культура», многочисленные статьи в евразийских «Верстах», в бердяевском «Пути», в издании Керенского «Новая Россия», в «Современных записках», в «Новом журнале» и в других органах печати сохраняют научную ценность и по сей день. Этому способствовали высочайший профессионализм и талант ученого.
Значительным событием в эмигрантской общественной мысли был выход в свет журнала «Новый град» (1931–1939), в котором Федотов, наряду с Ф. А. Степуном и И. И. Бунаковым-Фондаминским, играл ведущую роль. Создатели журнала были единодушны в осознании несовершенства и несостоятельности духовной атмосферы современности, европейских демократических режимов, тоталитарного государственного устройства, фашистских государств, Советской России и глубоко осознавали необходимость обновления европейской и российской жизни. Журнал по существу создавал программу Возрождения новой демократической России, в которую Федотов внес значительный вклад. Новаторство «Нового града» состояло в синтетическом подходе к осмыслению общественно-политической обстановки, в которую включались проблемы западной и российской истории, современности, темы культурной и духовной жизни общества.
Научно-публицистическое наследие Федотова в эмиграции высоко оценивалось современниками. Его признавали незаурядным мыслителем, талантливым автором созданной им «философии истории», или «философии культуры», а также блестящим стилистом, художником слова. Полемическое искусство Федотова оценивалось как выражение бескомпромиссной нравственной позиции и независимости суждений.
В эмиграции Федотов вел и большую преподавательскую работу: читал лекции по истории Западной церкви, вел занятия по латинскому языку, агиологии в Парижском богословском институте. Начало Второй мировой войны, оккупация Парижа, неприятие нацистского режима заставили его перебраться на юг Франции. Но вскоре он решил покинуть Европу и переехал в США. Там он преподавал в Йельском университете, а затем в Нью-Йорке в Свято-Владимирской семинарии, публиковал статьи в «Новом журнале». 1 сентября 1951 г. Федотов скончался в госпитале города Бэкона за чтением «Вильгельма Мейстера» Гете. Кончина за чтением книги, по свидетельству М. Карповича, была им предсказана.
Литература о Федотове незначительна. Наибольшую научную ценность, как представляется, составляют статьи о нем современников, в частности, М. М. Карповича, Ф. А. Степуна. Карпович, автор посмертной статьи о Федотове, писал, что «своеобразие ума и таланта Г. П. делает очень трудной характеристику его литературной и общественной деятельности – если пользоваться для этой цели рубриками традиционной, или рутинной классификации… его никак не удастся уложить ни на одну из этих прочно сколоченных, но порядочно запыленных полочек»[3].
Действительно, и славянофильство, и западничество воспринималось им не в традиционно-консервативном, косном варианте. Со славянофилами его роднила религиозность, верность национальным традициям, с западничеством – принцип политической свободы, приверженность к демократии, обеспечивающей свободу и социальную справедливость. Карпович вполне обоснованно называл Федотова религиозным западником, политическим и христианским демократом и социалистом.
Яркой по форме и многоплановой по содержанию являлась статья Степуна о Федотове[4]. Их содружество в «Новом граде» отличалось взаимопониманием и большим доверием. Степун относил Федотова к людям культуры Возрождения, называл его гражданином мира, русским патриотом, вселенским христианином и православным демократом. Он видел в Федотове и ученого-историка, и страстного политического полемиста. Вместе с тем, Степун отмечал, что его высказывания, в том числе научные, таят в себе печать этически-волевых импульсов, а писательское оформление мыслей имеет скорее эстетический, чем научно-дисциплинированный характер. Это утверждение представляется не совсем точным. Федотов, пройдя историческую школу Гревса, обладал глубокими знаниями и высоким профессиональным мастерством. Присущие ему импульсы скорее можно отнести к форме выражения мыслей, чем к их содержанию. Что касается эстетического характера писательского стиля Федотова, то в этом проявлялась свойственная ему свобода творчества и чуждость стереотипности, сухой манере изложения исторического материала, часто характерной для научных трудов. В статье Степуна проявились и некоторые мировоззренческие разногласия с Федотовым. Степун укорял Федотова в том, что приход к православию не оторвал его от марксизма и революционного прошлого, какого не было у Степуна. Этот упрек также не представляется обоснованным. Интерес к марксизму и революционно-пропагандистской работе был временным этапом, не определяющим федотовского мировоззрения и творческого вклада. Увлечение левыми общественно-политическими течениями было характерным явлением эпохи. Можно назвать, в частности, Бердяева, для которого марксизм был временным, поисковым этапом развития.
Значительную роль в распространении творческого наследия Федотова сыграли публикации издательства им. Чехова в Нью-Йорке и YMCA-Press в Париже[5].
В советской литературе Федотов как религиозный мыслитель был забыт. О нем не упоминали даже в историографической литературе по медиевистике при характеристике научной школы И. М. Гревса. В 90-е гг. ХХ в. возвращение в Россию культурного наследия эмиграции пробудило интерес к личности и творчеству Федотова. Появились публикации его работ, аналитические статьи, разделы о нем в монографических исследованиях. В. Ф. Бойков, В. В. Сербиненко, О. Д. Волкогонова, С. С. Бычков (составитель 12-томного собрания сочинений Федотова) внесли свой вклад в изучение творчества этого незаурядного мыслителя, автора ярких и талантливых работ о России, ее прошлом, настоящем и будущем[6].
Историю России Федотов рассматривал сквозь призму культуры. Мысль о спасительной роли культуры была характерна для многих мыслителей конца XIX – начала ХХ вв. Об этом писали Н. А. Бердяев, П. Б. Струве, А. В. Карташев и др. Глубокий смысл в спасительной роли культуры признавал и В. А. Маклаков: «Пропадали государства, – писал он, – но сохранялась культура и государственность возрождалась»[7].
Федотов исследовал духовную жизнь русского народа, разные проявления народного духа. Он осознавал и различия историческо-культурного развития России и Европы, т. е. «различие исторического дня», которое он видел в проявлениях капитализма, социализма, национализма и космополитизма. Эти различия, по мнению Федотова, ярко проявлялись и в современной ему действительности.
«Россия поднята на коммунистическую дыбу», во имя коммунизма истребляют миллионы, отменяется христианство и культура, воцаряется всеобщая нищета. Европа тоже больна, но совсем не коммунизмом. Имя ее болезни: капитализм – в плане экономическом, национализм – в плане политическом. Из этого проистекало и различие задач[8].
Разумеется, Федотова волновала прежде всего судьба России и ее будущее. Размышляя об этом, он приходил к выводу, что Россия – «единственная земля, быть может, кроме стран Азии, где национальная идея не исчерпала своего творческого, культурного содержания». В дальнейшем эта идея, считал Федотов, была искажена этнографическим подходом и отодвинута западничеством. И лишь в ХХ в. впервые был поставлен вопрос о древнерусском искусстве и русской религиозности. Но это духовное возрождение было прервано войной и революцией[9].
«Мы стоим опять, как сто лет тому назад, перед загадкой России, властно требующей своего разрешения… Теперь, когда тема России стала актуально (а не потенциально лишь) вселенской, на русскую интеллигенцию ложится сугубый долг изучения и осмысления судьбы России». В этом Федотов видел и свой долг: «Неустанно, черта за чертой восстанавливать сложный лик России из множества противоречивых ее отражений. И доказывать, что эта работа воссоздания распавшегося образа России есть единственное, чего Россия ждет от своих изгнанных детей»[10].
Обращение Федотова к историко-культурному развитию России было не случайным. Оно давало ему почву для осмысления прошлого, настоящего и будущего. В историческом развитии России Федотов видел три периода, определяемых культурой Киева, Москвы и Петербурга. Привычная в русской общественной мысли дилемма Россия – Запад нашла в этом подходе Федотова свое особое воплощение.
Киевская Русь, по мысли Федотова, являлась «эпохой высшего культурного расцвета Древней Руси», поскольку была связана с Византией и имела восточно-греческие корни. Киевскую культуру Федотов рассматривал как христианскую прививку «на грубом славянском дичке», как аристократическую культуру, которая не питалась народным творчеством и «излучалась в массы из княжеских теремов и монастырей» и рост ее протекал медленно, но «органично» и «непрерывно».
В Киевской Руси Федотов не усматривал явного противопоставления Руси Западу, но признавал, что именно в Киеве было «заложено зерно будущего раскола в русской культуре», связывая это с переводом на славянский язык Библии. И хотя Библия способствовала принятию христианства на Руси, но ценой отрыва от классической научной, философской, литературной традиции, потери влияния Гомера и Платона.
Московское царство вызывало у Федотова критическое отношение. Он объяснял это овосточиванием Руси после татаро-монгольского ига. Федотов видел в Москве «азиатскую душу», а ее культуру называл «узкой» и «провинциальной». «Московское самодержавие, – писал он, – при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения»: московский государь был «хозяином земли русской» и одновременно преемником ханов-завоевателей и императоров византийских. Деспотизм и закабаление народа при создании централизованного государства сочеталось вместе с тем с развитием культуры: «Пятнадцатый век – золотой век русского искусства и русской святости»[11]. Федотов отмечал также огромный вклад в русскую культуру купечества, предприимчивость которого создала почву для создания Императорской России.
Петровская эпоха, полагал Федотов, положила начало противоречиям русской жизни, приведшим в конечном счете к революции. Петр I расколол Россию «на два общества, два народа, переставших понимать друг друга… Отныне рост одной культуры, импортной, совершается за счет другой – национальной»[12]. Крестьянство осталось верным христианству и национальной культуре, а над ним возвышался класс господ, получивших над ним право жизни и смерти и презиравших его веру, быт, одежду и язык. Россия со времен Петра I перестала быть понятной русскому народу, а его культура утратила свое единство. «Две разные культуры сожительствовали в России XVIII века. Одна представляла варварский пережиток Византии, другая – ученическое усвоение европеизма»[13]. В то же время, отмечает Федотов, XVIII век, несмотря на тяжесть европеизации России, обогатил мир величайшими достижениями русской культуры. Европейский гуманизм повлиял на такие явления русской культуры, как Пушкин, Толстой, Достоевский. «Ясно и то, – писал Федотов, – что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой, как в Хомякове и в новой русской богословской школе впервые, пройдя искус немецкой философии и католической теологии, осознает себя дух русского православия»[14].
Сосредоточенность Федотова на духовном мире, национальном самосознании, естественно, определялась его особым вниманием к религиозному миросозерцанию русского народа. Он изучал духовные стихи – эпические песни на религиозные темы, жизнь русских праведников и мучеников, писал о святости Бориса и Глеба, которые заложили в народное сознание идею непротивления злу, ставшую, по мнению Федотова, национальным русским подвигом[15].
«Изучение русской святости в ее истории и ее религиозной феноменологии, – считал Федотов, – является сейчас одной из насущных задач нашего христианского и национального возрождения. В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России; в них мы ищем откровения нашего собственного духовного призвания и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями»[16]. Русские святые, по Федотову, создали архетип духовной жизни с его религиозно-нравственными устоями, которые определили жизнеспособность Древней Руси. И в дальнейшем с православием и святостью были связаны жизнестойкость Руси во время монгольского нашествия, духовный подъем XIV в. Идеал духовной жизни Древней Руси, считал Федотов, обусловил и характер русской культуры, для которой свойственно опережение духовных сторон жизни в сравнении с социально-экономическими[17].
Обращение Федотова к человеку, признаваемому им «первой предпосылкой культуры», особенно к русскому человеку, его характеру, особенностям ментальности, трансформации в экстремальных исторических условиях было закономерным. Эта тема была актуальна, ей посвящали страницы своих трудов Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и другие эмигрантские мыслители, стремясь понять природу русской души и тем самым определить ее возможные проявления в будущем.
«Мы жадно вглядываемся в черты нового человека, созданного революцией, потому что именно он будет творцом русской культуры, – писал Федотов. – Вглядываемся – и не узнаем его. Первое впечатление – необычайная резкость произошедшей перемены. Кажется, что перед нами совершенно новая нация»[18].
И Федотов обращается к истории, к традициям, заложенным в человеке прошлого. Он определяет два типа русскости: московский человек и интеллигент. Москвич – устойчивый и выносливый, равнодушный к ближнему, «сплав великоруса с кочевником-степняком, отлитым в форму иосифлянского православия», он примитивен, его православие – бытовое исповедничество, его мораль имеет антихристианские черты.
Москва, по Федотову, определила путь от свободы к рабству, к угасанию культуры, святости, огрубению быта. «Весь процесс исторического развития на Руси, – писал Федотов, – стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся государство»[19]. Свобода в Москве была заменена волей. «Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля – всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник – это идеал московской воли…» Подобная оценка московского человека сближает его с большевиком. «Советский человек, – пишет Федотов, – не марксист, а москвич», он утратил качества, присущие изначально русскому человеку: доброту, способность жалеть людей. «Поколение, воспитанное революцией, с энергией и даже яростью борется за жизнь, вгрызается зубами не только в гранит науки, но и в горло своего конкурента-товарища. Дружным хором ругательств провожают в тюрьму, а то и в могилу, поскользнувшихся, павших, готовы сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его место»[20].
Второй тип русскости – это интеллигент, «вечный искатель, энтузиаст, отдающийся всему с жертвенным порывом… Беззаветно преданный народу, искусству, идеям… Непримиримый враг всякой неправды, всякого компромисса… эсхатологический тип христианства… Для него творчество важнее творения, искание важнее истины, героическая смерть важнее трудовой жизни»[21]. В своих многочисленных статьях, особенно в работах «Трагедия интеллигенции» и «Создание элиты», Федотов раскрыл эволюцию русской интеллигенции и ее угнетение или гибель в советское время.
И тем не менее он полагал (постоянная федотовская мысль о преемственности развития), что общий процесс развития культуры не зависит от политики. Культура, творимая и хранимая ранее интеллигенцией, спускается в глубину масс и вызывает переворот в их сознании; она перестает быть замкнутой или двухэтажной и становится единой, приобретя демократический характер. При этом глубоко понижается ее уровень. В России развивается не культура, которая всегда основана на примате философско-эстетических принципов, а цивилизация, построенная на базе научно-технических элементов. Соответственно с этим формируется и тип человека. У него нет культурной среды, воздуха культуры, профессиональная школа может сделать его специалистом, но культурным человеком он не станет, если его мастерская не преобразуется в храм.
Современная исследовательница О. Д. Волкогонова справедливо признает, что характеристика русского национального типа, созданная Федотовым, является его большой удачей.
Федотов отвергал широко распространенное мнение современников о том, что революция – «суд Божий» или непременное условие дальнейшего развития. Для него революция – величайшее потрясение, «жесткое и бездушное время», резкий перелом, при котором зачеркивается целая историческая эпоха с ее опытом, традицией и культурой. При этом Федотов не отрицал нравственного содержания лозунгов Великой французской революции, полагая, что любовь к свободе, равенству, энтузиазм явились действием положительных сил, что привело к формированию национального сознания и гражданственности. Но одновременно в революции проявились и «сатанинские силы» сословной, классовой и антихристианской ненависти, которые ведут тяжбу с установившимися традициями. Эта борьба обедняет культуру победившей стороны[22].
«Русская революция, – писал он, – стоит третьей в ряду – после Англии и Франции». Она отличается жестокостью классовой борьбы, которая связана с сознательным истреблением старого культурного класса и заменой его новой, поднявшейся из низов интеллигенции, с чрезвычайно быстрым приобщением масс к цивилизации в ее интернациональных и поверхностных слоях, в рационализации русского сознания, в стремлении тоталитарного государства создать новый тип догматического человека.
Федотов отчетливо проводит мысль о том, что революция всегда в конечном счете приводит к террору, а в области культуры – к необратимым потерям[23].
Неприятие советского строя, сталинского террора и всей деспотической системы управления, развала старой культуры, столь почитаемой Федотовым, сопровождалось сохранением веры в возрождение России. При этом Федотов полагал, что истинная почва для возрождения страны содержится в ней самой, в тех людях, которые эволюционируют в своем мировосприятии и могут выступить носителями новой демократической культуры. «Будущее России сейчас уже связано не с тем поколением, которое было застигнуто войной 1914 года, а тем, которое воспитано Октябрьской революцией… Историк знает, – писал он, – что, как ни резки бывают исторические разрывы революционных эпох, они не в силах уничтожить непрерывности…» – и далее: «Октябрьское поколение не помнящих родства было бы бессильно что-либо создать, если бы в нем… не жил гений народа»[24].
Диалектический подход к историко-культурному процессу в России, признание противоречивости и одновременно стабильности поступательного развития базировалось у Федотова на его историософских основах. Для Федотова существовало «две философии истории. Для одной из них история всегда поступательное движение, развитие или прогресс или раскрытие абсолютного духа. Консервативный или революционный, но это всегда дифирамб действительности. Все злое и темное в историческом процессе принимается как жертва или цена. И эта цена никогда не кажется слишком дорогой, ибо покупаемое благо мыслится бесценным и бесконечным – в необходимой перспективе будущего»[25]. Эта точка зрения, по словам Федотова, была преисполнена «неисправимым оптимизмом» – «все к лучшему в этом лучшем из миров». Пала Римская империя и цивилизация – чудесно! Разлагается культура средневековья, далее Ренессанс создает более высокие формы жизнедеятельности; монгольское иго помогло Руси создать свою государственность, опричнина демократизировала правящий класс, смутное время консолидировало Россию. Порочность этой позиции Федотов усматривал в том, что ее сторонники акцентировали внимание лишь на позитивных моментах и не озадачивались «бесспорным фактом попятных движений в истории, ни даже гибелью государства, народов, культур»[26]. Подобный взгляд на ход исторического процесса Федотов считал неприемлемым.
«Но есть другой взгляд на историю как на вечную борьбу двух начал». Ничто не предопределено в истории силой естественных законов или движением божественной воли, «ибо история есть мир человеческий – не природный и не божественный, – и в нем царит свобода. Как ни велико в истории значение косных, природных, материальных сил, но воля вдохновленного Богом или соблазненного Люцифером человека определяет сложение и распад природных сил». «…Не может в мире пройти бесследно, – рассуждал Федотов, – ни слабое проявление добра, ни зла. Они… включаются в разные одновременно действующие процессы созидания и разрушения». И в видимом единстве жизни, «всегда можно различить двоякую детерминированность: к вечности и к смерти»[27].
Человек с его сложным и противоречивым миром является «предпосылкой» хода истории и культуры. Для Федотова свободный человек, связанный с Богом и одновременно искушаемый Злом, – главный и единственный «двигатель» исторического процесса, создатель «исторической мистерии». Детерминистический подход к историческому процессу, определяемый историческими законами или «Волей Провидения» Федотов не принимал. Свобода нравственного выбора человеческой личности являлась для него определяющим фактором исторического развития. «Не разделяя доктрины исторического детерминизма, – писал Федотов, – мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов»[28].
Содержанием исторического процесса Федотов считал завоевания человека в разных областях жизни, сохраненных и развитых разными поколениями. «Лицо России не может открыться в одном поколении, современном нам. Оно в живой связи всех отживших родов, как музыкальная мелодия в чередовании умирающих звуков. Падение, оскудение одной эпохи – пусть нашей эпохи – только гримаса, на мгновение исказившая прекрасное лицо, если будущее сомкнется с прошлым в живую цепь»[29].
Идея органической связи поколений и сохранения традиций является для Федотова стержнем концепции российской истории и залогом ее возрождения в постбольшевистский период. При этом традиции рассматривались, проницательно заметил Карпович, не как неприкосновенные реликты, а как духовное оружие, служившее «в борьбе с новым злом и во имя новых целей»[30].
Незаурядность ученого проявлялась в его методе анализа исторического материала. Он широко и масштабно мыслил. Причины изучаемых им исторических явлений он искал не в отдельных фактах, а стремился изучить исторический процесс как целое, в котором существовали противоречивые тенденции и выявлялись ведущие линии развития.
Обращение Федотова к ключевым проблемам российской истории разных эпох дореволюционного и советского времени диктовалось стремлением понять их сущность и осознать перспективы развития. Современность он стремился постичь, изучая события прошлого, будущее становилось для него понятным при осмыслении современности. Вера в Россию определялась мировосприятием Федотова, его нравственным мировоззрением и научными позициями. Любовь к России, убежденность в ее историко-культурном величии, осознание необходимости внести свою лепту в ее возрождение, а также созданная научная историко-философская концепция служили базой обоснованных суждений Федотова о России. Его многочисленные статьи 20–30-х гг. содержат постоянный посыл: у России есть будущее и она возродится в постбольшевистское время.
Научный подход к пониманию исторического процесса обеспечил Федотову содержательность и во многом обоснованность созданной им программы Возрождения России. Он неизменно верил в будущее новой постбольшевистской России. Многие положения этой программы сохраняют свое значение и в настоящее время. «В нас должно совершиться рождение будущей великой России… – писал Федотов. – …мы призываем с напряженным восторгом вглядываться в лицо России и запечатлеть ее черты. Поведать всем забывшим о ее славе. Влить бодрость в малодушных, память в непомнящих, свет в темных… Мы знаем, мы помним. Она была Великая Россия. И она будет!»[31]
Возрождение России Федотов связывал с христианством, с его духовными и культурными ценностями. Христианство он считал религией всеобъемлющего совершенства, не зависящей в своей этике ни от какого общественного строя; «идеал христианства высок и недосягаем». Христианство содержит нравственные критерии: любовь к человеку, справедливость, борьбу со злом, братские начала жизни и обеспечивает своим духовным богатством личность. «Святость, недостижимая в общественной жизни, – полагал Федотов, – возможна лишь в личном совершенстве»[32].
«В христианстве – и только в нем – утверждается одновременно абсолютная ценность личности и абсолютная ценность соборного соединения личностей… В недрах христианства рождается новое социальное сознание»[33]. Только человек как творец истории может привнести в нее христианские ценности. Христианство дает нравственные критерии не только личной, но и общественной жизни. Лишь на почве христианства разрешимы, по Федотову, два недуга, которыми больно человечество: ненависть классов и ненависть наций. Христианство также может понять и разрешить противоречия личности и государства, обеспечить равновесие между личностью и обществом.
По мысли Федотова, поиски общественного идеала – дело человека, его совести и его свободы. Ценность социальных форм зависит прежде всего от того, кто наполняет их нравственным содержанием и духом социального идеализма. Идеал братства несовместим с существованием резких социальных противоречий богатства и бедности. Социальный вопрос является практическим выводом из постулата христианского братства[34].
Общественным устройством, в котором могут воплотиться христианские нравственные ценности, является социализм, который, по словам Федотова, в своем рождении вырастает «из тех же слоев сердца, что «Бедные люди» Достоевского или «Отверженные» Гюго», и в котором живет «вечная правда, всего смысла которой он еще сам не постигает. Человечество должно воплотить в жизнь свое умопостигаемое братство»[35].
Однако новый, современный Федотову социализм он оценивает как упадочную линию развития: «Социализм [в широком значении. – М. В.] утратил весь привкус утопичности и максимализма, который превращал его в “музыку будущего”»[36]. Он свободен от романтики и морализма, его отправная точка – не защита угнетенных, а сохранение общества в целом. Он проникнут пафосом не справедливости, а организации. Его идеал становится родственным техническому идеалу и становится «как бы социальной транскрипцией техники: социальным конструктивизмом»[37].
Современный западный социализм Федотов считает «серьезно больным». «Одна из величайших сил, творящих историю наших дней, социализм, – пишет он, – переживает время тяжкого кризиса, из которого он может выйти возрожденным или погибшим, задавив под своими обломками европейскую культуру»[38].
В Советской России, по Федотову, не существовало социализма органического происхождения, поскольку не было и капитализма. Социализм осуществлялся «жесткими руками», что привело к тирании, к подавлению личности и всех общественных классов. Материализм, этика классового эгоизма и ненависти, растворение личности в партийном и классовом коллективе Федотов считал несовместимым с христианством. Российский социализм он, таким образом, признавал забвением социальных основ христианства и враждебным ему.
Будущее российского развития предопределено для Федотова прежде всего его историческим прошлым и той почвой, которая была создана Советской Россией; Россия подвержена «общему печальному закону» европейской истории. Федотов являлся сторонником западноевропейского развития России. В духе государственной школы, школы Ключевского он не исключал и влияния своеобразия России на ее исторический путь. Капитализм Федотов считал для России закономерно обусловленным. Однако, в силу отсталости России «молодой русский капитализм» не имел навыков высокой технической школы, профессиональной этики, корпоративного самосознания.
Советское время, предшествующее новой России, Федотов называл «подобным петровскому», «бесконечно» углубившим экономический ров между Россией и Западом. Возможность засыпать этот ров он связывал с капиталистическим развитием и с этизацией капиталистического производства. Федотов отмечал особую «чуткость» большевиков в их обостренном внимании к проблемам техники и индустрии, но и называл их разрушителями русской промышленности, «окарикатуривших ее до сталинских пятилеток».
Новая постбольшевистская Россия, по его представлению, должна быть экономически независимым государством, хозяйственной автаркией, что возможно лишь при развитии капиталистического производства. В ответ на возражение современников, что на Западе капитализм исчерпал себя и его развитие связано с идеей социализма, Федотов отвечал, что многие идеи, в том числе и идея парламентаризма, «поизносились» и к ним следует относиться исторически: Запад и Россия по-разному и на разном уровне воспринимают и трансформируют эти идеи. У России свой путь, она должна опираться на вековой опыт Европы с поправками на социализм. «Русское творчество» состоит в том, «чтобы брать не последнее слово уже дряхлеющей идеи, а ее глубокое историческое содержание: найти для нее формы, соответствующие духу времени».
Осмысливая опыт европейского и российского развития и осознавая многосложность общественной атмосферы и в Европе, и в России, Федотов считал необходимым активизировать эмигрантскую творческую мысль для понимания возможностей эмиграции и сплочения сил в противоборстве с большевизмом.
В эмигрантской литературе, начиная с 20-х гг., активно обсуждался вопрос о форме будущего политического правления России. Федотов считал, что современное поколение в России примет любую власть, которая обеспечит ей минимум гражданской свободы – бытовой, хозяйственной и культурной. Он рассматривал разные формы власти и их применимость в постбольшевистской России.
Преимущества монархической власти Федотов видел в традиционной вере народа в ответственность единодержавного правления, а также в возможной роли хранителя культурных ценностей. Но фактом русской жизни он признавал исчезновение монархической идеи, ее изжитость в общественном сознании. «Только древняя монархия, сильная нерастраченным авторитетом, – писал он, – может вести политику социальных реформ, может опираться на демократию. Последыши обречены жить и умереть со своим классом». Установление в России монархии Федотов считал утопией, но, если бы оно было возможным, то осуществилось бы в форме реставрации династии Романовых, представляя для страны большую опасность. И, тем не менее: «Если бы чудом России свалилась с неба монархия… она, вероятно, не встретила бы сопротивления» и объединила бы людей различных политических ориентаций.
Наиболее приемлемой политической формой будущего государственного устройства России Федотов признавал республику. Он объяснял это тем, что республика не требует ломки в народном сознании. «Дух трезвости, расчетливости, хозяйственности» и эгалитарности составляет моральную атмосферу советской республики и может быть живучим в новой России. Однако Федотов отмечал, что эта республика лишена романтического пафоса и нуждается в воспитании на «героических республиканских идеалах Греции и Рима», на православном народоправстве Новгорода. И только при этом соединении республика может стать «положительным идеалом», обогащенным элементами национальной религиозной культуры[39].
В размышлениях о будущей России Федотов признавал и возможность «неизбежности» диктатуры. Установление диктатуры он объяснял пассивностью масс и отсутствием правового сознания. «Если власть не может опираться в своей самозащите на правовое чувство нации, она вынуждена опираться на силу. Иначе она будет сметена…»[40]. Важно заметить, что установление диктатуры Федотов считал возможным при разных формах государственной власти, в том числе и при демократии. В истории России Федотов видел разное содержание диктаторской власти. Царская Россия имела «удобную почву» для деспотизма, но этому препятствовала влиятельная прослойка интеллигенции, одушевленная пафосом свободы, а также наличие самоуправления и общественного мнения. В Советской же России произошло «вытравление чувства свободы». «Мы вернулись – политически, – свидетельствовал Федотов, – в обстановку XVIII века». Смута и аморфность ставили на повестку дня необходимость установления диктатуры.
Целесообразность установления диктатуры Федотов обосновывал также необходимостью сохранять единство России. «Вот почему, – писал он, – Россия не может в ближайшие годы позволить себе роскошь свободной политической борьбы, которая на ее еще горячей почве всегда рискует превратиться в междоусобие». Он признавал три вида диктатуры: единоличную, партийную и монархическую. Под партийной диктатурой Федотов имел в виду диктатуру коммунистической партии, которая при определенных условиях может продлиться и в постбольшевистское время. Здесь же Федотов замечал, что партия уже «износилась как самостоятельная политическая форма», превратилась в единоличную диктатуру и функционирует как политический аппарат. Советскую власть и фашистский режим он объединял понятием идеологической диктатуры, их общей чертой считал удушение свободы и творчества. Однако, фашизм как «самый вредный вариант», по его мнению, был неприемлем для России, в то время как советский строй мог составить определенную основу для новой постбольшевистской России.
Федотов много размышлял о демократии, о возможности демократического устройства постбольшевистской России. Демократия для Федотова означала власть народа, а источником власти являлась народная воля. Понятие демократии он наделял двумя идеями, одна из которых относится к символу, вторая – к социальной действительности. Символ, мистика демократии, поясняет Федотов, – это имя народа. «В демократии все вершится именем народа, как в Англии именем короля»[41]. Вторая идея связана с политической реализацией «народной воли». Народ при демократии несет не только государственное служение, но и ответственность. Кроме того, демократия является, как подчеркивал Федотов, единственной формой правового государства.
Самоуправление народа, по Федотову, не может быть ограничено только государственным правлением. Важной принадлежностью демократии является и создание местного муниципального и профессионального хозяйственного самоуправления. Без этой основы, подчеркивает Федотов, демократия не защищена от перерождения в цезаризм.
Основополагающими ценностями демократии Федотов признавал неотъемлемость прав и свобод личности. «В порядке ценностей свобода личности для христианского политика, – писал он, – стоит бесспорно на первом месте: она превыше всех политических форм». Это свобода личности от общества, от государства; одновременно государство обязано защищать личность от произвола, оскорбления и насилия. Федотов перечисляет длинный список свобод, которые формируют демократию: свобода совести, мысли, слова, собраний и т. д. Но самой главной он признает свободу убеждений – религиозных, моральных, политических, научных – и свободу их публичного выражения.
Социальная свобода, полагает Федотов, утверждается на двух истинах христианства. Первая из них – абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для народа, ни для государства и даже церкви, и вторая – свобода выбора пути между истиной и ложью, добром и злом. Что касается политических свобод демократии, то они являются производными от основной свободы – свободы духа[42].
Следует отметить, что Федотов проводил различие между социальным и политическим пониманием демократии. Социальная демократия – строй, действующий в интересах народных масс и максимально обеспечивающий права граждан. Но этот строй представлялся ему мало реальным. Современные западноевропейские парламентские демократии, по признанию современников, в том числе и Федотова, находились в кризисном состоянии. Их слабость Федотов видел прежде всего в том, что они не способны решать все возрастающие социальные проблемы, и связывал это с утратой парламентского большинства, обязанного обеспечить стабильность и работоспособность власти.
Резкой критике Федотов подвергал политические партии, которые погрязли в интригах и демагогии, современных политиков, переставших быть подлинными вождями народа, парламенты, которые все более заполняют «ловкие ораторы» и «сомнительные дельцы». Для управления государством и решения социальных задач, – считал он, – нужны иные качества правителей. «Люди культуры, просто порядочные люди все более уходят из политической жизни… Политика стала делом презренным, парламентарии предметом глумления»[43]. Поэтому народ не узнает себя в своих представителях и не станет защищать своих избранников, но без этого парламентский режим невозможен, ибо он основан на доверии и воле народа.
Буржуазный рационализм, как полагал Федотов, исказил лик демократии. Эти искажения проявились прежде всего в деятельности политических партий, подчиняющих своим интересам «индивидуальные воли», в пропорциональной системе выборов, разбивающей единство национальностей в угоду отдельным кликам, и, наконец, в несостоятельности исполнительной власти, у которой нет времени и свободы действий для продуманных и ответственных решений.
Диктаторские режимы с абсолютистским характером идеологий, к которым Федотов относил фашистскую власть, а также советский политический строй, он считал «могильщиками демократии». Однако предусматривал разный исход их исторического пути: либо установление цезаризма и абсолютизма, либо диктат власти партии – «отбор» тех, кто становится новой кастой. Не исключал он и возможность демократической эволюции.
По мысли Федотова, формой новой демократии призвана стать корпоративная или синдикальная демократия, поскольку современный человек из всех социальных связей развивает преимущественно профессионально-корпоративные связи. «В идее, корпорация является представительством не интересов, но призваний, различных форм социального служения». Корпоративную систему как форму организации и самоуправления трудящихся масс он рассматривал как переходную ступень к новой социальной демократии. В Советской России исходным моментом для развития новой демократии является советский строй, который в своей избирательной системе сочетает профессиональный и территориальный подходы. Противники корпоративной демократии утверждали, что ее сторонники теряют идеи государственного единства, на что Федотов возражал: в государстве корпораций идея целого представлена центральной властью и поэтому сильная и независимая власть, особенно в период ее становления, необходима. От народа власть получает лишь общие указания и должна реализовываться как искусство – талантливый вождь должен быть подобен художнику.
Главными условиями создания новой демократии Федотов считал экономические преобразования, «внутренние скрепы», дающие устойчивость и жизнеспособность общественному строю. Важное значение он придавал также духовной революции. «Дух должен проснуться в человеке». Все социальные отношения и преобразования должны быть освещены христианской религией[44].
Органическая социальная демократия, по Федотову, должна базироваться на новых мировоззренческих основах. «Ересям» парламентской демократии следует противопоставить иные представления, принципы и правила подхода к вопросам, связанным с демократической властью и ее выборами. Прежде всего, полагал он, неоспоримым должно быть установление, что участие во власти есть не право личности, а ее долг: «Власть не пирог, который делится между сотрапезниками, не акционерная компания для общей прибыли. Власть общее дело…» Равенство избирательных голосов не является преимуществом системы выборов. Всеобщность голосования – это школа общей жертвенности и ответственности. Законные интересы личности обеспечиваются ее правами, а не властью.
Федотов считал также, что представительство народа, сформированное путем «отбора лучших, мудрых и справедливых», не следует рассматривать только как выразителей народной воли. Народный избранник должен быть способным к избавлению от привычных идей, предрассудков и руководствоваться интересами дела и совестью. При этом его главным предназначением должно быть творческое начало, избавление от стереотипов правления. Но этому идеалу, замечает он, в меньшей степени отвечает парламент и в большей даже – совет средневекового или абсолютного монарха: боярская дума Древней Руси или Витенагемот англосаксонских королей.
Что касается характера выборов, то они, по мнению Федотова, должны быть построены не на выборе программ, а на оценке личных качеств кандидатов. Однако, выборы на основе личной годности, подчеркивает Федотов, осуществимы лишь в узких профессиональных группах. Избранный не может в период выборов принадлежать к какой-либо партии, он обязан на это время выйти из нее. Федотов напоминал также, что власть есть водительство народа, а не служба приказчика, выполняющего хозяйственные указания. Она должна быть сильной и независимой.
Выполнение всех этих принципов, полагал Федотов, заложит фундамент для становления новой демократии, которая будет создаваться не прожектерством, а политическим опытом.
В программе построения будущей России существенное место занимали аграрные и индустриальные преобразования. «Программной предпосылкой» решения земельного вопроса постбольшевистской России Федотов считал невозможность реставрации помещичьей собственности и необходимости прочного закрепления земли за крестьянами. Исключение могли составлять лишь бывшие владельцы усадеб и мелких владений. Препятствие этому он видел не в экономических, а в психологических причинах, в неприятии крестьянами какого-либо восстановления помещичьей собственности, поскольку «крестьяне боятся и тени помещика». Опыт же «насильственного коммунизма», считал Федотов, необычайно поднимет идеал личного, собственнического хозяйства.
Важно отметить, что Федотов придавал большое значение психологическому восприятию окружающего мира. В подходе к решению всякого рода преобразований он призывал учитывать настроения, психологию народа, трансформацию народных представлений. Он считал необходимым с осторожностью относиться к советскому наследию в аграрной сфере, осуждал ужасы советской коллективизации и разорение деревни и предвидел возможность нового крестьянского передела. Этот передел должен осуществляться самими крестьянами без участия государства. «Лучше санкционировать торопливую, не всегда справедливую крестьянскую дележку, чем спускаться во львиный ров растревоженной, обозленной деревни. Урок 1917 года всем памятен…»[45].
Вопрос о национализации земли Федотов связывал с «правовым титулом государственного вмешательства». Участие государства в процессе национализации он признавал неизбежным. Государству он отводил регулирующую роль, ограничивающую максимум земельного владения и предотвращающую возможность дифференциации в деревне. Что касается формы собственности в будущем, частной или коллективной, то решение этого вопроса определит лишь время. Государство при решении аграрных проблем должно учитывать пестроту местных условий и изменчивость крестьянских настроений. Общинное и подворное хозяйство могут и должны сосуществовать друг с другом. «Русская аграрная проблема, – утверждал Федотов, – становится проблемой агрономической». Большевики, по его мнению, «четко отразили исторический момент обостренного внимания к проблемам механизации сельского хозяйства и всему комплексу мер, необходимых для ведения рационального хозяйства»: орошения, удобрения, агрономии и т. д. «Приходиться смиренно сознаться, – писал он, – что Микула Селянинович никогда не умел хозяйничать, и русское земледелие было непроизводительной растратой человеческой рабочей силы». Революция, по представлениям Федотова, уничтожила психологические препятствия к рациональному хозяйству (традиционализм быта, этика равенства, социальная зависть) и освободила скованные хозяйственные силы народа.
На государство, полагал Федотов, возлагается обязанность обучить крестьян обрабатывать землю, овладеть новой техникой, машинами. Технический переворот в земледелии, предвидел Федотов, освободит большое число людей, занятых на земле. Аграрное перенаселение станет грозной проблемой России, а ее решение возможно лишь в общей системе народного хозяйства под эгидой государства[46].
Перестройку в областях промышленности Федотов признавал более сложной, чем в сельском хозяйстве. Прежде всего во главу угла он считал необходимым выдвинуть проблему производства, а не распределения; самым существенным вопросом признавал вопрос о собственности промышленности, о роли государства в ходе индустриальных преобразований. «Если дорожить экономической мощью русского государства, его влиянием на общую хозяйственную жизнь страны, то нельзя, увлекаясь духом антикоммунистической реакции, – писал Федотов, – разделывать все сделанное, разбазарить, раздарить или продать с торгов все государственное достояние России. Здесь национальный интерес ограничивает чисто экономическую логику».
По мнению Федотова, «как общий принцип, государство отдает лишь то, с чем оно само не в силах справиться». Но государство должно сохранить в своих руках «значительные возможности хозяйственного регулирования». Это «завоевание революции», считает Федотов, сохранится в постбольшевистской России «не по доктринерски-социалистическим мотивам», а по слабости русского промышленного класса.
Одновременно с этим он признавал необходимым установление рыночных отношений и денационализацию промышленности. Но проведение денационализации не должно означать ее реституции. Реституция одной категории собственности (промышленности) при невозможности реституции собственности земельной (денежной или движимой), воспринималась бы, считал Федотов, как очередная несправедливость. Кроме того, замечал он, вопрос о реституции не может быть поставлен и по отношению к индустриальному строительству, создавшему в годы советских пятилеток значительные технические ценности. Как и при решении аграрных проблем, Федотов подчеркивал необходимость пристального внимания к особенностям русского национального характера (в массе своей одобряющего национализацию промышленности) и призывал к осторожности в решении индустриальных проблем.
Денационализация, полагал Федотов, не может вылиться в продажу с публичного торга, поскольку промышленное или торговое предприятие – личное, творческое дело. Пути сбыта продукции, кредитные возможности часто являются выражением чьего-либо личного, творческого действия, и Россия помнит и гордится многими талантливыми родами, лишенными собственных капиталов, но без которых далеко не всегда возможно восстановление разрушенного.
Федотов предвидел и допускал возможность иностранного вторжения в процесс промышленных преобразований, предостерегая, однако, что денационализация может сопровождаться захватом отдельных отраслей промышленности иностранцами. И только умелая национальная охранительная политика, «воля отстоять национальное достояние» способны предотвратить угрозу зависимости России от иностранного капитала или превращения ее в колониальную страну.
Государственное вмешательство Федотов признавал обязательным в сфере отношений между трудом и капиталом, отношений «весьма острых и чувствительных» в послереволюционную эпоху. Рабочий, признавал Федотов, «не скоро позабудет хмель своего призрачного царствования»; «избалованное классовое самосознание» будет чрезвычайно чутко «ко всякому моральному и политическому унижению». «Отменив пролетарское дворянство», государство не должно допускать нового крепостничества на фабрике. Федотов считал желательным сохранение в постбольшевистском периоде большевистского кодекса законов о труде. «Освобожденная Россия должна показать своему мятежному сыну, что для нее нет пасынков»[47].
Обоснованной представляется мысль Федотова о том, что от политики власти первых лет постбольшевистской России многое зависит: удастся ли направить рабочее движение, профессиональную и политическую деятельность по национальному руслу, или русский рабочий вновь вернется в лоно Коммунистического интернационала.
На государство и особенно на интеллигенцию возлагается большая разъяснительная работа для того, чтобы «приобщить красных варваров к русской национальной культуре» и чтобы они не чувствовали себя безродными и понимали, что они «вступают в наследство великих отцов»[48]. Но для этого должно быть обеспечено их материальное положение и досуг для духовного развития. Знаменательно высказанное в этом контексте прозрение Федотова о том, что, если в 20-е годы «красная Москва» оказывает огромное воздействие на сознание европейского пролетариата, то в будущем это соотношение изменится – европейское влияние на постбольшевистскую Россию окажется бóльшим.
Экономическое и культурное возрождение России Федотов не мыслил без воссоздания и развития класса предпринимателей, для которых проблема производства должна доминировать над проблемой распределения. Этого требует настоятельная потребность засыпать экономический ров между Россией и Западом, образовавшийся в XIX в. и углубившийся в советское время. Россия должна превратиться в индустриальную державу, иначе она может стать колониальной страной.
Почва для образования была подготовлена имеющимся в России «пафосом техники», огромным интересом к хозяйственным и техническим проблемам, что является залогом хозяйственного возрождения. Технический романтизм новой интеллигенции в соединении со стихийной энергией деревни создает, по Федотову, атмосферу для возникновения нового типа национального предпринимателя. Но для этого необходима большая работа в области экономического просвещения, переоценка морального значения хозяйства, этизация капиталистического предпринимательства и постижение опыта международной экономики.
Определенные предпосылки для возможности индустриализации России он усматривал в политике большевиков, в их «чутком», обостренном внимании к проблемам техники и индустрии. «Разрушители русской промышленности, – писал он, – они мечтают продолжать дело Витте, окарикатурив его до сталинской пятилетки». Осуществление индустриализации Федотов связывал не с пятилетками, а с пятидесятилетним сроком. «В таких границах времени индустриализация России перестает быть химерой»[49]. При этом важно отметить, что, говоря об индустриализации России, Федотов был далек от ее сравнения с западноевропейскими индустриальными странами. Он считал, что естественные условия и богатство страны предопределяют аграрный тип России. Но Россия может и должна перерабатывать свое сырье, обеспечивать снабжение армии и стать независимым хозяйственным миром.
«Экономическим несчастьем» России Федотов считал неразвитость организованного городского ремесла. Национальное русское ремесло – кустарное – было подсобным при крестьянском хозяйстве. В силу этого в России не было вековых навыков технической школы, профессиональной этики корпоративного самосознания, а «молодой русский капитализм» имеет эксплуататорский и спекулятивный характер.
Русский капитал, в отличие от западноевропейских стран, имеет глубокие торговые корни. Поэтому традицией российского развития, требующей возрождения, Федотов признавал торговлю. Он помнил о вечевых республиках Древней Руси, экономическая жизнь которых строилась на торговле, отмечал, что и большевистская деревня выделяла из своих рядов торговцев и предпринимательскую аристократию. Психологический тормоз для развития торговли на разных этапах развития России он видел в «дворянском презрении» к торговле, в «неразборчивости» русской интеллигенции, путающей понятия торговли и спекуляции, эксплуатации и предпринимательства.
Одной из важных составляющих программы возрождения России являлась национальная проблема. Федотов понимал особую значимость и сложность этой проблемы, несравнимой с решением хозяйственных вопросов. Возрождение России, вполне правомерно, представлялось ему во многом зависимым от того, «будет ли существовать Россия как империя, как государственный союз народов, или она вернется к исходному племенному единству в старомосковских границах Великороссии»[50]. Симптомы сепаратизма представлялись ему опасной болезнью, способной разрушить государство. Самым тревожным мистически значительным симптомом он считал забвение имени Россия, которая может стать географическим и этнографическим пространством.
Будущее национальное строительство должно быть основано на уже достигнутых и устоявшихся результатах. Со «справедливой гордостью» Федотов утверждал, что «…гегемония России почти для всех (впрочем, не западных) ее народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечеловеческой культуре, какой являлась культура русская»[51]. Структуру СССР поэтому Федотов признавал «черновым наброском будущей карты России». К стабильным признакам этой карты он относил прежде всего целостность России, подвергая, однако, сомнению большевистскую систему централизма и децентрализма.
Просчеты советской национальной политики он видел в отсутствии идеи «единства трех основных племен» – русских, малорусов и белорусов. Это единство, по идее Федотова, должно стать базой формирования нового русского национального сознания. Большое препятствие в создании возрожденного государства состояло, считал Федотов, в «омертвении великороссов», в потере ими «национальной активности», утрате осознания этнических и духовных приоритетов. Это состояние Федотов называл глубокой болезнью, в которой были повинны «три главнейшие силы, составлявшие русское общество» – народ, интеллигенция и власть.
Не без основания Федотов утверждал, что для русской интеллигенции западнического толка национальная идея часто соединялась с идеологией самодержавной власти. «Все национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциации насилия или официальной лжи. Для целых поколений «патриот» было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством»[52].
Основным «пороком» народа Федотов считал постепенную утрату им национальной идеи, терпения и способности защищать Россию. Национальное сознание, которым, по мысли Федотова, в полной мере обладала Московская Русь, постепенно, начиная с петровских времен, «выветривалось». Народу стали недоступны историческая судьба страны, ее международная политика; крепостное рабство воздвигало стену между народом и государством.
«Падение царской идеи повлекло за собой падение идеи русской». Русский народ «распался», «распылился» на «зернышки деревенских мирков», к этому добавился и отлив материальных и духовных сил от великорусского центра на окраины империи.
Отдельные национальные районы России также представлялись Федотову не в полной мере готовыми к осуществлению намеченной программы. «Никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, раздирающих тело России», – писал он в 1929 г. Политика расчленения России, по словам Федотова, проводится националистами «под покровом интернационального коммунизма». Украина, Грузия рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тяготеют к азиатским центрам ислама. Сибиряки мечтают о Сибирской республике[53].
Национальный сепаратизм Украины и Кавказа являлся для Федотова исторически объяснимым явлением. Украина виделась ему «самой трудной» национальной территорией России. Сложности украинского самосознания он связывал с генетическими свойствами, с влиянием «польской самостийной гордыни», с антирусской ориентацией полонофильских или германофильских кругов украинской интеллигенции, которые ошибочно выражали историческую идею украинского народа. Федотов считал украинский народ южно-русским племенем и создателем русского государства. Новое национальное государство обязано чутко и внимательно относиться к малороссам, щадить их национальное самоутверждение и способствовать развитию русских традиций в мировосприятии Украины.
Федотов призывал создать сверхнациональное государство (империю), обеспечивающее мирное сотрудничество народов «под водительством великой нации». «Мы должны показать миру (после крушения стольких империй), что задача империи, то есть сверхнационального государства, разрешима, – писал Федотов. – … Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов не под гнетом, а под водительством великой нации». Для Федотова это означало «воскрешение» духовного облика всех народов России. Центром притяжения для народов была и остается русская культура, способствующая приобщению к мировой цивилизации[54]. Объективными факторами для создания этого государства являлись: мощный экономический базис, наличие старых экономических связей, единый хозяйственный организм, действующий как в дореволюционной, так и в советской России, великая русская культура, оплодотворяющая другие культуры, традиция национальной политики, приемлемой для других народов, историческая роль суперарбитра в международных конфликтах.
Успешное решение национальной проблемы Федотов связывал с наличием благоприятных политических и моральных условий, с созданием гибких и твердых юридических форм, которые одновременно выражали бы единство и многоплановость национального построения России и обеспечили бы гарантии развития свободы каждому народу. При этом Федотов считал необходимым учитывать различие культурного уровня народов. Поэтому установление симметричной федерации (конфедерации) не перспективно и не создает благоприятных отношений между народами.
Коренным условием создания этой государственной модели, по мысли Федотова, является формирование нового национального сознания. «Наше национальное сознание, – писал он, – должно быть сложным в соответствии со сложной проблематикой новой России (примитив губителен!). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским… Для малороссов, не потерявших сознание своей русскости, эта формула получит следующий вид: малорусское, русское, российское»[55]. Новое национальное сознание должно быть соединено с религиозным возрождением, существенно скрепляющим народы.
В конце 30-х – начале 40-х гг., особенно под влиянием начавшейся Второй мировой войны, утверждения нацистской Германии, Федотов был глубоко озабочен перспективой мироустройства. Федерация народов, по его убеждению, должна спасти мир и противостоять войнам, деспотизму и национализму. Федеративное устройство, по мнению Федотова, способствует скорейшему разрешению конфликтов. Это подтверждают примеры из истории и истории культуры: греко-римские городские общины объединяются в империю, феодальные княжества – в национальные государства; Рим интегрировал в одну культуру многообразие средиземноморских культур, несмотря на «антагонизмы и реки крови» на этом пути.
Федотов понимал, что государственное сознание многих стран «приковано к старым суверенитетам, зажатым в узкие национальные границы», хотя Европа уже создала систему федераций: Центрально-европейской, Балканской, Британской и др. В России он видел те же процессы. Россия «и на Западе, и на Востоке… вросла всеми своими членами глубоко в другие политические миры. Ее нельзя оторвать от мировых силовых систем, как нельзя разрубить сиамских близнецов». В политической и культурной областях в новых исторических условиях Россия не может быть самодовлеющим государством. «Как европейская федерация немыслима без России, так и культурная жизнь России немыслима без Европы». Опыт тысячелетней истории показывает, утверждал Федотов, что, хотя Россия и Запад имеют не совсем тождественные истоки, отражающие «особенность двух христианских миров», но и Византия, и Рим восходят к Греции. И этим он объясняет возможность общения и взаимного оплодотворения.
Петровская эпоха, расширяет и корректирует Федотов свои представления о ней, являлась не только изменой, но и «обретением собственной сущности в заимствованных формах культуры». Запад способствовал пробуждению и мужанию России, а также формированию свободы. Советское время прервало связи России и Европы вместе с истреблением культурного слоя, хранящего эти связи. «Думается… – писал Федотов, – что и после освобождения России от сталинизма ей не жить цветущей культурной жизнью, если она сохранит китайскую стену, отделяющую ее от Запада»[56]. «Моральной болезнью» Федотов характеризовал евразийство за отречение от Запада и идеи автаркии, младороссов за принятие тоталитаризма и фашизма.
Исследователями отмечено, что после переезда в США, несмотря на то, что Федотов «не очень вписался» в жизнь Америки, он во многом одобрительно относился к американской демократии и цивилизации, идеализируя их. Он был увлечен созданием утопической идеи строительства мирового государства и включением в него американского мира[57]. При всей сложности и нереальности этой идеи важно обратить внимание на глубокое осознание Федотовым новой общественно-политической ситуации в мире, взаимозависимости наций и государства и необходимости интеграции, подготовленной предшествующим развитием.
Верный своему культурологическому подходу, возрождение России Федотов связывал с развитием культуры. Большевистская власть оставила, по мысли Федотова, трагическое наследие: нивелирование культуры, уничтожение образованного слоя, закрытие для народных масс источников высшей культуры и в итоге «искусственную выгонку целого поколения в марксистском парнике». «Буйная демократизация» культуры при советской власти, полагал он, несет в себе большую опасность: резкое снижение уровня, «измельчание духовных вод», уничтожение источников пополнения интеллигенции, связанного с планомерным истреблением дворянства и буржуазии. «Опасным» представлялся Федотову и советский варвар-специалист, «относящийся с презрением к высшим культурным благам». Неприемлемым для культурного возрождения России Федотов считал и созданный НЭПом «духовный тип» интеллигента, порождающего формализм и духовную нищету[58]. Культура как высшая форма творчества требует уничтожения большевизма и утверждения свободы. Перед новой Россией стоит задача воссоздания культурного слоя и «выпрямление духовного вывиха целой нации». Осуществление этой задачи возможно лишь при умелой организации культуры, проводимой государством и церковью. Церкви предназначается решение религиозно-духовных, нравственных проблем, которым в новой России будет принадлежать первенствующая роль.
Государство, считал Федотов, должно удовлетворить культурный голод народных масс, обеспечить организацию технического прогресса и сохранить высшие формы национальной культуры, составляющие ее основу. Государство обязано материально и морально поддерживать культуру, воспитывать уважение к интеллигенции и тем самым всемерно способствовать воссозданию нового культурного слоя, свободной творческой интеллигенции. Только союз государства и интеллигенции, полагал Федотов, способен создать условия для возрождения культуры. Однако, этот союз «требует большого самоограничения обеих сторон: от государства – отказа от идеологических притязаний, от всякой идеократии, софократии и прочих видов лжетеократии; от интеллигенции – установления широкого идейного фронта и величайшей осторожности (воздержания) по отношению к чисто политическим и социальным задачам государства»[59]. «Мы стоим, – писал Федотов, – перед фактом духовного искалечения народа, искусственно питаемого фальсифицированными продуктами или определенными ядами».
Задача воспитания масс падает на плечи интеллигенции, в становлении которой Федотов считал основополагающим формирование гуманитарной направленности образования. При этом для культурного развития необходимо сохранить иерархию, признать право на духовное неравенство: «…движение вод зависит от разницы уровней». Практическую работу по реализации намеченной программы должна выполнить созданная в новой России «Лига русской культуры» – свободный союз, осуществляющий пропаганду русской идеи в массах. Назначение лиги – выполнение «национального долга» по строительству новой России. Лига не должна стать партией, к государству она должна быть лояльной, но сохранить от него должную дистанцию.
В своей программе возрождения культуры Федотов выдвинул и ряд конкретных мер, определяющих решение поставленных задач. Непрерывность работы в области духовной культуры, по мнению Федотова, должно обеспечить воссоздание разрушенной системы гуманитарного воспитания и образования. Организация работы в вузах должна быть тщательно продумана. «Современная доктрина: “Наука делается в Главнауке, а вузы лишь популяризируют ее”, – считал Федотов, – может найти много последователей». Это создаст угрозу науке как служению истине, культуре как сложному многоединству. Необходимо восстановление историко-филологических и юридических факультетов в высших учебных заведениях, гуманитарных классических школ. Федотов предлагал создавать элитные школы, в которые могут быть включены и лучшие ученики народных образовательных школ, «открытых революцией для низов», уровень которых не превышал уровень рабтехникумов. Создание подобных элитных школ будет способствовать формированию образованного слоя, «иначе неизбежно снижение качества [образования], растворение в пошехонском море». Эти школы могли бы воспитывать учителей и быть питомником университета. В дальнейшем школы не должны быть ни сословными, ни классово-цензовыми. Народные школы должны быть с техническим и гуманитарным уклоном. Общая народная школа в будущем должна сохранить реально-технический характер, обеспечивающий научно-технический прогресс, но с обязательной заменой идеологических положений марксизма и материализма основами национального воспитания. Гуманитарная средняя школа предназначена для подготовки студентов гуманитарных факультетов. Университетские вступительные экзамены предостерегают от захлестывающего варварства в образовании, а система стипендий обеспечивает приток в высшую школу демократических низов.
Большое значение в возрожденной России Федотов придавал и науке. Он осуждал идеологизацию и политизацию науки в советском обществе, политику власти, ограничивающую деятельность старых преподавательских кадров в высших учебных заведениях, и предостерегал от того, чтобы внимание к политической благонадежности, присущее во многом советскому времени, не мешало ученым. Они должны профессионально противостоять натиску надзирателей науки. «Установление границ и распорядка этого мира есть задание самой русской науки и не может быть предвосхищено государством». Федотов выступал за развитие науки, свободной от политики. Вместе с тем он предупреждал, что свободная наука может попираться и диктатурой, и демократией, и даже самими учеными под флагом автономии и что «только культура может спасти культуру»[60].
Возрождение России Федотов связывал с христианством, с его духовными и культурными ценностями. Возрождение страны он не мыслил без изменений, связанных с религией и положением Церкви. Он осуждал «богоборческую ярость» советской власти, пагубные последствия революции, в результате которой от религии были отвергнуты широкие массы населения и возник религиозный индифферентизм. Но Федотов считал, что гонения советской власти не уничтожили православную церковь и что она проявила большую духовную силу и способность к творческому восстановлению. Одновременно он признавал, что завоевание народных масс после атеистического раздолья потребует большой культуры и перестройки церковных работников, выработки разных форм церковно-социального служения. Церковь в России – «хранительница самых чистых и глубоких национальных традиций», поэтому она должна получить свободу, которая не будет свободой изгоев и изгнанников. Государство может оказывать церкви поддержку обеспечением религиозного (факультативного) преподавания в школе для всех вероисповеданий, материальными затратами на содержание храмов, признанных исторической и художественной ценностью, без профанирующего обращения их в музеи. В свою очередь, церковь, политически лояльная к государству, должна сохранять независимость своего нравственного суда. Тогда откроются пути для медленного срастания православной церкви с новым демократическим обществом.
Федотов верил в возрождение истинного христианства, в оцерковление культуры, что означает не подчинение внешнему авторитету церкви, а осуществление «религиозно-культурного единства, при котором Церковь не противостоит культуре, но творит ее в своих недрах». Только православие способно решить социальные проблемы, выполнив заветы христианства. «Если грядущая Россия будет страной народовластия, то она найдет церковные формы его освящения»[61]. Наступит время, когда Церковь проявит свое подвижничество и всенародное служение, и это явится началом воскресения России.
Рассмотрение созданной Федотовым программы, или комплекса мер, необходимых для возрождения России, – яркое свидетельство высокого профессионального мастерства историка-эмигранта и его преданности интересам России.
Федор Августович Степун
Степун, как и Федотов, принадлежал к религиозным мыслителям. Он был философом, культурологом, историком, писателем и публицистом. Христианско-гуманистические ценности являлись для него главными и непреходящими ценностями. Степун родился 6 февраля 1884 г. в Москве, окончил Московское реальное училище. Продолжил свое образование он в Гейдельбергском университете, где изучал под руководством известного ученого баденской школы неокантианцев В. Виндельбанда историю, политическую экономию, государственное право и историю искусства и литературы. В 1910 г. он защитил докторскую диссертацию по теме «Историософия Владимира Соловьева». По возвращении в Россию Степун принял участие в международном ежегоднике по философии культуры «Логос», где были опубликованы многие его программные статьи, в частности, «Трагедия творчества». Напряженная творческая деятельность сопровождалась участием Степуна в «Бюро провинциальных лекторов». С лекциями Степун побывал во многих городах России. Современники отмечали особый ораторский талант Степуна.
В Первую мировую войну он находился в действующей армии в составе 12-ой Сибирской стрелковой артбригады, расположенной на Галицком и затем на Рижском фронте, где был тяжело ранен. Посвященный этому времени роман Степуна «Записки прапорщика-артиллериста» (М., 1918) был признан критикой одной из лучших книг о Первой мировой.
Во время февральской революции Степун в качестве фронтового представителя входил в состав Всероссийского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, затем возглавлял культурно-просветительскую часть при политическом отделе военного министерства, возглавляемого Б. Савинковым; публиковал статьи антибольшевистской направленности. После октябрьской революции переехал в Москву, где сотрудничал в правоэсеровском «Возрождении». Ему удалось избежать расстрела, и он переехал жить в бывшее имение своей жены, где, реализуя артистическое призвание, открыл театр, в котором играли крестьяне, а сам он выступал в качестве и режиссера, и актера. В 1923 г. он издал книгу «Основные проблемы театра», которая обобщила его познания в этой области.
Благодаря вмешательству Луначарского Степун был освобожден от призыва в армию и назначен на должность заведующего репертуарным отделом при «Показательном театре революции». Однако после постановок «Царя Эдипа» Софокла и «Меры за меру» Шекспира он был уволен «за непонимание пролетарской культуры».
В 1922 г. Степун вместе с Н. А. Бердяевым, С. Л. Франком и Я. М. Букшпаном выпускает сборник «Освальд Шпенглер и закат Европы». Авторы сборника, по словам самого Степуна, отдавали дань эрудиции немецкого философа, художественному проникновению в описание культурных эпох, его пророческой тревоге за Европу, но отрицали «биологически-законоверческий подход к историософским вопросам» и главную мысль Шпенглера о том, что каждый культурный организм наподобие растительного проживает свой срок и отмирает. Шпенглер, как известно, проводил также мысль о том, что культуру заменяет цивилизация, и это означает переход от творчества к окостенению и техницизму. Этот сборник заинтересовал В. И. Ленина, усмотревшего в нем «литературное прикрытие белогвардейской организации»[62].
По свидетельству известного знатока творчества Степуна В. К. Кантора, деятельность этого ученого оказалась первопричиной, которая побудила Ленина задуматься о высылке на Запад российской духовной элиты. В постановлении Политбюро ЦК РКП(б) «Утверждение списка высылаемых из России интеллигентов» Степун характеризовался как философ мистически и эсеровски настроенный, который «в дни керенщины был нашим ярым, активным врагом, работая в газете правых социалистов-революционеров «Воля народа». Керенский это отличал и сделал его своим политическим секретарем»[63]. 16 августа 1922 г. Степун был арестован. На допросе он свидетельствовал, что как гражданин относится к советской власти «определенно лояльно», считает всякую внешнюю вооруженную борьбу с ней политической ошибкой, а как философ воспринимает большевизм как «очень сложную религиозную и моральную болезнь русской народной души, которая, однако, безусловно, пойдет на пользу ее духовного роста». На вопрос о процессе над социалистами-революционерами, проходившем в июне-августе 1922 г., Степун отвечал, что это мероприятие советского правительства означает для него «всю духовную неприемлемость… большевистски-коммунистического миросозерцания».
Отношение Степуна к эмиграции из России было отрицательным. «Эмиграция, не пережившая революцию дома, – полагал он, – лишила себя возможности действенного участия в воссоздании духовной России»[64]. Следует заметить, что Степун откровенно высказывал свою точку зрения по всем этим вопросам, что подтверждается, как будет очевидно, анализом его творчества. По постановлению Коллегии ГПУ от 4 октября 1922 г. «в целях пресечения» антисоветской деятельности Степун был выслан за границу.
Он поселился в Берлине. Научное творчество Степуна в эмиграции приобрело огромный размах. Он издал яркие и талантливые книги: составленный из напечатанных в России статей сборник «Жизнь и творчество» (Берлин, 1923), «Театр и кино» (Берлин, 1932), роман в письмах «Николай Переслегин» (Париж, 1929), «Встречи: Достоевский – Л. Толстой – Бунин – Зайцев – В. Иванов – Белый – Леонов» (Мюнхен, 1962) и др.
Одновременно Степун активно занимался преподаванием, возглавляя кафедру социологии в Дрезденской высшей технической школе. В своих лекциях он критиковал национал-социализм как политическую платформу, решение расового и еврейского вопросов. Много сил в эти годы философ отдавал участию в Обществе В. Соловьева, которое возглавлял друг Степуна А. Д. Оболенский, бывший обер-прокурор Синода. Впоследствии Степун вспоминал, что от Оболенского у него «осталось впечатление чего-то очень своего. В его образе и во всем его душевно-духовном складе к нам в Дрезден заходила та Россия, с которой с годами все крепче чувствуешь себя связанным»[65].
В 1937 г. по доносу на постоянную критику национал-социализма и «приверженность к русскости» Степун был уволен из Дрезденской высшей школы. Он сосредоточился на написании мемуаров, в которых намеревался нарисовать образ России и рассказать о ней в своих раздумьях и чаяниях. Мемуары «Прошедшее и непреходящее» были опубликованы в 3-х томах на немецком языке в 1947-1950-х гг.
В 1945 г. во время бомбежки Дрездена англо-американской авиацией дом Степуна был разрушен, погибли его архив и библиотека. Степун и его жена в это время находились за городом и уцелели.
Послевоенная Германия высоко оценила антинацистскую позицию Степуна. В 1947 г. его пригласили возглавлять в Мюнхенском университете специально созданную для него кафедру русской культуры, где он трудился до конца жизни. Степун читал лекции по русской литературе и социологии русской революции. Эти выступления, как свидетельствовали современники, пользовались всеобщим признанием.
23 февраля 1965 г. Степун скоропостижно скончался.
Россия всегда занимала центральное место в творчестве Степуна и в то время, когда он жил в России, и в период эмиграции, в Германии. Он не только любил Россию, но и активно стремился в меру своих возможностей избавить ее от всех несовершенств и возродить ее христианский, богоподобный облик. Россия для Степуна – часть Европы, русскую историю он сопоставлял с западной, нисколько не умаляя особого исторического пути своей родины.
Будучи философом, Степун обладал историческим мышлением, которым не всегда обладают историки. Природу того или иного исторического явления он всегда связывал с прошлым, определяя его точки роста и возможную трансформацию. Для Степуна будущее не существовало без прошлого. «Настоящей России, – писал он, – одинаково нет как без прошлого, так и без будущего, ибо настоящая Россия мыслима только в единстве своего прошлого и своего будущего». Поэтому его статьи содержат характеристики российской истории и современности, а также сопоставления с западным историческим развитием. И именно поэтому многие суждения Степуна о России представляются или неоспоримыми, или заставляющими размышлять.
Степуну была присуща и способность к альтернативно-историческому мышлению. «…Разве уж так бессмысленны размышления о прошлом в сослагательном наклонении, – считал он, – разве они ничем не связаны с размышлениями о будущем? Для меня в этой связи весь их смысл и вся их ценность. Многомерность своего сознания я в будущем ни в каких практических целях никогда и на за что не погашу»[66]. Эта многомерность мышления придавала суждениям Степуна масштабность, основательность и перспективность новых подходов и решений.
Революция и большевизм являлись для Степуна проблемами, осмысление которых означало не только понимание происходящего, но и раскрывало возможность предвидения будущего. Метод перспективизма, использованный Степуном, выявление сущностных основ, на которых может быть построено «естественно выросшее из недр старого» и не утратившее своих устоев, новое общественное здание, с учетом, разумеется, различных внешних влияний, занимало преимущественное внимание умного и обогащенного знаниями мыслителя. Способность проникнуть в сущность явления, увидеть его многофакторность и многослойность, раскрыть различные линии развития и определить их жизнеспособность под силу далеко не каждому ученому. Степуну глубоко мыслить, несомненно, помогали его философское и религиозное образование, научная культура, которую он приобрел в Гейдельберге, и, конечно же, личностное начало. «Всякая личность постигает мир настолько, насколько она личность», – это мудрое высказывание относится и к Степуну. Революцию Степун стремился постичь «объемно и многомерно».
Осмысление понятия революции сопровождалось у него рассмотрением теоретических, методологических, а также широкого спектра конкретно-исторических проблем. Так, он размышлял о сущности революций, их причинах, общих и особенных чертах, о проблеме эволюции и революции, сравнивал русскую революцию с немецкой и французской, занимался выявлением различий между октябрьской и февральской революциями. Он понимал, что «революция в общепринятом смысле представляет собою очень сложный узел целого ряда исторических тем»[67]. К ним Степун относил тему «сорванной революцией эволюции», контрреволюции, тему пореволюционного сознания. Разумеется, не все из названных тем получили в трудах Степуна необходимое освещение, многие из них лишь обозначены. Но в данном случае важно отметить глубокое и емкое понимание Степуном проблемы революции.
Философско-религиозное образование определяло не только подходы автора к изучаемому факту или явлению, но и методику их исследования. Степун прошел баденскую школу неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), изучал труды немецкого философа-идеалиста, основателя феноменологии Э. Гуссерля, создателя концепции идеальных типов Макса Вебера, труды по социологии, в том числе Питирима Сорокина. Это формировало не только его философско-и-деалистические воззрения, но и давало импульс к развитию исторических взглядов, в которые органично входили нравственно-этические и эстетические представления. Опираясь на метод типологического конструктивизма, Степун подчеркивал, что его «понятие революции не абстракция, а типологическая конструкция». Он считал, что общепринятый метод индукции и обобщения определяет чертеж всех революций, а метод идеально-типической конструкции дает модель всех революций и возможность проникновения в их содержание.
Сущностная структура революции, по Степуну, включает не только внешние факты, но и «некое внутреннее событие духа, поскольку ее бытие и состоит не в чем ином, как в осмысливании, обессмысливании и переосмысливании жизни»[68]. Революция является событием в духовной жизни, во внутренней судьбе человечества. Из этого Степун делает вывод о возможном и положительном и отрицательном смысле революции.
При определенных исторических условиях возможно повторение уже испытанной ситуации, возникновение типичной формы, которую необходимо изучать как универсальную и одновременно как конкретную.
Степун затрагивал и сложные методологические проблемы революции, в частности, проблему революции и эволюции. Сущность исторического процесса, по Степуну, «заключается в постоянном переоформлении сверхисторического содержания жизни», в «реализации связи между абсолютным и относительным, небесным и земным, Богом и человеком». И без утверждения этой связи процесс истории не может быть осмыслим. Вопрос о том, каким способом – идеалистическим или материалистическим – постигать эту связь, зависит, как полагал Степун, от «духовного возраста эпохи». В современности Степун видел «медленное углубление религиозной жизни» и в своих построениях, как он отмечал, исходил из идеалистически-метафизического подхода.
Степун выступил против бытующей точки зрения, что революция – «предельно ускоренная эволюция». Все революции, возражал он сторонникам этого мнения, являются культурным, социальным и политическим откатом назад, «задним ходом» истории. Революция – не осложненная болезненными явлениями эволюция, а болезнь прерывания эволюции. Ускорение же эволюции может быть свойственно не дореволюционному, а пореволюционному периоду России.
Между эволюцией и революцией существуют различия. Всякая эволюция отличается единством национальной культуры и единством национального сознания; революция же означает разрыв этого единства и в сознании революционеров, и в реальной жизни. Пока хранители старых ценностей и форм культуры и восходящие к власти новые классы борются лишь за разные формы воплощения общего для них духовного содержания – революции не существует. Когда же борьба за разные формы культуры накаляется, то раскалывается единство национального сознания, и это означает, что революция началась. «Православные мужики, апеллирующие поджогами усадеб к справедливости царя против засилья помещиков, вместе с ними, мужиками, верующих в Бога и царя, – утверждает Степун, – бунтари, но не революционеры. Рабочий же марксист, расстреливающий из пулемета икону как символ ненавистной богопомазанности царей-преступников – революционер, а не бунтарь».
Опыт многих революций, отмечал Степун, показывает, что они начинались с поджогов господствующего миросозерцания. Причину распада национального сознания он видел в отрицании абсолютного, т. е. религиозного значения культурных ценностей. В этой связи Степун делает интересное, имеющее универсальный смысл замечание о том, что разложение национального сознания всегда начинается среди правящих классов, представителей старых культурных форм и традиций. «Начинается оно всюду одинаково: с обездушения господствующих культурных ценностей путем превращения их в факторы власти и даже насилия над восходящими к жизни новыми народными слоями, новыми классами». Из этого Степун делает вывод, что застрельщиками революции являются не столько революционные вожди, сколько власть имущие представители, которые первыми прагматически-утилитарно относятся к доверенным им ценностям и производят их девальвацию.
Народная же революция, подчеркивает Степун, никогда не взрывает опоры господствующей культуры: «Лишь тогда, когда правящие слои царской России превратили исповедываемую ими религиозную истину в идеологический заслон против народных требований, т. е. обездушили ее, восстал русский народ на царя и на Бога во славу Маркса и Интернационала»[69].
Революция как хаотическое прерывание эволюции представляет собою разрушительные акты. Революцию Степун понимал как трагедию, но не в эстетическом, а в метафизическом смысле, когда осмысливается не только жизнь, но и смерть. Мыслитель оценивает революцию диалектически. Он утверждает, что разрушительные действия революционеров являются разрушительными лишь в субъективном сознании революционеров; в объективном смысле, как бы сказал гегельянец, отмечает Степун, они являются актами созидательными. «Разрушение, производимое революцией, потому только и есть революционное разрушение, что оно вовсе не есть только разрушение, а есть через разрушение осуществляющее себя творчество»[70]. В доказательство этой мысли Степун приводит факты из истории революций: французская революция в том или ином виде, пусть с усечением, осуществила провозглашенные ею принципы – свобода, равенство и братство; лозунг «Земля народу» реализован русской революцией. Русскому народу дана свобода, но свобода только от помещиков. Истинная и полная свобода, полагает Степун, придет в постбольшевистское время.
Путь к преодолению революции связан с национальным объединением. Сравнение русской революции с европейскими, естественно, расширяло, уточняло и корректировало представление о революции как об общеисторическом явлении, а также позволяло глубже понять специфику каждой отдельной революции. Степун усматривал общность русской и немецкой революций, которая проявилась в подготовленности революций марксистскими идеями, в том, что эти революции произошли во время войны и организовали советы рабочих и солдатских депутатов. Однако, несмотря на эту «тройную связь», замечал Степун, между немецкой и русской революциями гораздо меньше общего, чем между русской и французской 1789 г., которые он называл подлинными, но отдаленными друг от друга разницей идей, эпох и организационных форм.
Немецкая революция, корректирует Степун свои рассуждения, была не революция, а «всего только ускоренная и обостренная эволюция», поскольку «тема революции, тема о невозможном преображении жизни, была подменена темой ее возможного преобразования». Русская революция отличалась грандиозным размахом, приобрела «пока еще не учитываемое значение для судеб всего мира», страстную тягу к вопросам высшего порядка. Но, рассуждал Степун, следует признать, что идейная напряженность русской революции коренится не в особой высоте русской революционной идеи, а в отсутствии в русских духа творческой созидательности и законопослушной деловитости. В итоге в немецкой революции победила законопослушность, а в русской – историоборчество[71].
Как и многих политических деятелей, русских и эмигрантских – М. В. Вишняка, П. Н. Милюкова и др., – Степуна занимал вопрос о значении февральской и октябрьской революций. Степун был убежден, что «положительная идея революции связана не с Октябрем, а с Февралем». В 1931 г. в статье «Задачи эмиграции» он писал: «Февральские лозунги Родины, свободы и социальной справедливости и сейчас составляют краеугольные камни того миросозерцания, под знаком которого только и возможна борьба против большевизма. Верность этого положения должна быть признана незыблемо»[72].
Степун отмечал всенародный патриотический порыв во время февральской революции, связывая его с большой тревогой за благополучный исход России из Первой мировой войны. Этот патриотический настрой определил, как считал Степун, «психологическую правду» корниловского и отчасти белого движения. И хотя Степун признавал известную ошибочность и даже порочность этих движений, он глубоко осознавал важность в общественно-политической борьбе всеобщего эмоционального одушевления. Защиту патриотического смысла февральской революции Степун признавал «прямой задачей» единой антибольшевистской пореволюционно-демократической общественности. Защита февральской революции, считал Степун, определялась также ее лояльным отношением к религии и церкви.
Степун настаивал на строгом разграничении понятий коммунизма и большевизма. Маркса Степун считал одним из самых многосторонних и культурных людей своего времени, блестящим знатоком философии, истории и политической экономии; Маркс не был «элементарным цивилизатором и грубым материалистом», не отрицал роли сознания и воли в истории, учитывал значение верований, убеждений, иллюзий и был чужд культурному упрощенчеству и цивилизаторскому варварству[73]. Философско-социологическую систему Маркса по своим истокам и сущности Степун признавал классическим выражением духа буржуазной цивилизации и буржуазной культуры, проявлением «большой зоркости» в анализе капиталистического общества.
Вместе с тем в марксизме как в типично буржуазной системе понимания мира Степун видел и враждебность буржуазной цивилизации, усматривал в ней неразрешимые противоречия. С одной стороны, Маркс утверждал, что социализм был обусловлен законами исторического развития, с другой – считал необходимым, чтобы пролетариат боролся за его осуществление. «Величайшую беду» Маркса Степун связывал с изгнанием (или с недооценкой) из его системы начал духа и традиций, что противоречило его собственным жизненным установкам как морально-традиционного и нравственного человека. Ошибку Маркса и диалектического материализма в целом Степун усматривал не в отрицании значения личности в истории, а в утверждении, что личность находится в прямой зависимости от законов экономики, которые определяют социальные, политические и духовные процессы жизни.
Несмотря на несогласия и признаваемые противоречия в теории Маркса, Степун считал, что духовный облик основателя научного социализма «не вяжется» с большевистским миром. Карл Маркс, писал он, «в большевистской революции… никакой мало-мальски существенной роли не играл… Да и как могла вспыхнуть марксизмом взвихрившаяся Россия, когда в России не было пролетариата?» Ленин, по мысли Степуна, упростил и обрусил марксизм; в народе распространялось мнение о том, что «у большевиков есть свой святой Карла по прозвищу Маркса»[74].
Степун был убежден, что необходимо тщательное исследование природы большевизма, без которого борьба с ним невозможна. Русский вариант коммунистической идеологии он называл ленинизмом, в котором осуществлялось сращение просвещенчески-рационалистической идеологии Маркса с «темной маятой русской народной души». В «разнуздании национальной стихии» он признавал виновными большевиков, а ответственными за их деяния – всех. В неспособности большевиков признавать свою вину, согласно религиозным взглядам, видел нравственную ущербность.
Большевизм для Степуна явление «не случайное, не наносное, не искусственно вздутое, а почвенное и первичное». Ссылаясь на Достоевского, Степун призывал к необходимости углубленного религиозного подхода к большевизму. Такой подход, писал он, требует прежде всего понимания связи, которая существует между «мистической бесформенностью русского пейзажа, варварством мужицкого хозяйства, идейностью и бездельностью русской интеллигенции, религиозностью и антинаучностью русской философии, с одной, и изуверским науковерием и сектантским фанатизмом коммунизма, с другой стороны»[75]. Большевистский дух, писал Степун, определил строй, который он называл сатанократией. «В кривом зеркале большевистского синтеза», по мысли Степуна, своеобразно переплелись и были искажены все главные течения общественно-политической России. К ним относились народническая традиция социалистического мессианизма, «бакунинско-бланкистская направленность бунта», идеи научного социализма.
Народническая мысль о спасении человечества общественным социализмом была заменена «чисто пролетарским учением», бунтарская идея превратилась в «алгебру разрушения», став своеобразной формой творчества. Теория марксистского экономического учения утратила ценность и превратилась в «панполитизм». В итоге все «искания социальной правды» кончились не политическим освобождением России, а ее «закрепощением церковно-приходским марксизмом Ленина и комсомольской муштрой».
Большевизм Степун признавал максимальным отпадением от всех христианских основ. В Советской России он видел борьбу между Богом и дьяволом: «В стане дьявола борется большевистский коммунизм, а в Божьем стане – вся страдающая Россия». «…Из всех зол, причиненных России большевизмом, – писал Степун, – самое тяжелое – растление ее нравственной субстанции, внедрение в ее поры тлетворного духа цинизма и оборотничества». Так, например, в провозглашении НЭПа Степун увидел «исступление и юродство лукавого упростительства» как стилистическую черту ленинизма. Кто мог бы додуматься, размышлял Степун, что старая экономическая политика есть политика новая, что контрреволюционное устремление есть одновременно сверхреволюционное наступление революции? В этой политической акции, по его мнению, четко выявилось «колесо лицемерного оборотничества»[76].
Во всех сферах жизни Советской России Степун видел «печальный след» большевиков: в хозяйственной области – «кормежку впроголодь», в области культуры – «уродство ее духовного облика, возвращение творчества в первобытное состояние». Характерными чертами официозной советской мысли он считал прямолинейность, плоскодонность, рационалистическую псевдонаучность, «идейно покашливающую пролеткультщину». По мере развития и утверждения большевизма Степун фиксировал усиление нравственной порчи русского и советского человека, смешение смысла слов товарищества и заговорщичества. Неверие в божественное происхождение человека, в существование души было равносильно, по мнению Степуна, отрицанию человеческой личности.
Изучение большевизма сопровождалось у Степуна сравнением с политической, социальной и идеологической обстановкой в странах Европы, а также с Германией, где господствовал национал-социализм. В первом случае он отмечал пагубность отсутствия религиозного миросозерцания, а признание человека при отрицании Бога называл «бескрылым антропологизмом» и духовным самодовольством. Национал-социализм, хотя и номинально признает Бога, свободу, Родину, человека, – но, по убеждению Степуна, их предает.
«Большевизм ужасен, преступен, богопротивен, – писал он, – но в ужасной варварской форме большевистского коммунизма звучит все же центральная тема эпохи: социальное устроение на земле». В суждениях Степуна содержались и опасения за его распространение в мире: «В большевизме есть всемирность и поэтому острый соблазн для народов всех материков»[77].
Неприятие и критика большевиков не исключали вместе с тем и признания Степуном ряда достижений и успехов советской власти, особенно в области технического прогресса. «За 13 лет своего властвования, – пишет Степун, – большевики из печального недоразумения русской жизни выросли в грозную мировую силу»[78]. За внешними провалами и успехами большевизма Степун как религиозный мыслитель главным признавал внутреннее преодоление большевизма: «Ведь будущность России творится сейчас не в тех душах, которые услышали всего только взрыв всех конечных смыслов, но тех, что услышавши смысл этого взрыва, узнали в нем голос Вечности». Существенной для Степуна являлась вера в праведность этого единственного пути и признание, что подобные люди существуют.
Борьба с большевизмом, вернее, борьба за Россию, приобретала для эмигрантов важное значение. Но эмиграция была неоднородной, ее мучили политические разноречия, а соответственно, избирались и разные способы борьбы с большевизмом. Уже к середине 20-х гг. стало очевидным, что надежды на монархическую реставрацию потерпели крах. Белое дело, по словам самих эмигрантов, навсегда кануло в лету. Все очевиднее обнаруживалась несостоятельность либерального лагеря, который разъедали противоречия. Сторонники социалистической ориентации также не представляли собой единства. Намечалась тенденция сближения с либерализмом, с западными социалистическими теориями, с религиозной мыслью и т. д. Пореволюционные течения (евразийство, сменовеховство, младороссы), различные по своим истокам и психологии, с их известным преклонением перед советской властью и прогнозами построения будущей России с сохранением большевистских основ либо возвращением к монархизму, также не стимулировали жизнеспособность эмиграции и не могли быть базой, объединяющей ее.
Степун писал о «культурной значительности и политической немощи» русской эмиграции. Высокий культурный и духовный уровень эмиграции, оставивший глубокий след в европейских странах ее проживания, по мнению Степуна, контрастировал с ее «неуспехом» в «сфере… общественно-политической борьбы за Россию». «Все попытки вооруженной борьбы с большевиками обанкротились. Все мечты по созданию общеэмигрантского представительства подъяремной России в Европе – разлетелись. Влияние научных работ эмиграции по изучению Советской России минимально»[79]. Самым прискорбным в этом Степун считал то, что старое поколение эмигрантов не сумело передать детям «своего антибольшевистского пафоса».
Он пристально следил за полемикой Струве и Милюкова по вопросу о роли и поведении эмиграции в противобольшевистской борьбе, отражавшейся в газетах Струве «Возрождение», «Россия и славянство», «Россия» и в печатном органе Милюкова «Последние новости». Струве призывал поколения эмигрантов разных политических взглядов объединить усилия. Милюков считал возможным объединяться только на основе демократических убеждений. Из этого Струве делал вывод, что, отказываясь от присоединения к единому антибольшевистскому фронту, Милюков отрекается от активной борьбы с советской властью и тем самым невольно становится на сторону врагов России. В этой полемике, имеющей жизненно важный и для эмиграции, и для России смысл, Степун занял по существу позицию Милюкова. Вместе с тем его суждения на эту тему отличает определенная политическая зрелость и присущая ему самостоятельность мышления.
По словам Степуна, Россия не выиграла бы от сближения с вел. кн. Николаем Николаевичем, на чем настаивал Струве, а проиграла бы потому, что защищаемая «Возрождением» и организующая Зарубежный съезд позиция «представляет собою такой явный перевес неправды над правдою и бессилья над силою, что объединение с ней… никоим образом не может рассматриваться как объединение с борющейся против большевиков силою»[80]. Эта мысль, считает Степун, разъясняется пониманием резкой грани между идеологией консерватора (тип в России отсутствующий, но России нужный) и эмоцией реакционера (тип очень вредный, но зато в изобилии имеющийся в эмиграции). Консерватор – защитник вечной правды прошлого, реакционер – защитник прошлого как такового, вне всяких отношений к вечности и правде. Для реакционера революция всегда и при всех условиях неприемлема, так же, как контрреволюция всегда желанна; консерватор же, когда для сохранения Родины не остается иного выхода, кроме революции, хотя и скрепя сердце, все же становится революционером. «В мартовские дни, – подтверждает свое утопическое и спорное утверждение Степун, – правые вплоть до великих князей неожиданно оказались чуть ли не впереди солдат и рабочих в деле ниспровержения царского строя». Следует заметить, что в дальнейшем изложении Степун называет этих правых «революционерами поневоле», и считает, что революция в своем развитии должна была оттолкнуть их от себя.
Подчеркивая духовное и политическое расслоение, неизбежную дифференциацию в среде свидетелей революции, Степун считал, что правая борьба могла бы не исключать по крайней мере временного объединения всех противобольшевистских сил, но при одном непременном условии: правые в своей ненависти к революции не должны доходить «до полного забвения своей роли в ней», до утраты своей нравственной и политической ответственности за революцию и перед ней, «если бы они из консерваторов на час не превратились бы уже давным-давно в реакционеров на век».
«Неужели же не понимает, вернее, не чувствует Струве, так упорно настаивающий на идее единого фронта, – недоумевает Степун, – что перед тем, как проповедовать ее демократической эмиграции, он должен был бы озаботиться тем, чтобы в душах опекаемых им правых восстановился тот революционный фронт, на котором они, оставаясь консерваторами, встретились в 1917 г. с либералами и социалистами? Что политически бессмысленное объединение отвлеченно мыслимо лишь на основе безоговорочного признания исторической и нравственной правды мига мартовской революции?»[81] Объединиться для борьбы против большевиков с людьми, отрицающими, как полагал Степун, не только ложные пути революции, но и ее правду, означает объединиться с людьми, которые духовно лишены живой творческой силы.
Эти рассуждения Степуна ведут его к убеждению о несостоятельности монархии как политического строя и недопустимости этой формы власти в созидании новой России. В России монархия пала, размышляет Степун, не как отвлеченная политическая категория, а как определенный конкретный строй, как определенный дух двух последних царствований – Александра III и Николая II. Этот дух представляется Степуну «духом безволия и произвола, самоуверенности и растерянности, топтанья на месте и топанья ногой, духом творческой бездарности и административного рутинерства». Своими единомышленниками и союзниками в этом вопросе Степун считает Л. Толстого с его «Не могу молчать», братьев Трубецких с их обращениями к государю, подтверждение находит в думских речах «лучших людей» России, мемуарах царских сановников; об этом же свидетельствуют проигранная война и революция.
Восстановление монархии Степун признает недопустимым и с нравственной точки зрения, объясняя это не тем, что монархия в идее хуже республики, и не тем, что монархия исторически не ко двору в Европе (республики во многих странах одержали победу над монархиями; низложенные монархи во главе с Вильгельмом II ведут себя весьма упадочно; в Италии и Испании они стоят в тени своих диктаторов)[82], а тем, что монархисты часто, и особенно во время февральской революции, стали отступниками монархии и многие из них предали ее. Это наблюдение, подчеркивал Степун, имеет не психологический, а социологический характер. «Когда слышишь, как в правом лагере утверждают, что всякий интеллигент словоблуд, а революционер – всегда каторжник, что социализм – защитная форма еврейского национализма, а ненависть к демократии – высшая форма проявления любви к родине, что уравнение родины и революции подло, а родины и собственности свято, когда слышишь, как по столбцам «Возрождения» патриотически шуршат… калоши бывших людей, когда недоумеваешь над конфетно-синодальным обрамлением «Возрождения», то во всей композиции этой психологии отчетливо чувствуешь то страшное наследие павшей монархии, то полное духовное бессилие, объединение с которым в борьбе за будущую Россию было бы, право, не более осмысленно, чем объединение врача со смертью в борьбе за жизнь вверенного ему пациента»[83]. Этот страстный монолог Степуна выразительно и ярко характеризует его отношение к монархии и к монархическому стереотипу убеждений.
Для Степуна была очевидной необходимость активного включения эмиграции в антибольшевистскую борьбу. Разумеется, Степун не принадлежал к сторонникам вооруженного нападения на Советскую Россию. Его замысел активного включения в борьбу, впрочем, как и у других эмигрантов (в разной степени и форме), был ограничен разработкой идеологии новой России. «Задача эмигрантской общественности, – утверждал он, – создать идеологию будущей России. Подъяремная Россия сделать этого не может. Для этого нужен воздух свободы»[84].
Степун понимал трудности вовлечения эмиграции в эту работу. По духовному облику он делил все российское зарубежье на эмигрантщину и эмиграцию, которая еще может послужить делу освобождения России. В эмигрантщине Степун видел обывателя, удачно прижившегося за границей, потерявшего связь с Родиной, не понявшей произошедшего с Россией. Для нее характерно отрицание будущего во имя прошлого, вера в мертвый принцип и растерянность перед жизнью. Эмигрантщину Степун называл «тяжелым недугом», с которым надо вести борьбу[85]. Проблема же эмиграции в более узком и существенном смысле этого слова (т. е. эмиграции, способной подлинно служить России), писал Степун, «начинается только там, где… внутреннее эмигрирование стало печальною судьбою не обывательского бездушья, а настоящих творческих душ»[86]. Он признавал, что таких людей в эмиграции мало, но считал своей задачей сплочение творческих усилий для строительства новой России.
Основой, на которой строилось духовное возрождение России, для религиозных мыслителей, в том числе и для Степуна, являлось христианство. Эта тема затрагивалась им в многочисленных статьях. Степун являлся выразителем идеи социального христианства, т. е., по его словам, «религиозной совести общественно-политической жизни» – идеи, особенно близкой православной России. Он справедливо утверждал, что русской православной традиции чужды как католический пример превращения церкви в государство, так и протестантский – освобождение христианской совести от ответственности за просчеты государственной власти.
Русская историческая почва определила, как считал Степун, развитие в русском православии двуединой задачи: безвластного властвования над государственной властью и «внутреннего вовлечения каждой отдельной личности в общественную и политическую жизнь». При этом голос церкви, обращенный к государству, обществу и отдельной личности, должен был звучать как предостережение и напоминание о вселенско-христианской совести.
В развитии русского православия Степун отмечал главную ведущую линию – устремленность к обеспечению человеческой жизни во всех ее направлениях. Обращение к истории русской православной мысли, отмечает Степун, подтверждает ее социально-политическую направленность и культурно-исторический характер: западники и славянофилы являлись носителями православной соборности и социалистического коллективизма; Достоевский шел к православию через социализм и ссылку, Толстой изучил православие и Евангелие; Вл. Соловьев стремился в публицистической деятельности к «оправданию добра»; Федоров создал «Общее дело». Наиболее значительные современные Степуну религиозно-философские мыслители – С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, – хотя и пришли к своим православным позициям кружным (марксистским) путем, но остались верны своей юности – приверженности праведному социальному устроению человечества.
Христианство Степун считал не отвлеченным философским миросозерцанием, а «живой верой, связывающей каждого человека с Богом не отвлеченно, но конкретно, т. е. всегда в конкретно-исторической ситуации». Это относилось как к человеческой деятельности, так и к государственно-политической сфере. В целях возрождения России Степун признавал необходимым проводить христианскую политику, целительная сила которой состоит в недопустимости доктринерства и утопизма. Осуществление этой политики должно проводиться не государственно-педагогическими и агитационно-политическими средствами и не составлением «выработанных» христианских программ. Христианская политика для Степуна – подлинно религиозное дело, осуществляемое религиозным участием христиан в конкретной политической жизни. При этом церковь должна воспитывать христианскую веру, слух, дар прозорливого постижения смысла всякой исторической ситуации, христианскую твердость и гибкость, а также чувство ответственности за все происходящее в мире[87].
Защиту социального христианства и лозунга «Христиане – на политический фронт» Степун обосновывал общеполитической обстановкой в мире: «переходом от эпохи безыдейной свободы к эпохе насильнической идейности», натиском идеократических режимов, к которым в разной степени «содержания зла» относил нацистскую Германию и большевистскую Россию.
Для действенного осмысления вопроса об отношении христианства к политике Степун считал необходимым обратиться к истории русской церкви и религиозному опыту русского народа. Он считал, что официально господствующей формой взаимоотношения христианства и политики была «в России укорененная в византийском цезарепапизме и националистическом иосифлянстве тесная связь государства и церкви». Если эту особенность Милюков (на которого ссылается Степун) признает «характернейшей чертой русской церковности», то Степун относит ее к государственности. Отмечая роль иосифлянства в построении московского государства, Степун вслед за Федотовым полагал, что «огосударствление православия» привело к снижению мистического уровня церковной жизни, «огрубению русской иконы» и к тому, что «мелеет поток русской святости»[88].
Православно-русское разрешение вопроса о роли христианства в построении государственной, общественной и культурной жизни Степун считает необходимым связывать не с доминирующей иосифлянско-синодальной линией, а с учением Нила Сорского. Русское религиозное творчество, по мысли Степуна, гораздо глубже связано с исповедуемым заволжскими старцами отделением церкви от государства, с требованием, чтобы государи светские не вмешивались в духовные дела и пастыри не страшились власти, с протестом против церковного благословения ссылок и казней за государственные преступления, со стремлением к свободе духовной жизни.
В будущей России, как считал Степун, сотрудничество церкви и государства должно быть творческим. Обязательным условием их плодотворного взаимодействия должно быть отделение церкви от государства, неустанная религиозная забота церкви «о праведности государственных путей», а также внутренняя связь церковной жизни и национальной культуры. Залогом возможности творческого сотрудничества церкви и государства в будущем Степун признает «почти чудесную связь православного монастыря с глубиной народной жизни и с вершинами национальной культуры, осуществляемую в Оптиной Пустыни». Когда старца Льва, рассказывает Степун, духовное начальство упрекало в забвении монашеского обета, он указывал на стекавшиеся к нему народные толпы, которым нельзя было не помочь. Оптинские старцы не только помогали народу советом и словом, но ввели в свою обитель духовное наследство величайших русских писателей Гоголя, Достоевского и Соловьева.
Выполнение отмеченных трех условий делают чуждыми русскому религиозному сознанию христианскую политику католицизма, при котором церковь имеет реальную власть над государством, и христианство протестантизма, которое отказывается от всякой власти над миром[89]. Теократическая власть, соединяющая в одном лице власть монарха и церкви, для России также неприемлема.
Из всех существующих форм государственного политического устройства Степун признавал наиболее приемлемым в будущем России установление социализма. Существующие в литературе определения социализма представлялись ему бесцветными либо произвольными. Он считал, что определение социализма будет найдено после установления его в действительной жизни. «Реальная сила и значительность социализма как миросозерцания и устремления, – признавал Степун, – не в идеологической состоятельности социалистического учения, а в анализе фактической несостоятельности капитализма»[90]. Но глубокие духовные основы социализма – нравственный протест против превращения человеческой личности в функцию хозяйственного производства, против расслоения человечества на враждующие классы, против обездушивания капиталистического общества, против лжеобъективной науки, не стремившейся к преобразованию мира, требует религиозного углубления своих нравственно-политических и хозяйственно-правовых начал.
Творческое преодоление всех несовершенств и пороков, полагал Степун, требует возрождения религиозных основ мира – любви, свободы и священного отношения к человеческой личности. Разрыв религии и социализма Степун считал вредным и для религии, и для социализма. Однако, социализм, если он не приобретает богоборческий характер, может сочетаться с разными формами религии – с католицизмом, иудаизмом, магометанством и т. д.
Для России, о возрождении которой заботился Степун, социализм должен быть национально окрашенным. «Центральное значение русского народа для государства российского… выдвигает во главу угла религиозной проблематики социализма отношение социализма к православию», которое, по словам Степуна, являет собой не только религиозный путь и опыт, но и «сообразный стиль русской духовности и своеобразный дух русской культуры»[91].
Западный социализм, утверждал Степун, не верит в Бога, в свободное творчество. Он отказался от ставки на иррациональную, духовную творческую глубину человека, не способен к преодолению индивидуалистического буржуазного духа; он верит в неизбежность прогресса, в то, во что верил капитализм; его концепция человека не отличается от либерально-буржуазного представления о нем; от либерализма он унаследовал признание «прав человека и гражданина», но реализация их скована условиями жизни и непризнанием религиозного смысла человеческого существования.
«То, чего не осилил западно-европейский социализм, – писал Степун, – оказалось вполне по силам большевизму. Колумбово яйцо большевизма – радикальная отмена человека с большой буквы»[92]. «Смелая и страстная воля» большевиков к радикальному переустройству жизни, позитивистско-материалистическое неверие в религиозную природу человека привели большевизм, по мысли Степуна, к полному отрицанию человека и свободы. «Если либеральная буржуазия, а за ней и европейский социализм отказались от легенды, что душа человека – это дыхание Божье, то большевизм всерьез поверил, что никакой души человека нет, а потому, в сущности, нет и самого человека. Есть только пролетарий, душа которого отработанный пар в котле, и буржуй, душа которого отработанный пар котла». Подобное устройство человеческого счастья при пренебрежении к отдельному человеку Степун называл «бесчеловечным делом».
Суждения Степуна о западном и советском социализме привели его к заключению, что противостояние буржуазно-капиталистического и коммунистического миров – это борьба сиамских близнецов, гибель которых неизбежна. Он считал, что «окончательное крушение потерпела в России не Россия и не социализм, а оторванная от идеи социализма социалистическая идеология большевиков»[93].
С 1931 г. в Париже начал выходить журнал «Новый град», являвшийся по существу программой возрождения России. Журнал выходил до 1938 г. включительно, всего вышло 14 номеров. Как уже указывалось, его создателями выступили Степун в содружестве с И. И. Бунаковым-Фондаминским и Г. П. Федотовым. Название журнала не отождествлялось с небесным Иерусалимом, а означало создание Нового града, «праведного общества, основанного на христианской морали». «Для нас, похоронивших отечество, – говорилось в редакционной статье первого номера «Нового града», – необходимо быть с теми, кто готов бороться, готов странствовать – не в пустыню, а к Новому граду, который должен быть построен нашими руками, из старых камней, но по новым зодческим планам»[94].
Авторы «Нового града» осознавали неспособность существующих в эмиграции общественно-политических течений к действию, бесперспективность их суждений о России и отрицали роль эмиграции в ее будущей судьбе. К этому безысходному восприятию эмигрантской действительности добавлялись сомнения, связанные с верой в блага западной демократии, с которыми эмигранты вплотную столкнулись в европейской жизни, а также опасения, вызванные сочувствием большевизму в Европе. Последняя тема вызывала большую тревогу в среде эмигрантов.
Убежденность в несовершенстве и несостоятельности духовной атмосферы современности, европейских демократических режимов, тоталитарного государственного устройства фашистских государств, Советской России, осознание необходимости обновления, построение прогнозов будущего, роль в этом эмиграции определяли проблематику журнала и служили для авторов «Нового града» обоснованием создания своей программы переустройства современного мира.
Демократия, ее реальное воплощение в современном мире, занимала внимание авторов журнала. Речь шла о современной демократии, отступившей, по мнению новоградцев, от принципов демократии подлинной. Журнал же с самого своего основания, как отмечала его редакция, твердо занимал «определенно демократические позиции»[95] и стремился выявить «постоянное и существенно ценное» содержание демократической идеи, меняющей в процессе развития свои исторические формы.
Рассуждения новоградцев о демократии разноплановы, не равнозначны по содержанию и часто фрагментарны. Темы демократии касались многие авторы журнала – Бердяев, Федотов, а также Степун. Последний так же резко, как и его коллеги по журналу, критиковал современную парламентскую демократию Запада. «Главный порок» этой демократии как политической системы он видел в равнодушии к вопросам миросозерцания. «Давно пора демократии, – писал Степун, – перестать защищать только хозяйственные интересы и политические права народа, давно пора думать и о защите его духовного состояния и духовного творчества. Давно пора перестать выменивать у народа Бога на хлеб, пользуясь его нуждой и темнотой. Такая защита народных интересов неизбежно должна рано или поздно привести к власти «демократов» над народом, т. е. к превращению политической демократии в скрытую идеократию “демократического толка”»[96]. Свобода как основной принцип защиты демократии, по Степуну, имеет религиозный корень, о чем забывают современные демократы.
Степун критически относится и к проявлениям демократии в России. Так, он считает, что русская публицистика от Герцена до Горького и от Леонтьева до Бердяева значительно повредила правильному пониманию духовной сущности демократии, поскольку не отделяла мещанство от демократии, несмотря на их разное происхождение. «Корни демократии – религиозные корни реформации, корни мещанства – рационалистические корни позднего просвещенства»[97].
«Политическая борьба – вещь жестокая», – утверждал Степун. Отличительной чертой политических деятелей он считал «невнимательность к отдельной человеческой душе». Политические партии интересуются каждым из своих членов, «поскольку он похож на всех остальных, а не постольку он ни на кого не похож»[98]. Общей чертой всей современной жизни он считал исчезновение личностей и замену их специалистами. «Этим ученым специалистам мы обязаны, – писал Степун, – всеми внешними усовершенствованиями нашей жизни, но и исчезновением из нее личности и всеобещающих целостных постижений, без которых мы и в научном свете двигаемся, как впотьмах. Живых глаз, которыми личность смотрит на мир, ни научными, ни даже религиозными точками зрения заменить нельзя»[99].
Особое отношение к человеку как к активной действенной силе, способной изменить мир и общественное сознание, являлось примечательной чертой Степуна как мыслителя. В этом проявлялась истинная демократическая сущность подхода к задаче обновления Мира и, прежде всего, России.
Замысел «Нового града», характеризовал Степун значение редактируемого им программного журнала, «есть замысел о новом человеке в его обращенности к государственной, политической, общественной и социальной жизни, т. е. в его отношении к ближнему, соплеменнику, к земляку, к сотруднику, к сотоварищу, ко всякому соучастнику в общем деле, но также, конечно, и к противнику, к «врагу и супостату», без которых общественной и государственной жизни мы пока еще мыслить не можем, не впадая в наивный идиллизм и преступное прекраснодушие»[100].
Степун проницательно усматривал связь различных политических направлений и участвующих в них человеческих личностей, объясняя это тем, что все политические противоречия и споры были отражением «определенного миросозерцания, верований и этических устремлений», носителем которых являлась человеческая личность. А поскольку в России мировоззренческо-интеллектуальные проблемы всегда имели преобладающее значение, то личность, ее духовный облик, характер мышления приобретали особое значение.
Закономерным был интерес Степуна к личности в российских условиях и особенно при советской власти. Успех большевизма мыслитель объяснял «не в последнюю очередь тем, что при всем своем презрении к отдельной человеческой личности, он всегда проявлял очень большую чуткость к проблеме пригодного для революции человеческого материала».
Степун подвергал критике советское толкование человека. При большевизме, считал он, произошла «радикальная отмена человека с большой буквы»; большевизм принял позитивистско-материалистическое неверие в религиозную природу человека и вследствие этого пришел к полному отрицанию свободы и творчества. Неверие в божественное происхождение человека было равносильно отрицанию человека.
Одну из главных и характерных черт советского мировосприятия Степун справедливо признавал «предельным насилием над инакомыслием». «Самая страшная сущность враждебного нам большевизма, – писал он, – заключается в том, что он не понимает инакомыслящих, что он отрицает диалог, дискуссию, свободу мнения, а потому (в качестве институционного закрепления всего этого) демократию и парламентаризм»[101].
Степун писал о необходимости перевоспитания человеческих душ, о создании новой душевной структуры и формировании новой психологии. «Организуйте свою духовную личность… – обращалась редакция журнала «Новый град» к эмигрантской молодежи. – От вас ждет Россия, чтобы вы принесли с собой огонь веры в мир безбожия, оружие знания в страну полузнайства и технически обученного варварства и, наконец, уважение к свободе и достоинству человека – в землю рабства и насилия над человеком»[102]. В эмигрантской молодежи, воспитанной на основах христианского сознания, на идее религиозной апологии свободы, новоградцы видели «дополнение» к внутрирусской молодежи; в единстве они будут способны к перерождению человеческого типа, к перестройке духовной личности, к возрождению России.
Новоградцы стремились исторически осмыслить идею свободы, понять ее первоначальный смысл и процесс ее трансформации. «Какую бы идею мы ни взяли, – писал Степун, – нам будет нетрудно установить, что на заре своих дней она мирно сосуществовала с идеями, впоследствии глубоко враждебными ей». Так, формула Великой французской революции «Свобода, равенство и братство», по свидетельству Степуна, есть типичный пример «райской примиренности враждебных друг другу идей». Трудность ее реализации «в грешном историческом мире» была доказана самой революцией – отменой христианско-средневековой идеи братства. Степун идею братства считал более сектантской, чем революционной.
Русское освободительное движение унаследовало двуединство: свободу и равенство. «Самым злым делом октябрьской революции» новоградцы признавали отрыв свободы от равенства, что осуществилось в Советской России. «При объективном взгляде на историю, – писал Степун, – нельзя не видеть, что большевистски-коммунистический отрыв свободы от равенства был в сущности предопределен до большевистским отрывом от братства, или, по другой терминологии, отрывом свободы от религиозной истины»[103]. «…Мы не удовлетворены буржуазным пониманием свободы, – утверждалось в редакционной статье первого номера “Нового града”, – и ищем для нее новых обоснований»[104]. Свобода для Степуна органично связана с личностью и истиной: «Они существуют в имманентном и неоспоримом единстве».
По определению Степуна, свобода – «жизнь и дыхание» целостной, христианской личности. Требование государственного строя как строя свободы означало «безоговорочное признание абсолютного значения всякой человеческой личности». Из этого Степун делал вывод, что допустимо огосударствление того, чем человек владеет, но «не того, что он есть», и что государственное насилие над человеком есть «кража со взломом, злостное вторжение не только в человеческое, но и в Божие хозяйство – метафизическая уголовщина».
Истина как адекватное отражение объекта познающим субъектом олицетворялась в статьях журнала с христианской истиной, «не творимой им самим, а в форме заданности». Однако, как рассуждали новоградцы, пути к истине различны. Послушание истине не терпит пассивного подчинения, но неизбежно требует ее творческого восприятия, «раскрытия ее в себе и воплощения ее через себя».
«Творческий акт, связующий единую и предвечную общезначимую и общеобязательную истину со всегда единственною… личностью человека, и есть свобода». В отрыве от истины свобода превращается в произвол, в анархию, в отрыве от личности – «в пассивное послушание, в дисциплинарный батальон иезуитско-орденского, прусско-казарменного или большевистско-партийного типа… В отрыве от истины и личности свободы так же нет, как в отрыве от свободы нет истины и личности»[105]. Триединство истины, свободы и личности, таким образом, является для новоградцев основой новой государственной общественной жизни. Достижение реальной свободы возможно лишь при перерождении людей, при создании новой социалистически-персоналистской идеологии, поскольку старые социалистические идеологии «обветшали».
Резкой критике подвергалась в «Новом граде» и капиталистическая система. Многие авторы – Бунаков, Федотов, Степун, В. Н. Ильин и др. – писали о кризисе капитализма, об атомизации личности, о несовместимости иррациональной глубины человеческой личности с иррациональным сознанием, об индивидуализме, машинизме, способствующем разрыву с исконными патриархальными традициями, а также духовно-нравственному обнищанию.
Степун видел в капитализме развитие безнравственности. Капиталистическую культуру с ее хищничеством и безудержной погоней за приобретательством он рассматривал как растление личности[106] и категорически возражал против капиталистического устройства России.
Картину европейской политической жизни существенно дополняли фашистские государства Италии и Германии. Фашизм как феномен социально-политического устройства привлекал пристальное внимание эмиграции. Одни видели в фашизме спасение от коммунизма, другие считали, что коммунизм избавит Европу от фашизма. Степун обе позиции считал наивными и не соответствующими истинному положению дел. Он стремился постичь явление фашизма, понять его сущность и тенденции развития.
Современные диктаторские режимы Степун и его единомышленники рассматривали как прямое порождение демократий, как «блудных сынов, происходящих от демократических грехов и пороков». Они отдавали дань Веймарской республике, молодой немецкой социал-демократии, которая «не допустила якобински-большевистского срыва революции», проявила готовность к жизнеспособности, терпимости, чувству меры и т. д. Однако сосредоточенность лишь на бытовом устройстве рабочего класса являлась недостаточной. Немецкая социал-демократия оказалась бессильна выполнить свое предназначение, осознать необходимость «перестроить старый мир», духовный и культурный облик рабочего класса. Причину этого новоградцы видели в провинциализме официозно-марксистского миросозерцания, в нечувствительности и враждебности марксистских вождей к основам духовной и социальной жизни, «к Богу и родине», «к нерасторжимой связи крови и духа и мистике власти» и в мещанском укладе большинства социал-демократов, «жаждавших успокоения и тишины в эпоху землетрясений и смертей»[107].
Для Степуна было очевидным, что победа национал-социализма определялась не «силой и глубиной гитлеровских идей», а запросами германского духа. Национал-социалисты «предали новое, порожденное войной религиозное ощущение жизни», «правду» пореволюционного ощущения нации и свободу. Опасность фашизации Степун усматривал и в евразийской идеократии, называя ее «красным фашизмом», сочетающим «азиатское» презрение к личности с «лютым» отрицанием всякой свободы во имя титанического мессианизма одной шестой мира, с однопартийной историософией и с православным бытовым исповедничеством.
Особую «порочность» и опасность фашизма журнал видел не столько в ограничении политических свобод, сколько в его ненависти к свободе как к духовной первоприроде человека и в равнодушии «к качественной единственности всякой человеческой личности», в стремлении «превратить людей в кирпичи, в строительный материал государственно-партийного зодчества». В превращении человеческой личности в послушное орудие тоталитарной власти новоградцы усматривали проявление «лжецерковной, лжетеократической природы».
Общей чертой «идеократий» Степун считал отрицательное отношение к христианству, к человеку и его независимости. Едиными для этих идеократий являлось устремление «к какой-то монолитно-целостной истине», стирание граней между государством и партией, партией и народом, политикой и культурой, наукой и пропагандой, агитационной ложью и безусловной правдой. «Все сливается, – подытоживал он, – в неустанно вертящийся круг сплошных отождествлений»[108].
Свою задачу новоградцы видели в том, чтобы большевиков сменил не националистический фашизм в виде евразийцев, а человеколюбивый ново-демократический строй. Только христианство «может дать крылья рождающейся социальной демократии» и спасти саму демократию и ее культуру от фашизма.
В 1934 г. Парижский пореволюционный клуб российской эмиграции разослал русским писателям и ученым анкету со следующими вопросами: имеет ли всякий великий народ некую историческую миссию, свою национально-историческую идею, в чем ее сущность и какова ее «проекция на действительность», то есть на государственное и социальное устройство постбольшевистской России. Степун отвечал: он не сомневается в том, что русский народ имеет свои великие идеи и свою трудную миссию.
Позитивный смысл русской идеи он видел в «ревностном блюдении образа Христа и опыта христианства» и отмечал, что все подлинное и органическое русское творчество проникнуто этим смыслом. Он полагал, что «идея и миссия России заключается в том, чтобы стоять на страже религиозно-реальной идеи и всюду и везде, где только можно, вести борьбу против ее идеологических искажений». Эти искажения он видел и в советской атеистической России с ее «идеологическим засильем», и в странах Запада, которые также были «опутаны» идеологией[109].
В программной статье «Путь творческой революции» Степун писал: «Все мучающие современность тяготы и болезни связаны в последнем счете с тем, что основные идеи европейской культуры – христианская идея абсолютной истины, гуманистически-просвещенческая идея политической свободы и социалистическая идея социально-экономической справедливости не только не утверждают своего существенного единства, но упорно ведут озлобленную борьбу между собою… В результате – безрелигиозная культура, утверждающая свободу лишь в образе хищнического капитализма и справедливость в образе социальной революции… Выход из этого положения – в органическом, творческом сращении всех трех идей»[110].
Оптимистический взгляд на возможное возрождение России Степун связывал с коренными особенностями российского развития, которые он признавал в природе русского человека. Преимущество русского человека заключалось в его «первичности и настоящести», в то время как европейцу и в художественном творчестве, и в социальных институтах, и в человеческих отношениях свойственна производность от достигнутого человечеством исторического опыта. «Вся культура Запада, – писал Степун, – культура обратного пути: не первичного восхождения идеи к жизни, а вторичного нисхождения идеологии в жизнь».
Главным и обязательным условием создания проектов будущего устройства России Степун считал не выработку новых программ и конституций, а отречение от идеологического прожектерства в обосновании планов и воспитание, возрождение русской духовности во всех ее сферах, освобождение от большевистской идеологизации и европейского доктринерства.
Проектируемый Степуном государственный порядок пореволюционной России определялся им как строй авторитарной демократии, сочетающий сильную президентскую власть и свободно выбранные советы. «…Вне формы авторитарной демократии русская идея неосуществима». При этом «слово демократия, – писал он, – должно получать в пореволюционной России новый, металлический звук».
Подлинное народоправство, по мысли Степуна, может быть реализовано лишь при решении двух условий: признания абсолютной ценности человеческой личности, происхождение которой принадлежит Богу, и понимания народа не как атомизированного коллектива, а как соборной личности также божественного происхождения. По выражению Степуна, подобное «ощущение демократии» чуждо «беспозвоночному демократу-пролетарию», лишенному религиозных корней, так же, как и фашисту, склонному к цезаристскому обожествлению диктатора.
Политическая форма республики с сильной президентской властью, по мнению Степуна, наиболее соответствует русской религиозной идее. Президент при этом выбирается всенародным голосованием на пятилетний срок и получает диктаторские полномочия. Президенту принадлежит право назначения Совета министров. Высшим органом народного представительства является «Совет советов», имеющий лишь совещательный голос. Полномочия «Совета советов» сводятся к организации выборов президента, к освещению деятельности правительства, предупреждению президента и Совета министров от ложных шагов, а также к подготовке общественного мнения к выборам нового президента.
Размышления Степуна о хозяйственном устройстве будущей России опираются на принципы традиционного развития и содержат интересные и во многом верные и ценные наблюдения. Огромная российская территория, считал Степун, коренным образом определила стиль русского земельного хозяйствования – так же, как и стиль русского творчества. «Колонизационный разлив» России, неустанный прилив хлебородных равнин, по словам Степуна, лишал русский народ необходимости и возможности тщательного труда на земле. Так, столетиями в России создавался стиль малокультурного, варварского хозяйствования и психология «безлюбовного отношения к любимой земле».
Степун проницательно замечает, что прикрепление крестьян к земле не привело к перерождению прежней психологии. Крепостное право не внедрило в крестьянское сознание стремление к тщательному и заботливому отношению к работе на земле. Традиция «неряшливого отношения к земле» сказывалась и в условиях общинного владения землей; на пути к культурному хозяйству община являлась тормозом. Русский мужик, как считает Степун, имел в определенной мере раздвоенную психологию: сохранял страстную мечту о земле, с одной стороны, с другой – «зряшно» относился к ней.
Знакомство Степуна с трудом Крамаржа «Русский кризис» расширяет для него горизонты раздумий о русском крестьянине. Труд Крамаржа публиковался частями в чешской прессе в 1918–1921 гг. и полностью в Париже в 1925 г. В нем рассматривались географические, климатические особенности России, психологические черты русского этноса, политическое и экономическое развитие России как отсталой страны, проводилась мысль о неграмотности русского народа, особенно крестьянства[111]. «Можно, конечно, – отвечал Степун Крамаржу, – нападать на русского мужика, на его темную лень, упрекать русское правительство в том, что оно своевременно не просветило народ светом агрономии, и поносить русскую интеллигенцию за то, что она, вместо того, чтобы учить народ производительному труду, предрекала его к революции; но… нельзя все же забывать, что некультурность… и малодоходность русского народного хозяйствования, сыгравшая огромную роль в русской революции, были… порождены не только темною мужицкою ленью, но и поставленною перед русским народом задачей создания величайшего государства, которое он, перед тем как разрушить, создал». Элементарный стиль земельного хозяйства, естественно, влиял на все стороны народной жизни и народного миросозерцания.
Русская душа, впрочем, как и душа всякого народа, утверждает Степун, всегда похожа на душу той земли, которую он возделывает и застраивает. Сущность русской природы состоит в бесформенности, но «не в смысле малой выразительности ее форм», а в смысле ее качественного содержания, которое имеет два начала: мистическое утверждение Абсолюта (т. е. Бога) и варварское отрицание всех форм культурного творчества[112].
Фактом исключительной важности Степун признавал появление на Западе машины в крестьянском хозяйстве. Отсутствие машины в России приводило Степуна к выводу, что примитивное, безмашинное хозяйство способствовало сохранению в русском народе веры отцов и одновременно задерживало культурное развитие народа. Важно заметить, что индустриализацию Степун связывал с атеистическим рационализмом, что означало отречение от веры в чудо, в Бога и борьбу за сверхчеловека, который все знает. «Культурно-хозяйственное убожество народной жизни» Степун ставил в прямую связь с «духовной существенностью русского религиозного сознания», с существованием «всемирно значительных иероглифов русской народной религиозности» – Толстого и Достоевского.
Указывая на особую роль культурно-невоспитанного, убогого, но религиозного мужичьего сознания, Степун отмечает, что русский народ вплоть до революции был огражден от влияния культуры не только «убожеством хозяйственных форм», но и политикой власти, которая, руководствуясь корыстными династическими соображениями, держала народ в темноте.
Религиозные убеждения Степуна привели его к заключению, что темнота, некультурность, необразованность русского народа «спасли его от того полупросвещения, которое в Западной Европе встало между народом и верою», задержали обездушивание жизни и расцерковление народного сознания. По этой логике для Степуна «крепко веровавший, по старине живший, тонко чувствовавший традиционный чин жизни и всегда знавший, что пристойно и что непристойно» русский хлебороб-хозяин был высококультурным человеком в религиозном смысле. Но, подчеркивает Степун, подобная культурность возможна лишь «внутри подлинно верующей души». «Убогость русского народного сознания культурно-значительна лишь в оформлении религиозным горизонтом веры». Падение веры приводит к варварству.
Революция стала крушением народной веры, а неверие перешло в циническое безбожие. В этом «диалектическом срыве народной души» Степун считал необходимым искать «объяснение напряженности и высоты метафорической проблематики русской революции» и ее «предельному окаянству»[113].
Религиозность, считает Степун, субстанционально присуща русскому сознанию. Это проявляется во всех сферах творческой деятельности, в частности, в философии, в различных видах искусства. Сила и правда русской религиозной мысли заключается, по мысли Степуна, в том, что она теснейшим образом связана со всей русской культурой, с ее общественным служением и поисками человеческой справедливости.
В статье «Идея России и формы ее раскрытия» Степун сформулировал принципы, с помощью которых следует, по его мнению, подходить к созданию хозяйственного образа будущей России. Это прежде всего «радикальный отказ» от мировоззренческого и идеологического подхода к хозяйственной сфере, что характерно как для большевистской России, так и для демократий Запада. «Ни коллектив, ни собственность (приоритеты хозяйственного устройства Советской России и европейских стран), – писал Степун, – сами по себе не святы и не ценны». «Смысл хозяйства» он видел в том, «чтобы устроить человека на земле», укрыть, обуть, одеть, согреть, напоить, накормить, защитить от всяких неожиданностей и опасностей; «создать экономический избыток», обеспечивающий возможность обществу и государству удовлетворить культурные потребности человека.
К этому «первичному смыслу» хозяйства Степун присоединял второй, «более глубокий и сокровенный». «Праведен труд, – утверждал он, – только таящимся в нем творчеством». Сущность творчества состоит в раскрытии личности творца, т. е. и в хозяйственной сфере должны проявляться творческие возможности личности[114].
Крестьянское чувство земли Степун признавал «очень сложным чувством». Крестьянин любит свою землю, но не чувствует себя хозяином жизни, его хозяин – Бог, от которого зависит плодородность и благополучие земельного хозяйства. Он не понимает и эстетического образа земли, которая для него только недра, но не пейзаж. «Из всех русских писателей, – считал Степун, – Достоевский, быть может, сильнее всех чувствовал землю, но во всех его романах совсем нет пейзажа. Тургенев был величайшим русским пейзажистом, но чувства земли, ее недр, ее плодоносного лона, ее божьей плоти и ее живой души у него нет. Крестьянское чувство земли очень близко к чувству Достоевского, помещичье ближе к тургеневскому. У Достоевского и у мужика чувство земли онтологично».
Крестьянин – собственник, но собственность для него не юридическая, а религиозно-нравственная категория. «Право на землю дает только труд на земле, труд, в котором обретается онтологическое ощущение земли и религиозное преображение труда». Так, заключал Степун, сплетается в крестьянской душе утверждение труда как основы земельной собственности и ощущение возделанной земли как религиозной основы жизни. Он призывал быть осторожным в планах построения новых общественных отношений. «Вся задача пореволюционного строительства, – писал он, – должна заключаться в том, чтобы в муках рожденную трудовую жизнь, в очень большой степени приравнявшую бедных и богатых, знатных и простых, духовно утонченных и малограмотных, не просто отринуть, но, до неузнаваемости повысив ее бытовой и хозяйственный уровень, как-то и удержать как основу новой соборной и универсальной христианской культуры»[115].
В постбольшевистской России, полагал Степун, государство должно увеличить свои функции и быть ответственным за преобразования во всех сферах хозяйственной жизни, в том числе и в области земельных отношений: сохранить в своих руках собственность на землю, с одновременным признанием частной крестьянской собственности, предоставив при этом крестьянам выбор форм землевладения, общинных и индивидуальных, а также разрешить крестьянам выход из колхозов.
Степун считал, что земля должна быть изъята «из бесконтрольного частновладельческого оборота», так как опасался поступательного процесса капитализации постбольшевистской России, полагая, что ее «превращение в типично капиталистическую страну было бы величайшим преступлением, как перед идеей социального христианства, так и перед всеми пережитыми Россией муками». Это, однако, не означает уничтожения собственности на землю, а должно, по словам Степуна, вести «к утверждению подлинного смысла землевладения». Суть его Степун видел в создании трудовой и нравственной связи человека с землей, с природным и животным миром. С этой точки зрения крестьянское хозяйство он рассматривал, наряду с семьей, как одну из первооснов жизни и подчеркивал особенности психологии и менталитета крестьянина.
Коллективистские идеи, колхозное строительство большевистской России Степун рассматривал как «насильническое разрушение» личности крестьянина. «Если бы субъект советского колхоза, – писал он, – был соборною личностью, хотя бы в самой обмирщенной форме», т. е. трудовой артелью, в которую вступали добровольно, то эта форма коллективного объединения могла бы означать «путь к возможному порядку». Он полагал, что в постбольшевистской России крестьяне-колхозники проявят тенденцию возврата к единоличному хозяйству. Выход крестьян из «крепостнических» колхозов, считал Степун, должен быть поддержан государством и обеспечен финансированием. Решение вопроса, возвращаться ли постбольшевистской России к единоличной собственности или продолжать линию коллективизации, по мнению Степуна, должно быть предоставлено самим крестьянам. Вместе с тем ненависть к «идеократически закупоренным колхозам» он призывал не переносить на все формы артельно-кооперативных объединений.
Новый строй в хозяйственной сфере представлялся Степуну социалистическим. «Христианская душа, – считал он, – по природе социалистична и… хозяйственной проекцией русской идеи должен быть… признан социализм, а не капитализм»[116]. В постбольшевистской России Степун предвидел расцвет промышленности, основанной не на «бессмысленной отмене» всего, что сделано большевиками, а на утверждении и преображении уже сделанного ими. Все ключевые производства в Новой России, считал Степун, должны находиться в ведении государства; частновладельческий сектор также должен контролироваться государством с целью предотвратить эксплуатацию рабочих предпринимателями. В организации работы промышленности плановость должна играть значительную роль.
Самую сложную задачу Степун видел в развенчании психологии рабочего пролетария, мифологии марксизма и большевизма. Разработка природных богатств, строительство фабрик и заводов должны осуществляться, по мысли Степуна, при другом мировоззрении: чувстве национального достоинства русского человека, способного к красоте и поэзии и свободного от догматизма[117].
Степун касался и национального вопроса в России. Он называл себя «державным» государственником. Для российского государства он признавал центральное значение русского народа, подчеркивая «русскость» как качество духовности и своеобразный стиль русской культуры. Тезис «культурное самоопределение национальных меньшинств» вызывал у него отторжение. Этот тезис он считал «заветным» для всей русской демократии, как либеральной, так и социалистической, и как государственник не разделял.
В одном из очерков блестящего труда «Мысли о России» он описывал свой приезд в Ригу после Первой мировой войны: «За годы войны этот, всячески чужой, благоразумный город медленных, скрипучемозглых латышей, онемеченных европейских купцов и офранцуженных немецких баронов как-то странно сросся с душой». Степун вспоминал, как он в составе своей воинской части защищал Ригу под Митавой, на реке Эккау, у «Олая», как гибли русские военные и попадали в плен к немецким войскам. Провозглашение Латвии независимым государством после поражения Германии он рассматривал «не как утверждение политической мощи России, а как результат ее немощи и падения». Он испытывал чувство «острой патриотической обиды, не за народ русский, не за идею и не за душу России, а за ее поруганную государственность». Ответственность за государственные потери России он возлагал на легкомыслие и легковесность в русских чувствах и умах[118].
Подобные ощущения Степун продолжал испытывать и позднее. В 1965 г. он опубликовал в «Вестнике РСХД» небольшую статью под названием «Нация и национализм». В этой статье он выражал сожаление, что в эмиграции происходит денационализация, что великороссы, украинцы и белорусы «не чувствуют себя объединенными общим знаменателем русскости» как своеобразные числители всероссийского государства, что у молодого поколения исчезает чувство принадлежности к своей нации[119].
Степуна как религиозного мыслителя и философа, склонного к аналитическому восприятию духовного мира, особенно привлекали проблемы общественного сознания. Эту тему своими суждениями обогащали многие мыслители эмиграции, в частности, о психологии эмиграции писали Бердяев, Лосский и др. Но Степун был одним из немногих эмигрантских деятелей, кто глубоко понял значение и определяющую роль общественного сознания и создал объемное и целостное представление о сознании эмиграции и, соответственно, о ее способности вести действенную борьбу с большевистской Россией. Проблема общественного сознания, глубоко осмысленная Степуном, действительно являлась ключевой проблемой поведения эмиграции и ее возможного участия в деле освобождения России.
Степун определял две формы эмигрантского антибольшевистского сознания – дореволюционное и пореволюционное. «Во всех разговорах, при всех встречах с душевно близкими людьми, – вспоминал он, – мучительно ощущалась все та же самая проклятая, почти неразрешимая трудность проблемы большевизма – требование, чтобы она была разрешена во всех плоскостях, не только в политической, но и в нравственной, и в религиозной…» Вопрос о большевизме для эмиграции «вопрос далеко не только политической целесообразности, но и всей нашей целостной сущности»[120].
Дореволюционное антибольшевистское сознание особенно ярко отразилось в правой, монархической и обывательской эмиграции. Сущность дореволюционного сознания Степун видел в упрощенном ощущении большевизма как отрицания подлинной России и подлинной революции, а также в игнорировании каких-либо успехов Советской России в разных областях хозяйственной и общественно-политической жизни. Представители этой формы сознания, по словам Степуна, были «людьми внутренне глухими к сложнейшей теме большевизма, не чувствовавшими ее глубокой укорененности в русской душе и русской истории, ее провиденциальности для наступающих судеб всего человечества, ее громадного размаха и тончайшего соблазна»[121]. Эти люди, продолжает Степун, хотят жить прошлым. «Я не отрицаю не только права помнить о прошлом России, – размышляет он, – но считаю эту память прямым долгом каждого русского человека. Память – величайшая духовная сила, в ней основа всякой традиции, всякой культуры, она же и мерило человеческого благородства». Но вечной ли памятью определяется отношение эмиграции к старой России? – вопрошает Степун. Вечная память не спорит со временем, потому что она над ним властвует, возвышается над всеми ее измерениями, над прошлым, настоящим и будущим, и в ней совмещаются явления, которые во времени боролись друг с другом. Дореволюционное сознание обладает пафосом пристрастных и корыстных воспоминаний, отличаясь от пафоса вечной памяти[122].
Носители этой памяти по своей природе и биографии не могут быть настоящими антибольшевиками, так как невозможен антибольшевизм, не понимающий природу большевизма. Они не понимают, что «большевизм не только злостный поджог и страшный пожар России, но еще и вечерняя заря старого мира, и утренняя заря какого-то нового дня истории, быть может, очень жестокого и безумного (какой взойдет день, зависит, между прочим, и от каждого из нас)». «Вот этой-то зари, – завершает свой выразительный монолог Степун, – …ни белогвардейскими пулями не расстреляешь, ни демократическим красноречием не зальешь. Тут нужны иные творческие силы»[123]. Этому сознанию недоступно диалектическое понимание революции и новые задачи.
Пореволюционное сознание в эмигрантской среде было заложено, по словам Степуна, высланными из России в 1922 г., т. е. эмигрантами «философских пароходов». «Пореволюционность, – писал Степун, – это прежде всего рожденная религиозно углубленным пониманием революции новая духовность, стремящаяся к религиозному преображению мира»[124]. Это сознание, в отличие от дореволюционного, опирается не на прошлое, а на будущее, в которое, как уже отмечалось, в качестве определяющей его темы входит и большевизм. Главное различие между дореволюционным и пореволюционным сознанием Степун видит в том, что для дореволюционного сознания большевизм только ложь, а для пореволюционного – не только ложь, но и истина, т. е. не только реальность, которую необходимо учитывать, но и известное оздоровление в поступательном пореволюционном развитии.
Пореволюционное сознание, полагал Степун, должно осознавать роль создателя нового образа России. Эмигрантские искания должны быть сосредоточены на «страстной защите свободы в качестве религиозного центра духовно-культурного уклада и общественно-политического строя будущей России»[125]. Однако, пояснял эту мысль Степун, эмиграции необходимо создать не отвлеченный образ, а руководствоваться идеями, извлеченными из немых недр подъяремной России. Творческая работа эмиграции должна соединять в себе «покорную тонкость слуха со страстною напряженностью мысли», понять духовно-душевную реальность России, раскрыть ее, защитить, отстроить и связать с конкретной политической борьбой.
К новым формам пореволюционного сознания Степун относил сменовеховство, евразийство, движение младороссов. При этом он предостерегал эмиграцию от опасности заражения духом противника, для чего достаточно хотя бы временное согласие на большевистские приемы борьбы: «В борьбе с большевиками легко обольшевичиться». Этой опасности, как верно заметил Степун, не избежало ни сменовеховство, которое он называл лакейско-конъюнктурной концепцией, ни младороссы, «ведущие систематический обстрел сознания и воли эмигрантской молодежи на определенно большевистский лад». Соблазн большевизма отразился, считал Степун, и на судьбе евразийства. И правое, и левое евразийство несло на себе определенный отпечаток «духовно неблагополучного пробольшевизма».
Степун постоянно подчеркивал необходимость сотрудничества с Россией, понимания ее настроений, особенно союза с людьми, осознающими потребность в построении новой постбольшевистской России. Именно этим Степун объяснял свой интерес ко всему, что происходит в России в разных областях жизни.
Решение «тревожного», по словам Степуна, вопроса о том, как обеспечить пореволюционным течениям «чистоту своих учений и подлинную действенность», состоит в том, чтобы не отрываться от эмиграции и не предавать религиозного смысла свободы[126].
Проблема духовных основ любого общественного устройства и особенно будущего России приобретала у Степуна и его единомышленников определяющее значение. Им было свойственно особое отношение к человеку как к активной действенной силе, способной изменить мир и общественное сознание.
Либеральные консерваторы
Петр Бернгардович Струве
Духовное наследие Струве значительно и многообразно. Он обогатил отечественную и мировую культуру достижениями в области философии, экономики, права, истории и литературы. Струве являлся не только универсальным ученым в разных областях науки, но и просветителем, издателем, крупным политическим и общественным деятелем. Из числа многих современников Струве выделяла одна уникальная особенность: он был мыслителем. Глубокий ум и проницательность, твердость мысли и темперамент политического деятеля, мудрость и нравственность определяли его способность воспринимать события истории и деяния государственных лиц.
К несомненным заслугам Струве относится созданная им концепция либерального консерватизма, творческого сочетания идей либерализма и консерватизма, соединившая в себе прошлое с настоящим и будущим. Осознание глубокого чувства историзма предопределило в творчестве Струве понимание единства процесса развития и органическую связь будущего с историческим прошлым. Именно поэтому все прогнозы будущего в трудах Струве обусловлены предшествующим развитием и свидетельствуют о непрерывности исторического процесса.
Биография Струве общеизвестна. Обозначим лишь ее главные вехи.
Струве родился 26 января 1870 г. в семье пермского губернатора, известного астронома, основателя Пулковской обсерватории. После окончания гимназии он поступил на естественный факультет Петербургского университета, но вскоре перевелся на юридический факультет, который в 1895 г. закончил экстерном. В 1891–1893 г. в качестве вольнослушателя Струве обучался у известного австрийского социолога и юриста позитивистского направления Л. Гумпловича в Университете Граца в Австрии. В 1906–1917 гг. Струве преподавал политэкономию в Петербургском Политехническом институте, на Бестужевских курсах. В 1913 г. он защитил магистерскую диссертацию, в 1917 г. – докторскую, «Хозяйство и цена». С 1916 г. Струве – почетный доктор Кембриджского университета, с 1917 г. – почетный член Российской Академии наук.
Публицистическая и редакторская деятельность Струве началась в 90-е гг. XIX в. Далее он был автором и редактором журналов «Освобождение» (Штутгарт – Париж, 1902–1905), «Полярная звезда», «Свобода и культура», «Русская мысль». Большой вклад в русскую историко-философскую мысль внесли труды, в которых Струве принимал активное участие: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918), его деятельное сотрудничество в религиозно-философском обществе в Петербурге.
Как политик Струве выступил организатором «Союза Освобождения», состоял членом партии кадетов, ее ЦК, примыкая к правому крылу партии. В 1907 г. он стал депутатом II Государственной думы, где общался с П. А. Столыпиным, идеи и преобразовательные планы которого были ему близки.
Мировоззренческий поворот Струве от «легального марксизма», от социал-демократии к либерализму и затем, под влиянием революции 1905–1907 гг., к консерватизму, вернее, к сочетанию либерализма и консерватизма, был закономерным итогом эволюции умственно-нравственных основ его человеческой природы.
Октябрьскую революцию Струве встретил враждебно и активно участвовал в организации антисоветской деятельности: входил в состав Особого совещания при Деникине, состоял членом правительства Врангеля. В 1919 г. Струве эмигрировал. В 1920 г. переехал в Софию, где несколько позднее возобновил издание журнала «Русская мысль» (София, 1921; Прага, 1921–1923; Париж, 1927). В 1922–1925 гг. жил в Праге, где, будучи профессором политэкономии Карлова университета и председателем Русской академической группы, вел Экономический семинарий, читал лекции «О русской науке в связи с русской культурой и государственностью», «Об экономических и социальных отношениях в первые века русской истории», «О религии и хозяйственной жизни» и др.
В 1925 г. он переехал в Париж, где редактировал газеты «Возрождение» (1925–1927), «Россия» (1927–1928), «Россия и славянство» (1928–1934). Эти газеты содержат уникальный материал о первых годах Советской России, о западном мире, о власти и властвующих, о политическом искусстве и международных проблемах.
В последний, белградский период своей жизни (1928–1942) Струве был председателем Отделения общественных наук Русского научного института, читал курс социологии, трудился над книгой «Социальная и экономическая история России с древнейших времен и до нашего, в связи с развитием русской культуры и российской государственности», работал над историей экономической мысли и философии.
В 1941 г. он был арестован немецкими оккупационными властями и три месяца находился в заключении. В 1943 г. он переехал в Париж, где 26 февраля 1944 г. скончался.
Возникновение концепции Струве «Великая Россия» было связано с эволюцией его взглядов после революции 1905 г. и с переходом от легального марксизма к либеральному консервативному. К постоянно присущей мировоззрению Струве либеральной составляющей, в основе которой была свобода, добавлялись идеи преемственности, сохранения традиции. «Для нас, – писал Струве, – эта формула звучит не как призыв к старому, а наоборот, как лозунг новой русской государственности, государственности, опирающейся на «историческое прошлое» нашей страны и на живые, “культурные традиции”…». Либеральный консерватизм становится для Струве главным и определяющим ориентиром его мировосприятия.
Понятие «Великая Россия» имело для Струве многозначный смысл. Во-первых, величие России он связывал не только с прошлым, но и с будущим; во-вторых, определял экономическим, политическим, правовым и национальным устройством, культурой, образованием, нравственностью.
«Великая Россия» должна быть мощным государством и признанным в этой мощи своими согражданами. «Политика общества и должна начать с того, чтобы на всех пунктах национальной жизни противогосударственному духу, не признающему государственной мощи и с нею не считающемуся, и противокультурному духу, отрицающему дисциплину труда, противопоставить новое политическое и культурное сознание. Идеал государственной мощи и идея дисциплины народного труда – вместе с идеей права и прав – должны образовать железный инвентарь этого нового политического и культурного сознания русского человека»[127].
Величие России Струве видел не только в исторических событиях, но и в деятельности государственных мужей. Самым почитаемым государственным деятелем для Струве был П. А. Столыпин. Важно помнить и о том, что обращение Струве к идее «Великой России» было основано на одном из выступлений Столыпина в Государственной Думе, где он сказал: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия»[128].
Струве видел в Столыпине «один из немногих образов новой России, который понял свое время и… творчески созидал это будущее… Столыпин политически смотрел не назад, а вперед, и то, что он в будущем прозирал – Великая Россия как правовое государство, с сильной властью, творчески-дерзающей и дерзновенно-творящей, – является и теперь великим политическим замыслом русского возрождения».
Народное представительство после революции 1905–1907 гг., по словам Струве, во главе со Столыпиным собирало и сплачивало охранительные силы нации и создавало без «великих потрясений» и с огромным накоплением творческих и культурных сил крестьянский фундамент новой и в то же время старой «Великой России». Заслугу Столыпина Струве признавал в создании экономической базы для Великой России. Он называл его «великим реформатором в экономической области, основателем создания «крепкого крестьянского» хозяйства, которое должно быть основано на началах частной собственности и хозяйственной свободы». Русский крестьянин, таким образом, из государственного «тяглеца» превращался на своей земле в свободного гражданина. Аграрную программу Столыпина Струве считал «могильщиком старопомещичьей России», «подлинным вторым освобождением, или раскрепощением русского крестьянина».
Главное свойство Столыпина, помещика и чиновника, окутанного противоречиями времени и собственной натуры, Струве видел в его государственном подходе к своей деятельности[129]. Струве подчеркивал также, что в будущей России народное представительство должно действовать в том же охранительном и культурном смысле: «Такое народное представительство, над которым будет витать столыпинский дух охранения и творчества. Без народного представительства в этом духе – органически сплоченной и собранной государственной воли – невозможно возрождение Национальной России».
Чрезвычайно значимым Струве признавал и «национализм» Столыпина, понимая под этим необходимость сохранения крепко спаянного российского государства. Перечисленные особенности Столыпина характеризовали его, по словам Струве, как «крупного исторического деятеля», «как строителя той новой России, которая во всяком случае должна быть».
Эти мысли Струве о будущем России, овеянные магией Столыпина (статья «Великая Россия» была написана в 1908 г.), с течением времени корректировались и, сохраняя верность идеям «великого реформатора», определялись конкретно-историческими условиями другого времени.
Полемика Струве с Милюковым, их газет «Возрождение» и «Последние новости» в значительной степени проявила отношение Струве к российскому прошлому. Разоблачая так называемую «легенду о царизме», в которой царизм отождествлялся с азиатчиной, Струве писал, что «…русская историческая власть не была просто тем злым гением, каковым… ее представляла и изображала легенда о царизме. Под покровом этой власти развивалась и росла русская культура». «Ужасный эксперимент истории, каким является русская революция, вскрыл эту «солидарность» между возглавляемой и скрепляемой исторической властью реальной русской государственностью (царизм) и русской культурой»[130]. Непонимание этой солидарности Струве считал недомыслием или ошибкой исторического знания. И России есть чем гордиться: у нее были замечательная армия и бюрократия, «недосягаемый по нравственному уровню и по судопроизводственной технике суд».
С оценкой армии было связано и отношение к белому движению, характеризуемому Струве как эпоха героизма и жертвенности, «неотделимое достояние национальной России». Утверждение о тотальном монархизме белого движения и оценки Корнилова, Алексеева, Колчака как реакционеров и реставраторов Струве считал безосновательными и ложными[131].
Размышляя о государственной власти, Струве писал о том, что «все режимы и все власти падают от неспособности к различным и необходимым компромиссам, и никакие широкие политические движения не удаются, пока в них на той или иной основе не возобладает и не восторжествует дух соглашения… В основе духа соглашения, практики согласия лежит уважения к праву»[132].
Понятие самодержавия он считал «многосмысленным», означающим и «суверенную», «державную», и неограниченную власть. Сам он был сторонником самодержавия как национальной власти, свободной от деспотизма. Одновременно в прошлом России Струве видел «пагубные и тлетворные стихии» – крепостное право, тиранический произвол, – но полагал, что либеральные консерваторы умели отличать «самовластие» и «тиранство» от самодержавия.
К подобным лицам он относил Ф. М. Достоевского и А. С. Пушкина, которых считал своими предшественниками. Симптоматично замечание Струве, сопровождающее эту мысль: в юности вольнолюбивый и радикальный, в зрелом возрасте Пушкин стал охранителем и «царистом»; Достоевский – социалист в молодости – стал страстным и «упорным» приверженцем русской государственности. «Было бы глупо и пошло, – заключал Струве, – отмахиваться от этих реальных и многозначительных перемен в умонастроении величайших русских гениев как от каких-то не то причуд, не то ренегатства»[133]. Этим высказыванием Струве выводил определенную закономерность подобной трансформации взглядов, присущей и самому мыслителю.
Либерализм Струве рассматривал как государственную доктрину, политическую программу, устанавливающую начала господства гражданских свобод и правового устройства, идеи национальной солидарности и неприятие классовых принципов проведения политики.
Российский либерализм в его кадетской форме Струве, как и другие его единомышленники, в частности, Маклаков, признавали несостоятельным, а политическое поведение лидера кадетов Милюкова – «порочным» и ошибочным. В то время как монарх выполнял общественную миссию постепенного введения в ХХ в. конституции, либералы-кадеты считали самодержавие неспособным к конституционной деятельности и искали опору в революционных силах. Струве осуждал «порочную установку» кадетов на разрушение монархии и их убеждение в неспособности самодержавия, при всех его несовершенствах и ошибках, к эволюции. «Русскую общественность, – писал Струве, – нужно приучить к мысли, что либерализм, чтобы быть почвенным, должен быть консервативен, а консерватизм, чтобы быть жизненным, должен быть либерален»[134]. И только консервативный либерализм может обеспечить проведение социальных реформ.
В раздумьях о разрушенном прошлом и будущем России Струве обращался и к различным формам государственного устройства европейской истории. Опыт западноевропейского либерализма являлся питательной средой для мыслей и построений будущего. В эмиграции Струве имел возможность ближе познакомиться с западноевропейской демократией, парламентаризмом, практикой взаимодействия власти и оппозиции. Он признавал, что на Западе сочетание идей свободы и охранения традиций являлось обычным. Демократию Струве рассматривал как форму государственного устройства, основанную на признании народовластия, т. е. власти большинства народа, существующего в строго правовых рамках. Правовая обеспеченность законодательством и в то же время ограниченность им составляет одно из условий существования демократии.
Одним из ключевых признаков демократии Струве считал ее способность быть консервативной, что означает умение узаконить сохранение частной собственности, без которой не может быть свободного развития. Социальное значение демократического устройства Струве видел в завоеваниях в области права, либерализации страны, формировании предпосылок гражданского общества и его политической культуры.
Вместе с тем, Струве, как, впрочем, и многие эмигрантские мыслители, не идеализировал западное демократическое устройство. Обращение к демократии и демократическим формам государственного управления, естественно, ставило проблему парламентаризма. Струве считал, что парламентская демократия «может гладко действовать лишь в странах старой политической культуры и непрерывной конституционной традиции, в странах, имеющих в народных массах и в зажиточных слоях огромный запас консерватизма», подразумевая под ним сильное государственно-охранительное основание.
Главным условием парламентаризма Струве считал не наличие властного народного представительства и зависимость правительства от парламента, а принцип государственного равновесия. Но он полагал, что даже в Англии, стране традиционной парламентской культуры, не всегда действует гражданское равновесие. Этот принцип реализуется лишь при сильной власти главы государства. Народное представительство Струве призывал не смешивать с парламентом; участие народных представителей в управлении страной он считал не парламентаризмом, а лишь отрицанием абсолютизма. При этом правительственная власть должна быть равноправным и даже преобладающим фактором в сравнении с народным представительством. Значение I Государственной думы Струве считал важным «не в ее радикально-революционном или полуреволюционном лике», а в ее «консервативном существе умеренного и умеряющего народного представительства».
Республиканская форма правления представлялась Струве порождением интеллигентского мировоззрения, непонятого народными массами. Республика представлялась ему более приемлемой для стран Запада, но, будучи непредрешенцем в прогнозах построения постбольшевистской России, он допускал возможность ее осуществления и в России.
Для мыслящей эмиграции, русских, выдворенных из России и любящих свою Родину, гибель старой России была трагедией. Желание понять, что произошло с Россией, было вполне естественным. Темы революции, советского политического устройства, государственной власти, возможностей ее эволюции, экономического положения и состояния культуры были злободневны и приобретали большую популярность. Струве отдал им дань и талант мудрого мыслителя, политика и прорицателя[135].
Революцию 1917 г. (в которую включалась и февральская революция, называемая им «историческим выкидышем») Струве воспринимал как государственную и социальную катастрофу, борьбу с конституционными преобразованиями, отрицание собственности и правопорядка. По его мысли, революция покончила с падением феодально-крепостного строя, она была «последней судорогой» общинно-крепостной России, которая ударила не по феодализму (в существовании которого в России Струве сомневался), а по элементам и росткам общей собственности, создаваемой всем предшествующим развитием. По своему экономическому содержанию большевистская революция в значительной мере представляет собой «глупейшую народническую реакцию» против творческих процессов всего хозяйственного развития России последних десятилетий. Струве приходил к выводу, что в формах максималистской социалистической советской революции большевики осуществили подлинную и всестороннюю реакцию. Большевистская революция – реакционная революция, отбрасывающая жизнь назад; максимализм антиисторичен и антикультурен.
Вместе с тем Струве проницательно замечал, что сама революция была проникнута стремлением к собственности – личной земельной собственности народных масс – и внедрила в их психику собственнические тенденции. Боевой клич социалистов-революционеров «В борьбе обретешь ты право свое» он считал необходимым подкорректировать важным дополнением: «В борьбе обретешь ты право собственности своей». И в конечном счете, как ни парадоксально, этот процесс приближал Россию к будущему.
Струве представлялось обоснованным октябрьскую революцию 1917 г. называть буржуазной, но не в том смысле, что блага революции достанутся буржуазии и в ее интересах будет восстановлен буржуазный строй: «Революция эта буржуазная потому, что вопреки всем социалистическим кличам и лозунгам… народные массы всем своим поведением идут к утверждению в своей жизни буржуазных начал, и прежде всего начала личной земельной собственности». Он считал, что главным в революции является не социалистическая волна погромного характера, а «мощное течение буржуазного стяжания», которое со временем отметет «уродующий народное движение» «погромно-социалистический костюм». Социализм оценивался им как антигосударственная, антикультурная погромная идеология, контрреволюционная по своей сущности. Процесс преодоления «контрреволюционной стихии социализма» Струве признавал со временем неотвратимым.
Эти мысли диктовались убеждением Струве в том, что Россия «пойдет и не может не пойти» по пути «создания общечеловеческой культуры в буржуазных формах». Вину за внедрение социалистических идей, «этот погромный яд» он возлагал на интеллигенцию, которая боролась со старым порядком столь «неразборчивым и безрассудным» образом[136].
Большевизм, по словам Струве, осуществил ортодоксально-марксистскую идею сочетания коренного социального преобразования общества с методами и приемами насильственной политической революции и разрушил русскую культуру и право. В том, что советская власть «похоронила» и «засыпала» целые пласты русских культурных достижений предшествующего времени XVIII и XIX вв., Струве усматривал ее глубокую реакционность.
«Органический порок» и слабость советской власти Струве видел в том, что она провозглашала себя «коммунистической», «революционной», «пролетарской», но заимствовала эти названия, основываясь не на развитии российских внутренних экономических отношений, а на идее мировой социальной революции и «неотвратимом обобщении коммунизма и пролетарской революции». В отсталой России действительное осуществление коммунистической власти Струве считал нереальным.
Советскую Россию он сравнивал с «тягловым государством XVIII в.», государством унитарного типа, лишенного каких-либо правовых оснований, что неизбежно вело к отрицанию личной свободы; осуждал отношение советского руководства к рабочему классу, крестьянству, интеллигенции. Политику властей по отношению к крестьянству Струве признавал пагубной для России: крестьянство грабили, разоряли, превращали в государственных рабов или крепостных коммунистической партии. Постоянно актуальный, животрепещущий аграрный вопрос в России не только обострился, но и зашел в безнадежный тупик. Возрождение сельского хозяйства в России Струве связывал с установлением частной собственности, а не с разорением собственников.
Несостоятельность советской власти Струве признавал не только в экономической сфере, но и в политической: террор, противоречия в самой коммунистической партии. Он пристально вглядывался в настроения населения страны, чему придавал огромное значение в утопическом стремлении объединить его под левым флагом «во имя обманутых социальных надежд и поруганных социальных верований». Однако мыслитель признавал, что если антисоветские выступления и приведут, в конечном счете, к крушению советской власти, то этот процесс будет сложным и долговременным. В советском строе Струве видел огромную социальную и культурную опасность, был глубоко озабочен не только положением России, но и международным резонансом происходящих в стране событий: «Мир болен и серьезно отравлен коммунизмом». Он опасался, что идеи и эмоции коммунистического разрушения и насилия проникают в другие страны, настроения и мировоззрения.
Струве призывал либеральные и демократические круги разных стран нетерпимо относиться «к той силе, которая в принципе и идее, проповедью ненависти и насильничества, на практике действием насилия и разрушения, отрицает Свободу и Право, Порядок и Права». Поощрение коммунизма (это он усматривал и в лояльном отношении к советской власти) вредно не только самой России, но и в значительной мере тем иностранным государствам, которые даже заключают с ней мирные договоры. Невмешательство либо равнодушие к явлению коммунизма представлялось ему «ослеплением», «душевной слабостью» либо неспособностью разглядеть реальные опасности, борьба с которыми требует решимости и напряжения сил[137].
Судьба России глубоко волновала русских эмигрантов. Они мечтали о возрождении России, размышляли о своем участии в этом, строили планы ее будущего устройства. В построении новой России определенную роль эмигранты отводили русскому зарубежью. Струве воспринимал русских, оказавшихся после революции 1917 г. в зарубежье, не как эмигрантов, а как «подлинную национальную Россию», хранителей российской культуры и великих национальных традиций. «Мы здесь блюдем национальную культуру, – писал он, – там растаптываемую и уродуемую. Мы здесь отстаиваем там пока скрывавшееся национальное лицо России»[138].
Жизнь русского зарубежья он считал неотъемлемой от России, «крушение» России признавал общей бедой и общей виной всех русских вне зависимости от места их проживания, а долг каждого русского видел в воссоединении Зарубежья и Внутренней России, перед которыми стоит одна общая и главная задача – освобождение от тиранической власти советского режима. Струве призывал соотечественников не оставаться в состоянии «косного или пассивного созерцания», а быть деятельными, объединить разные поколения эмигрантов, отцов и детей, представителей разных политических сил, стремиться развивать и укреплять политический реализм и терпимость. «Мы сознательно и убежденно настаиваем на том, что Зарубежье должно духовно и политически не вариться в собственном соку, не жить мелкими счетами и перекорами «эмиграции», а всеми своими помыслами и действиями быть обращенными туда, к подъяремной, Внутренней России»[139]. И только при объединении всех зарубежных сил и сил внутренней России эмиграция может стать «одним из строительных камней» долженствующей возродиться воссоединенной страны[140]. Противобольшевистское объединение, по Струве, возможно при «разумном и достойном» самоограничении всех политических и партийных направ лений.
В планах построения новой России Струве предостерегал от намерений имущественной реставрации, «вредной и утопичной идеи», которая будет способствовать размаху Гражданской войны, поскольку крестьяне никогда не откажутся от своей собственности. «Политическая задача освобождения России от коммунистического гнета, – писал Струве, – сама по себе достаточно велика и трудна, чтобы осложнять ее имущественной или социально-экономической реставрацией»[141]. Как именно установит будущая Россия на основе признания собственности порядки в области землевладения и землепользования, зависит от конкретных решений новой власти.
Одним из главных условий нового государственного устройства Струве признавал частную собственность и свободу. Право частной собственности как «основное правовое начало всей хозяйственной жизни» Струве считал необходимым по возможности ввести даже при господстве коммунистов. По его сведениям, подобные настроения имели место и в самой России.
Струве глубоко осознавал специфические особенности России как крестьянской страны. Лицо возрожденной России, по Струве, должны определять две творческие идеи – «национальная и крестьянская». Наиболее вероятной формой государственного управления ему представлялась «национальная диктатура на крестьянском основании»[142]. Исторический путь возрождения России Струве и его единомышленники связывали и с процессом первоначального отпадения ряда национальных территорий России, за которым последует воссоединение (неизвестно в какой форме), поскольку потребность в центральной власти будет определяться прежде всего экономическими соображениями. Одновременно он понимал, что неизбежный процесс освобождения и отчленения отдельных национальных районов от большевистского центра означает и опасность для целостности государства вплоть до распада России. В национальном строительстве Струве считал необходимым упразднить партийную власть, учредить справедливое судопроизводство, обеспечить национальное воспитание и образование и предотвратить вмешательство государства в дела совести и веры.
Основательной перестройке, полагал Струве, должна быть подвергнута в постбольшевистское время и человеческая личность как «живая основа всех преобразований». Чрезвычайно значимым прогнозом, сохраняющим актуальное значение и в современной жизни России, является созданная Струве концепция «личной годности». «Если в идее свободы и своеобразия личности был заключен вечный идеалистический момент либерализма, то в идее личной годности перед нами вечный реалистический момент либерального миросозерцания». Эта концепция создавалась с дореволюционного периода вплоть до 20-х гг. ХХ в. Идею годности, отмечал Струве, англичане выражают словом effciency, немцы – словом Tüchtigkeit, французы – словом force. Ибо годность – сила[143]. В 1926 г. Струве указывал, какое важное значение он придавал идее «личной годности»: «Размышляя над некоторыми и, так сказать, конечными вопросами обществоведения, я изобрел и пустил в оборот определяющее все мое мироощущение и центральное для моего нравственного, социального и политического мировоззрения словосочетание: личная годность»[144].
Проблема «личной годности» для Струве прежде всего мировоззренческая проблема. Она возникла как реакция на миросозерцание, главными для которого являлись идеи личной безответственности и равенства. «В русской революции, – писал Струве, – идея личной годности была совершенно погашена. Она была утоплена в идее безответственных личностей и проповедовалась на Западе, в освободительном движении дореволюционной России и в советское время»[145]. Идею «личной годности» Струве признает прямой противоположностью идее безответственных личностей.
Автор замечательной статьи о концепции «личной годности» Струве А. А. Кара-Мурза проницательно усмотрел, что для Струве «идея «личной годности» универсальна и гораздо более фундаментальна, чем разделение обществ на «социалистические», «буржуазные» и пр.»[146] По своей сущности проблема «личной годности» – это проблема роли человеческой личности в историческом процессе, в ее экономическом, культурном и нравственном прогрессе. Речь идет не только и не столько об определенных свойствах человеческой личности, сколько о разных психотипах, олицетворяющих разные тенденции в развитии русской культуры. Людям «личной годности» были свойственны холодное самообладание, упорство, выдержка, дисциплина, ответственность, самоограничение, терпимость, чувство меры. Они верили в Возрождение России «под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра Великого, просветленного художническим гением его великого певца Пушкина»[147].
В противовес людям «личной годности» для Струве существуют и люди «отрицательного отбора». К их числу относятся Г. Гапон, Б. Савинков, В. Ульянов-Ленин. В обобщенном виде их духовные свойства сводятся к неспособности качественной оценки людей; им присущи ложный активизм, авантюризм, отсутствие нравственного пафоса и морального стержня, эгоцентризм, жестокость, ненависть и неукротимое властолюбие.
А. А. Кара-Мурза выстраивает ряд личностей, относимых Струве к категории «личной годности», которые так нужны для великой, «только еще начинающейся строительной работы». Это М. Я. Герценштейн, обладающий душевным типом «мудреца», сила которого заключается в положительной работе, в творчестве, а не в критике и не в отрицании и который «рвался к этой положительной работе, а чисто политическая борьба была для него тяжелым долгом»[148]. Это П. А. Корсаков – земский деятель, «образцовый» администратор финансового ведомства, руководитель крупного банковского учреждения. Он «всегда был равен и верен себе в своем деловом существе». Струве считал его «“буржуа” в том смысле, в котором известные «буржуазные» черты неотъемлемы от всякой культуры, основанной, с одной стороны, на дисциплине и личной ответственности, а с другой стороны – на стремлении к наивысшей производительности труда. А может ли быть какая-нибудь культура вне этих начал?»[149]
Значимым типом «личной годности» являлся для Струве и известный деятель земского движения, президент Вольного экономического общества, впоследствии глава умеренно-либеральной фракции в первой Думе граф П. А. Гейден. В нем «с удивительной красотой и законченностью сочетались свойства и черты, драгоценные для нашего времени»; для него характерен был «стиль свободы и независимости, который делал непереносимым для него всякий рабий образ и всякое хамство. Его одинаково отталкивали и холопство толпы, и хамство революционно-интеллигентское, и хамство помещичье, бюрократическое… В современном кризисе нужны эти люди, которые в политическом движении являются представителями разума и меры, твердости и сдержанности»[150].
Автор упоминаемой статьи о «личной годности» добавляет к числу уже признанных деятелей героев белой борьбы: Л. Г. Корнилова, М. В. Алексеева, А. М. Каледина, А. В. Колчака, являющих собой образцы героизма, воинского долга, беззаветного служения России. Правомерно также включение в эту группу «идеальных русских личностей», по характеристике Струве, И. С. Аксакова, Б. Н. Чичерина, А. С. Пушкина. Они олицетворяли собой либеральный консерватизм – защиту личности и упорядочение государственного властвования, экономическую и гражданскую свободу от деспотических пут и абсолютизма. Именно экономическую и гражданскую свободы Струве признавал «непререкаемыми и верховными» требованиями для будущей национальной России[151].
Идея «личной годности», по Струве, станет универсальной идеей Возрождения России во всех сферах ее жизни – экономической, политической, культурной, нравственной и религиозной. Струве верил в то, что Россия станет цивилизованным, демократическим, правовым и экономически развитым государством, в котором осуществляются принципы политического и экономического либерализма. Сильное государство, основанное на правовых нормах, свобода личности «в широчайшем смысле», частнохозяйственная свобода, а также непреложные религиозные начала, определяющие развитие государства и личности, верховенство Церкви, которая выше всех партий – таковы основы будущего государственного устройства России.
Василий Алексеевич Маклаков
Василий Алексеевич Маклаков принадлежал к ярким и талантливым людям России. Юрист, правовед, адвокат, блестящий оратор, историк, политик и общественный деятель, Маклаков отличался энциклопедичностью знаний в каждой из названных профессий. Значимым наследием являются созданные Маклаковым книги: «Власть и общественность на закате старой России» (Париж, 1936), «Первая Государственная Дума» (Париж, 1939), «Вторая Государственная Дума» (Париж, 1946). В них он выступил как мемуарист, писатель, историк и аналитик. Эти книги раскрывают его взгляды на историю России, самодержавную власть, представительное правление и поиски в России справедливого строя. Мировоззренческим credo Маклакова являлся либеральный консерватизм, в обоснование которого он, как и Струве, внес значительный вклад. Это идеологическое направление, означающее синтез российских традиционных ценностей и западноевропейских завоеваний в области политической и гражданской культуры, актуально и в современной России.
Маклаков родился 10 мая 1869 г. в Москве в семье известного врача-офтальмолога, профессора медицины. После окончания гимназии Маклаков поступил на естественный факультет Московского университета, но вскоре перешел на историко-филологический, где слушал лекции В. О. Ключевского, посещал семинарские занятия П. Г. Виноградова. После окончания историко-филологического факультета Маклаков за один год (1896) прошел курс юридического факультета и поступил на работу в московскую адвокатуру. Его судебная карьера была общепризнанной, он стал одним из самых ярких ораторов в России. Известны его блестящие выступления на процессах по «Выборгскому воззванию» (1908), делу Бейлиса и др.
По свидетельству самого Маклакова, его «захлестывал» общественный темперамент. Он принимал активное участие во многих общественно-политических союзах и мероприятиях: с 1903 г. являлся секретарем кружка либеральных земцев «Беседа»; участвовал в кружке московских адвокатов; в 1905 г. вступил в партию кадетов, став членом ее ЦК, где занимал правую позицию, как П. Б. Струве и С. Н. Булгаков; трижды избирался в Государственную думу. Во время Первой мировой войны, по мнению биографа Маклакова О. В. Будницкого, его оппозиционность правительству достигла крайней степени. В газете «Русские ведомости» Маклаков опубликовал статью «Трагическое положение», в которой изобразил Николая II в роли безумного шофера, мчащего свою мать (образ России) по горной дороге. Характерно, что в своих воспоминаниях М. Вишняк, комментируя эту статью, писал, что этот образ Маклакова вошел в «общее словоупотребление… Все мы мучились над этим вопросом»[152].
Однако, несмотря на свою оппозиционность, Маклаков отдавал дань самодержавному строю в России, который, как он полагал, осознавал необходимость обновления государственного устройства. Он считал, что после того, как в 1890–1900 гг. монархия согласилась дать конституцию, либеральные преобразования стали возможны в России без революции; необходимо было согласие общества. При этом Маклаков подчеркивал, что в России не было вековой политической культуры и что самодержавие не готовило русское общество к конституции и к уважению к закону и власти, хотя в России имелись здоровые силы, способные возглавить ее конституционное восхождение.
Для Маклакова конституционный период, по его словам, начался с крестьянской реформы 1861 г. Правительственные указы от 12 декабря 1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», Царский манифест от 6 августа 1905 г., Манифест 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», «Основные государственные законы» от 23 апреля 1906 г., в которых ставились задачи охранения закона, провозглашались законодательность Государственной думы, ограничение прав монарха, обещания ввести гражданские свободы Маклаков рассматривал как поэтапное введение конституции в России; в этих акциях он видел эволюцию самодержавной власти[153].
Вполне закономерным было отрицательное, скептическое отношение Маклакова к революциям и февральской, и октябрьской.
Он считал революцию такой же национальной бедой, какой являются войны. Он нетерпимо относился к тем, кем «овладевает радость власти и безнаказанности», ненавидел «самомнение, упоение властью и силой», «когда к власти «лезут» адвокаты, журналисты, мужики и рабочие только потому, что на их стороне сила, когда их власть наносит вред народу, а они… за нее цепляются, и когда все это прикрывается фразами, в которые они не верят, в которых заключается моральная и политическая ложь»[154].
Во время февральской революции Маклаков был одно время членом Комиссии по выработке положения о выборах в Учредительное Собрание, в жизнеспособность которого он, вполне обоснованно, не верил.
Маклаков с одобрением принял свое назначение послом в Париж. Он прекрасно знал Францию, в совершенстве владел французским языком, его чтили и глубоко уважали французские политики и общественные деятели. 14 октября 1917 г. он покинул Россию. В Париже Маклаков возглавил антибольшевистское движение. Он призывал российских послов в Лондоне К. Д. Набокова, в Риме М. Н. Гирса и в Вашингтоне Б. А. Бахметева занять единую позицию и не признавать большевистскую власть. Требование наркома иностранных дел советского правительства Л. Д. Троцкого подчиниться советской власти либо уйти в отставку, иначе это будет государственным преступлением, было оставлено Маклаковым без ответа. Более того, в конце ноября он возглавил Совещание послов, целью которого являлось предотвращение признания союзниками советской власти, обеспечение моральной и материальной поддержки белых войск, защита территориальной целостности России и признание западными державами антибольшевистских правительств легитимными представителями России[155].
Однако, надежды на быстрое падение советской власти оказались тщетными. Этому способствовали многие факторы: укреплялось советское государство, сложной была международная обстановка, разнонаправленными были интересы европейских государств и США, эмиграция отличалась разномыслием и оказалась неспособной к объединению.
После признания Францией СССР в 1924 г. Маклаков сосредоточился на деятельности в качестве председателя Эмигрантского комитета и главы Центрального офиса по делам русских беженцев во Франции. В годы Второй мировой войны Маклаков занял патриотическую позицию и верил, впрочем, как и многие эмигранты, в победу СССР. Единомышленники Маклакова занимались антинацистской пропагандой, оказывали помощь пострадавшим от немецких захватчиков и были связаны с Сопротивлением. Во время оккупации Франции в 1942 г. нацисты арестовали Маклакова и освободили через 3 месяца с предписанием не руководить Эмигрантским комитетом, не заниматься политической деятельностью и уехать из Парижа. Маклаков поселился в деревне в доме Б. Э. Нольде, где писал воспоминания о II Думе.
12 февраля 1945 г. Маклаков возглавил делегацию в советское посольство, чтобы поздравить СССР с победой в войне. Это вызвало разные толки современников. Многие обвиняли его в пособничестве коммунистам. Представляется, что побудительным мотивом этого визита было благодарное признание роли Советской России в уничтожении нацизма и желание понять перспективы будущих отношений со своей Родиной. В это время Маклаков был уже стар, болен, но сохранял трезвость ума и высокий ораторский талант. Он умер 15 июля 1957 г. в Швейцарии, где лечился.
Важно заметить, что, размышляя о России и составляя свой прогноз ее возрождения, Маклаков трезво оценивал в этом процессе роль эмиграции. Претензия управлять событиями в России из-за границы ему представлялась ложной. Миссию эмиграции он видел в растолковании того, что происходит в России, использовании опыта эмигрантов, в удержании иностранных держав от ошибочных шагов. При этом Маклаков осознавал, что эмиграция может быть не властвующим, а только подчиненным элементом в строительстве новой России[156].
Мысль о том, что коммунизм есть этап в превращении России в демократию, была общей для Маклакова и Бахметева. Оба они верили в будущее России и считали, что она неминуемо возвратится на путь своего эволюционного развития. Объективное представление о происходящем в России, по мнению Маклакова, должно основываться на реальных фактах, т. е. на включении свершившейся революции, изменившей ход российского исторического развития, в орбиту изучения. И, хотя Маклаков был противником революционных методов борьбы, но как социолог и мыслитель он признавал, что большевистская революция – «болезненный, но необходимый» отрезок истории, связанный как с прошлым, так и с будущим.
Причины неизбежности революции он видел в плачевном состоянии старого режима («Россия была как одно из подгнивших зданий»), в невозможности решить крестьянский вопрос, проблемы сословного неравенства, собственности и правосознания. Очевидной для Маклакова была и несостоятельность деятелей февральской революции и всех общественных сил. «Все мы, – писал он, – повинны в том, что не понимали своих сил и по-ребячески играли огнем около порохового погреба». Стимулирующим фактором революции он считал мировую войну.
Чтобы понять, почему Россия не стала страной, развивающейся эволюционным путем, Маклаков считал необходимым привлечь к работе историков и анализировать предшествующие революции исторические события, ибо корни настоящего находятся в прошлом. Это поможет понять и сложные процессы современной большевистской России, определяя, какие из них жизнеспособны и необходимы для России новой.
Этот неизбежный, «болезненный», переходный этап к демократии сопровождался, по Маклакову, существенным тормозящим действием. Коммунизм «оказался отрыжкой старого», писал он, неспособным признать другие идеи и настроения, принять идею сотрудничества ни с другими слоями населения, ни с другими государствами; ему свойственно желание властвовать, ради чего он готов жертвовать и культурой, и богатством страны. И, естественно, считал Маклаков, что из коммунистической идеологии нельзя создать международной политики. «…Есть несколько основных понятий, которые сейчас должны лежать в основе миросозерцания: это прекращение всякой внутренней борьбы между классами и между государствами, солидарность их всех ради их всех на общую пользу, ненависть к революциям и войнам, утверждение пацифизма и демократизма»[157].
Маклакова особенно тревожил вопрос о путях свержения большевизма. До окончания Гражданской войны он рассчитывал на белое движение, в частности, на Деникина и Врангеля. В письмах к Бахметеву он идеализировал Врангеля и его преобразования в Крыму, оценивая их как «здоровую реставрацию». Воздавая дань Врангелю как «убежденному и смелому борцу с большевиками», Маклаков соглашался с мнением Бахметева, что своей борьбой за создание белогвардейского Крыма, отделившегося от России, и возможным признанием отпадения Бессарабии к Румынии, он «понижал национальное знамя». Оправдывая Врангеля, Маклаков отмечал: тот делал это не потому, что был равнодушен к национальной идее и не понимал, что компрометирует себя в русской истории, а по «фактической необходимости», осознавая пословицу «сила солому ломит».
Маклаков считал, что большего упрека заслуживают либеральные партии, у которых не было оправдания, когда они лишали Россию Финляндии, Эстонии, Литвы и тем самым опускали национальное знамя. В результате этих раздумий Маклаков делал вывод, что критика большевизма сильна, когда речь идет о социальной и политической программе большевиков; когда же большевики выступают защитниками национального единства России, то становятся патриотами и сторонниками здорового национализма[158].
Не случайно Маклаков проявлял интерес к сменовеховству – общественно-политическому течению, возникшему в эмиграции. Сменовеховцы осознавали бесперспективность «белых движений» и привлечения иностранной военной силы для борьбы с большевизмом, рассматривая их как закабаление России. Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников, А. В. Бобрищев-Пушкин, С. С. Лукьянов, Н. А. Гредескул и другие видные представители этого течения провозглашали мысль о том, что спасение России заключается в эволюции к новым формам социальной жизни, поддержанным народом. Бороться старыми методами «по рецептам Керенского или Милюкова, или Струве, – писал известный сменовеховец Ключников, – потворствовать их личным побуждениям либо анархии»[159].
И в эмиграции, и в России сменовеховство вызвало значительный резонанс. Ф. А. Степун называл его лакейско-конъюнктурной концепцией. В. М. Чернов видел в сменовеховстве проявление октябризма, П. Н. Милюков признавал «ложь» сменовеховцев в признании «полезности существования большевистской власти»[160].
В Советской России отношение к сменовеховству определялось, разумеется, политическими мотивами. С одной стороны, большевики призывали не преследовать сменовеховцев, поскольку они признавали советскую власть и своей деятельностью могли нейтрализовать тех, кто сомневался в ее легитимности, с другой – видели в них претендентов на власть и покушение на РКП[161].
Маклаков признавал в движении новых «Вех» «много здоровых мотивов» и новизну. «Думаю даже, – писал он Бахметеву, что [сменовеховство] станет тем руслом, к которому в известный момент мы придем все, как к неизбежному концу. Вопрос только во времени». Вместе с тем Маклаков видел в нем две опасности. Первая состояла в том, что сменовеховцы по законам психологического равновесия должны были бы «неприкровенно выставлять себя как новый вид борьбы с большевизмом» и не создавать впечатления примирения с ним. Маклаков проводил аналогию с либерализмом, когда борьба велась между старым режимом и революцией. Либерализм был движением, которое угрозой революции должно было побуждать старый режим идти на уступки; он должен был наносить ему удары. И, если он это делал, то имел право осуждать революцию. Новый «вехизм» должен был прежде всего «объявить большевизму войну не на живот, а на смерть» и отречься от принципа «Сначала успокоение, а затем реформы». Иначе он становится апологетом большевиков. И вторую опасность Маклаков видел в том, что сменовеховство начинает обрастать спекуляцией и приспособленчеством и тем самым теряет свой идеализм и оригинальность[162].
Крах белых движений, а также неудача в реализации «польской комбинации» (помощь поляков в свержении большевиков) постепенно меняли взгляды Маклакова. Он «мало верил» в низвержение большевиков путем крестьянских восстаний, которые, как он считал, могут привести к кровопролитию, а не к созданию новой власти. Бунт бессмыслен и беспощаден, но можно ли верить, что крестьяне справятся с военной силой? Однако крестьянским восстаниям он придавал огромное значение, полагая, что они толкают на реформы и улучшения и могут заставить менять систему управления как в мелочах, так и в основании; при подавлении крестьянских выступлений может установиться анархия, которая Маклакову была предпочтительней, чем большевистский деспотизм[163].
Вместе с тем Маклаков допускал, что в ходе крестьянских восстаний могут возникнуть государственные образования, государства в государстве, особенно на окраинах России, являющиеся «цементом в виде национальной идеи» и подкрепленные соседними европейскими силами. Но это, размышлял он, означает расчленение России[164].
Ставка на внутрироссийские процессы одно время вызывала у Маклакова большие сомнения. «…Если мы не смогли задавить большевизм извне… то Россию спасем уже не мы, заграничные счастливцы, а те, кто сейчас в России, и те из большевиков, которые одумаются, и те из патриотов, которые там притаились, и те, наконец, которые пошли на службу к большевикам для того, чтобы их переродить. Всю надежду тогда приходится возложить на рост отрезвления изнутри большевиков России, наша деятельность должна быть согласована с ними». Эту позицию Маклаков признавал возможным называть примирением с большевизмом. «Оно так же мало примирение, как участие либералов в государственной жизни прежде было примирением с самодержавием, но все-таки внешне это примирение».
Размышляя о внутреннем процессе «изживания большевизма», ожидания, когда «большевизм съест сам себя и падет» Маклаков видел опасность в том, что после падения большевиков может оправдаться фраза Тэна «Дурное правительство лучше отсутствия правительства» и в России воцарится анархия. При анархии становится реальной возможностью потеря единого государства, единой власти и общенационального единства, которое сохраняют большевики, выступая за целостность России. При анархии новые Минины и Пожарские могут воссоздать Россию, возможно, без Кавказа, Прибалтики, Белоруссии и других национальных территорий[165].
Уже в 1922 г. Маклаков осознал, что лозунг «Долой большевиков» – признак «недомыслия и нереальности», что это военный лозунг и он неприменим к данному времени. Он предлагал Бахметеву исключить из их словаря слова «падение большевиков», «как исключить самую идею из их мировоззрения». «Если я очень пессимистически смотрю на возможность падения большевиков, – писал он Бахметеву, – то напротив того, я еще гораздо оптимистичнее, чем прежде, смотрю на процесс их разрушения. Это будет разрушение большевизма, а не его падение»[166].
Большевистская власть представлялась ему стоящей на трех устоях: войско, полиция и коммунистическая партия. Войско и полицию, по мнению Маклакова, отличает высокий профессиональный уровень, достигнутый в советское время. Большевистская партия неоднородна и подразделяется на левых, коммунистов-хозяйственников и политиков. Левые, верные коммунизму, стремятся осуществить свою программу, занимаются агитацией и демагогией, но теряют свое влияние и остаются в меньшинстве. Коммунисты-хозяйственники осознают, что дело коммунизма проиграно, составили свое состояние и хотят воссоздания экономического благосостояния России, но они не видят другой власти и стремятся исправить положение. Политики – «цвет большевизма». К ним Маклаков причислял Ленина, Литвинова, Чичерина, Радека, которых считал властолюбцами. Некоторые из них сохраняют революционный настрой, уповая на то, что социальная революция надвигается во всем мире, другие стремятся лишь удержать свою власть. «Внутреннюю вражду и столкновения» Маклаков предвидел между политиками и хозяйственниками, предрекая победу последним. Это может произойти потому, что население поддерживает любые проблески экономического возрождения, которые стимулируют хозяйственники.
Активизации этого процесса, полагал Маклаков, может помочь лишь изменение сознания: в низах должна возобладать психология буржуа, а «красный буржуй – хозяйственник» должен увидеть в коммунистических низах реальную опасность для культуры, «какую когда-то большевизм справедливо увидал в монархизме». Кроме того, необходимо формировать мнение, что преданность истинному коммунизму означает подрыв социальных основ государства[167].
Маклаков задавался вопросом, существует ли в современной России, кроме разлагающейся коммунистической партии, сила, способная разложить и низвергнуть большевистскую власть. Крестьянство подвергнуто расслоению, и рассчитывать на него как на противовес большевистской власти – психологический пережиток бунтарских иллюзий. Политические партии эсеров, кадетов, а также церковь он признавал несостоятельными. Вывод «холодного разума», по словам Маклакова, сводился к тому, что радикальную перемену во власти может обеспечить «только победа «хозяйственников» над «политиками» в коммунистической партии»[168].
Признавая новые пути борьбы с большевизмом, Маклаков был убежден, что «глобальный большевизм» как таковой переродиться не может. Вопрос об эволюции большевизма приобретал в эмиграции актуальный смысл. В ноябре 1922 г. Маклаков писал Бахметеву, что пришел к окончательному выводу: «Как бы большевики ни шли далеко по пути уступок, и у них есть камень, его же не прейдеши, это собственность… это оселок, на котором могут разбиться самые заманчивые комбинации. Это показывает, – заключает он, – что коммунизм для них все-таки не простое слово, что это есть знамя, за которое они держатся, и остаток былого величия и былых надежд»[169].
Но необходимо, чтобы в большевизме появились трещины, раскол и большевики вытесняли бы друг друга. Отсутствие этих трещин означает, что речь идет пока не об эволюции, а о новой тактике, о спасении большевистского существования. И перед защитниками новой России, к которым Маклаков причислял себя и Бахметева, стоят сложные задачи: способствовать созданию «новой, разумной веры» в буржуазную Россию, нарушения по возможности равновесия между правыми и левыми элементами в большевизме, а главное – не упустить время для способности большевизма к перерождению. Большевизм переродится, считал Маклаков, но не скоро и не легко[170]. При этом Маклаков подчеркивал, что нельзя эволюцию жизни отождествлять с эволюцией власти, с эволюцией большевизма[171].
В новой исторической ситуации, осознавая невозможность низвержения большевизма, Маклаков считал необходимым перенести центр тяжести антибольшевистской борьбы. «Нужно помочь России – перестать быть паразитной страной, которая только потребляет, что раньше производила. Нужно говорить о восстановлении России как производящей страны»[172].
Будущая Россия мыслилась Маклаковым как крестьянско-купеческая. В этом он был солидарен с Бахметевым. «Все наше крестьянство есть собственник, т. е. буржуй; оно и спасет Россию от потрясения», – писал он Бахметеву. Однако, Маклаков отмечал, что на практике русский крестьянин оказался «оплотом консерватизма» и во время революции проявил пролетарскую психологию и революционные привычки, и объяснял это тем, что крестьянин не имел психологии настоящего собственника, жил общиной и по существу был бесправен. И сейчас, если надлежит разрешить эту задачу, необходимо, полагал Маклаков, поставить крестьянина в те нормы, где он может быть буржуем, т. е. прежде всего собственником своей земли, а также изменить его правовое положение.
Маклаков вспоминал, что перед революцией он занимался проектом, в котором проводил следующую мысль: крестьянство как сословие в юридическом смысле не должно было существовать. Крестьянство он рассматривал как профессию; оно должно иметь все те права, которыми наделены другие слои общества. При этом Маклаков учитывал, что если крестьяне владели надельными, полученными от общины землями, то те не были их личной собственностью, а в лучшем случае семейной. Из этого «заколдованного круга» сложных сословных правовых установок крестьянского права Маклаков, по его словам, вышел, заменив крестьянское сословное законодательство социальным законодательством, которое отрывалось от человека и переносилось на землю и было проникнуто одной идеей – защиты мелкой собственности, подобно рабочему социальному законодательству, защищающего рабочих от капитала[173]. Этот проект Маклаков называл революционным, так как уничтожалось сословное положение крестьянства. И хотя Маклаков сам сомневался в необходимости в современных, уже иных исторических условиях использовать эту работу, важно отметить его знание и проникновение в проблему крестьянства и его судьбы.
Относительно второй части формулы «крестьянско-купеческая Россия» Маклаков давал следующее пояснение. «Рядом с крестьянином, – писал он Бахметеву, – Вы ставите купца; конечно, купец не значит торговец, и вообще торговля при всей своей необходимости имеет второстепенное значение; важнее торговли будет производство; купец значит просто крупный капитал, который будет оплодотворять и промышленность, и торговлю и, вероятно, само земледелие… Крестьянин как мелкий капиталист и собственник, купец как крупный капиталист и собственник, – вот те основы, на которых Россия будет строиться»[174]. Характерно, что у Маклакова возникала мысль создать крестьянско-купеческую политическую партию, что означало бы создание буржуазной программы и буржуазной идеологии. Мысль о солидарности промышленного класса и капитала с крестьянством была подсказана Маклаковым Савинкову, прозвучала в докладе последнего 28 сентября 1921 г. в Париже и была с одобрением встречена промышленниками.
Марксистское учение о замене капитализма социализмом представлялось Маклакову «разбитым жизнью». Это утверждение явилось основополагающим в его взглядах на развитие России. Он считал, что российский опыт дает основание признать необходимость развивать капиталистический строй.
Маклаков солидаризировался с Бахметевым в необходимости создания прежде всего новой идеологии собственника как «знамени эпохи». Свобода являлась непременным спутником этой идеологии. В подтверждение этого Маклаков приводил высказывание Достоевского о том, что «деньги – чеканная свобода», и напоминал, что Столыпин в одной из речей цитировал эту фразу. Маклаков был убежден, что для собственника нужны экономическая и правовая свобода, гражданские права и защита всякой инициативы.
К формуле «свобода и собственность» он добавлял «производство и активность». В будущую идеологию должны войти эти понятия, которые «определят новую расценку людей и идей». В итоге в России может появиться атмосфера отрицания созерцательных профессий. «В центре всего станет американизм, который не породил ни науки, ни искусства, а если науку, то исключительно прикладную»[175]. Для защиты собственности необходима и сильная власть, которая станет слугой народа, так как народ станет собственником, полным инициативы; власть должна будет ограждать собственников от социалистов, пролетариев так же, как и от любых врагов.
Становление идеологии собственника приведет, полагал Маклаков, к открытию рынков, что в итоге будет способствовать объединению России, которое будет совмещаться с уважением к местным автономиям, языкам и культурам. К этой идеологии собственника следует, но со временем, считал Маклаков, добавить патриотизм, который появится как реакция против унижения при проникновении в Россию иностранных капиталов, как последствие психологии, появившейся у народа, чувствующего себя хозяином своей судьбы. Маклаков объясняет преждевременность внесения патриотизма в идеологию собственника тем, что пока не решен вопрос об окраинах России и патриотизм может быть понят как призыв к войне против их самостоятельности. Он приводит мудрое высказывание французского политического деятеля Гамбетты: «Патриотизм есть резюме всех гражданских добродетелей», как бы подчеркивая истинность этого чувства как осознанное проявление других политических свобод. Поэтому лозунгом для поднятия масс на данном этапе является свобода и собственность, а позднее добавляется слово «Родина»[176].
Необходимым он признавал разоблачение большевистской идеологии как идеологии властвования меньшинства над большинством насилием и обманом. В борьбе с большевизмом Маклаков призывал привлечь и либерально-буржуазные идеи ревизионизма, которые обычно называли критикой социализма. В действительности ревизионизм он считал «разумным компромиссом» между капиталистической действительностью и социальными идеалами[177]. Формирование в России буржуазного демократизма Маклаков считал неотложной задачей и придавал этому решающее значение. Он резко критиковал эсеров и кадетов за непоследовательность в решении этого вопроса.
Утверждение собственнической идеологии он ставил также в зависимость от создания единого фронта в признании принципа частной собственности[178]. Восстановление прав собственности прежних владельцев Маклаков признавал необходимой нормой создания собственнической идеологии. Однако, бесконтрольная продажа российской собственности иностранцам должна сопровождаться вмешательством государства. Маклаков опасался, что внедрение иностранцев в Россию может привести к ее экономическому закабалению. Он возлагал надежды на крупного предпринимателя, председателя основанного в Париже в 1920 г. Российского финансового и торгового промышленного союза Н. Х. Денисова, составившего перечень условий, могущих быть представленными советскому государству в случае его признания. Эти условия были следующими: отказ от коммунизма, денационализация и возврат имущества собственникам и финансовая помощь им на восстановление России. По мнению Маклакова, принятие этих условий оказало бы существенную поддержку новой России, подточило бы коммунизм и укрепило бы буржуазию[179].
Маклаков фиксировал и в психологии коммунистов признаки нового сознания, сходного, однако, с сознанием представителей старого режима. Но чувства собственника и хозяина, которые испытывали и те, и другие, перекрывало у них желание трудоспособности, строительства и изменения жизни как внутри России, так и в международных делах. Эти, по словам Маклакова, собственники и тираны винили в своих неудачах капиталистическое окружение и считали, что с падением капитализма наступит социализм и всеобщее благополучие. Всякое соглашение с капиталистической страной, согласно этой идеологии, является попыткой использовать ее для собственных целей[180].
Маклаков постоянно следил за настроениями в торгово-промышленной среде, оговаривая, что он подходит к этому вопросу с большой осторожностью и не исключает ошибочных суждений или преждевременных обобщений. Вместе с тем он усматривал новые моменты, которые проявляются в переговорах между большевистской властью и промышленниками. Со стороны представителей большевистской власти постоянными становятся речи об осуждении коммунизма (как отмечает Маклаков, в разной степени искренние, а во многом и лицемерные), о необходимости для новой России создать капиталистическую экономику; со стороны же промышленников обнаруживается, во-первых, предпочтительность иметь дело с правительством, во главе которого стоит Красин или Каменев, поскольку они создавали «правительственный аппарат и идею твердой власти», и, во-вторых, обретенная самими промышленниками уверенность и способность ставить свои условия.
Большое беспокойство у Маклакова вызывало поведение европейских государств в период установления контактов с Советской Россией. Он считал, что иностранные государства своим влиянием могли бы побуждать Советскую Россию к осуждению большевизма или способствовать формированию в России собственнической идеологии. Так, в письме Бахметеву он выражал пожелание, чтобы присутствие Америки при обсуждении международных проблем могло бы ввести в известные рамки «флирт» Европы с большевиками и чтобы Америка могла бы сказать, что не признает правительством тех, кто боится подвергнуть свое существование проверке народного одобрения. Америка могла бы провозгласить, что пока большевики держатся во главе России силой и беззаконием, она не будет с ними обсуждать международные дела[181].
Вопросы идеологии, ее взаимодействия с государством, проблема этатизма занимают в эпистолярном наследии Маклакова значительное место. Маклаков соглашался с Бахметевым, что в будущей России «создается новый тип соотношения индивидуума и государства». «Вопрос об отношении государства к личности, вернее сказать, о том, что государство смеет или не смеет, – писал Маклаков Бахметеву, – для меня всегда был исключительно интересен; можно сказать, что на помыслах об этом не только началось мое политическое воспитание, но и моя политическая практическая работа. Я готов признать какие угодно жестокие законы, но при одном условии, что законы эти для всех одинаковы, и главное, что нарушение этих законов, т. е. защита прав личностей в пределах этих законов обеспечена против государства… мне так нравился девиз на английском гербе: “Dieu et mon droit” [Бог и мое право]»[182]. «Ваша идеология, – продолжал он, – мне очень понятна, знакома и недалека от моей; но в ней мало нового, она скорее уже пережита». Этой идеологией являлся либерализм, многосложный по составу и содержащий как позитивные, так и отрицательные стороны. Предпринятый им в письме к Бахметеву очерк эволюции либерализма дает представление о его понимании сложного комплекса проблем, связанного как с историей этого общественно-политического течения, так и с идеологией будущего.
Маклакову импонировали защищавшиеся Бахметевым доктрина индивидуализма, личность и ее права, свобода и собственность, конструкция государства как производного правового явления, когда права личности определяют государственные формы. Защиту правовых начал в государственной жизни Маклаков объяснял недоверием к власти и перенесением центра тяжести на личность. С этим он связывал разделение властей, возникновение учения о неприкосновенности прав, образование роста государственных институтов и др. Маклаков отмечал, что либерализм сыграл свою историческую роль в XVIII и в первой половине XIX вв. в борьбе с аристократической властью на Западе. В России же либеральная идеология, по его мнению, могла перестроить политические и социальные отношения, однако исчерпала себя.
Маклаков не принимал русский либерализм в его кадетской форме. «Порочным» он признавал неверие кадетов в эволюцию самодержавия при всех его несовершенствах и ошибках, подлинной считал правую октябристскую либеральную оппозицию, к которой принадлежал и сам. Либерализм должен угрозой революции побуждать власть идти на уступки, воплощать в себе те идеи, которые могли остановить революцию. Реформирование России, по Маклакову, должно осуществляться прочным и конструктивным союзом власти и общественности; русский либерализм не захотел соединиться со старым порядком против революции[183]. «Либерализм победил феодальный консерватизм, – писал он, – но сам создал врагов, которые его в конце концов задушили». Это определялось, по его мнению, походом против личности, ее свободы и права, идолопоклонничеством перед коллективом, вменением государству не охранять права личности, а «принудительно осуществлять справедливость в общественных отношениях». В этом Маклаков усматривал «зародыш будущего коммунизма»[184].
В обязанность государства теперь входила защита бедных против богатых, а затем утвердилось убеждение, что бедные люди должны быть государственной властью, при этом либерализм утратил свой пафос: «Тезис привел к антитезису». Маклакову логика этой идеологии была понятна: эгоистический либерализм привел к созданию новых почти наследственных привилегий и к необходимости с ними бороться во имя «равных возможностей»; отсюда ненависть слабейших против привилегированных, захват власти слабейшими и коммунистические идеалы.
Мировая война, по мнению Маклакова, обозначила несостоятельность европейских демократий. Либерализм с его классовым эгоизмом оказался негодным для управления национальным организмом во время войны. Государственная идеология сыграла в этот период, считал Маклаков, значительную положительную роль: при распределении продуктов, хлебных карточек, распределении частного имущества за общий счет и т. д. интересы всех слоев населения были слитыми. Маклаков отмечал и изменение психологии, далекой от либеральной доктрины: стало неловко быть богатым и это показывать, «неловко на глазах у голодных есть вкусные вещи»; увеличился налог на богатство, стало возможным участие рабочих в прибылях, государственное страхование безработных и т. д. «Сдвиг пошел не в сторону экономического либерализма и свободы самодеятельности, а в ту сторону, куда звал коммунизм». Русский опыт, считал Маклаков, дискредитировал идею народовластия.
Маклаков отвергал обвинения Бахметева в пристрастии к этатизму, который будто бы «отжил свой век». Маклаков объяснял Бахметеву, что уровень этатизма зависит от конкретно-исторических условий и социальной структуры той или иной страны. Америка находится на огромном пространстве, где культура экстенсивна, не все природные богатства использованы и не существует ограничений для личной инициативы. «В Америке создался сначала быт, который в своих собственных интересах создал и центральную власть… у Вас еще нет этатизма, – отвечал он Бахметеву, – и у Вас делают свое благополучие благодаря личной инициативе и личному успеху в битве за жизнь…». Кроме того, в Америке сложилось традиционное отношение к власти. Она создавалась не сверху, а самодеятельностью граждан; нравы, обычаи и предрассудки в Америке сильнее власти. И если в Америке либерализм является движущей силой, то в Европе он стал «старомоден». Из этого Маклаков делал вывод о том, что дальнейшая европейская жизнь будет исходить из двух исторических фактов: во-первых, властвование демократии оказалось непрочным и принесло программу борьбы классов и, во-вторых, этатизм способен разрешить требования проигравшей демократии.
Государство, по убеждению Маклакова, способно регулировать национальную жизнь, налоговую систему и принудительно разрешать противоречия классов, защищать интересы обиженных. Подобную идеологию с преимуществом этатизма Маклаков признавал временной, до тех пор пока не изменятся условия жизни: «Всякая идеология, – считал он, – является и синтезом прошлого, и тезисом для будущего». В соответствии с этой идеологией сложатся и международные отношения, при которых невозможен будет абсолютный суверенитет отдельного государства, установится регулирование национальных самолюбий и притязаний.
Направленность к этатизму Маклаков признавал, таким образом, одной из ведущих линий европейского развития. Что касается России, то Маклаков в своих размышлениях проявлял известную двойственность. С одной стороны, он признавал, что идеология Бахметева для России «имеет больше шансов быть верной»; причиной являются большие пространства России, недостаток рук для ее обработки, редкость населения; в России еще должен утвердиться капитализм и связанный с ним либерализм; кроме того, Россия уже «глотнула этатизма» в большом количестве. К тому же процесс освобождения от большевизма, обозначенный Бахметевым, должен сопровождаться победой над властью и утверждением главенства быта, то есть свободной личности. Вместе с тем, соглашаясь с Бахметевым в том, что в России имела место гипертрофия зависящих от государства служащих, Маклаков считал, что «русская жизнь пойдет иным путем» и установится «разумный этатизм», а «не преобладание ослабления государственных функций перед личной самодеятельностью населения»[185].
Маклаков сомневался, что в будущей России, как предполагал Бахметев, личность сможет побудить власть к самоограничению. Как государственник Маклаков признавал необходимость власти и ее заслуги, даже если эта власть находилась в руках врагов. «Этого не понимал Милюков, – считал Маклаков, – когда судил о Столыпине», которого он считал врагом России, услужливым царедворцем, а не государственным человеком.
Заслугу большевиков Маклаков видел в освобождении Восточной Сибири, в избавлении от посягательств Польши. «Я испытываю два чувства, когда гляжу на советскую Россию, – писал он, – зависть и болезнь. Зависть к тем, кто сейчас мог бы подавать голос в европейских вопросах, имея за собою Россию. Какая была бы благородная роль и призвание. Но я инстинктивно испытываю страх, когда думаю о том, что случилось бы, если бы в России не было сейчас никакой центральной власти, даже плохой; если бы Россия стала простым объектом соседских вожделений и на защиту ее шло бы одно только их соревнование; это соревнование недостаточно для защиты; соседи бы сговорились, разделили бы сферы влияния, а России надолго бы не было, если не навсегда»[186].
Создание новой идеологии Маклаков считал сложным и длительным процессом. Он полагал, что это будет этатическая идеология, протестующая против усвоения в личную собственность орудий производства и значительно ограничивающая права собственности. Она будет далекой от либерализма. В защиту этатической идеологии Маклаков приводил важный аргумент. Он предвидел, что в период крушения большевизма, когда падут нравы общества, «ничего общепризнанного, бесспорного и уважаемого в России не будет» и возобладает бесчинство, только центральная власть, суд и полиция, хотя и они будут ослаблены, способны будут установить стабильность и защитить устои общества[187].
Неизбежность сильной государственной власти в России Маклаков признавал исторической традицией европейского развития, к которому он причислял и Россию. Эту традицию он объяснял происхождением власти, неотделимой от конкретно-исторической обстановки, в которой действовали и власть, и общество. Спасение Европы, полагал Маклаков, состоит не в установлении принципа равных возможностей и поощрении умных и энергичных людей (на чем настаивал Бахметев), «а в принудительном устроении общежития так, чтобы всем были обеспечены одинаковые условия благополучия»[188].
Маклаков считал, что после падения большевизма центральной власти будут предоставлены большие полномочия: регулировать местные экономические и, возможно, политические «этатизмы», а также осуществлять защиту от посягательств на независимость государства. Государственная власть «не будет синекурой», хотя изменит свои цели и приемы. Но правительство «не только не будет мешать личной самодеятельности, инициативе и исканию выгод в будущем социальном строе России, оно будет защищать эти начала». Центральная и местная власть могут быть построены на разных началах; соотношение их компетенции может быть различным – это вопрос только их разграничения.
Маклаков размышлял о народе, власти и их взаимодействии. «Политическая жизнь везде, – писал он, – начинается с подчинения масс избранным единицам; единицы заменялись меньшинством, аристократией; аристократия расширялась, меняя свою форму и основу, от наследственной привилегии переходя к привилегии капитала, может быть, образования и так дальше; она теперь дошла как будто бы до демократии, которую правильнее назвать лжедемократией, подобно тому, как мы знаем лжеконституализм»[189].
Маклаков проводил резкую грань между демократией в Англии, Франции, Америке – и России. Представители этих европейских держав и США из своего социального меньшинства выбирают представителей, поручая им управлять собой. В этом состоит мудрость подобной демократии. Логику развития демократии Маклаков рассматривал в контексте гегелевской триады: сначала демократия подчиняется не рассуждая, затем пробует управлять сама, но, поумнев, возвращается к сознательному подчинению. Это, полагает Маклаков, делает ее разумной демократией.
В России отношения народа и власти представлялись ему сложнее. «Я не хочу подражать нашим народникам, которые идеализировали разумность народа и считали, что культурное меньшинство должно ему подчиняться, – писал он Бахметеву. – Я это считаю большой ошибкой и сейчас думаю, что наш народ не созрел… для понимания государственных интересов и вообще для управления большим государством»[190]. Революция, по мнению Маклакова, «поскользнулась» именно потому, что под влиянием теории «Глас народа – глас Божий» «народ заставили самого быть властью, решать все вопросы, не слушать хозяина, а заставили его самого быть хозяином; на этом он провалился, потому что до этого он еще не созрел»[191].
Маклаков считал, что утвердилось упрощенное понимание слов «верить народу» и «служить народу». Вера в народ, в его будущность не означала признания его зрелым и возможности немедленного допущения ко всем ступеням управления. Из подобных рассуждений Маклаков делал вывод, что власть надо готовить и воспитывать быть властью, основной чертой которой должно быть ответственное служение.
Николай Сергеевич Тимашев
Николай Сергеевич Тимашев – всемирно известный социолог, правовед, экономист, историк и публицист. Научное творчество Тимашева как историка находилось в русле историко-правовой науки, историко-юридического направления в русской историографии. Это направление являлось синтезом методов юридической и исторической наук, в котором отразился определенный этап в развитии гуманитарного знания. Междисциплинарный подход плодотворно сказался на практике научных исследований, сочетавших как теоретические и методологические завоевания обеих наук, так и свойственные им собственно исследовательские приемы. Особенность исследовательского метода Тимашева заключалась в том, что он рассматривал правовые нормы как отражение социальных систем, а право, культуру и личность со всеми сопутствующими им признаками считал изменяющимися величинами в ходе их развития, только в своей совокупности способными раскрыть суть сложных процессов общественной жизни.
Тимашев происходил из старинного дворянского рода, давшего России целую плеяду государственных деятелей. Один из Тимашевых был министром в царствование Николая I. Дед Николая Сергеевича принимал участие в обороне Севастополя в качестве командира пехотного полка; отец являлся министром торговли и промышленности, затем статс-секретарем его величества и членом Государственного Совета.
Н. С. Тимашев окончил 1-ю классическую гимназию, затем Императорский Александровский лицей и далее Страсбургский университет. По возвращении в Россию за книгу «Условное осуждение» он был удостоен степени магистра права и приглашен читать лекции в петербургском Политехническом институте. В 1915 г. Тимашев защитил докторскую диссертацию «о подрывной деятельности с правовой точки зрения» под названием «Преступное возбуждение масс». После защиты диссертации он стал профессором экономического отделения и деканом Политехнического института, где читал лекции по теории и социологии права.
В 1921 г. Тимашев эмигрировал; работал в газете «Руль» в Германии, затем переехал в Прагу, преподавал в Карловом университете. Десять лет он прожил в Париже, читал лекции в Сорбонне и Франко-русском институте. В 30-е гг. началось его сотрудничество со всемирно известным социологом и философом П. А. Сорокиным, с которым он готовил фундаментальный труд «Динамика социального и культурного развития». В Гарвардском университете Сорокин основал Научный центр социального альтруизма и Международное общество сравнительного изучения цивилизаций. В 1936 г. по приглашению Сорокина Тимашев переехал в Америку и читал лекции по социологии права и современным социальным движениям в Гарвардском, Фордемском университетах, в других учебных заведениях США и иных стран. Его ораторское искусство и лекторский талант были общепризнанными.
Тимашев создал труды по социологии права, истории социальных систем, об авторитарных правлениях разных стран, в том числе и советского государственного устройства. По свидетельству современников, Государственный Департамент США считал Тимашева одним из главных авторитетов по истории СССР[192].
Гражданской обязанностью и нравственным долгом Тимашев считал свое участие в создании проектов новой, возрожденной России. Поэтому прогнозам постбольшевистской России он уделял пристальное внимание.
Особое значение в эмигрантской среде приобретал вопрос о роли и участии эмиграции в преобразовательных планах будущей России. Позиции эмигрантов в этом вопросе были различны. Представители монархической эмиграции строили планы вооруженного вторжения международных антикоммунистических сил на территорию России и восстановления старых дореволюционных порядков.
Либерально настроенная эмиграция была неоднородна, но общим для либерально-демократических и либерально-консервативных ее частей было отрицание иностранного вторжения для создания новой России. Споры между этими течениями общественной мысли сводились к вопросу о составе эмигрантских сил для содействия России в борьбе с советской властью. Либералы-демократы во главе с П. Н. Милюковым выступали сторонниками объединения лишь демократической эмиграции, которая своими советами и действиями способна помочь новой России, либералы-консерваторы настаивали на сплочении всей эмиграции, независимо от ее политической ориентации. Широко распространилось в эмиграции и понятие «непредрешенства», что означало отстранение эмиграции от какого-либо участия в планах построения новой России и признание невозможности предсказать ее будущее.
Единомышленники Тимашева, в частности, П. Б. Струве и В. А. Маклаков, предостерегали от иллюзий, что эмиграция сможет изменить российскую действительность. Эмиграция должна лишь помогать и способствовать возрождению новой России. Тимашев внес свои коррективы в толкование этой проблемы. Он написал специальную статью под названием «О подлинном смысле непредрешенства», в которой разъяснял смысл своей позиции. Подлинное понятие непредрешенства означает лишь констатирование факта о невозможности предугадать характер государственного строя постбольшевистской России. Это установит сама нация. Ложным истолкованием непредрешенства Тимашеву представлялся отказ эмиграции от всякой политической программы, изоляция от решения этого вопроса. В России, считал он, имеется большой «взрывчатый материал», «огромная восприимчивость», множество «разорванных идей», и не всегда возможна «увязка мыслей» и их «обработка». Чтобы «назрел переворот», необходимы исходящие от эмиграции вдохновение и побуждающие к нему лозунги.
Эмиграция с ее интеллектуальным потенциалом в большей мере может быть подготовлена к этой деятельности. Наличие нескольких программ переустройства России в эмиграции усилит «фермент брожения» и приблизит наступление переворота в России. Устранение эмиграции от решения этого вопроса Тимашев признавал большой ошибкой, подобной бездействию интеллигенции накануне захвата власти большевиками. Он призывал придерживаться старого правила военного теоретика Германии Х.-К. Мольтке: «Отдельными отрядами наступать, биться вместе»[193].
Будущее политическое устройство России Тимашев связывал с установлением демократии. Но это не означает, что демократия установится немедленно после падения советской власти. Это сложный и длительный процесс. Понятие демократии, по Тимашеву, предполагает сочетание трех принципов: свободы, равенства и народоправства. В многочисленных статьях, посвященных демократии, отмечались ее преимущества и потребности в новых исторических условиях. Демократия как одна из форм властной организации общества неразрывно связана с признанием «самоценности личности». Роли личности при установлении «истинной» демократии Тимашев придавал огромное значение, полагая, что, по мере ее развития, личность возвысится над властью. К числу свобод при демократии – свобода совести, слова, печати, союзов, собраний – добавлялась и свобода хозяйственной деятельности. Ее можно противопоставить и государственному вмешательству, и засилью капитала и частных монополий. Необходимым Тимашев считал не только предоставление разных свобод, но и осуществление идеи «равных возможностей»: равенство перед законом, общедоступность социального роста, возможность имущественного восхождения, равного участия в политической жизни.
Важно заметить, что Тимашев не отождествляет народовластие и народоправство. Демократия, с его точки зрения, является только народовластием. Достижением демократии Тимашев признавал ее пластичность, недопущение конфликтов между властью и обществом, способность к компромиссам, мирное сотрудничество в противовес классовому подходу и диктату коммунистической партии в Советской России. Вместе с тем, Тимашев предостерегал от идеализации демократии, считая ее лишь определенным этапом в поступательном развитии государственного устройства.
Отношение Тимашева к демократии западных стран и России было различным. Он признавал традиционность установления демократии на Западе, но не соглашался с бытующим мнением, что современные демократические государства испытывают кризис, полагая, что имеет место не кризис принципов демократии, а кризис лишь ее отдельных форм. Российское развитие, несмотря на отсталые в целом формы политического правления, зажим свободы и засилье деспотизма, имеет в своей истории демократическую традицию в экономической, социальной и культурной областях. Большую роль в становлении демократии Тимашев видел в развитии капиталистической формы хозяйства – в расширении знаний, образования социальной сферы, в создании условий для формирования свободной личности. Он не соглашался с мнением Н. А. Бердяева, Н. И. Новгородцева, скептически относившихся к возможности утверждения демократии в России. Тимашев полагал, что в России еще не существовало «настоящего демократического опыта» даже в период Временного правительства, провозгласившего демократию, поскольку это правительство не обладало сильной властью.
Не с религиозным ужасом, по примеру Бердяева, отвечал Тимашев своим оппонентам, следует смотреть на демократическое будущее России, а с мыслью ответственности за то, чтобы народом были избраны наиболее достойные его люди. Установление демократии в России, однако, будет сложным и трудным процессом, не исключающим «приступов деспотии»[194]. Тимашев трезво и проницательно судил о возможных перспективах демократического устройства будущей России, признавал необходимым учитывать традиции, а также результаты революционных потрясений. «Начать все сначала, как будто великих потрясений не было – эта мысль антиисторична, как уверенность в том, что все революцией сделанное – безвозвратно»[195].
Тимашев призывал эмиграцию диалектически подходить к наследию российского прошлого. Перемены под влиянием революционных преобразований во многих сферах, в частности, в области сознания, представлялись необратимыми. «Трудно говорить об этом, – полагал Тимашев, – но индивидуальные чувства не делают истории». Ликвидацию помещичьего землевладения он рассматривал как закономерность «дела революции», как отражение исторической тенденции. Поэтому сожаления о помещичьем хозяйстве с точки зрения экономической, культурной и эстетической он считал естественными, но бесплодными.
Вместе с тем, антиисторичным насаждением он считал коллективные формы землепользования, являвшиеся следствием революции. Объективной тенденцией развития крестьянского права на землю он признавал его превращение в общегражданское, свободное право собственности. В этом, утверждал Тимашев, послереволюционная эпоха пойдет не за революцией, а за старым режимом[196].
Будущая Россия должна стать цивилизованным, демократическим правовым, подчиненным законам и экономически и культурно развитым государством, в котором воплощены принципы политического и экономического либерализма. Основы будущего государственного устройства России Тимашев видел в утверждении свободы личности, правопорядка, частнохозяйственной свободы и соблюдения «непреложных религиозных начал», определяющих развитие государства и личности.
Учитывая особенности российского развития, определяющую роль государства, Тимашев, естественно, задумывался о его роли в будущем России. Специально занимаясь этой проблемой, он ввел понятие «сложного государства», которое в истории выступало в трех формах: «унитарного государства с автономными провинциями», «союзного государства» и «союза государств». Форму «союза государств» он считал неприемлемой для России, так как подобные государства – Германский союз 1815–1848 гг., Швеция до 1848 г. и США до 1789 г. – распались или видоизменились в своем развитии. Прогноз российского постбольшевистского развития зависит от направления «процесса институционализации»: от центра к периферии – ведет к возникновению унитарного государства, от периферии к центру – союзного[197].
Единицу территориального объединения Тимашев предлагал выделять по этнографическому принципу, а также образовать территории с равной численностью населения на основе традиций исторического и экономического развития. Это, по мысли Тимашева, обеспечит пропорциональность национального представительства в общегосударственных учреждениях. Большое значение Тимашев отводил фактору культурного развития, полагая, что чем он выше, тем размер области может быть меньше, так как культурная область может успешнее реализовать свои потребности.
Вопрос о разграничении полномочий между государством и местными органами Тимашев считал чрезвычайно важным, характеризующим тип государственного правления. Невмешательство государства в развитие экономического и национального строительства он считал утопичным и неправильным, но полагал, что государство должно отказаться от «давящего влияния» на жизнь страны, особенно после «безмерного властного начала» в большевистский период, и по возможности ограничить свои функции. К компетенции государства должны относиться вопросы обороны страны, международных отношений, регулирование отношений между национальными районами, распоряжение гражданскими правами, свободным земельным фондом, денежной системой, комплексом путей сообщений[198].
Как ученый – юрист и правовед – одно из центральных мест Тимашев отводил проблеме судоустройства. Судебное управление он относил к компетенции областей, государство же должно осуществлять контроль за соблюдением законов.
Многие страницы своих трудов Тимашев посвятил роли государства в области экономического развития. Прежде всего он считал необходимым восстановление капиталистического строя, частной собственности на землю, право не только владеть, но и арендовать ее, раскрепощение промышленности и торговли, организацию регулируемого рынка. Он ввел в научный оборот термин «плановое хозяйство», подчеркивая при этом, что не существует препятствий для сочетания демократического устройства и плановой системы. Его статьи «Плановое хозяйство и демократия», «О том, что после большевиков останется», «Что ждут от будущей власти» и др. содержат многие программные положения нового устройства России.
Изучив опыт участия западноевропейских государств в экономическом развитии разных стран, он писал о разных типах планового хозяйства: внедрение планового элемента в частные предприятия, что характерно было для Германии и Италии военного времени, учреждение государственного капитализма, что имело место в дореволюционной России, и создание предприятий со смешанной формой собственности при правовом регулировании государства (скандинавские страны). Разумеется, непременным условием экономического прогресса Тимашев и его сторонники признавали хозяйственную свободу, которая может быть гарантирована только государством.
Осуществление предложенного варианта экономического развития возможно при наличии ряда условий: многоукладной экономики, т. е. существования различных форм собственности – государственной в области тяжелой и частной – в легкой промышленности и торговле (при этом планирование должно касаться лишь крупных предприятий), а также профессионализма и независимости планирующих органов. Преимущество планового хозяйства Тимашев видел в возможности применения принципа народоправства в хозяйственной системе, поскольку каждый торговец мог принять участие в работе плановых органов, что способствовало бы повышению активности населения и демократизации организации производства[199].
Тимашев плодотворно изучал и национальную проблему. Новая Россия, по его мысли, должна строиться на базе национальной культуры и сохранения государственного единства, ей «придется укрепить и развить мишурные автономии и поднять некоторые из них до ранга политических». Старую Россию Тимашев рассматривал как унитарное государство с тенденцией к централизму, как «наковальню русификации», не признавая одновременно правдоподобными «басни» самостийников об ужасах царского угнетения, оговаривая, что и в современных демократиях этот «порок» имеет место. Современную эпоху Тимашев характеризовал как время мирового хозяйства и национального возрождения, пробуждения национальностей и их стремления к утверждению собственной самостоятельности. «В будущем России, если она найдет свой путь, не будет не только угнетенных провинций, но и провинций, почитающих себя угнетенными. Все ее составляющие части будут таковыми не по принуждению, а потому, что в союзном целом они легче всего осуществят свой собственный интерес».
Будущее национальное устройство должно освободиться от несовершенств национального строительства в дореволюционной и Советской России. Если до революции решение национального вопроса упиралось в ее отсталость, безграмотность населения, нерадивое управление, то в советское время федеративное устройство определялось диктатом коммунистической партии, пренебрегающей национальными интересами. Необходимо обеспечить свободное развитие нации, национальных традиций, предоставить ей гражданские права, а также освободить церковь от религиозных гонений[200].
В 1947 г. Тимашев полемизировал с Федотовым, который пессимистически относился к будущей российской империи или к многонациональному государству, предрекая их распад. Тимашев верил в живучесть «самодовлеющего экономического целого» России, дающего мощность ее экономическим процессам, в демократическую федерацию и возможность образования новых союзов – таможенных и денежно-кредитных[201].
Проблемам религии, особенно применительно к Советской России, Тимашев всегда уделял пристальное внимание. Во время Отечественной войны, в 1943 г., он опубликовал статью «Война и религия в Советской России», в которой обрисовал политику большевистской власти по отношению к церкви: этапы жестоких гонений и некоторых смягчений режима. В будущем политику советского государства по отношению к религии он считал зависимой от внешнеполитического фактора – сближения России с ее демократическими союзниками. Но главный вывод Тимашева, следующий из анализа этой темы, состоял в том, что религиозное сознание в России живо, несмотря на деспотическое отношение большевиков к религии; он сохранял веру в то, что со временем отношение к религии, этому «вековому устою России», должно измениться[202].
Прогностическое значение имеет, как представляется, статья Тимашева 1952 г. под названием «Окаменение коммунистического строя»[203]. В качестве определяющего критерия жизнеспособности общественного строя Тимашев признавал принцип динамичности. Если в первые годы советской власти он отмечал большую динамичность коммунистической системы, которая проявлялась в экономике, в социальной, правовой, культурной сферах, то в 50-е гг. фиксировал «затихание динамизма», иначе – застой. Особенностью застойного государства Тимашев считал отгороженность от внешнего мира, установление железного занавеса, «спущенного для того, чтобы проникновение подлинных и наглядных знаний о жизни иной, нежели коммунистическая, не послужило ферментом для быстрого развития несоответствия между условиями коммунистического бытия и некоммунистическим сознанием, которое в таком случае могло бы получить господство».
Тимашева интересовало, по его словам, «значение застоя в коммунистической системе с точки зрения шансов революции, имеющей смести коммунизм»[204]. Но предпосылок для подобной революции он не видел. Однако революционное значение, по Тимашеву, может иметь и эволюционный процесс. Революционная смена власти может произойти из-за отсутствия механизма передачи власти в случае окончания единоличного правления (что характерно для СССР), при столкновении коммунистической системы с внешним миром в связи «с переизбыточным динамизмом этой системы во внешней политике» и, наконец, при постепенном накоплении неблагоприятных и противоречивых результатов коммунистической системы. И заключает свои рассуждения Тимашев следующим выводом: «Коммунистическая система сложилась для проведения основных заданий социализма-коммунизма в ленинском истолковании», но за 35 лет своего существования она стала системой, служившей укреплению власти тех, кто захватил эту власть во имя марксизма-ленинизма, и их преемников. Она стала системой, подобной теократии, управляемой жрецами, не верящими больше в своих богов. Такие теократии всегда падали. Падет и коммунистическая лжетеократия[205].
Либеральные демократы
Борис Александрович Бахметев
Имя Бахметева, посла российского государства в США, сторонника русско-американского сотрудничества и инициатора многочисленных совместных предприятий в области экономики, крупного общественно-политического деятеля, ученого и профессора Политехнического института в Петербурге, мало известно в отечественной историографии.
О нем упоминалось главным образом в трудах по истории международных отношений, в частности, Р. Ш. Ганелина[206]. Справедливо утверждать, что для русского читателя объемное представление об этой замечательной личности стало возможным с публикацией переписки Б. А. Бахметева и В. А. Маклакова в документальном издании «Совершенно лично и доверительно!», осуществленном О. В. Будницким. Он мобилизовал американские архивы, исследовательскую и мемуарную литературу, вышедшую из-под пера американцев, написал обстоятельную вводную статью и тем самым воссоздал многоплановый образ Бахметева.
Приводимые материалы, отмечено в издании, свидетельствуют, что Бахметев являлся дипломатом нового типа, который понимал особенности американской культуры и вполне соответствовал менталитету американской деловитости. С ним считались правительственные деятели и деловые круги Америки. Как русский демократ и патриот Бахметев стремился обратить общественное мнение Америки в защиту целостности России и создания благоприятной международной атмосферы для борьбы с большевизмом и возрождения своей страны.
Бахметев родился 1 мая 1880 г. в Тифлисе, где с золотой медалью окончил гимназию, поступил в Институт путей сообщения в Петербурге. «…В атмосфере университета, проникнутого политическими ожиданиями и размышлениями, – вспоминал он позднее, – быстро становились революционерами по духу, а иногда и по делам… Гуманистический элемент был очень силен, и я не могу себе представить, что в то время кто-нибудь в возрасте 20 или 23 лет не был «своего рода» социалистом»[207]. Участие Бахметева в студенческом движении сопровождалось становлением его социал-демократических взглядов в духе «умеренной европейской социал-демократии», демократических по своей сущности и защищающих политическую свободу, конституционное правление и всеобщее избирательное право.
После окончания института Бахметев был отправлен за границу для подготовки к преподавательской деятельности в Политехническом институте, основанном С. Ю. Витте. В Швейцарии и Америке Бахметев изучал гидравлику и гидротехнику. В это время он сочетал повышение своих профессиональных знаний с пропагандой социал-демократических взглядов среди русских эмигрантов в США.
По возвращении в Россию он сосредоточил усилия на работе в Политехническом институте и в Институте путей сообщения: преподавал гидравлику, гидроэнергетику, теоретическую и прикладную механику; стал экстраординарным профессором (1913) кафедры гидравлики Политехнического института; принимал участие в ряде проектов по строительству гидроэлектростанций в России, ирригации в Средней Азии. Большая отдача профессиональным интересам значительно приглушила интерес Бахметева к политической деятельности; причастность к меньшевикам (Бахметев был избран на IV съезде РСДРП в состав ЦК партии от меньшевиков), затем к кадетам утрачивала для него интерес; в эти годы он отошел от политики. Во время Первой мировой войны Бахметев работал в Красном кресте помощником директора, а затем директором хирургического госпиталя, под который было приспособлено общежитие Политехнического института; а также в Военно-промышленном комитете. Председатель Центрального военно-промышленного комитета А. И. Гучков по согласованию с председателем Государственной думы М. В. Родзянко в 1915 г. направил Бахметева, блестяще владевшего английским языком и имевшего связи с американским деловым миром, в США для регулирования вопроса о военных поставках. В следующем году Бахметев был командирован на Кавказский фронт с целью ознакомления с условиями жизни и снабжением армии. В марте 1917 г. Бахметева назначали товарищем министра промышленности и торговли Временного правительства А. И. Коновалова, а в апреле того же года он стал послом в Вашингтоне с одновременным исполнением должности главы Чрезвычайной миссии в США для урегулирования вопросов финансирования и снабжения.
Бахметев занимал активную позицию по защите интересов России в США. После признания в 1933 г. СССР США он отходит от политики и принимает американское гражданство. Теперь он сосредоточился на работе в Колумбийском университете: способствовал открытию в нем инженерного факультета, основал Инженерфонд в поддержку исследований в этой области. Огромной признана заслуга Бахметева в создании гуманитарного фонда, оказывающего материальную поддержку деятелям культуры русской эмиграции, в частности, Г. В. Вернадскому, Н. О. Лосскому, С. П. Мельгунову, Г. П. Федотову, И. А. Бунину и др. Деньгами, полученными от предпринимательской деятельности, Бахметев финансировал «Новый журнал», Русский детский дом и гимназию в Париже, Архив русской и восточно-европейской истории и культуры Колумбийского университета (Бахметевский архив).
Умер Бахметев в 1951 г.
Письма Бахметева Маклакову являются интересным источником, существенным для понимания вклада Бахметева в арсенал эмигрантской антибольшевистской борьбы и выработку мер по строительству постбольшевистской России.
Бахметев четко осознавал задачи эмиграции и своего собственного участия в «русском вопросе». «…Отчетливая, ясная политика, основанная на далеком предвидении и, может быть, смелых, но верных догадках» представлялась Бахметеву «абсолютно необходимой». В этой связи он проявлял особый интерес к науке – истории, смысл которой он видел в том, чтобы «искать поучения в широких исторических линиях»[208]. Однако имеющаяся в распоряжении Бахметева литература по истории его не удовлетворяла. «Нам надо, чтобы кто-нибудь написал историю России не с точки зрения полководцев и правителей», а с позиций объяснений различных сторон исторического процесса. Например, раскрыть, чем определяется способность русского племени к пионерству, колонизации, государственному общежитию, «показать, как теснимое и гонимое, окруженное со всех сторон более сильными и организованными соседями племя сие на протяжении веков истории сумело отстоять религию, язык и культуру; сумело достичь естественных границ и в начале XIX столетия осесть в величайшее континентальное государство», раскрыть, почему мы отстали от Европы в XIX столетии и пришли в состояние развала и слабости; получить «ясное и толковое представление» о нашей иностранной политике, понять причины перемен в умственных и нравственных понятиях народа и т. д.[209] Эти суждения Бахметева, к которым, разумеется, надо относиться с чувством историзма, – свидетельство глубоко научного подхода к решению «русского вопроса».
«Нам надо, – писал он Маклакову, – осмысливать будущее, находить удовлетворение хотя бы в подготовке теоретического фундамента для правильного подхода к практическим вопросам, которые во весь рост встанут перед будущей Россией. Тут форма правления вообще, и государственный строй с точки зрения соотношения центральной и местной власти; в первую голову – выборная система и структура представительных учреждений снизу доверху; конечно, экономика вообще; соотношение государственной и частной экономики, как одна из главных и самых жгучих тем»[210]. Разумеется, этот перечень проблем не замыкал их круг; кроме того, не все из перечисленных получили дальнейшее развитие. Но очевидно, что это свидетельство вдумчивого отношения к теме будущего России.
Большевизм Бахметев рассматривал как «глубоко национальное явление», порожденное «ядом русской государственности последних двух веков» и влиянием социализма. На пути глубокой социальной трансформации, по Бахметеву, эта «эпидемия» имела временный и преходящий характер[211]. Большевистскую систему правления он не считал коммунистической, так как государство попечительствовало только пролетариату, без внимания к другим классам, а рабство и диктатура господствовали во всех сферах жизни; советская власть обрекала Россию на медленное угасание и экономический и политический паралич[212].
Бахметев солидаризировался с Маклаковым в том, что одним из главных являлся вопрос о возможной трансформации большевизма.
Он предостерегал Маклакова от иллюзии о перерождении последнего. «Вы согласитесь со мной, – писал он, – что в большевистской программе и тактике есть элементы, от которых большевистская организация не может отречься, не уничтожив самой себя. Нельзя строить государства в современных условиях, не признав принципов частной собственности и гражданского равноправия. А через эти два препятствия большевики не могут перейти и никогда не перейдут». К этим непреодолимым препятствиям Бахметев относил и установление народовластия и экономические свободы[213]. Он «упорно» стоял на точке зрения, что большевизм неспособен к перерождению и «никакого растения и цветка из этого гнилого грибка не вырастить». Однако отрицание эволюции большевизма сопровождалось у Бахметева, так же, как и у Маклакова, признанием эволюционных процессов в жизни. Это означало, по мысли Бахметева, что эволюция жизни вытеснит большевизм, стоящий на пути государственных преобразований, которые повелительно диктуются всем ходом жизни. При этом Бахметев считал необходимым осознавать «тонкие различия» между эволюцией жизни и эволюцией большевиков[214].
В письме от 19 января 1920 г. Бахметев предлагал Маклакову создать «программу разрешения русского вопроса», и сделать ее платформой национально-демократического возрождения России. Эта программа должна быть построена на идее народоправства, принципе собственности, не содержать никаких уступок большевизму и включать путь установления законной власти, линии разрешения аграрного вопроса, рамки национализации и денационализации; в решении национальной проблемы следует исходить из идеи единства России при учете интересов местных особенностей. Эта программа не была создана, но она намечала пути перестройки России по Бахметеву[215].
Бахметев солидаризировался с Маклаковым и в том, что будущая Россия должна быть крестьянско-купеческой. Поэтому развитие и укрепление «нашей Родины», писал он Маклакову, должно быть связано с развитием и укреплением, с одной стороны, крестьянского землевладения, а с другой стороны, – промышленности и торговли на «самых ярких капиталистических началах»; без города и индустрии нет ткани, из которой вырастает и национальное сознание, и потенциальная способность к великодержавию. Для этого Бахметев считал необходимым забыть об интересах помещика и о реставрации, утвердить право собственности крестьян, а для развития промышленности и торговли – отказаться от какого бы то ни было вмешательства государства в частно-экономические отношения. «Если Вы придумаете такую программу и сумеете провести в практику жизни такие начала, при которых купец и крестьянин будут с Вами, – развивал он эти мысли, – Вы легко победите большевизм и положите начало настоящему восстановлению России»[216]. Будущее России Бахметев связывал с развитием капитализма и считал, что первые поколения постбольшевистского времени столкнутся с «диким», «безудержным капитализмом», который лишь со временем приобретет цивилизованные формы.
Размышляя о будущем России, Бахметев проявлял определенную способность к теоретическому осмыслению сложившейся ситуации и участвующих в ней политических сил. Он пристально следил за партийно-политическими документами советской власти и анализировал их. Так, он фиксировал выступление В. И. Ленина на X съезде РКП(б) (1921), в котором рабоче-крестьянский союз противопоставлялся власти помещиков и капиталистов. Это утверждение Бахметев признавал не только «тактическим приемом» вождя революции, но и «исторической правдой», которую он объяснял тем, что русская буржуазия в прошлом не была самостоятельной и солидаризировалась с помещичье-бюрократическим государством, в эпоху же военных движений представители промышленности и торговли объективно поддерживали реставрационные настроения.
В изменении соотношения социальных сил и, соответственно, в их идеологической переориентации в борьбе с большевизмом Бахметев видел «ключ вопроса». «Необходимо разделить, – считал он, – разделить резко и бесповоротно помещиков от буржуев по существу». Интересы буржуазии не только не противоречат интересам крестьян; «торгово-промышленной буржуазии необходимо поставить себе активную задачу, – писал он Маклакову, – разорвать окончательно возможность всякого союза крестьян с рабочими и, наоборот, активно спаять буржуазию с крестьянством».
Создание буржуазно-демократической России, естественно, ставило вопрос об особой роли буржуазии. В проходившем в мае 1921 г.
Торгово-промышленном съезде Бахметев уловил «новые самостоятельные ноты», выявившие буржуазию как силу с самостоятельным классовым сознанием. Буржуи при этом, считал он, должны раствориться в демократии и стать такими же составными частями народа, какими они являются в Америке, в английских колониях. Символичным Бахметеву представлялось выступление на этом съезде крупного фабриканта, финансиста и политического деятеля П. П. Рябушинского, который предвидел «колоссальную обязанность» торгово-промышленного класса в возрождении России. В речи Рябушинского, порвавшего, по словам Бахметева, со старорежимностью, Бахметев увидел «понимание истины» – необходимость соединения также двух сродных и дополняющих друг друга элементов будущей русской государственности: крестьянства и купечества[217].
Большое внимание Бахметев уделял идеологическим и психологическим проблемам, видя в них предпосылки создания новой России. Под идеологией он разумел не создание партийных программ или политических платформ. «Это нечто органическое, что выявляет еще слагающееся национальное сознание и вожделение». Во главу угла антибольшевистской идеологии Бахметев, впрочем, так же, как Маклаков, считал необходимым поставить идеологию собственника как «знамение эпохи».
Собственность для Бахметева означала одно из звеньев индивидуалистического мировоззрения, которое должно установиться в новой идеологии. В идеологии будущего, полагал он, должно быть сочетание экономического собственнического фундамента с соответствующей политической крышей. Эти стороны должны быть тесно переплетены, поскольку экономика, основанная на собственности, не может развиваться без свободы, построенной на индивидуализме, т. е. на свободе занятия всякой деятельностью. Экономическому индивидуализму должен соответствовать режим, «в котором, как принцип, человек свободен делать все, кроме того, что специально запрещено законом или нормами морального поведения»[218]. Характерно, что мораль как «совокупность привычек самоограничения, которые накапливаются традициями, обычаями, внутренними ощущениями» Бахметев признавал одной из самых существенных сторон новой идеологии. В пылу революции, отмечал он, моральные начала сметаются, но невозможно, говоря об идеологии возрождения и пафосе, который необходим в созидании, не иметь здорового нравственного ощущения долга, обязанностей, честности, чувства семьи[219].
Эта новая идеология, по Бахметеву, признает народ собственником, который будет полон инициативы, иметь равные возможности к продвижению, а власть станет слугой народа. Власть должна защищать собственников, ограждать их от притеснений экономических преград и ограничений. Подобная атмосфера, по мнению Бахметева, будет способствовать объединению России, которое необходимо совмещать с уважением к местным автономиям, языкам, культурам и всему, что мешает хозяйственным взаимоотношениям. Идеология будущей страны, добавлял к этому Бахметев, неизбежно переплетается с выработкой миросозерцания в международных вопросах, так как этим можно достичь благоприятного для возрождения России международного окружения. Эту проблему Бахметев считал чрезвычайно важной практической задачей, к решению которой могла бы быть причастна и эмиграция[220].
Как и многие современники, в частности, П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, Бахметев придавал большое значение психологии как фактору, предопределяющему восприятие исторических событий. «В период исторических потрясений, которые принято называть революциями, – писал он, – сущность и мера сдвига и продвижения вперед определяется не внешними событиями, как бы ни были они красочны, жестоки или умилительны, а именно этой переменой в умственных и нравственных понятиях населения».
Он осознавал, что раньше, чем исторические факты станут реальностью, они должны существовать в понимании и в воле будущих носителей новой психологии. Это сложный временнóй процесс. При этом Бахметев подчеркивал, что «многое можно извлечь из прошлого, чтобы дать психологическую основу для будущего» и, в частности, надо объяснить сложные проблемы исторического процесса, например, почему Россия отстала в своем развитии и в конечном счете пришла к состоянию развала[221]. Создание новой России, по Бахметеву, настоятельно требовало и возникновения новой психологии. Традиционно в России господствовала психология опеки над народом – принципа, чуждого частнособственнической идеологии. Так, например, революционное народничество рассматривало народ как объект, которым должны руководить просвещенные идеалисты. Эта психология, отмечал Бахметев, «в уродливой форме лежит в основе большевизма». К этому типу психологии Бахметев относил называемую им шутливо «варяжской» теорию В. В. Шульгина, П. Б. Струве, В. Д. Набокова и многих других эмигрантов, сгруппировавшихся вокруг различных эмигрантских объединений (Русский совет, созданный в Константинополе и игравший роль «правительства в изгнании», Парижский национальный комитет). Сущность этой варяжской психологии Бахметев видел в отрицании созидательных возможностей русского народа и в «глубоком недоверии» к творческим силам русской нации[222]. «В созидательном зодчестве, – утверждал Бахметев, – желание и способность работать должно быть одним из главных психологических отличий… Психология новой России должна быть утвердительная, в ней должно быть мало скепсиса и отрицания, должна быть уверенность в себе, вера в результаты и позыв положительного созидания»[223].
Бахметев являлся сторонником внутреннего, органического и постепенного развития исторического процесса. По его убеждению, в России изнутри должно вызреть сознание того, что избавление от большевизма неизбежно. Размышляя о роли крестьянских восстаний как факторе, способном уничтожить советскую власть, и отвечая на суждения об этом Маклакова, Бахметев признавал действенным лишь общее народное движение всего населения, «органически направленное против большевиков и их вытесняющее».
Он видел в России два полюса – большевистско-правительственный и народный. Отличие России в этом вопросе от других стран состоит в том, что между этими полюсами не существует притяжения, взаимодействия и сотрудничества и имеются лишь отталкивания. В данной российской ситуации, когда правительственная полюсность только «вымогает и преследует» народ, считает Бахметев, складываются две России: «одна – пока еще внешне сохраняющая подобие централизованного государства, и другая – внутренняя, со своей организацией, психологией, пониманием и волей, – Россия… организующая сильные политические и социальные атомы, из которых в будущем путем интеграции и родится обновленная Родина. Народная полюсность постепенно вытесняет большевистскую полюсность, вытесняет целиком, без остатка»[224].
Кронштадтские события (и само восстание, и его подавление) представлялись Бахметеву событиями огромными по своей сущности и значению, оказавшими сильное психологическое влияние на борьбу с большевизмом и означающим, что взрыва против советской власти следует ожидать изнутри России. «Я считаю, – писал Бахметев, – что моральный отголосок, который события нашли в сердцах мира, уже превосходит по своей силе и интенсивности все, что было достигнуто… успехами организованных военных действий»[225].
Постоянные споры о форме будущего правления России между эмигрантами, с пафосом отстаивавшими необходимость установления монархии или республики, Бахметев признавал ненужными, бесполезными и называл их «глубочайшей метафизикой». Он призывал Маклакова и эмигрантов, рассуждающих на эту тему, «не мучиться над альтернативой выбора догматических понятий» и осознать их бесполезность. «Надо исходить не из прошлого, – писал он, – а из фактов жизни… Есть отличные монархии и плохие республики и наоборот. Суть не в формах, извлеченных из книг о конституционном праве, как будто вообще существуют хорошие или плохие конституции, а в реальном соотношении вещей, в навыках, психике, психологии и красках быта, быта семейного, индивидуального, экономического, государственного и пр.»[226]
Бахметев считал, что Россия развивается по типу европейских закономерностей с неизменным сохранением самобытных особенностей. Его концепция будущего России содержала глубокую мысль об органической связи различных периодов исторического развития страны. Преемственность форм жизни он считал «одним из самых серьезных и сильных исторических и социальных факторов». Это, по его словам, вытекало из взглядов на основную роль, которую во всяком государстве играют «склад жизни, мысли и чувства» широких масс населения[227].
Традиции российского развития Бахметев признавал почвой, на которой должна быть построена новая Россия. «Будущая Россия, – писал он, – должна унаследовать достояние прошлого, и в этом достоянии государственное единство и целокупность являются наиболее ценным сокровищем. Наш долг хранить эти сокровища для будущей России». «Я был и остаюсь приверженцем великодержавия, – писал Бахметев, – я верю в будущую Россию великую, счастливую и богатую; я верю в нацию, в ее талантливость, ее гений, в ее необыкновенную способность к имперскому строительству, соединенную с огромным умением управлять своими делами». При этом он подчеркивал, что отрицание расчленения России нисколько не противоречит сочувствию стремлениям народностей, осознающих в большевизме своего угнетателя, к устроению своей жизни на началах национальной самобытности[228]. Путь возрождения России, по мнению Бахметева, пройдет через первоначальное отпадение национальных территорий, за которым, прежде всего по экономическим соображениям, последует воссоединение единого федеративного российского государства.
Чтобы не вводить в заблуждение иностранцев, у которых большевики, также выступавшие сторонниками целостной и единой России, могли создать впечатление защитников оскорбленных национальностей, Бахметев предлагал создать за границей центр, который бы разъяснил различия во взглядах на национальный вопрос большевиков и сторонников новой постбольшевистской России.
Россия должна продолжить конституционно-эволюционные процессы, начатые, по представлению Бахметева, в 1905 г. – изжитие помещичье-крепостнического и установление буржуазного строя с той или иной формой парламентаризма. Под словом «конституционный» Бахметев понимал не только политическую форму представительного строя, но (следуя, по его словам, английскому толкованию этого термина) наиболее широкий смысл – органический эволюционный процесс, в котором клетки крепостнического строя России постепенно сменялись элементами, свойственными современным западноевропейским государствам. И хотя старый дореволюционный режим, по убеждению Бахметева, имел многие недостатки, которые ярко выразились в распутинский период, а в «минуту тягчайших исторических испытаний – Первой мировой войны» во главе страны не было сильной личности, которой мог бы быть любой из предшествовавших Николаю II императоров, тем не менее, российский национальный организм был еще достаточно связным, чтобы функционировать, а запас духовных сил – достаточным, чтобы предотвратить революцию[229]. В этом конституционном развитии, по Бахметеву, постепенно исчезали крепостнические пережитки в области крестьянского землевладения, разрушались сословные перегородки, развивались промышленность и экономический индивидуализм, крепли земства и муниципалитеты, парламентаризм в Думе, нарождался новый быт. Европеизация проявлялась в промышленных начинаниях, в деловой практике, в молодом поколении ученых и практических деятелей, в электрификации, постройке железных дорог и т. д.
«Пороховой погреб психологического наследия был бы изжит в последующих поколениях». Россия, по мнению Бахметева, несмотря на анархию и смятение в стране, при создании властью противовеса, могла бы избежать революций в последние 10 лет.
К числу традиций, необходимых для новой постбольшевистской России, Бахметев добавлял «бытовую непрерывность». «…Живой быт населения, развивающиеся потребности, клокотание национальной жизни, стремящейся вверх и вширь», полагал Бахметев, «мало общего имели с государственной верхушкой» и не имели органической связи с толщей национальной жизни. Необходимость бытовой непрерывности Бахметев связывал с особенностями русской нации, ее талантливостью, духовным величием и способностью к созиданию. Именно этими свойствами он объяснял «крупные и прочные национальные завоевания» России – колонизацию Сибири, южных степей, победу над Наполеоном в 1812 г., экономическое строительство, которое создавалось освободившимися крепостными или вольными людьми. «Мы мало изучали и мало любили эту сторону народной жизни. Читая Лескова и Мельникова-Печерского, – писал Бахметев, – Вы поражаетесь богатству народного духовного наследия»[230].
Значительное внимание, что вполне закономерно, Бахметев уделял рассмотрению вопроса о характере будущей власти. При этом он считал неизбежным осуществление таких «переломов в организации и структуре власти, которые символизировали бы конец большевистского господствования и начало новой эры»[231]. Он придерживался представлений о вызревании нового облика власти внутри большевизма, так называемой концепции «яйца», в рамках которой под большевистской скорлупой создается новый быт, новые понятия и психология, вырастают люди, а когда падет разломанная скорлупа, на сцену выступит новая Россия. Эта общая платформа, созданная в недрах большевистского подполья, требовала одновременно и новых подходов к созиданию новой власти.
Новая власть должна руководствоваться принципом не управлять народом, а служить ему; помочь осуществить и наладить государственный аппарат, который необходим населению для его экономических нужд и для удовлетворения его национального духа, усовершенствовать систему выборов, подумать об использовании многостепенных выборов, при которых невелик шанс для демагогии, политики и краснобайства. Эта «психология готовности служить народу должна предшествовать возможности смены большевизма»[232].
Бахметев считал необходимым создание «нового» типа отношений индивидуума и государства. По верному замечанию Бахметева, Россия в прошлом была «самая этатическая страна из всех этатических государств». Работа на государственной службе была преобладающей. Большевизм значительно усилил этатический элемент, сохраняя психологию и навыки дореволюционного этатизма. Этатические настроения Бахметев видел и в эмигрантской среде. Однако, это не означало отрицания этатизма. Бахметев признавал существование «разумного этатизма», т. е. наименьшего вмешательства в жизнь личности. В качестве эталона властной системы Бахметев ссылался на Америку, где между центральной и местной властью было создано равновесие.
В России, разрушенной экономически и государственно, полагал он, из центра, не имеющего ни средств, ни моральных возможностей, новой страны не построить. Россия должна строиться снизу, в процессе совершенствования бытовых потребностей, на выросших из быта новых и крепких моральных основаниях. К тому же новый быт должен создавать наибольшие возможности для свободы творчества и условия, где материальные и культурные достижения могут совершаться с наибольшей легкостью и полнотой. «Каждый день, – писал Бахметев, – укрепляется во мне уверенность, что следующая эпоха русской истории будет периодом систематического ослабления центральной власти и невольной замены ее в области созидания индивидуальной и групповой вольной инициативой. Стихия индивидуализма, в основе которой лежит идея собственности, свободы экономического творчества и непосягаемости на личную жизнь есть стихия, которая должна сменить оргию коммунистического огосударствления».
В будущем России предстоит пройти период затмения центральной власти и пережить эпоху господства местного строительства и индивидуального творчества: «Местные люди всегда ближе к реальной жизни». Местная власть должна заниматься аграрным вопросом: заменить понятие «постоянное землепользование» словом «владение», определить его формы, возможности продажи, дарения, аренды земли и т. д.; решать насущные вопросы национального строительства образования, размышлять о школе, что Бахметев считал «гораздо полезнее», чем создавать республиканские и монархические партии.
Бахметев предусматривал создание государственного совета из представителей областных и национальных учреждений, который будет заниматься денационализацией и одновременно олицетворять государственное единство. При этом Бахметев отмечал, что в своем утверждении он исходит не из предпочтений и склонностей, а из объективного понимания реальной действительности»[233].
Что касается постбольшевистских правительств, то Бахметев считал, что в течение нескольких лет после падения большевиков в России будут «весьма плохие правительства», с которыми при его привычках и принципах работать будет очень трудно; власть будет играть незначительную и скорее отрицательную роль[234].
Политика власти в области экономического развития России Бахметеву представлялась сложной и чрезвычайно важной областью. Не случайно его привлекла речь Струве, признанного экономиста и политического деятеля, на съезде Русского национального объединения, проходившего 5 июня 1921 г. в Париже. Бахметев считал, что Струве «теоретически правильно» уловил две фазы будущей русской экономики – спасательную и эпоху экономического развития. Первая фаза, по Струве, предполагает наличие власти, которая будет управлять Россией и мобилизовывать ресурсы для строительства экономики. Но эта теоретическая позиция не совпадет с реальностью: первая фаза будет сопровождаться безвластием, при котором возможны голод и вымирание населения. Экономическое развитие станет органическим процессом значительно позднее, по мере избавления от большевизма и, соответственно, будет сопровождаться осознанной властью[235].
Непременным условием создания новой постбольшевистской России Бахметев считал установление благоприятной международной обстановки. «Россия, как международный фактор первостепенного значения, должна занять подобающее место в политических и экономических расчетах и перспективах»[236]. В письмах к Маклакову он писал, что процесс воссоздания России во многом будет зависеть от той международной обстановки, в которой он будет происходить, что в целях восстановления российской государственности и целостности необходимо готовиться к моменту падения большевиков, формируя общественное мнение для выработки линии поведения в интересах России.
«В центре воздействия на здешнее мнение, – писал он, – я кладу мысль, что интересы восстановления политического и экономического равновесия мира властно требуют возможной быстроты в процессе восстановления России, и что эта быстрота в свою очередь находится в зависимости от той международной обстановки, в которую Россия будет поставлена, и от той помощи, которую Россия сможет получить»[237].
Создание необходимой и безопасной атмосферы в решении этого вопроса определялось, как считал Бахметев, характером восприятия происходящих событий. Он отмечал существенные различия в оценке происходящих в России процессов. «…Вся разница между Европой и Америкой заключается в том, – писал Бахметев, – что Европа за большевиками не видит России и, потеряв веру в военных диктаторов, бросилась в объятия коммунистов», ценность же американской точки зрения преимущественно заключается в том, что «революционный пароксизм» рассматривается как «временная историческая фаза» и сохраняется «убежденность в конечном восстановлении страны вопреки и несмотря на большевизм». Бахметев в своих выступлениях в США и Англии и в печати активно пропагандировал эти мысли[238].
Особую роль в создании благоприятной для России международной обстановки Бахметев отводил США и всемерно старался, по его словам, консолидировать общественное мнение самой Америки в поддержку России. При этом речь, разумеется, шла о моральной поддержке; он трезво оценивал прагматизм и рационализм политической системы США, чтобы рассчитывать на материальную помощь. Выдвижение США на особую роль в решении русской проблемы со стороны Бахметева определялось как субъективными, так и объективными причинами. Разумеется, он любил Россию и не принимал большевизм, поэтому как патриот и активная политическая фигура стремился использовать все рычаги для ее возрождения. Субъективные устремления в данном случае во многом совпадали с объективными условиями – возрастанием роли США в мировой политике. Ни одна значимая проблема европейской политики не решалась без участия США. Присущий США изоляционализм в политике сочетался с возрастающим значением интернационалистского направления, т. е. признания особой исторической миссии США как первой свободной страны и оплота демократии. Усиливались также финансово-экономические и торговые связи США с европейскими странами.
Бахметев осознавал, что внешняя политика США прежде всего была направлена на защиту национальных интересов страны. Он характеризовал ее как политику международной солидарности, нацеленную на установление мира, основанную на принципах невмешательства в дела других стран, а также совместных решений, гуманности, благородства и здравого смысла[239].
Вовлеченность России в международную орбиту диктовалась со стороны США стремлением охладить захватнические устремления европейских стран и особенно Японии по отношению к российским ископаемым богатствам и в будущем установить с Россией торгово-экономические отношения, а также создать единый международный антибольшевистский фронт.
Новую демократическую Россию Бахметев мыслил сильным экономически развитым государством «с перспективами в области международных отношений», близким с Америкой и с «созданием экономической и политической комбинации такого мирового влияния, при котором Англии будет более чем трудно господствовать на международной арене»[240]. Ближайшую задачу Бахметев определил как «противопоставление на широкой международной арене собирания и укрепления России стремлению ее китаизировать и продолжить ее слабость и разложение», а также «собрать те державы, интересы которых положительно требуют восстановления России». И далее следует весьма выразительное суждение Бахметева: «…Надо отбросить путы приемов старой дипломатии; имеет же какое-нибудь преимущество внешне безответственное положение, позволяющее говорить от имени будущей России, основываясь на прогнозе»[241]. Это свидетельство необходимости перспективно мыслить и предусматривать возможный ход событий.
В связи с этим следует отметить, что Бахметев осуждал европейскую политику, по его мнению, неспособную предсказывать и предугадывать будущее. Начало «открытой и эффективной демократической дипломатии» Бахметев видел в деятельности государственного секретаря США в 1921–1925 гг. Ч. Э. Хьюза, характеризуя его как педантичного государственника и прогрессивного республиканца. Бахметев активно поддерживал точку зрения США, направленную против интернационализации Китайско-Восточной железной дороги, считал необходимым сохранить дорогу «как русское предприятие» и оградить Россию от «окитаивания»[242]. 27 июня 1921 г. он писал Маклакову: «…Одно можно сказать твердо: ни на какое участие Америки в разделе и эксплуатации России и в ее китаизации Европа рассчитывать не может; приходится говорить лишь о большей или меньшей степени активного и сознательного противодействия этому процессу. В общем как симпатии, так и интерес к России у новой власти весьма сильны…»[243]
Он пристально следил за международными конференциями этого периода. Так, Бахметев фиксировал выступление Хьюза 24 января 1922 г. на Вашингтонской конференции, в котором осуждались претензии Японии на русский Дальний Восток и выражалась надежда США на уход японцев из Сибири. «Америка прочла декларацию, – писал Бахметев, – которая по силе и определенности превосходила все, что они до сих пор говорили о Дальнем Востоке»[244].
Генуэзская конференция (март 1922), в которой, как известно, принимали участие большевики, рассматривалась Бахметевым как путь к созданию активного сотрудничества Америки с Европой и к восстановлению единого антибольшевистского фронта[245]. Важным вкладом в антибольшевистскую борьбу, «актом огромного значения», Бахметев считал декларацию Ч. Хьюза в ответ на ноту Литвинова с предложением возобновить торговые отношения между двумя странами. Хьюз отвечал, что для возобновления торговли между Советской Россией и США необходимы прочные экономические основания – признание частной собственности[246]. Прямые контакты и определенность позиции Бахметев признавал важным элементом противоборства сторон.
Создание единого антибольшевистского фронта не означало для Бахметева иностранного вторжения или вмешательства в российские дела. Он был сторонником вызревания внутреннего антибольшевистского процесса внутри самой России. «Восстановление государственно-экономического порядка» в России «явится результатом самоутрясения». Бахметев призывал к формированию общей атмосферы неприятия большевизма в Европе, в эмигрантской среде и в самой России. Он считал, что в борьбе с большевизмом в самой России (это относилось к началу 20-х гг.) необходимо использовать антибольшевистский национализм, непопулярный в Европе. Причину этого Бахметев видел в том, что «большевики, несмотря на свою коммунистическую сущность, объективно защищали те элементы демократической революции в России, которые составляли историческую необходимость и понимались как таковые чутьем народных масс встревоженной Европы». «Задача дня», по мысли Бахметева, состояла в том, чтобы отнять у антибольшевизма «возможность преломляться в глазах кого бы то ни было в виде поборников реакции». С осуществлением этой задачи Бахметев связывал не только будущее русского национализма в самой России, но и успех в области международных достижений[247]. Но основные силы, способные строить новую Россию, Бахметев видел в русских людях, осознавших потребность уничтожить большевизм и создать буржуазное демократическое государство.
Рассмотренные эпистолярные источники свидетельствуют о глубоком патриотизме практической и интеллектуальной деятельности Бахметева и расширяют представления об эмиграции и ее мировоззрении сложного времени 20–30-х гг. ХХ в.
Павел Николаевич Милюков
Павел Николаевич Милюков, известный российский историк и политик, бессменный лидер партии кадетов в России и в эмиграции привлекал пристальное внимание отечественной и зарубежной историографии. Исследованы его биография, исторические воззрения, их эволюция, политическая программа, ее трансформация в условиях эмиграции, отношение к Советской России. Известны и основополагающие позиции программы Милюкова по будущему устройству российской государственности, промышленности, сельского хозяйства и национальному вопросу.
В контексте изучаемой темы представляется нецелесообразным повторять уже научно доказанные положения Милюкова об установлении в будущей России демократической республики, с присущими ей политическими и гражданскими свободами, федерации с широкими правами национальностей, организацию промышленности в капиталистическом направлении и формирование собственности[248]. В данном разделе рассматривается вопрос, органично связанный с проблемой будущего российского развития, распространенный в эмигрантской среде и не затронутый в исследовательской литературе, – вопрос об эволюции советской власти.
Политическая деятельность Милюкова, лидера партии кадетов, в эмиграции определялась новыми историческими условиями. Отрицание вооруженной интервенции с целью уничтожить большевистскую Россию и ставка на внутренние процессы российского развития в деле избавления от большевизма стала коренным условием провозглашенной Милюковым «новой тактики».
Как известно, в декабре 1920 г. парижская группа кадетов под руководством Милюкова составила документ «Что делать после Крымской катастрофы?», в котором излагалась новая тактика. Кадеты писали о «четырех роковых политических ошибках», приведших к провалу белого движения: это попытка «перерешить» аграрный вопрос в интересах поместного класса, которая оттолкнула крестьянство; возвращение старого состава и старых злоупотреблений военно-чиновной бюрократии, которые оттолкнули местное население и интеллигенцию; узконационалистические традиции в решении национального вопроса, оттолкнувшие боровшиеся с большевизмом окраинные народности, и, наконец, преобладание военных и частных интересов, что помешало вовремя восстановить правильное течение экономической жизни.
По словам Милюкова, «новая тактика» не являлась продуктом личного каприза лидера партии в кадетской среде, а означала различное восприятие действительности, две разные психологии. В основе их он видел разное отношение к революции, к роли народа, а отсюда и отношение партии к защите крестьянской собственности[249].
«Новая тактика» строилась на новой позитивной программе кадетов, которая закрепляла решение партии о признании республики, а не монархии как формы правления, признавала федерацию как форму соотношения отдельных частей государства, status quo на «крестьянские захваты», установление местного самоуправления. Это, по мысли ее составителей, обеспечило бы «громадный сдвиг влево всего населения». Как одно из основополагающих положений «новая тактика» включала необходимость изучения самой Советской России, учета эволюции власти и изменения условий ее существования. Эта тактика, по словам Милюкова, создавала «мост» для сближения с левыми партиями, которые рассматривались как союзники в общей борьбе с Советской Россией. Парижская группа кадетов во главе с Милюковым вела переговоры с эсерами Авксентьевым, Черновым, Савинковым в конце 20 – начале 30-х гг. «Нас объединяло с эсерами, – писал Милюков, – признание необходимости продолжения борьбы с большевиками и отрицание прежних методов борьбы».
Положительное отношение к факту русской революции, к поставленным ею задачам национальной жизни, к ее приобретениям, веру в творческие силы русского народа и убеждение в невозможности навязать ему власть извне в форме, отрицающей самодеятельность масс, готовность защищать интересы народных масс и конкретно крестьянина от притязаний старого поместного класса[250] провозглашались принципиальными установками «новой тактики».
Перемена тактики для Милюкова не являлась переменой целей борьбы. Отношение к большевикам оставалось по-прежнему непримиримым. Борьба продолжается, и спор идет лишь о выборе путей для успеха. Не отрицая возможности вооруженной борьбы, Милюков и его сторонники не признавали действительными прежние средства борьбы.
Размышления о будущем России, о политике советской власти, об изменениях в жизни российских крестьян и горожан, о перспективах исторических процессов в разных сферах жизни – экономической, политической, культурной, – разумеется, с учетом характера восприятия, связанного с неприятием советской действительности, вызвали в среде эмиграции бытование формулы «эволюция советской власти». Ставка на изучение внутренних процессов российского развития определила широкое распространение этой формулы, но ее толкование не было четко определенным. Главный же смысл состоял в признании несостоятельности советской политической системы и ее возможного развития в сторону капиталистического развития.
Следует отметить, что эмигранты с разной степенью активного отрицания относились к происходящему в России, обладали и разной степенью критицизма и веры в жизнеспособность советской системы. Кроме того, мысль о несовершенстве советского строя, которое, по их мнению, в конечном счете приведет к появлению капиталистических и демократических форм жизни, поддерживала иллюзии эмиграции о гибели советской России.
Для Милюкова и его сподвижников эволюция советской власти означала «прозрение в будущее» и виделась, особенно в 20-е гг., в трудностях, в непоследовательности и противоречивости с точки зрения ортодоксального марксизма действий советской власти, ведущих, по их мнению, к ее разрушению. «Внутри России, – считал Милюков, – произошел громадный психологический сдвиг и сложилась за эти три года новая социальная структура, выдвинулись новые слои и настроения, к которым надо отнестись чрезвычайно бережно, ибо в них залог нашего успеха. В области аграрных отношений, во взаимоотношениях труда и капитала произошли также изменения, которые предуказывают, что и в Россию мы можем идти только с программой глубокой экономической и социальной реконструкции»[251].
1 марта 1921 г. Милюков начал издавать газету «Последние новости», в которой много внимания уделялось разъяснению новой тактики. С 1924 г. организационным центром сторонников «новой тактики» стало Республиканско-демократическое объединение (РДО) во главе с Милюковым.
Основные идейные позиции, обязательные к исполнению, сводились к следующему: сохранение пафоса неприятия советской власти и борьба с нею, а следовательно, и революционное к ней отношение; отрицание примиренчества, преодоление духовного отрыва от России и духовное общение с внутрирусской демократией; признание положительного значения процессов внутренних, ведущих к освобождению России от советской власти силами самого населения; внимательное изучение этих процессов – социальных, бытовых, психологических; согласование тактики эмиграции с тактикой населения, борющегося с советской властью как революционными, так и мирными средствами; борьба с советской властью не должна переходить в борьбу против национальных интересов России; цель существования РДО – участие в борьбе против Советской России, а именно подготовка кадров, введение дисциплины, изучение сегодняшней России[252]. Милюков постоянно выступал как в Париже, так и в других странах, пропагандируя эти идеи.
«Новая тактика» встречала сопротивление и в среде сторонников Милюкова, стоявших близко к редакции «Последних новостей». Бывший министр правительства Керенского П. П. Юренев, бывший московский голова Н. И. Астров, князь В. А. Оболенский, сгруппировавшиеся вокруг Милюкова в Париже, считали, что он слишком далеко идет по пути «признания революции». На этой почве возникли разногласия с С. С. Масловым, издававшим «Крестьянскую Россию» в Праге, с другими многочисленными группами эмигрантов: кусковцами, пешехоновцами, мельгуновцами и т. д.
«Но революции не только уничтожают, – отвечал Милюков своим оппонентам. – Трактовка революционных процессов как процессов исключительно разрушительных свойственна тому историко-философскому пессимизму, который в политической жизни отрицает за народом право на суверенитет. В действительности же, разрушая ту или другую общественную структуру, революция взамен ей создает новую, соответствующую интересам и чаяниям социальных групп, появляющихся на арене истории в роли главенствующих»[253]. При этом Милюков ссылался на исторический опыт других стран, где происходило свержение феодальных или полуфеодальных отношений и на историческую арену выдвигалось крестьянство. В России он видел аналогичный процесс.
Но самым болезненным для Милюкова было расхождение со своими старыми друзьями и сподвижниками по партии И. И. Петрункевичем, Ф. И. Родичевым, Н. И. Астровым и гр. Паниной. «Я благодарен Набокову и Астрову за данное мне формальное основание быть не с ними»[254], – отмечал Милюков.
«Республиканцы-демократы, – писал он в 1925 г., – не только не прекращают борьбы с большевиками, но, напротив, избирают формы борьбы, которые, по неоднократным заявлениям самих большевиков, наиболее для них опасны». Здесь же Милюков ссылается на Ленина, который в 1921 г. писал, что из трех стадий борьбы политической, военной и экономической, экономическая является для большевиков «наиболее опасной». И далее Милюков подытоживает эту мысль: «Только провозглашая и принимая мирные формы борьбы, республиканско-демократическое течение находит в себе могущественных союзников в Совдепии, где о вооруженной борьбе в старых формах никто уже не думает, но где в то же время постепенно зреет всеобщий заговор населения против тирании РКП»[255]. И этот вид борьбы не теряет своего революционного характера.
Поэтому главной сферой своей агитационной деятельности Милюков избирает экономическую сферу, положение русского крестьянства. Ставка на защиту крестьянства была не случайной; крестьянство представлялось ему главной опорой антибольшевизма. Характерно, что подавляющее внимание статей «Последних новостей», пропагандирующих «новую тактику», посвящено крестьянству. В России в ходе революции, отмечал Милюков, все социальные слои потеряли свое влияние. Умерло поместное землевладение, медленно нарождающаяся крупная и средняя буржуазия была сметена революцией, погибла интеллигенция, сильная идеологическим единством и способная вести борьбу с самодержавием. «Выиграл лишь один социальный класс – крестьянство»[256].
В результате революции крестьянство получило право на землю, была разрушена община, которую Милюков рассматривал как институт патриархального коммунизма. Вместе с тем он полагал, что в процессе утверждения советской власти крестьянство будет бороться против нее. Это определяют частнособственнические привычки крестьян и деспотическая сущность советской власти. В исторической перспективе Милюков видел Россию крестьянской страной. На крестьянство в борьбе с большевизмом он возлагал главные надежды.
В этой связи показательна полемика между противниками новой тактики и Милюковым по поводу социальной основы кадетской партии и ее названия. Петрункевич и Родичев упрекали Милюкова в измене кадетским партийным традициям, отрекаясь от названия партии как внеклассовой. Милюков отвечал, что программу кадетской партии он называл внеклассовой потому, что она стремилась к компромиссу между социальными слоями в государственных интересах, но этот компромисс всегда преследовал интересы широких масс. Он признавал и ошибку партии в том, что настаивая на внеклассовости, она затушевывала свои социальные задачи и выдвигала на первый план политический либерализм партийной программы, что в итоге вело к сближению с поместным классом.
8 изменившейся обстановке выбор должен быть иным: кадетская партия выступает на стороне крестьянства. «Если угодно это называть “классовой” точкой зрения, – парировал Милюков, – ну что же, я готов в этом случае признать партию орудием одного класса. Теперь интересы широких народных масс должны служить нашим компасом»[257]. Милюков добавлял к этому, что он как основатель «новой тактики» возвращается к старым традициям защиты крестьянских интересов, выраженных кадетом М. Я. Герценштейном, защищавшим мелкое и среднее землевладение – социальную основу партии, – сообразуясь с новыми условиями борьбы[258].
Подобная позиция Милюкова определяла его пристальное внимание к крестьянству и к политике советской власти в аграрном вопросе. В 1922 г. он писал о том, что советская власть находится в параличе, так как крестьяне не признают большевистскую власть, но подчиняются вооруженным требованиям о выдаче государству продуктов. Милюковская газета «Последние новости» сообщала о тяжелом положении в деревне, о сокращении при большевиках обрабатываемых крестьянами земель, связывая это с большевистской экономической политикой, запрещающей крестьянам распоряжаться своей продукцией. Возрождение крестьянского хозяйства, утверждалось в газете, настоятельно требует прав собственности как на землю, так и на продукт труда[259]. «История советского государства, – писали «Последние новости» 8 мая 1924 г., – есть в значительной степени история борьбы с крестьянством. В этой борьбе крестьянство понесло страшные потери, но в результате победа все более склоняется на его сторону».
Введение НЭПа вызвало бурную реакцию в среде эмиграции, для которой очевидным было изменение курса внутренней политики. «Уступая требованиям жизни, – писали «Последние новости», – коммунизм начинает отказываться устами своего вождя от одного из устоев своей политики. Верный признак того, что это полное противоречие с жизнью, которое представляет из себя коммунистическая система управления, не может удержаться, не делая существеннейших уступок, не разрушая свои собственные устои»[260]. В НЭПе милюковская газета видела слабость и несостоятельность советской экономической политики, несовместимость соединения коммунистических принципов ведения хозяйства с элементами свободного рынка. Для Милюкова и его сторонников НЭП означала признание того, что «открытие клапана в котле советской системы вызывает наружу никогда не умирающие в советской республике буржуазно-капиталистические элементы», что невозможно в аграрной стране ввести коммунистический строй и Россия тем самым становится на буржуазно-демократические рельсы.
Милюков и его сторонники видели таким образом в НЭПе эволюцию в сторону рыночной экономической системы, считая, что сам факт насаждения в экономику капиталистических форм означал, что капиталистическая система являлась более жизнеспособной, чем социалистическая. В этой связи Ленин как инициатор НЭПа подвергался резкой критике. Он «отличается большим мужеством, – писали “Последние новости”, – развивать перед своей рабоче-крестьянской аудиторией мысли, которые у всякого другого были бы признаны контрреволюционными… Это было бы несущественно, если бы Ленин продолжал жить в Швейцарии или во Франции, занимаясь литературной работой. Но Ленин стоит во главе государства. Ленин-теоретик оказался сильнее Ленина-практика. И, быть может, теоретическими изысканиями Ленина лучше всего оперировать теперь, чтобы обнаружить несостоятельность Ленина-практика»[261].
Уже в 1921 г. Милюков считал, что большевистская власть не может восстановить Россию и становится бессильной и в городе, и в деревне. Признаваемый им «прогрессирующий паралич» большевистской власти сопровождается, между тем, положительными моментами – развивается вопреки декретам советской власти самостоятельность и «самодостаточность» населения, происходит эволюция в психике людей, которые участвуют в строительстве России. Новым явлением русской «народной эволюции» Милюков считал строительство моста между западными общественными экономическими организациями, кооперативными союзами и соответствующими организациями в России. Эти связи он признавал чисто экономическими без влияния политической власти.
Свои представления о внутриполитическом развитии России в первую половину 20-х гг. с точки зрения эволюционных процессов Милюков подытоживал в работе «Эмиграция на перепутье». «Факты эволюции налицо, – писал он, – и вопрос ставится уже не о том, может ли советская власть вообще эволюционировать, а как далеко может пойти эта эволюция»[262]. При этом Милюков отмечал, что ответ на этот вопрос в среде его единомышленников и оппонентов в период с 1922 по 1926 гг. приходилось менять пять раз. Вначале было убеждение в том, что советская власть эволюционировать не может, затем добавили – Россия может эволюционировать и при советской власти, но несмотря на нее и вопреки ей. Далее утверждали, что эволюция может происходить также и благодаря сознательной политике советской власти, вынужденной в собственных интересах перейти от политики разрушения к политике восстановления русских производительных сил. Возникал вопрос, может ли при этом эволюционировать не только Россия, но и сама советская власть.
«Мы были правы, – продолжал он, – когда утверждали, что для этого ей нужно самоуничтожиться, потеряв смысл существования, перестав быть сама собою». Подтверждение этому Милюков нашел в заключении партийной оппозиции 1925–1926 гг., в котором утверждалось, что советская власть «давно перестала быть сама собою», отказавшись от коммунистического экспериментирования и перейдя к хозяйственным (капиталистическим) приемам в промышленности и принявшись защищать социально-сильные элементы (кулаков) в деревне (ставка на сильного).
Развивая мысль о фактах, подтверждающих эволюцию советской власти, Милюков ссылается на свой доклад от 5 сентября 1926 г. «О новом фазисе советской склоки», в котором он говорил об образовавшейся общей основе правой и левой оппозиции, признававшей, что ленинский опыт октябрьского переворота был в корне неправилен, так как в России, стране отсталой и крестьянской, невозможен переход ни к диктатуре пролетариата, ни к введению социалистического строя. Путь, избранный советской властью, продолжает Милюков, может привести к ее самоуничтожению, и многие это понимают. И здесь же Милюков объясняет обращение власти к капиталистическим приемам ведения советского хозяйства при НЭПе, рассматривая их как принятие сильнодействующего и рискованного лекарства, разрушающего организм. На вопрос, сможет ли советская олигархия добровольно отказаться от власти или она предпочтет переродиться, у Милюкова не было уверенного отрицательного ответа[263].
В обсуждении проблем, связанных с эволюцией советской власти, ее возможными перспективами, с толкованием понятия «эволюция», с выяснением предпочтительного для русской эмиграции эволюционного либо революционного хода развития событий были вовлечены многие мыслящие эмигранты – С. П. Мельгунов, И. И. Бунаков-Фондаминский, П. Б. Струве, А. В. Пешехонов, М. А. Осоргин, В. А. Маклаков и др. Милюков, отмечая этот факт, делал отдельные замечания по ходу событий и по поводу позиций участников этих обсуждений, а также толкования употребляемых терминов. Так, термидор, который предсказывали эмигранты в Советской России, Милюков определял не как контрреволюционный переворот, что было характерно для Мельгунова, а как перерождение тканей, т. е. как революцию, «принявшую новый аспект». При этом Милюков не отрицал возможности насильственного, революционного исхода событий в случае, если большевистская власть откажется эволюционировать и предпочтет, подобно старой власти, идти на риск.
Милюков критиковал Струве за упрощенное понимание революции и эволюции, противопоставление революционного пути эволюционному, при этом осуждал эволюционистов за пассивное выжидание результатов процесса и их готовность к примирению с советской властью. Он считал необходимым избавиться от догматического представления о революционных и эволюционных методах борьбы с большевиками. Если эволюционизм в своей односторонности упирается в капитуляцию перед советской властью, то односторонность революционизма означает отрыв от России. Милюков выступал за разумное сочетание эволюционных и революционных методов борьбы, зависящих от конкретной ситуации[264].
Публичные выступления Милюкова, пропагандировавшего «новую тактику», проходили в разных городах Европы и Америки. Он настойчиво проводил мысль об эволюции советской власти. Так, например, 17 марта 1928 г. Милюков выступил в Лионе с докладом «Итоги Октября». Он говорил о «провале» плана социалистического хозяйства, об усиливающемся антагонизме города и древни, о крахе идеи мировой революции, о признаках тупика в политике партии: «С одной стороны, верность доктрине ленинизма и необходимость приспособления, с другой». Касаясь позиции эмиграции, Милюков делал ставку на ту ее часть, которая верит в жизненную силу России и учитывает своеобразие ее условий, признает установление контактов с Россией и согласование своей тактики с методами внутрирусской борьбы, содействуя ей идеологически и организационно[265].
8 мая 1928 г. Милюков выступил на конференции Американского общества мира в Кливленде. Он поблагодарил американцев за помощь, которая оказывалась России во время голода. Затем коснулся внешнеполитической доктрины большевиков, которые, как ему казалось, «раздувают» милитаристские настроения в стране, боясь успехов Лиги наций в деле франко-германского сближения. Он снова проводил мысль о том, что освобождение России придет изнутри, явится результатом работы внутренних сил. Но к грядущей революции Россия не готова. Однако страна находится не в параличе и исполнена «революционным духом». Для большевистской власти в данный момент он видит три главнейших опасности: утеря перспективы и идеи мировой революции, веры в возможность введения социализма (ибо НЭП не совместим с социализмом), в утере коммунистами монопольно-политической власти и сведении партии на роль придатка государственной машины. Пролетарская социалистическая республика, заключает Милюков, начала вырождаться в буржуазную демократию, что свидетельствует об ее эволюции. В этом докладе Милюков коснулся и внутриполитической обстановки, эволюции Сталина, начавшего репрессии. И подвел итог: «Слабеет вера в Библию Маркса – Ленина. Молодое поколение чуждо идеализму и революционному духу»[266].
Во второй половине 20-х гг. в связи с голодом, провалом хлебозаготовок, политикой власти, принуждавшей крестьянство продавать хлеб и каравшей их штрафами, тюрьмой и конфискацией имущества, введением карточной системы у Милюкова и его сподвижников не только усиливалась критика советского хозяйствования, но и росло убеждение в несостоятельности власти, росте сознательности населения и, следовательно, в перспективности эволюционных процессов. Пятилетний план милюковская газета оценила «как план борьбы с народным хозяйством», а меры по выполнению плана хлебозаготовок – «войной с деревней».
В обстоятельной статье современной исследовательницы М. О. Головни приводятся многочисленные данные об отношении Милюкова и его газеты к политической линии советской власти в деревне. Газета отмечала немногочисленность сведений об этом, подчеркивая трудное, бедственное положение русской деревни, а также перегибы в политике власти. Указывалось также, что кампания власти против вредительства была использована для парализации населения, поддержки в массах чувства беспрекословного подчинения. Милюков писал по этому поводу, что вредительство выражается не только «в порче машин или других деяниях, препятствующих нормальному ходу хозяйственной жизни». Опаснее ему виделось «массовое вредительство», состоящее в презрении к руководителям, в полном неверии в хозяйственные планы партии[267].
Начиная с 20-х гг., Милюков и его сподвижники пристально следили за внутриполитической обстановкой в стране, за деятельностью большевистской партии и ее лидеров. Уход Ленина с политической арены в связи со смертью Милюков воспринимал как яркий пример роли личности в истории, но силу этого примера он видел не в прочности дела Ленина, а в «громадности того зигзага, которым он сумел отклонить исторический процесс от его закономерного хода»[268]. Итогом его деятельности, по мысли Милюкова, являлись крушение иллюзий и пробуждение массового сознания. «Последние новости» уделяли большое внимание внутрипартийной борьбе. Газета публиковала материалы о «Декларации 46» и письме Троцкого, в которых Политбюро ЦК обвинялось в экономическом и партийном кризисе и содержалось требование демократизации партии и реализации устремлений к мировой революции. Советская печать обвиняла Троцкого в наполеоновских замыслах. «Последние новости» считали, что он не годится в герои русского Термидора.
Далее политические процессы Зиновьева, Каменева, Бухарина и Рыкова, которым, очевидно, не без основания, «Последние новости» приписывали «рабочелюбие» и «крестьянофильство», постоянные разногласия в партии, массовые репрессии и чистки в партии, уничтожение старой гвардии – все эти факты милюковская газета связывала с установлением единоличной власти Сталина, которому отводились многие страницы газеты.
По поводу внутрипартийных разногласий в 1926 г. Милюков опубликовал статью под названием «Сталинизм и эволюция большевизма», в которой настойчиво проводил мысль о необходимости для демократических элементов эмиграции занять определенную позицию по вопросу внутрипартийной борьбы в Советской России. При этом он отмечал, что не обладает достаточным материалом, чтобы достоверно судить о внутриполитической полемике в России. «Демагогия сталинцев, – подчеркивал Милюков, – идет в двух направлениях: с одной стороны, они обвиняют оппозицию в “социал-демократическом уклоне”, “капитулянтстве”, в меньшевистском противопоставлении интересов рабочих интересам советского социализма, в готовности “открыть двери буржуазии”, если это будет способствовать ускорению развития промышленности»; с другой стороны, они обвиняют оппозицию во вражде к крестьянству, в том, что она считает крестьянство «враждебной стихией» и желает проводить «сверхиндустриализацию» за счет разорения середняка[269].
Сообщение об исключении Троцкого и Зиновьева из партии, а Каменева, Раковского и других из ЦК «Последние новости» сопровождали словами, что перед Сталиным стояла задача «изъять» из политической жизни весь «ленинский штаб». Встреченное овациями выступление Сталина на XV съезде партии (1927), в котором извещалось об исключении из партии 93 представителей оппозиции, милюковская газета считала переломным моментом в жизни партии, свидетельствующим о «новом важном моменте в церемонии похорон ВКП в развитии советского брюмера»[270]. Сталинцы требуют от оппозиции признания теории о «возможности торжества социализма в одной стране» как непререкаемой партийной догмы и в то же время «играют» на своем «крестьянофильстве», на том, что их индустриализация в отличие от оппозиционной «сверхиндустриализации проводится на основе роста сельского хозяйства и “благосостояния середняка”»[271].
Весьма характерна для позиции Милюкова его статья о «заговоре Тухачевского», опубликованная в «Последних новостях» в 1937 г. «В первый раз за время существования советского режима из среды видных и ответственных его представителей раздались слова на общем языке с нами», – констатировала газета. Этими «общими словами» являлись излагавшиеся в статье требования группы Тухачевского о свержении сталинского режима, отказе от коммунизма, переустройстве СССР в федеративное государство, построенное на национальных основах, с присвоением ему исторического имени «Россия»; в социально-экономической области предлагалось восстановление мелкой крестьянской и частной собственности при сохранении в руках государства национализированной крупной промышленностии.
Важно иметь в виду, что редакция газеты допускала возможность фабрикации дела Тухачевского и сомневалась в его антиправительственном заговоре. Но в данном случае важна сопричастность Милюкова и его сторонников требованиям оппозиции и признанию несовершенства советской политической системы[272].
Милюковская газета отмечала, что при Сталине в стране воцарилась атмосфера страха и недоверия. Общепринятое сравнение Сталина с Петром Великим, подчеркивающее величие Сталина, комментировалось в «Последних новостях» следующим образом: то, что составляло «изъян в великой фигуре Петра – страх и мнительность, – у Сталина являлось едва ли не единственной яркой чертой в облике мрачного, мелко-мстительного кремлевского деспота»[273]. Проводилась аналогия между Сталиным и Иваном Грозным. Сталин, по мнению Милюкова, «все более обращается в того классического тирана, который живет среди наваждения подозрения, – подозревает и верных ему именно за то, что они слишком верны, и тех, кто молчит за то, что они молчат». Этот парадокс, свойственный тиранической власти, объясняет применение репрессивных мер не только против «последних остатков ленинского боярства, но и против» собственной опричнины Сталина[274].
Фигура Сталина интересовала Милюкова и позднее. В рецензии на книгу Б. Суварина «Staline. Aperçu historique du bolchévisme» (Paris, 1935) Милюкова интересовало то, что фигура Сталина, по его словам, характеризует эволюцию большевизма[275]. В политике Сталина, по мнению Милюкова, происходило вырождение коммунистических идей, веры в построение коммунистического общества, отход от заветов революции и превращение в тираническое господство. Советская власть, таким образом, превращалась в деспотическое государство. Сталин, по мнению Милюкова, теряет последние остатки ленинской идеологии, сохраняя ленинскую фразу, идет по пути к реакционному самодержавию и, по существу, к беспредельной диктатуре.
Следует заметить, что Милюков не признает оппозицию во всем правой, а Троцкого не считает «белым вороном среди красных ворон». Но тем не менее он согласен с оппозицией в том, что советская промышленность не является социалистической гармонией и между хозяевами и рабочими существуют противоречия, что «стабилизация западного капитализма» служит «жестоким ударом для осуществления социализма в России», что русская экономика все более контролируется мировым рынком, который и в дальнейшем будет способствовать ликвидации советского социализма. Советскому социализму Милюков противопоставлял «новый социализм» западного типа. Он являлся сторонником немарксистского социализма К. Каутского и О. Бауэра, для которого понятия социализма и либерализма, социализма и демократии, социализма и права являлись неразделимыми.
Признанный эмигрантами авторитет политической мысли Каутский считал, что большевики «выбросили за борт марксистскую систему мышления, не учитывали отрицательного отношения Маркса ко всему абсолютному», не понимали, что его позиции всегда определялись конкретно-историческими условиями. Большевиков Каутский критиковал за игнорирование эволюции Маркса и его негативного отношения к насилию и террору в 70-е гг. Вместе с тем и Каутский, и Бауэр, и Бернштейн отвергали марксово учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата, полагая, что пролетариат не способен организовать производство, а пролетарская революция в России привела к хаосу и разрушению производительных сил[276].
Разрушение капитализма Каутский, Бауэр и их эмигрантские последователи, в том числе Милюков, считали ошибочным и «злостным актом». Социализм должен вырастать из капитализма. С этим связаны вопросы собственности и организации производства; социализм должен бороться не против частной или индивидуальной собственности, а против власти человека над человеком. Что касается организации производства, то в его интересах необходимо сохранить капиталистические приемы управления производством до создания новых.
В многосложный процесс строительства социализма должно быть включено политическое, национальное, религиозное и культурное обновление общества. Важной для эмигрантского восприятия, и особенно для Милюкова, являлась проблема соотношения социализма и либерализма. Ему представлялось «интересной задачей: тщательно исследовать те малоизученные области мысли и политики, где либерализм граничит с социализмом»[277]. Социализм, призванный уничтожить эксплуатацию всех трудящихся, неизбежно должен сохранить и использовать экономические, правовые и культурные завоевания демократического государства. Социализм рассматривался как логическое развитие демократии, несмотря на все ее несовершенства.
Осмысливая эти проблемы, Милюков стремился использовать выводы из анализа понятий «социализм», «либерализм» и «демократия» для своей политической деятельности. Статьи Милюкова, опубликованные в «Последних новостях» – «Демократия и социализм», «Либерализм и социализм», – свидетельствовали об особой актуальности для него этих проблем. Союз Милюкова с эсерами, в частности, с Н. Д. Авксентьевым явился результатом теоретического осмысления позиций по вопросу о соотношении этих понятий. Милюков подчеркивал, что общим для этого союза является признание существования демократического и недемократического социализма, последний из которых является большевистским социализмом. «Большевизм есть антипод социализма, – писал Милюков, – его карикатура и всякий, кто видит в большевизме крайнее проявление марксизма (т. е. все-таки социализма), произносит сознательную ложь».
Единым у Милюкова с эсерами было мнение о том, что в процессе демократизации социализма происходит устранение ошибок, свойственных до отделения демократического социализма от недемократического. «Мы приветствуем такое понимание в рядах социалистов потому, что оно тождественно с нашим собственным»[278]. К числу этих ошибок относилось равнодушие к политической борьбе, приверженность к диктатуре пролетариата как к форме «открытого насилия меньшинства», а также идея социальной революции как «прыжок в царство свободы». Основываясь на идее, что социальная революция «неизбежно принимает форму эволюции» (при условии ее «революционной ценности»), и милюковцы, и эсеры делали вывод, что демократический социализм есть эволюционный социализм, отрицающий идею насильственного переворота и утверждающий, что освобожденная от большевиков Россия будет буржуазной страной.
Характерной была публикация в «Последних новостях» статьи Милюкова «Победит ли социализм?» Статья была написана по поводу сельской выставки, которую советская пресса называла «агитатором побед социалистического земледелия». Создавая эту выставку, советская власть, по мысли автора, преследовала одну цель – показать, что прогресс советского хозяйства «мыслим только в условиях социализации его по сталинским указаниям». Милюков выражал сомнение в том, что достижения в сельском хозяйстве можно приписывать социализму, а не естественному стремлению крестьянства к его улучшению. При этом Милюков ссылался на советскую печать, которая признавала, что достижения в этой области еще не имеют массового характера. Он признавал достижения в частных хозяйствах, связанных исключительно с предприимчивостью и трудолюбием самих крестьян. Советское прославление механизации сельского хозяйства также вызывало у него большие сомнения. «Но есть ли какое-либо соответствие между ростом числа машин и успехами в выполнении сельскохозяйственных работ? В Москве сейчас демонстрируются победы социализма, а на полях происходит другое»: уборка отстает, цифры замалчиваются, усиливается тяга колхозников к собственному хозяйству, очевиден «испуг Сталина за судьбу колхозов»[279].
Следует отметить, что тема «эволюции советской власти» настойчиво проводившаяся в 20-е гг., в 30-е гг., можно сказать, иссякла. Если выступления Милюкова и его газеты в 20-е гг. настойчиво проводили мысль о непоследовательности власти, ее противоречивости, следовательно, несостоятельности и сопровождались выводом об эволюции власти, то в 30-е гг. стиль и тон Милюкова и его газеты заметно изменился, хотя критика власти и правительства продолжалась.
Это объяснялось рядом причин. Произошла стабилизация советской системы, какие бы сложности и трудности она ни переживала; обанкротилась сама идея о том, что с эволюцией власти рухнет Советская Россия; изменилась международная обстановка, появилась угроза войны, возникали новые проблемы, да и Милюков становился старше и мудрее. Он постепенно отказывался от своей настойчивой категоричности и становился осторожнее в оценках. Это не означало соглашательства и примирения или отказа от своих убеждений. Жизнь, как всегда, ставила новые задачи, а старые замыслы, тем более нереализованные, в новой исторической обстановке становились невостребованными.
Иллюстрацией к этой точке зрения может служить один из многочисленных примеров – отношение Милюкова к принятию сталинской Конституции. Введение Конституции 1936 г., одним из главных положений которой было провозглашение победы социализма, «Последние новости» комментировали следующим образом: «Основные задачи остаются неразрешимыми, и, может быть, для настоящего их разрешения потребуется или иначе истолковать Конституцию или ее изменить»[280]. Вместе с тем факт принятия Конституции «Последние новости» признавали прогрессивным шагом в либерализации советской политической системы, «шагом вперед к демократизму», однако оговаривали, что вся власть «при этом остается в руках коммунистической партии и ее вождя, диктатора Сталина». «Демократизация необходима Сталину для сохранения диктатуры… – писали «Последние новости». – Диктатура нужна Сталину для демократизации строя»[281].
Свое отношение к Конституции Милюков подтверждал в своем докладе в Праге в декабре: «Сталинская конституция, – говорил он, – заключает в себе большие возможности, однако для их осуществления нужен определенный курс реальной правительственной политики, и только будущее покажет, намерена ли власть этого курса сколько-нибудь последовательно придерживаться»[282].
В этом же докладе под названием «Внутреннее положение в СССР», изложенном корреспондентом газеты «Последние новости», так характеризуется общий вывод доклада Милюкова: «После ряда напряженнейших лет, когда осуществлялись пятилетки и проводилась коллективизация, власть объявила “веселую жизнь” и желает примирения с народом и стабилизации». В ответах оппонентам Милюков остановился на положении колхозов, отметив, что в русской деревне обстановка уже не та, что в годы коллективизации. Острое недовольство большинства крестьянства, все еще испытывающего нужду, сохранилось, но все же деревне живется легче и она как-то приспособилась к новым порядкам, освоила новые сложные машины.
В эту свою поездку в Прагу Милюков делал доклады на тему «Международное положение и Россия», где говорил об опасности международной обстановки, о внешней политики Германии, Франции и Англии, о фашистском блоке, противостоящем демократическим странам. В конце 30-х гг. Вторая мировая война становится доминирующей и тревожной темой для многих европейских стран, в том числе и для значительной части эмиграции. Милюков, как известно, несмотря на свою принципиальную непримиримость к советской власти, занял патриотическую позицию по отношению к СССР.
Великую отечественную войну он воспринимал как катастрофу и «величайшее бедствие», пристально следил за ходом военных действий и желал разгрома Германии[283].
Евразийцы
Николай Николаевич Алексеев
Размышления и споры об историческом пути России, ее приобщенности к Западу либо к Востоку, к Европе или к Азии на протяжении многих столетий занимали умы политических и общественных деятелей, ученых и особенно историков. Решение этой проблемы было тесно связано с представлениями о характере российского развития, органичности и самобытности исторического процесса либо заимствования и привнесения в него чужеродных влияний.
Евразийство как общественно-политическое течение ХХ в. было поглощено решением этих проблем. Оно возникло в 20-е гг. в эмиграции, порожденное условиями российской и эмигрантской действительности, влиянием политической жизни, особенностями восприятия его создателями России и ее истории. Жизнь в эмиграции обостряла чувство утраты Родины, усиливала беспокойство и стимулировала мысли о будущем России. Евразийцы видели развал и несостоятельность дореволюционной российской власти, беспомощность оппозиционных правительству сил (Думы и политических партий), бесперспективность либерализма с его попыткой внедрить в русскую жизнь западнические образцы жизнеустройства, не имевшие прочных традиций конституционализма и правопорядка. Старые, традиционные решения возрождения России в плане правых и левых политических течений и партий (монархия, республика) также представлялись евразийцам, не без основания, бесперспективными.
Евразийцы создали сложную, комплексную общественно-политическую доктрину. Личность, культура, государство, месторазвитие и религия – теоретические основы евразийства, его взаимообусловленные слагаемые. Православие евразийцы рассматривали как «имманентную сущность евразийства», которой подчинялись все другие стороны евразийского комплекса.
Евразийское учение создавалось экономистами, географами, государствоведами, лингвистами, музыковедами и историками. Среди них географ и экономист П. Н. Савицкий, историки Г. В. Вернадский, Л. П. Карсавин, П. М. Бицилли, государствовед Н. Н. Алексеев, лингвист Н. С. Трубецкой, музыковед П. П. Сувчинский и др. Евразийцы выступили сторонниками мультилинейности всемирно-исторического процесса, отвергая идею единонаправленного развития национальных культур. Их заслугой являлась мысль о наличии нескольких цивилизаций как «самобытно развивающихся» комплексов. Всемирно-исторический процесс, по-евразийски, возможно познать только путем изучения индивидуального, своеобразного и неповторимого в противовес общепринятому принципу изучать всеобщее и общечеловеческое.
Общеисторическая концепция евразийцев исходила из следующих основополагающих идей: западноевропейское развитие пагубно для России, она теснее связана с Востоком, чем с Западом, на ее историю существенно влияют геополитические факторы, характерные для Евразии, в России должны быть восстановлены уничтоженные, или «испорченные» западной цивилизацией русский быт, религия, культура – основа восприятия мира.
Главными постулатами евразийской концепции русской истории являлись восточное влияние, татаро-монгольское иго и отрицание европеизации и западничества России. Восточное влияние, татаро-монгольское иго, по убеждению евразийцев, играло определяющую роль в русской истории. С установлением ига евразийцы связывали вхождение Руси в систему мировой истории, под которой мыслилась монгольская держава. Главным достижением периода монгольского владычества, установившегося на Руси, евразийцы считали образование российской государственности, недооценивая ее органическое развитие.
При этом в западничестве осуждались «не попытки использования западной культуры в чужих культурных целях, но стремление к теоретическому и практическому отрицанию особого мира собственной культуры во имя культуры западной». Вредоносным последствием петровской эпохи евразийцы признавали наличие двух идей, выраженных в формулировках: «Россия – великая европейская держава» и «приобщение России к европейской цивилизации».
По мнению евразийцев, «при всей разноцветности» правителей XVIII и XIX в., шел процесс обезличивания и деградации правящего класса, подражания то французскому абсолютизму, то австро-прусской государственности и милитаризму и полной утраты национальной самобытности и религиозности. «Чем ближе к концу XIX века, тем яснее становится, что русский наш орел двуглавый может шуметь только минувшей славой, – писал Алексеев. – Мечты о грядущей славе разбиваются о внешние неудачи и промахи внутренней политики и растущее в государстве революционное брожение»[284]. Если восточное влияние евразийцы признавали государствообразующим и благотворным для России, то европеизацию – самым вредным и пагубным нарушением общественно-политического и нравственно-религиозного строя российского государства.
В развитие евразийского учения большой вклад как автор теории государства и правовед внес Н. Н. Алексеев, имя которого, к сожалению, не всегда привлекало внимание исследователей. Он занимался как теоретической разработкой евразийского государства, его правовым обоснованием, так и созданием образа возрожденной России.
Н. Н. Алексеев родился 1 мая 1879 г. в Москве. Его прадед, соборный протоиерей в г. Данкове Рязанской губернии, получил орден Владимира IV степени и потомственное дворянство. Закончив гимназию, Алексеев поступил на юридический факультет Московского университета, но в 1902 г. был отчислен за участие в студенческих беспорядках и отбыл шестимесячное заключение в Митавской тюрьме в Курляндии. Затем он уехал в Германию, где учился в Дрезденском политехникуме. Попав под амнистию в 1903 г., Алексеев смог возвратиться в университет, где занимался под руководством талантливого ученого, главы московской школы философии права П. И. Новгородцева, ставшего для него не только учителем, но и другом.
После окончания университета Алексеев был оставлен на кафедре энциклопедии и философии права, возглавлявшейся П. И. Новгородцевым, для подготовки к профессорскому званию. В 1908 г. Алексеев был командирован на два года в Германию и Францию, где слушал лекции всемирно известных ученых В. Виндельбанда, Г. Еллинека, А. Бергсона и др. В 1911 г. он защитил в Московском университете магистерскую диссертацию на тему «Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов». Продолжая читать лекции в Московском университете, в 1912 г. Алексеев начал сотрудничество с Коммерческим институтом, куда на постоянное место работы перешел его учитель. В Коммерческом институте Алексеев был избран приват-доцентом и секретарем учебного комитета.
Во время Первой мировой войны Алексеев находился на турецком фронте. В качестве уполномоченного Всероссийского земского союза он занимался снабжением русской армии в Иране, перевозкой раненых. Октябрьскую революцию 1917 г. Алексеев встретил враждебно; в 1918 он переехал в Киев, а затем в Симферополь, где под угрозой ареста обосновался и Новгородцев. В эти послеоктябрьские годы были опубликованы труды Алексеева «Общее учение о праве», «Очерки по общей теории государства. Основные предпосылки и гипотезы государственной науки».
Алексеев активно сотрудничал с Добровольческой армией, участвовал в военных действиях, пропагандировал идеи Белой армии, редактировал газеты «За единую Россию», «Великая Россия», защищавшие белое дело и царскую Россию. С Добровольческой армией Алексеев эвакуировался в Константинополь, где работал инспектором русской школы. С 1922 г. Алексеев – профессор русского юридического факультета в Праге и его секретарь. Факультет был создан с целью подготовки юристов для России, куда эмигранты надеялись быстро вернуться. Русский юридический факультет современники признавали «детищем ума и сердца» Новгородцева.
Жизнь в Праге была плодотворным и спокойным периодом в жизни Алексеева. Он преподавал на факультете, сотрудничал с объединением русских юристов, с русским философским обществом, посещал пражскую евразийскую группу, выступал с лекциями. Темы его лекций разнообразны: «Духовный кризис Европы», «Современный парламентаризм», «Естественные и гуманитарные науки», «О ценности знания», «Основы евразийства» – и свидетельствуют о высоком интеллекте и профессионализме автора этих лекций.
В 20-е гг. Алексеев стал одним из ведущих теоретиков евразийства, занимался его правовым обоснованием, принял участие в разработке программного документа «Евразийство. Опыт систематического изложения» (1926), создал многочисленные труды по евразийской тематике. Во второй половине 20-х гг. Алексеев преподавал в Русском институте в Берлине, куда он переехал в 1931 г. С приходом к власти нацистов он перебрался в Париж, где прожил до 1940 г. В Сорбонне он преподавал юридические науки, читал лекции в Русском свободном университете, в Русском историческом обществе. Оккупация Франции немцами заставила Алексеева уехать в Белград, где он стал профессором Белградского университета. Но в 1942 г. его уволили из университета по приказу правительства Недича, боровшегося с антифашистским движением. После освобождения Югославии Алексеев был восстановлен на работе. Есть свидетельство о том, что он принимал участие в организации сопротивления нацизму.
В 1946 г. Алексеев принял советское гражданство, но вернуться в Россию ему не удалось. В 1950 г. из Югославии он переехал в Швейцарию. 2 марта 1964 г. Алексеев умер в Женеве[285].
Алексеев принадлежал к известной школе русских философов и историков права, созданной Новгородцевым. Его учениками, кроме Алексеева, в разное время были И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, А. С. Ященко, Г. В. Флоровский. Многие идеи этой школы успешно разрабатывали С. Л. Франк, С. И. Гессен и др. Новгородцев высоко оценивал труды Алексеева. В своей замечательной работе «Об общественном идеале» он неоднократно ссылался на книгу Алексеева «Науки общественные и естественные» (М., 1912) и на его переводы произведений Маркса, в частности, на перевод «Критики готской программы»[286].
Как создатель государственной теории евразийства Алексеев обращался к теориям государства. Он отрицал общепринятую европейскую теорию государства, основанную на учении естественного права, т. е. договоре граждан с властвующими или между собой, когда законной признавалась та власть, на которую дано согласие подвластных. Подобная постановка вопроса, по Алексееву, утрачивала идею власти. Теории государства Руссо, Монтескье, Мабли, выдвигавшие идеи народного суверенитета, самоуправления, неотчуждаемых прав и личности, олицетворяющей правовые нормы, также представлялась Алексееву неприемлемыми для евразийства. По его мнению, правовые нормы по этой теории отчуждались от реальности, поскольку уравнивали правителей и подчиненных. Эта теория также утрачивала идею власти, ибо власть для евразийцев священна.
Марксистская точка зрения на государство решительно отвергалась, хотя Алексеев признавал огромное влияние марксизма на развитие мировой и западной общественных теорий: «Руссо и Маркс, “Общественный договор” и “Коммунистический манифест” – вот символы, которые олицетворяют всю историю социально-политического движения западного человечества»[287]. В марксистской теории, по мнению Алексеева, сочетались реальные и нереальные стороны. Если признание государства как орудия классового господства и подчинения являлось реальностью, то «миф» о «земном рае» и отрицании в будущем государства для евразийцев представлялся иллюзорным и анархичным. К тому же, марксистская формула «государство рабочих и крестьян» суживала понятие государства; из этой формулы выпадали понятия о жизни разных социальных слоев, в том числе буржуазии. Не разделял Алексеев и идеи зависимости политической власти от экономики. «Экономическую мощь» он ставил в зависимость от «психической мощи», от иррациональных способностей властвующих. Пониманию сущности, структуры и роли государства Алексеев уделял большое внимание.
Следует, однако, заметить, что имелись известные различия в евразийском определении государства. Так, Л. П. Карсавин считал государство формой проявления культуры, Алексеев же рассматривает государство как реалист-правовед. Государство для Алексеева – властная структура, сильная своей организацией. Государство, как считал Алексеев, имеет две стороны: стихийную «как абсолютный, естественный факт при первом сближении людей, которые объединились в государства на основании инстинкта» и сознательно действующую как «организация общественных сил для достижения совокупных целей».
Элементами государства Алексеев считал территорию, население и власть. Территория, или месторазвитие, определяет как экономическую, так и политическую сферу деятельности людей. По мнению Алексеева, характер государства предопределен природой, месторазвитием и не зависит либо мало зависит от пожеланий людей. «Человеческим материалом» является народ; его психологические и физиологические особенности, как считал Алексеев, являются главным двигателем государственного развития. Характер власти, по мысли Алексеева, зависит от величины месторазвития, системы хозяйства, особенностей народа, от внешних факторов и межнациональных отношений. Нарушение властных отношений ведет к насилию, которое необходимо сводить до минимума. Власть осуществляется правящим слоем, являясь социально-психологической основой всякого властвования, независимой от сознательной человеческой деятельности.
Рассматривая различные теории власти, Алексеев касался и классовой теории, по которой государство – организация классового господства и принуждения. Эту марксистскую позицию он признавал научно обоснованной, но не универсальной. Алексеев считал, что с исчезновением эксплуатации изменится назначение правящего слоя, будет утрачиваться классовое и приобретаться функциональное значение власти, служившей выполнению общегосударственных задач. Вместе с тем в реальном мире, где имеет место борьба добра и зла, надолго сохранится насилие, поскольку государственное принуждение является меньшим злом в сравнении с анархией, произволом и безгосударственным разбоем[288].
Церковь и государство – закономерно-естественная тема евразийцев, поскольку религиозные идеи – одна из основ, на которой строилось евразийское учение. Алексеев принимал активное участие в разработке этой темы. Для евразийцев взаимосвязь между церковью и государством измерялась пониманием различия «совершенного» и «несовершенного». Рассматривая и церковь, и государство как «конкретные и противостоящие друг другу организации», евразийский программный документ вместе с тем предостерегал от смешения их «с личным составом»: «много нецерковного и государственного… в церковной организации и иерархии… много церковного в организации государственной».
«Водораздел» между церковью и государством, утверждали евразийцы, проходит «внутри всякого индивидуального сознания». Церковь, по-евразийски, как область «несомненного и святого» указывает идеалы «в общей форме», которые должны осуществляться на земле. От церкви нельзя требовать практической программы, какой-либо политико-практической деятельности и решений, она не является эмпирическим учреждением; церковь – источник «всякой идеологии», но реальные «идеологии и программы – сфера мира, свободно их развивающего и только еще становящегося церковью». Государство лишь «почерпает основы своей жизни и своей идеологии» в церкви, но осуществляет их в своей «мирской» сфере и не может не ошибаться и «не грешить».
Отрицание органической связи церкви и государства, по мысли евразийцев, есть «отрицание факта». Оно приводит к приписыванию государству мнимой роли церкви, к извращению роли государства, иногда к образованию «новой мнимой церкви», например, коммунистической, ставшей в руках государства своеобразной религиозной догмой. Но «признавать органическую связь государства с церковью, – утверждали евразийцы, – не значит еще сливать их в некотором расплывчатом единстве, называемом то церковью (папоцезаризм), то государством (цезарепапизм)»[289]. Предпринятые на Западе и в Советской России попытки «отделить церковь от государства» представлялись евразийцам безнравственными и бессмысленными действиями. Они возражали и против этого терминологического выражения, так как считали, что можно отделить не церковь, а государство от церкви, последствия же этого отделения пагубны для самого государства. «Церковь понимает государство как то, что стремится стать и становится ею», и от этого понимания она отказаться не может, не может уничтожить собственного долга формировать идеологию и истину.
Жизнеспособность государства, по мысли евразийцев, определяется идеологией. Истинная идеология черпает свои основы в православной религии и представляет собой органическую систему идей, целостную и тесно связанную с конкретной жизнью. Путь идеологии проистекает от «некоторой абсолютной несомненной основной идеи», «далее, развиваясь через систему идей, конкретизируется», «становится самою конкретною жизнью, которую она осмысляет, преобразует и творит». Эмпирически, т. е. в реальной жизни, идеология постоянно приближается к своему исходному православному идеалу, хотя постоянно отстает от него.
Евразийцы, в том числе и Алексеев, призывали бороться с ложными, абстрактными и «мнимыми» идеологиями, называемыми ими доктринерством. К ним относились реставраторская идеология, по которой история России прекратилась в 1905 или в 1917 г. и которая ориентируется на прошлое, считая его единственным благотворным для страны исходом, а также коммунистическая идеология, являющаяся «полуграмотным» «толкованием гегелевской философии и отсутствием связи с конкретной действительностью». Оппортунистическим течением представлялись евразийцам сменовеховцы, которые претендовали на создание новой идеологии, но от признания факта коммунистической России перешли к поклонению ей, начали растворяться в коммунизме и превратились в его бардов[290].
В поисках идеального государства, в котором отношения церкви и государства соответствовали бы «праведным нормам», евразийцы обращались к истории. Московское царство служило для евразийцев эталоном государственности, воплощая в своей идеологии, устройстве, политическом искусстве, а главное, в своем религиозно-нравственном образе пример, которому необходимо было бы следовать и «современной безбожной» России.
Алексеев внес большой вклад в решение этой проблемы, создавая труды, в которых рассматривались корни и традиции российской идеологии. Он основательно изучил теории иосифлян и заволжских старцев во главе с Нилом Сорским, которые содержали основы идеологии русской государственности. Алексеев признавал, что иосифлянство, ставшее официальной теорией московского самодержавия, обычно считалось теорией общенародной и национальной. Эту точку зрения он считал ошибочной, поскольку затушевывались все разномыслия и противоречия, существовавшие в жизни государства. Вместе с тем для Алексеева было очевидным, что идеал неограниченной монархии иосифлянского типа был близок народу, так как монарх рассматривался как «носитель божеских предначертаний и божественной правды»[291].
Монархия иосифлян приобрела особый характер с появлением раскола, поставившего своей главной целью установление правоверия. Становилось распространенным мнение, отмечал Алексеев, что истинный православный не обязан повиноваться правительству, если оно перестало стоять на страже веры. Потребность русского человека изменить «пошатнувшиеся порядки», создать «государство правды» Алексеев признавал «исконным стремлением русской души», свойственной Московскому царству. Он подчеркивал «обоготворенное» отношение народа к монархии как к политическому идеалу и одновременно указывал на «резкий политический протест» и «глубокую социальную критику власти». Народное творчество запечатлело это отношение в пословицах и поговорках «До бога высоко, до царя далеко», «Не ведает царь, что делает псарь», «Царь жалует, псарь разжалует». «В этих изречениях, – писал он, – порицается не сама монархия как институт, но ее реальные воплощения». Корень социального зла видится в «барах и боярах», изменяющих природу царской власти. «Так искажаются, – заключал Алексеев, – в народном сознании божественные установления монархии»[292].
Иосифлянство, популярное и укоренившееся в народном сознании политическое направление, как идеология государства не являлось единственным. Теорию «заволжских старцев» во главе с Нилом Сорским, развитую в XVI в. Вассианом Патрикеевым и затем поддержанную Максимом Греком, Алексеев считал незаслуженно забытой. Он ссылался на О. Миллера, утверждавшего спорность вопроса, какому из двух течений – иосифлянству или старчеству – принадлежит приоритет в народе. Партия заволжских старцев так же, как иосифляне, стояла на точке зрения богоустроенности царской власти.
Однако, Алексеев признавал в программах этих теорий существенные различия. Для заволжских старцев «земное государство» не может быть отображением и подобием божественного порядка, «всякое земное государство» всегда «лежит во грехе»; существует «внесветское царство» – царство Божие, и «путь к нему – это не путь государства, а путь иночества». Именно в этом пункте Алексеев видел коренное противоречие двух направлений русского православия. Для иосифлян главная цель – учреждение правоверного государства, по существу «слившегося» с установлениями религии, и в этом государстве «живет сам небесный принцип». Для заволжских старцев служение «положительному религиозному закону» состояло не в служении государству, а в «глубоком личном акте», в «постижении божественного света, которым освящена жизнь иная». Программа заволжских старцев требовала разделения церковной и светской сфер; не церковь следует «опустить до состояния государства, но государство поставить под чисто нравственное руководительство церкви».
Показательно и различие, проводимое Алексеевым при сравнении уставов монастырей иосифлян и заволжских старцев. Монастырь Иосифа Волоколамского являлся церковно-государственным учреждением, проникнутым регламентацией и дисциплиной, при которых иноки были заняты исполнением внешних обязанностей и им некогда было заниматься «духовными упражнениями». Этот монастырь справедливо называют, считал Алексеев, не только церковно-государственным, но и исправительным органом. Монастырь Нила Сорского не есть учреждение церковно-государственное и исправительное, но «вольная школа духовной жизни», ведущая к духовному подвижничеству.
Алексеев полагал, что необходимо было преобразовать московскую монархию в правовое государство, подчинить царя законности, упрочить личную свободу, ограничить самодержавие. Политическую идеологию русского народа Алексеев не исчерпывал изложением теорий иосифлян и заволжских старцев. «Заложенной в душе» русского народа он считал идею диктатуры, основателем которой в России был Пересветов, и идею русской вольницы, выразителем которой являлись казачество и народные движения Разина и Пугачева. Пересветов, отмечает Алексеев, установление диктатуры обосновывал отсутствием «правды» в «социально-политическом быте Московии», богатством бояр и порабощением людей, этим «главным злом Московского государства». В своем политическом учении Пересветов на первое место перед «верой» ставил «правду». Эта мысль, замечал Алексеев, отделяла Пересветова от иосифлян. Позиция Пересветова, писал Алексеев, «…исходила из мысли о необходимости создания мощного государства по типу восточной деспотии. Идеал московской пересветовской монархии основывался на диктатуре «особо избранной группы», составленной на средних людей»[293].
Политическим идеалом, воплощенным в действительность, являлось «Государство правды». Таким государством теоретик евразийского государства Алексеев признавал Московскую Русь, освобожденную от несовершенств и искажений. Будущая евразийская держава мыслилась как государство, противостоящее западноевропейской, демократической и коммунистической системам.
Современное политическое сознание представлялось евразийцам, в частности, Алексееву, окостенелым и приверженным известным трафаретам. Современную эпоху он считал лишенной творческого таланта, каким, несомненно, обладала и эпоха создания новых абсолютных сословных монархий, и эпоха нарождающегося конституционализма и демократии. Современная мысль не шла дальше старых изображений, лишь видоизменяя их. Россия же никогда не являлась носительницей новых политических идей. Призывы к возрождению «старой московской правды» с ее религиозно-нравственными основаниями, к чему призывали евразийцы, Алексеев корректировал замечанием о том, что ни социальные учреждения, ни организация предприятий, ни современная политическая форма не сможет изменить человека, главного двигателя истории. Борьба идет между персонализмом, для которого верховной ценностью является человеческая личность (как духовное существо, а не как эгоистический индивидуум, буржуазный или пролетарский), и коллективизмом, ценностью которого выступает физический коллектив (раса, земное государство, коммунистическое общество). Личность и при коммунизме, и при демократиях Запада, по убеждению Алексеева, не является истинной личностью, а заменена гедонистическим индивидуализмом и материалистическим прагматизмом. «Нужно понять, – писал он, – что хорошим человека делает личная работа над собой, подвиг самоусовершенствования», а не «зачисление в класс», «хорошим человек бывает не потому, что он пролетарий, а потому, что он по душе добр»[294].
Будущее евразийское государство, как гласил программный документ евразийства, «Опыт систематического изложения», называлось государством демотической природы, построенном на «глубоких народных началах», в противовес формальной демократии Запада и коммунистической власти, при которой правит атеизм и антихозяйственность. Перед евразийцами, полагал Алексеев, лежит обязанность способствовать созданию новой идеологии русского государства, новой «русской правды». За точку отправления необходимо взять современный русский государственный организм и понять, что в нем негодно и в чем «ощущается дыхание жизни», сменить «марксистские вехи», осознать относительность политических форм, отказаться о шаблонов. Актуальным Алексеев считал изучение советского государственного организма, его «идейных предположений», которые лежат в основании советского государства.
Новую Россию евразийцы, в том числе и Алексеев, связывали с разрушением и одновременно с преобразованием органов власти и управления Советской России. Их отношение к советскому строю было сложным. Советскую власть евразийцы рассматривали как власть, выросшую из народных потребностей и сумевшую «снять психологический антагонизм между барином и мужиком», что определило стойкость власти. Правящий слой в советскую эпоху отождествлялся ими с коммунистической партией. Евразийцы одобряли сам факт идеологического обоснования партии, но признавали ложность идеологии, рожденной революцией и заимствованной с Запада. С их точки зрения, большевистская партия имеет характер западной партии, преследующей политические цели: она «продолжает клокотать пафосом борьбы, столь характерным для многопартийного демократического строя, и для оправдания этого пафоса вынуждена сама создавать себе объекты борьбы»[295].
В общей форме евразийцами было раскрыто отношение к разным сторонам деятельности большевиков по строительству советского строя. Как государственники они считали, что большевики «удачно и органически» разрешили проблему народности государства, одобряли политику большевиков, направленную на укрепление государства и его армии (систему воинской повинности, территориальную милицейскую систему, ее комплектование, политическое воспитание армии), идеологическое воспитание молодежи. В строительстве государства перспективной им виделась идея федерации, «способствующая развитию и расцвету отдельных национально-культурных областей» и разрывающая традицию русификаторства.
В государственном строительстве евразийцы, в том числе и Алексеев, считали пагубным для страны пренебрежение к индивидуальному фактору, частному сектору и хозяйственному самоопределению личности, созданию «вольного рынка труда». С экономической точки зрения, советская система, по мнению евразийцев, перерождается в «капитало-коммунизм», что проявляется в эксплуатации государством как работодателем-монополистом труда рабочих, в бессилии осуществить социальную помощь городской и сельской бедноте. Эти факты признавались ими вполне закономерными, так как капитализм и социализм – порождение материализма.
Жизнеспособность советской власти Алексеев объяснял «умелым сочетанием диктатуры с народным представительством». Но если диктатура была старой идеей, то представительства русский народ не понимал. Идея представительства была ему привита не религией, как то было в странах, переживших реформацию, и не Государственной думой, но Советами[296]. «Длительность» же существования большевистского строя определялась искусным умением большевиков сочетать «отвлеченно рассудочный фанатизм» с пониманием конкретной действительности и тактикой.
В строительстве евразийского государства евразийцы считали обязательным внести начала религиозности, хозяйственности в лично-хозяйственном (не капиталистическом смысле), социальности, утраченные в ходе перерождения коммунизма в капитало-коммунизм, отречение от западопоклонства, восстановление истинно народного духа, широкого и всестороннего регулирования и контроля хозяйственной жизни. При этом государство должно осуществлять главенствующую роль во всех сферах народной жизни от духовной – религиозного мировоззрения, правосознания – до социально-экономической, землеустройства, промышленности и т. д.
Тенденцию огосударствления хозяйства, обобществления экономической жизни наряду со стремлением к планированию Алексеев наблюдал и во всем мире. Он считал идею планового хозяйства перспективной для России и пытался соотнести ее с характером государственной власти. Будущий государственный строй Алексеев связывал с российской традицией сильного государства, каковым оно было и в период Московской Руси, и империи, и «советского социализма», который однако, по своей сущности был неприемлем.
Размышления Алексеева касались и форм государственного правления. Создание сильного современного государства Алексеев связывал с возможностью построить такой государственный порядок, который был бы лишен недостатков безвольного и инертного либерального парламентаризма и в то же время решительно не походил бы на государственного Левиафана в смысле Сталина или Гитлера[297]. Парламентский демократический строй западного типа, по его мнению, невозможен в России, так как парламентаризм связан с капитализмом эпохи его широкой экспансии.
Алексеев считал, что все политические идеалы «релятивировались и потеряли значительную долю своей бывшей ценности». «Поблек» идеал монархии. Существующие монархические режимы фиктивны и условны; отсутствуют социальные условия монархического режима – земельная аристократия, бояре, феодальное служилое землевладение. Сторонники монархизма немногочисленны и не сильны. Что касается расистских и фашистских движений, то они «не воспламенены монархической идеей в старом смысле этого слова». Их политические формы скорее цезаристичны, чем монархичны. Республика, по мнению Алексеева, служит в современных условиях лишь наименьшим злом. Обеспечение же правового и демократического режима может осуществляться и конституционной монархией.
Первостепенной задачей при выработке проектов будущего российского устройства Алексеев признавал «укрепление идеи личности и идеи права». Эти идеи представлялись ему важнее мыслей о внешних политических формах – парламентской системе, монархии или республике или сакральной формуле «всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права». В этих идеях выражены ценности, раскрывающие существо известного политического режима и не связанные с фасадами и декорациями, которые для многих, к сожалению, важнее существа[298].
Алексеев определил черты, которые были недопустимы для будущей России вне зависимости от того, станет Россия тоталитарным либо демократическим государством. При тоталитарном строе для России невозможны тоталитарные устремления, идеология, подавляющая свободу человеческого духа, свойственная как красной, так и белой антикоммунистическим диктатурам. Планы насаждения в России фашизма или национал-социализма как альтернативы коммунизму Алексеев признавал бессмысленными.
Изменение тоталитарной сущности государства Алексеев связывал с иным пониманием личности; она не должна быть функцией государства. Государство не «первее человека», оно может требовать от человека «только во имя самого человека, во имя его физической и духовной свободы». При тоталитарном режиме для России неприемлема диктатура единой правящей партии. Тоталитарную однопартийность Алексеев считал «более жестокой», чем демократическую многопартийность, которую также признавал негодной для России. Он призывал к уничтожению духа партийности и к образованию вместо политических партий «деловых объединений по разным текущим и организационным вопросам государственной жизни».
Алексеев считал, что будущей России должны быть чужды и многие традиционные особенности современных демократий: превращение человека в голосующую единицу, освобожденную от всех общественных связей, «всеобщее политиканство», «принудительная политизация всей культуры и уничтожение автономии культурного творчества в разных областях жизни»[299].
Алексеев сформулировал основные принципы будущей Конституции России. В пункте «Основы государственной власти» сказано, что народ как основу государственной власти нельзя отождествлять с интересами лишь голосующих граждан. К народу принадлежат и те, кто не голосует (малолетние, подрастающее поколение); провозглашено, что в конституции должны быть раскрыты принципы социального и культурного строя государства на основе правового реализма, официальные органы должны быть фактически существующими и правомочными.
В будущей конституции Алексеев считал необходимым изменить соотношение роли верховной правительственной власти и системы государственных органов; необходимо юридическое утверждение реальной единоличной власти, олицетворяющей государственное единство и символизирующей в то же время «постоянство государственной жизни», что может быть реализовано, по мнению Алексеева, при установлении президентской власти. Народное представительство в России должно формироваться не по корпоративной системе, а по территориальному, экономическому, национальному принципам, с учетом земского самоуправления. Важно создание статей об организации суда и защите прав личности. Принятие в будущей России подобной конституции, считал Алексеев, создало бы благоприятные условия для развития атмосферы права, отсутствие которой составляет «главную язву советской жизни», и помогло бы преодолеть трудности в построении в России правового государства[300].
В области строительства национальных отношений, с точки зрения евразийцев, советский федеративный строй, определяемый геополитическим единством евразийских национальностей и общим местом развития, нуждался в существенных изменениях. Необходимо было устранить коммунистический гнет и предоставить свободу духовного самоопределения на религиозной и лично-хозяйственной основе.
К национальной политике большевиков Алексеев относился двояко: с одной стороны, он признавал мощь советского государства, способного оказывать «силу притяжения» и вовлечения отдельных национальностей в единый союз, с другой – отмечал ограниченность советского федерализма. Интересы отдельных федераций были подчинены интересам пролетарского государства, и главным объектом федерации являлось не государство, а класс. Государства, вступающие в СССР, должны были быть государствами Советов, отказаться от самоуправления и не иметь иных конституций, кроме советских.
В советском федерализме, включающим интернационализм, который не признавал нацию как «самостоятельную ценность», Алексеев видел «тактическое средство», «заманчивый и обстоятельный лозунг». Он полагал, что большевистская национальная политика не имеет перспективы и что народы, которые ранее и не помышляли об автономии, разрушат и интернационализм, и Россию. Существующий в СССР строй, проникнутый идеалами интернационализма и коммунизма, надлежало преобразовать в наднациональный строй на национальной основе. При этом русская культура должна была стать базой наднациональной (евразийской) культуры, не допуская, однако, ограничения и стеснения других национальных культур[301].
Для евразийцев экономическая жизнь существовала лишь как средство для духовного развития человека. Учреждаемый ими строй государства подчинялся бы установлению принципов справедливости и общего дела. Будущее евразийское государство должно было стать «государством трудящихся, государством социальной справедливости и права». В основу хозяйственной жизни евразийцы ставили государственную собственность и государственный план, которые обеспечивали бы экономическую независимость Евразии и интересы трудящихся. «Евразийцы являются сторонниками широкого государственного регулирования и контроля хозяйственной жизни, а также сторонниками принятия на себя государством существенных хозяйственных функций»[302]. Это регулирование во многом определяется особенностями месторазвития Евразии, широтой и не всегда обозримой доступностью территории. Государственные предприятия должны охватить стратегические отрасли промышленности, которые обеспечат необходимый минимум продукции. Во избежание перерождения государственной промышленности в капиталистическую, отрицающую духовные основы человеческого существования, евразийцы считали необходимым создать и частную промышленность.
«Лично-хозяйственный» подход способствовал бы увеличению общественного продукта во благо всех трудящихся. При этом в программных документах евразийцев подчеркивалось, что речь идет не о свободе частной собственности, противоречащей социальной справедливости, а о свободе частно-хозяйственной инициативы. Это означает, что «“частники” являются не классом, а профессией, имеющей функциональный характер»[303]. Частную промышленность евразийцы считали необходимым сопроводить введением концессий как для отечественных, так и для иностранных владельцев. Концессии должны входить в синдикаты по отраслям и регулировать процесс выработки продукции.
Таким образом реализуется частно-государственная система в области промышленности. Эту же систему евразийцы распространяли и на сельское хозяйство – совхозы, колхозы, кооперативы, личные хозяйства. Земля при этом должна была составлять собственность государства, которое призвано оказывать поддержку всем видам крестьянских хозяйств. Одновременно евразийцы считали необходимым установить личную собственность на землю (на полевые, луговые и усадебные угодья) в функциональном понимании этой собственности. Введение собственности при координирующей роли государства, по мнению евразийцев, содействовало бы интенсификации сельского хозяйства: упорядочило бы крестьянское землепользование (устранило чересполосицу, дальноземелье), обеспечивало крестьян качественными семенами и удобрениями, способствовало бы улучшению селекции скота, расширению агрономической помощи крестьянству и т. д. Форма частного хозяйствования должна определяться уровнем социальной пользы, который превосходит частный интерес. В итоге все эти мероприятия увеличивали бы государственные доходы, и к народному доходу государственного сектора добавились бы «социальные доходы» частных хозяйств.
Таковы представления евразийца Алексеева о будущей России.
Заключение
Россия, ее прошлое, настоящее и будущее – главная тема, занимавшая мыслителей зарубежья. Они обладали глубоким чувством историзма вне зависимости от их профессионального образования, будь то философ, историк, писатель или инженер. Этот интерес зависел главным образом от личности, ее предрасположенности к анализу и обобщениям. Авторы рассмотренных прогнозов обладали высоким интеллектом, мастерством проникновения в сущность происходящих событий, в психологию и настроения различных слоев общества, и, как результат, – умением «прозревать» будущее. Как известно, психология творчества во многом определяется и средой, в которой осуществляется «творение». Потрясения, стрессовые ситуации (что характерно для эмиграции) убыстряют мыслительную деятельность и способствуют оформлению суждений о сложных, болевых проблемах действительности. Совокупностью этих моментов объясняется появление в эмигрантской среде талантливых и прозорливых проектов будущего России.
Авторы рассмотренных построений осознавали обусловленность будущего многими сторонами развития России в ее прошлом и настоящем. Поэтому эти прогнозы многоплановы и включают в орбиту внимания авторов проблемы, так или иначе способствующие пониманию их замысла. Прежде всего многие прогнозы, вне зависимости от их идейной направленности, связывают возрождение России с христианством, с его духовными и культурными ценностями, способными разрешить противоречия общественной жизни, с уничтожением «богоборческой ярости» советской власти и установлением взаимоподдерживающих отношений церкви и государства.
Большое внимание уделялось будущему государственному устройству России, роли государства в организации экономической и общественной жизни. Представляют интерес и разные точки зрения по вопросам этатизма в строительстве новой государственности (Маклаков, Бахметев). Характерно, что общей чертой изученных проектов является мысль о сохранении территориальной целостности России. Многие эмигрантские мыслители эту идею связывали не только с необходимостью преодоления сепаратизма внутри страны, но и с опасностью захвата российских территорий политическими или экономическими методами.
Непременным условием, определяющим жизнеспособность будущей России, признавалась сильная государственная власть (Маклаков, Федотов). Выдвигалась мысль о новом типе соотношения государства и индивидуума, обеспеченного независимостью и охраняемого государством (Бахметев, Маклаков). Прогнозы форм государственной власти были различны – республика, авторитарная демократия, президентская республика. Популярным был и принцип непредрешенства – признание любой формы власти, предусматривающей народоправство, гражданские и политические свободы. Авторов эмигрантских прогнозов занимал также вопрос о характере будущей власти: она должна быть прежде всего слугой народа, обладать психологией не властвования, а служения и, следуя традиции, высоким уровнем культуры. Власть надо готовить быть властью.
Будущий общественный строй России связывался эмигрантскими учеными и с капитализмом (Бахметев, Маклаков, Струве), и с социализмом (Степун), но лишь теоретически – и западный, и советский социализм в равной степени подвергались резкой критике. Евразийское учение, отрицавшее общественное устройство западного и советского типа, предлагало свой вариант российского развития. В проектах, предусматривавших обязательное возвращение капиталистического строя и частной собственности, предлагалось создать идеологию собственника (экономическая и правовая свобода), развить буржуазию в России (Струве, Маклаков, Бахметев). Особое значение в этом плане приобретали размышления о буржуазной природе крестьянства, необходимости его союза с буржуазией и торгово-промышленным классом, о развитии рыночных отношений и торговли (Маклаков, Степун). Заслуживают внимания размышления о стиле русского земельного хозяйствования, о психологии крестьянства, его религиозно-нравственном отношении к земле и природе.
Сторонниками капиталистического пути России провозглашалась необходимость организации промышленности и торговли на капиталистических началах, развития предпринимательства и превращения России в индустриальную державу. Эмигранты призывали к осторожности при проведении денационализации промышленности во избежание захвата ее отдельных отраслей иностранцами.
Национальное строительство будущей России занимало важное место в рассмотренных проектах. Эмигранты предсказывали неизбежность сепаратизма в Советской России (особенно в период ее неминуемого ослабления), отделения от России ряда национальных территорий, в частности, Украины, Закавказья и др. Будучи государственниками, авторы этих прогнозов считали необходимым в постбольшевистское время сохранять монолитность страны. Защита территориальной целостности России не исключала особого внимания к стремлениям и запросам отдельных национальностей. Ставилась задача формирования нового национального сознания, сочетающего интересы всех национальностей, и их освобождения от партийного диктата, а также установления в национальных районах гражданских прав, свободы вероисповедания, справедливого судопроизводства, уважения к национальной культуре.
Примечательными особенностями проектов устройства будущей России являются приоритет личности как основы созидательного процесса в истории, необходимость формирования нового самосознания, нового типа человека, обогащенного духовностью, сохранение традиционных российских ценностей, верность ответственного служения и утверждение концепции «личной годности» (Струве), направленной против безответственности и равенства.
Значительное внимание уделялось и теме возрождения культуры, образования и науки. Особая роль отводилась интеллигенции, призвание которой заключалось в том, чтобы вместе с государством заниматься воспитанием и просвещением народа. Предполагалось открыть новые школы и учебные заведения. Приоритет должен был отдаваться гуманитарному образованию, науке следовало освободиться от политизированности и догматизма. Подчеркивалась настоятельная необходимость обратиться к историческим дисциплинам, дающим ключ к пониманию историко-культурных процессов и играющим огромную роль в воспитании гражданского сознания и патриотизма.
Процесс созидания России, отмечалось в прогнозах эмигрантов, во многом будет зависеть и от международной обстановки. Поэтому необходимо было учитывать отношение европейских держав и США к России, а также формировать общественное мнение в защиту новой российской государственности.
Исповедуемые эмигрантскими мыслителями научные принципы подхода к анализу исторического материала – стремление познать природу явлений, их исторические корни, специфику и общность с аналогичными проявлениями – закономерно требовали изучить целый ряд проблем российской истории. В их числе – проблемы революции, эволюции, советского строя, его возможной трансформации, большевизма, западного политического устройства, демократии и др. Рассмотрение их играло не только служебную роль в прогностической деятельности – сама проблематика обогащалась новыми трактовками и наблюдениями.
В этой связи несомненный интерес представляют принятые в эмигрантской среде подходы к проблеме эволюции большевизма и роли эволюционного развития в строительстве будущей России. Одни эмигрантские мыслители усматривали эту эволюцию в непоследовательности, противоречиях и трудностях коммунистической власти, в ее тактических отступлениях от канонов марксистско-ленинской идеологии (Милюков); другие вообще отрицали способность большевизма к эволюции, поскольку он никогда не признает принципов частной собственности и гражданского равноправия (Бахметев, Маклаков). Заслуживает внимания и предсказание о возможной ликвидации большевизма в ходе эволюционного развития, что стало бы революционным по своей значимости событием (Тимашев).
В процессе изучения данной темы становятся очевидными высокие интеллектуальные возможности, эрудиция, профессионализм и политическая культура эмигрантских ученых, способных объемно воспринимать исторический процесс и предвидеть будущее. Созданные ими прогнозы постбольшевистского устройства России во многом сохраняют актуальность.
Приложение
Алексеев Н. Н. На путях к будущей России (Советский строй и его политические возможности)[304]
О некоторых преимуществах и недостатках советской системы
Советскую систему достаточно подвергали критике, причем главным образом не со стороны ее основных начал, а со стороны ее отдельных проявлений. Отождествляя политику коммунистов с советской системой, ставили последней в упрек все то, в чем виде ли отрицательные стороны первой. А так как политика правящей ныне в России партии действительно не находит оправдания, то, погребая ее критикой, тем самым хоронили и советскую систему. В советской системе не видели ничего иного, как чрезвычайки, террора, безудержного произвола, отсутствия всякой правомерности, пренебрежения к закону и т. п. Мы менее всего хотим сказать, что критика коммунистической политики была незаслуженна. Мы выставляем только мысль, что за время владычества коммунистической партии в России силою вещей выкристаллизовались некоторые политические формы. Менее всего основательно полагать, что в формах этих, которые все же нужно назвать в известном пределе стабилизированными, не было ничего, что не вытекало бы из законов социальной необходимости. Коммунисты во многом принуждены были поступать так, как поступила бы каждая партия, очутившаяся длительно у власти в период острого революционного процесса. Кроме того, всего более несправедливо становиться на марксистскую позицию и в политических формах советского государства не усматривать ничего, кроме отношений насилия. Политическая форма всегда имеет собственное содержание, собственный смысл, который и должен быть вскрытым наукой. Мы предполагаем поэтому относиться к советской системе не по-марксистски, и не с точки зрения политической публицистики. Мы имеем в виду вскрыть, что в политической форме советов выяснилось как положительное и что должно быть признано отрицательным. Причем дело идет о преимуществах и недостатках первоначальных, органических, а не производных, более или менее случайных, которые вытекают не столько из самой системы, сколько из ее искажения.
Чтобы понять нашу точку зрения, мы позволим себе прибегнуть к следующей предположительной возможности. В России образуется группа, которая приходит к убеждению в ошибочности основных предпосылок марксистской теории государства. Группа эта становится на точку зрения, изложенную нами в первых главах этой книги: она приходит к убеждению, что совершенство общественной организации зависит не от классовой политики, а от усвоения и проведения в жизнь принципов личного совершенствования; она проникается взглядом, что государство есть не союз борьбы, но союз мира; и в то же время она не хочет отказаться от истинно русского стремления построить государство как союз правды; она разочаровывается в принципах коммунизма и стремится найти эту «правду» иными, не коммунистическими путями. Вот такая-то предположительная группа стоит перед фактом советского государства – перед фактом, с которым она свыклась и в построении которого она сама, быть может, принимала участие. Что же предстоит такой группе? Разрушить построенное до основания или отнестись к нему, как инженер к несовершенному и не вполне оконченному проекту: то есть постараться поправить ошибки и усовершенствовать недостатки?
Мы стоим перед советской системой, как перед таким несовершенным и неоконченным аппаратом. Чтобы сразу его не выбросить как никуда не годный, приходится начать с его некоторых преимуществ. Причем мы увидим, что преимущества эти тотчас же открывают и свойственные советскому государству недостатки, так что резко отделять их в последующем нам не придется.
1. Советское государство есть прежде всего государство с сильной властью. Как бы мы ни расходились в определении будущего политического строя России, мы не можем не признать, что в ней возможен только политический строй, обладающий такой сильной властью. Сказанное обуславливается тем, что Россия не успокоилась еще от революционных бурь, и тем, что Россия искони привыкла к сильной государственной власти, и тем, что по громадным размерам своим она может быть связана и удержана только сильной властью. «Сила» власти советского государства покоится на двух основах, из которых одна лежит в самой технике советской организации, другая – в связанной с советским строем идее диктатуры. Мы разберем их по порядку.
а) Власть в советском государстве делает «сильной» то обстоятельство, что в советском организме функции управления обладают значительной свободой и не связаны теми «рогатками», которые им ставит народное представительство. С этой своей стороны советская система есть полная противоположность системе западного парламентаризма. В то время как при парламентаризме народное представительство в любой момент способно привести правительственную власть в состояние колебания, в силу чего в западных демократиях правительственная власть находится в состоянии постоянного кризиса, в советской системе все правительственные органы, начиная с местных и кончая центральными, выбраны на срок, обладают громадной компетенцией и совершенно устойчивы. Норма, лежащая в основе устройства правительственной власти в советском государстве, такова: правительство обладает теми же правами, что и народные депутаты, но должно отчитываться перед ними во всех своих действиях, кроме того, каждый акт любого правительственного органа может быть отменен высшим органом и приостановлен в некоторых случаях органами, стоящими на одной ступени правительственной иерархии и даже низшими. Советская система с этой стороны скорее похожа на швейцарский тип организации правительственной власти, который построен чисто демократически, пронизан началом подконтрольности и ответственности, но чужд началам парламентаризма. Советские исполнительные комитеты – это полномочные комиссии народного представительства, так сказать, «депутаты депутатов». И потому они и обладают в значительной степени теми же правами, что и сами депутаты. Связь правительства с народным представительством должна устанавливаться тем, что во время сессий съездов народных представителей устанавливаются те общие нормы политики, которые правительство и обязано осуществлять и проводить в жизнь. Каждая последующая сессия должна поверять, что сделало правительство за вакантный период, и в зависимости от этого каждому отдельному члену правительства выносится одобрение и неодобрение. Идеи конкуренции народного представительства и правительственной власти здесь совсем нет, отношение между ними строится по началу преемства и солидарности. Если взять все эти отношения отвлеченно, вне той практики, которая существует у коммунистов, то в них имеется большое количество преимуществ. Они дают правительству значительный простор, не освобождая от ответственности, придают ему устойчивость, делают сильным. По идее, таким образом, такая организация весьма удобна и очень подходяща для русских условий. То обычное возражение, что у коммунистов на практике эти идеи не осуществляются или искажаются, отнюдь не отвергают самого смысла изучаемых нами институтов. Повторяем, испортить и исказить можно все, даже самое совершенное. Но в то же время подобная система отношений между народным правительством и правительственными органами обнаруживает удобства только в том случае, если ее освободить от некоторых несомненных недостатков, которыми она страдает в современном советском строе. Теоретики советского государства хотели построить его так, чтобы в нем не было никакого «разделения власти» и никакой специализации функций. Вместо такой специализации в писаном советском праве был признан принцип «замещения»: каждый нижестоящий орган вполне должен замещать в промежутки между сессиями каждый вышестоящий орган. Так, Центральные Комитеты замещают Съезды Советов, Президиумы и Советы народных комиссаров замещают центральные исполнительные комитеты. Однако это было принято только в писаном праве, да и то не последовательно и в ранний период жизни советского государства. Практика показала, что такая система неосуществима. Пришлось принять принцип специализации функций, хотя бы в мягком истолковании. Уже первоначальные тексты советских конституций распределяли до известной степени функции между органами, когда считали, что правом пересмотра советской конституции (учредительными функциями) обладает только Съезд Советов. В то же время Совет народных комиссаров даже в первоначальных конституционных опытах обладал преимущественно властью исполнительной. С последующей практикой выяснилось, что преимущественно законодательными органами являются Центральные Исполнительные Комитеты, которые как бы должны играть в советском государстве роль парламентов.
Однако все названные изменения, нашедшие отголосок и в писаном праве, носят далеко не принципиальный характер. Коммунистическая теория советского государства не может усвоить мысли, что крайнее проведение системы заступления одного органа другим равносильно законодательной анархии. При такой системе в государстве нет идеи строгой законности, так как любой орган может издать или отменить постановление первостепенной юридической важности. При такой системе, возведенной в принцип, нет никакой необходимости, чтобы основные государственные законы изменялись на Съездах Советов, а другие важные законодательные постановления на сессиях центральных исполнительных комитетов. Изменить конституцию может, пожалуй, и такой исполнительный орган, как Совет народных комиссаров и даже, пожалуй, какой-нибудь губернский или уездный исполком. Нелепость такой системы очевидна, хотя советская практика и дает примеры проведения такой нелепости в жизнь. Вопреки, например, основным законам, советская Конституция десятки раз изменялась не Съездами Советов, а постановлениями других органов, уже не говоря о том, что важнейшие законы издавались иногда совершенно некомпетентными властями. Из всего изложенного следует, что для упрочения в государстве порядка и законности, а оно придет неизбежно, хотя и не может прийти через коммунистов, следует принципиально ограничить принцип «заступления», не отменяя его, однако, в виду его некоторых, вышеуказанных преимуществ. Задачу эту можно решить при помощи следующей довольно простой формулы: нижестоящий орган может заступать вышестоящий во всех вопросах, за исключением тех, которые исключительно входят в компетенцию вышестоящего органа. Применяя эту формулу к советской Конституции, придется переделать ее отдельные постановления в том смысле, чтобы для каждого государственного органа был точно очерчен круг вопросов, разрешение коих входит в его специальность. Круг этот не должен быть широким, но в то же время должен замыкаться известными принципами, определяющими специальность каждого органа. Иными словами, должен быть решительно откинут тот основной советский принцип, согласно которому все вопросы, входящие в область ведения вышестоящего органа, входили и в область компетенции низшего.
Если это будет выполнено, тогда начало заступления лишится всех своих недостатков, но и сохранит все свои преимущества. Не будет той непомерной гипертрофии функций исполнительных комитетов при чрезвычайной бедности ведения Съездов. В государство органически войдут начала законности и порядка, и в то же время правительственная власть сохранит свою силу.
Иногда указывают, что система заступления совместима только с режимом однопартийности, так как, при нескольких политических партиях, она бы привела к столкновению отдельных органов и к полной государственной анархии. Указание это вполне справедливо, пока мы имеем дело с началом заступления в его исключительной форме. Если же ограничить его, как здесь предлагается, то возражение само собою отпадает. Каждый нижестоящий орган, даже будучи другого партийного состава, все же будет связанным специальными постановлениями вышестоящего органа. Конфликт между ними может разрешиться сложением депутатских полномочий нижестоящим органом и не будет приводить к государственной анархии, при которой каждый орган творит собственную волю, отменяя постановления вышестоящих органов. Впрочем, многопартийная система есть такое зло, с которым нормальное государство должно бороться.
б) Власть в советском государстве является сильной властью потому, что она находится в руках одной партии, которая действует как единоличный диктатор. В идее диктатуры, взятой вне отношения к коммунизму и к классовой теории государства, таится одна, совершенно справедливая и весьма важная для политика мысль. Справедливо то, что во всяком государстве, какое когда-либо существовало в истории и которое когда-либо будет существовать, всегда был и всегда будет некоторый естественно создающийся правящий отбор или некоторая правящая группа, несущая на плечах своих бремя государственной власти. Исторически группа эта по большей части состояла из интеллигенции данного народа, иногда воплощавшей в себе все, что в народе было лучшего, иногда же и не отличающейся особыми доблестями и талантами. В зависимости от сказанного и государства были хорошими или дурными: где правящая группа была достойна своего призвания, там она мудро вела государство; где нет – там государство прозябало и впадало в постоянные бедствия. В этом смысле можно утверждать, что диктатура неотделима от государства как реального явления общественной жизни. Реально государство невозможно, если в нем правящей группы нет.
Всевозможные государственные формы можно, в зависимости от характера деятельности правящей группы, разделить на правильные и неправильные – на республики (в широком смысле этого слова: res publica, общее дело) и на деспотии. Там, где правящая группа честно и преданно выполняла свое назначение и была носительницей идеалов государственной солидарности, идеалов социального мира, там мы имеем дело с правильными формами государства, независимо от того, назывались ли они республиками или монархиями. Там же, где правящая группа стремилась проводить свою ошибочную и потому не соответствующую народным стремлениям идеологию (как коммунисты в России проводят теперь свою) либо преследовала свои корыстные интересы, или была на службе корыстных интересов какого-либо класса или какой-либо партии, там мы имеем дело с формами деспотическими. Нужно всегда помнить, что существовали государства, носившие имя республик и деспотизмом своим превосходящие власть единого тирана; и были деспотические демократии, не уступающие своими произволами произволу абсолютного монарха. Качество государства зависит не от внешних его форм и не от названий, а от внутренних отношений правящих к управляемым. Государство хорошо, когда управляется на началах социального служения и жертвенности, плохо, когда оно управляется на начале личной пользы властвующих.
Из сказанного следует, что наличность правящей группы в советском государстве не только не является чем-либо для государственной жизни необычным, но и составляет необходимое условие всякого государственного бытия. Однако правящая группа в советском государстве отличается совсем особыми качествами, которые в значительной степени искажают ее назначение и не обеспечивают ни начал справедливости и права, ни требований, которым соответствуют правильные формы государственного устройства. Прежде всего эта правящая группа является партией и партией себя именует: она возникла в свое время в качестве одной из партий многопартийного государства и, захватив власть, сохранила всю свою партийную ограниченность и односторонность. Партия (от слова pars) всегда есть часть государства, предполагает, что существуют другие части, другие партии, и не может поставить себя на место целого. Ведь в том и существо партийной идеологии, что она частична, ограничена и не может не быть утопическою, если ее не ограничивают другие такие же односторонние частичные или партийные идеологии. Партия, которая упразднила другие партии и объявила себя целым государством, в сущности уже перестала быть партией и не может носить имя партии. А это именно и случилось в советском государстве, где коммунистическая партия превратилась в единственную, но осталась по природе своей ограниченною партией с узкою и утопическою идеологией, вред которой ослаблялся ранее лишь существованием других идеологий и отсутствием реальной силы. Поэтому-то она и превратилась как бы в особое государство в государстве, где, как мы видели, существуют два правительства – официальное и неофициальное. И в конце концов никто не знает, что же истинно правит – органы ли государства, перечисленные в конституциях, или Политбюро и ЦК коммунистической партии. Далее, стремление всякой политической партии сводится к тому, чтобы захватить в государстве власть, вырвать ее из рук других партий и в течение периода своего правления сделать государство объектом для применения своей партийной программы. Выходит, что не партия существует для государства, а государство для партии, и это есть одна из самых отрицательных сторон партийного режима.
Демократический строй европейских государств делает выносимым и терпимым партийный режим благодаря той поправке, что партия ограничивается другими партиями, получает власть на срок и зависит в конце концов от народного голосования. В России поправка эта уничтожена была в тот момент, когда коммунисты, оставаясь одною из партий, загнали в подполье все другие партии. Партийный режим стал таким образом бессрочным, и Россия на неопределенное время отдана во власть коммунистического опыта. Это обнаруживает всю нежизненность партийного режима на европейский образец и делает его невыносимым и нестерпимым. Кроме всего этого, коммунистическая партия, как мы видели, покрывает еще себя именем рабочего класса, диктатуру которого она будто бы проводит. Но если бы даже действительно коммунистическая партия проводила диктатуру рабочих, а не свою диктатуру, то и тогда бы нельзя было причислить современное советское государство к правильным формам государственного устройства. Там, где класс правит, соблюдая только свои интересы, он становится настоящим деспотом. Известное утверждение, что интересы рабочего класса совпадают с интересами всего народа, и что поэтому пролетарская диктатура не есть деспотия, является простой, лишенной серьезного значения отговоркой. Серьезно никак нельзя утверждать, что, например, интересы городского рабочего и крестьянина всегда совпадают, хотя крестьянин принадлежит к тому же «народу», что и рабочий. И если рабочая диктатура властвует только по своим классовым интересам, она постоянно может впадать в конфликт с деревней и может обратиться в чистую деспотию над деревней. Если же рабочая диктатура преследует «общие» рабоче-крестьянские интересы, то тем самым она перестает быть классовой. Она кладет на плечи свои те «нейтральные» функции, которые призвана нести каждая правильно построенная государственная власть. Однако в советском государстве фактически вовсе не властвует рабочий класс, а деклассированная интеллигенция очень разнообразного национального состава, объявившая себя хранительницей интересов пролетариата. Эгоистическая и себялюбивая диктатура такой интеллигенции еще хуже, чем диктатура класса, ибо она вырождается в диктатуру наихудшей бюрократии.
Существование советской правящей группы в изображенных нами свойствах, то есть постольку, поскольку она является партией в европейском смысле и притом с ложною и вредною коммунистической идеологией, совершенно несовместимо с каким-либо нормальным государственным порядком. Чтобы правящая группа советского государства стала действительно социальной его опорой, для этого ей необходимо утратить характер политической партии в современном и европейском смысле этого слова. Из партии, единственное стремление которой сводится к временному или длительному захвату власти и притом при нормальных условиях, умеряемому давлением других партий, она должна превратиться в союз лиц, согласных служить государству, защищать его интересы и помогать его целям. Всякая партия притязает на власть, а этот союз, о котором мы говорили, должен притязать на жертву. В старых монархиях существовали люди, именующие себя государевыми слугами, теперь должны быть слуги государства. Цели группы не в организации камарильи, а в организации людей, способных нести государственную работу, и в предоставлении таких людей в помощь действительному правительству. Группу эту поэтому следует называть «правящей» преимущественно потому, что она составляет социальный фундамент государственной власти, подготовляет и дает людей, которые могут править. Править же в государстве должны те официальные органы, которые по конституции несут власть. Названная группа не замещает государства, но подготовляет пригодный государственный материал, развивает самодеятельность народа, способствует проявлению политической инициативы и тем самым посредственно двигает государством. Но вместе с тем она сама должна являться мощною дисциплинированной организацией, не остающейся только на поверхности общества в виде образованного класса, а проникать и до низов его. Само собою разумеется, что такая группа должна быть хранительницей нейтральных задач государства, и, следовательно, она не может иметь классовую окраску. Не класс, а народ в целом, нация с ее политическими идеалами, с ее пониманием политической правды – вот кого должна эта группа представлять. Отсюда видно, чем группа эта должна отличаться от ныне правящей в России коммунистической партии. Прежде всего это – национальная группа, вдохновленная солидарными интересами всего общественного целого; затем это – группа, составленная по чисто внутренним государственно-идеологическим и моральным признакам, – группа тех, которые хотят и умеют быть нравственно лучшими. Принцип такой группы – не внешняя принадлежность к классу, но часто корпоративная идея чести, честности, ответственности, самопожертвования и солидарности.
Было бы несправедливо сказать, что и в среде коммунистов нет этих качеств. Есть много убежденных, честных коммунистов, и их нечего учить вышеупомянутым принципам, они у них имеются, несмотря на то, что марксистское учение заставляет качества эти скрывать, даже как бы стыдиться. Такой честный коммунист обязан по марксистской указке закрывать фиговым листком все то, что у него действительно хорошо, а все низкое обнажать и им щеголять. Но когда марксистский сумбур покинет русские головы, тогда в коммунистической партии будет много элементов, способных стать ценными членами названной группы. Кроме того, советский строй породил в России большие организации молодежи, иногда очень идейной, но, к сожалению, совершенно запутавшейся в марксизме. Вот здесь-то, в этой молодежи, зреет великая и богатая жатва. Сейчас комсомол стоит перед неразрешимой задачей: многие молодые, прямые, искренние люди видят, что из коммунизма ничего не вышло, но и капитализма искренне не хочет комсомолец. Где же у него выход? Выхода нет, пока он стоит на марксистских ходулях. Но как только он эти ходули снимет, выход ему будет самый легкий – и он изложен нами в одной из предшествующих глав, когда мы говорили о «праведном» государстве. Отойдя от марксизма, комсомол силой вещей изменится и сможет влиться в ту правящую группу, которой не избежать будущей России.
2. Вторым преимуществом советского государства является то, что оно представляет собою первый практический опыт демократической организации русского народа, «демократической» опять-таки не в смысле европейском, а в смысле «народности», ибо здесь создана возможность того, чтобы организованное меньшинство действительно выражало народную волю и народное миросозерцание, (возможность, которая при господстве коммунистов далека еще от действительности). Народная русская стихия искала себе свободного выхода в течение всей русской истории, однако организация ее, начиная с московского периода, имела формы аморфные и анархические. И в течение московского, и в течение петербургского периода русской истории в глубине государства Российского шумели мощные подземные течения чисто народного характера, проявлявшиеся и в образовании казачьей вольницы, и в движениях самозванцев, и в великих потрясениях Смутного времени, и в бунтах Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Однако в противоположность подобным же течениям западных народов русский демос не выработал никакой собственно политической программы, не сумел приступить к государственной организации, что сделал западный демос в своих учениях естественного права. Последним словом политической мудрости этих русских демократических течений было провозглашение самозванца, то есть подражание тем политическим формам, которые не умещали русскую демократическую стихию, и против которых она подымала бурное течение своих волн. В 1917 году произошло падение российской монархии, и русский демос остался единственным властелином русского государства. Русская интеллигенция хотела ему привить формы западных демократий, но они не пользовались популярностью в народе, ни тогда, когда их прививала ему монархия в виде умеренного западного конституционализма, ни тогда, когда их хотела привить либеральная и радикальная интеллигенция в эпоху Временного правительства и столь мало понятого и мало поддержанного народом Учредительного собрания. Своеобразную организацию русского, чисто народного государства, конечно, дал большевизм – не как политическая система, а, скорее, как политическая практика, которая стихийно породила некоторые особые политические формы.
Часто кажется, что советское государство есть политическое образование совсем особого рода, не имевшее теоретических предшественников. Действительно, в советской организации государственной власти есть много оригинального, однако нельзя сказать, чтобы общие контуры ее впервые измышлены были в результате революции 1917 года. В русских интеллигентских политических проектах советская система имеет некоторые предвосхищения, остановиться на которых в высшей степени поучительно.
По проекту государственного преобразования М. М. Сперанского, Российская Империя должна была принять следующие политические формы. Во главе ее стояла единоличная власть монарха, около которой в виде дополняющего коллегиального начала построен был Государственный совет, составленный из членов по назначению монарха и являющийся сосредоточием всех главнейших государственных дел. Монарх и совет совокупно объединяли всю область государственных функций, разделенных на три основные категории – на законодательство, управление и суд. Законодательные функции в государстве ведались различными думами, которые разделялись на волостные, окружные, губернские и государственную. Каждая из них собиралась раз в три года из депутатов, выбранных от населения (конечно, по очень несовершенной системе), на сравнительно короткие сессии. Низшие из этих дум выбирали свое правление или совет (волостное правление, окружной совет, губернский совет). Порядок выборов каждой думы шел ступенями: волостная дума кроме своего правления выбирала депутатов в окружную думу, окружная – в губернскую, эта последняя – в государственную. Таким образом, центральное законодательное учреждение было связано со всей системой местных законодательных органов. Сверх того, окружные и губернские думы выбирали еще членов Окружного суда и Губернского суда.
Таков был порядок законодательных органов, которому соответствовал особый порядок управления империей. Во главе управления стояли министерства как центральные правительственные органы. По замыслу Сперанского, в каждой губернии, в каждом округе, в каждой волости должны быть учреждены как бы местные отделы министерств – местные министерства «в меньшем размере». Состав губернского управления, говорил Сперанский, должен быть основан на том же правиле единства и постепенности, что и управление центральное. Эти местные отделы министерств наименовались правительством губернским, окружным и волостным. Каждое управление разделялось на соответствующие, в общем, центральным ведомствам отделы, которые назывались экспедициями. Кроме того, в каждой административной части империи имелся и представитель единоличного монархического начала, в виде особых волостных, окружных и губернских начальников, или губернаторов. Скелет управления был построен, таким образом, по одному, весьма симметрическому плану. Как же он относился к системе органов законодательных?
По замыслу Сперанского, законодательные учреждения были теми контрольными инстанциями, перед которыми ответственны были правительственные органы и которые умеряли власть последних. Так, министерства Сперанский предполагал сделать ответственными перед Государственной думой, понимая, однако, эту ответственность не в смысле парламентаризма, а в смысле представления периодических отчетов о своей деятельности Думе и в смысле привлечения Думою к суду отдельных министров.
Сходным образом Сперанский предполагал, что в каждой губернии при губернском правительстве имеется губернский совет, избранный, как мы видели, губернскою думою, и перед этим советом ответственно местное правительство, представляя ему периодические отчеты и контролируя его деятельность. Подобную же роль играет окружной совет и волостное управление. Таким образом, думал Сперанский, власть управления, с одной стороны, «не будет развлекаема на разные части, не будет теряться в пустых состязаниях, а с другой стороны, будет умеряема действием совета. Таким образом, все части управления придут в надлежащее единообразие, и от министра до последнего волостного начальника дела пойдут, так сказать, прямою линией, не кружась во множестве изворотов, где не можно найти ни конца, ни следов разным злоупотреблениям».
Таковы предположения Сперанского, которые мы попытаемся рассмотреть сейчас с точки зрения свершившихся в России перемен. Императорская власть рухнула, и, таким образом, упали возглавления государственной системы, как мыслил их Сперанский. С падением этих возглавлений должно упасть и все то, что на них строилось: падают, таким образом, назначаемые монархом министерства, падает и вся система местных (губернских, окружных, волостных) управлений. Что же остается? Остаются в качестве единственного носителя власти избирательные учреждения, начиная с низших, кончая высшими, остается то, что можно назвать советами депутатов и их органами. Низший совет выбирает высшие органы советов и, в свою очередь, свой правительственный орган, свое «правление» или свой «исполнительный комитет». С падением самостоятельно назначаемых местных и центрального правительств правительственная власть переходит к этим комитетам. Верховный из них, соответствующий министерствам, делается выборным, превращается в комиссариаты и в совет комиссаров. Для согласования центрального управления с местными образуются отделы комиссариатов при местных исполнительных комитетах. Но их можно образовать или путем избрания на местах, или же комбинируя избрание с назначениями. В последнем случае местное управление будет построено прямо по Сперанскому: выборные комитеты на местах и при них назначенные министерства «в малом размере» – отделы губернских и уездных исполнительных комитетов.
В самых общих формах при снятии монархического принципа из системы Сперанского и выходит то, что действует ныне в России в виде системы советов. Основные особенности этой системы можно свести к следующим: а) Государственная система названного типа в принципе своем преодолевает индивидуализм и атомизм европейской демократии. Для европейских демократий высшим органом государственной власти является голосующий корпус граждан. Парадоксом западноевропейских демократий является то, что подобный орган по существу своему, однако, совершенно лишен какой-нибудь организации. Он просто представляет собою дезорганизованную массу людей, которые берутся, как ничем друг с другом не связанные. Их объединяет только одно – что они могут голосовать и выражать свои индивидуальные мнения. Такой орган есть настоящая куча песка, на которой и строит демократия свое здание. Очертания этой кучи столь неопределенны, что большинство западных конституций просто не решаются называть голосующую массу органом, хотя, без сомнения, молчаливо этот орган предполагают. Только в некоторых конституциях, как исключение, голосующий корпус считается органом. Так, например, конституция Женевского кантона называет голосующий корпус генеральным советом кантона и утверждает, что совет этот никогда не распускается и является носителем верховной власти. От него кантональная конституция отличает большой совет, или совет депутатов, как орган вторичный. Все это, конечно, чистые фикции. В действительности народ не представляет собою такой кучи несвязанных друг с другом атомов. Народ как реальное явление связан многочисленными социальными и экономическими отношениями, он выступает прежде всего как совокупность частных хозяйств и семейств, объединенных различными территориальными и профессиональными связями. Советская система за отправную точку свою и берет не отвлеченного голосующего индивидуума, а известную социально-экономическую единицу – деревню, волость, фабрику – с ее первичным государственным органом – советом депутатов. Советское государство есть не совокупность граждан-атомов, а совокупность советов.
Огромный недостаток западной демократии проявляется в фактической неспособности дезорганизованной массы голосующего корпуса как-либо проявлять себя – в необходимости внести в «орган» какую-нибудь «организацию». Так родятся политические партии, которые играют в западных демократиях роль организующего начала. Голосующий гражданин присоединяется к какой-нибудь партийной программе, становится членом целого, которое фактически играет в государстве политическую роль. Режим западных демократий есть партийный режим, партия дает демократии то организующее начало, которого она не имеет, поскольку мыслится как неорганизованная куча отдельных голосов. Однако режим партий взамен естественной организации граждан дает организацию чисто искусственную, построенную не на действительных социально-экономических интересах и потребностях, но на «принятии программы». Партийные программы строятся обыкновенно по принципу: «Кто больше пообещает». Вот на таких посулах и покоится организация «верховного органа» современных демократий. Людей объединяют неосновательные обещания, пробужденная ими жадность, надежды в будущем поживиться и получить побольше, и немудрено, что при этом политическая жизнь лишена здоровья и чистоты. В противоположность всему указанному советская система, по крайней мере в принципе своем, покоится на представительстве чисто реальных и профессиональных интересов, группирующихся около «советов» как основных ячеек республики. Отсюда вытекают еще две важные особенности советской государственной системы. Во-первых, она вся построена на косвенных выборах, что решительно противоречит европейским демократическим догмам, считающим нормальными только выборы прямые. Идея прямых выборов вытекает из учения о народном представительстве как географической карте страны. Чтобы парламент «отражал» лучше всю страну, необходимо непосредственное избрание депутатов народом. Чем более депутаты отделены от непосредственного волеизъявления народа, тем менее точно отображают они нацию. Но стоит только отрешиться от этих демократических фикций, стоит только усвоить взгляд на выборы как на отбор наиболее способных и лучших, и вопрос о косвенном избирательном праве получит совсем иное освещение. Можно считать несомненным, что процесс такого отбора гораздо совершеннее протекает при многостепенных выборах, чем при прямых. Во всяком случае, правосознанию русского народа косвенные выборы куда ближе, чем прямые. Еще при подготовке к выборам в Учредительное собрание в 1917 году трудно было убедить простого русского человека в справедливости прямого избирательного права. «Нет, – часто приходилось слышать от солдат, – уж лучше мы выберем делегатов, а они там решат, кто должен быть депутатом». В мнении этом проявлялось интенсивное, практическое чувство русского человека, что ему иногда трудно судить о пригодности того или иного из избираемых к политической работе. Русский избиратель хотел сознательно ограничить себя тем, чтобы в акте избрания поручить доверенным лицам избрать из своей среды наиспособнейших.
Кроме того, прямые выборы фактически возможны только там, где упрочен режим партий и где население раздроблено на партии. Слава Богу, в России этого еще до сих пор нет. Русский народ до сих пор представляет собою массу беспартийную, и если при этих условиях привить у нас систему прямых выборов, ясно, что она обратится в голосование за тех, кто всего более пообещает. А какие же кандидаты могут быть при прямых выборах предложены? Ведь прямые выборы отправляются от предположения, что народ есть неорганизованная куча голосующих и только партия может быть той организацией, которая способна выставить кандидатские списки. Здесь мы подходим ко второй положительной особенности советской системы, вытекающей из ее основного взгляда на совет как на органическую клетку государства. Советская многостепенная избирательная система теснейшим образом связывает выборы в центральные государственные учреждения с выборами в органы местного самоуправления. Депутаты выбираются не политическими партиями, а теми территориально административными государственными органами, иерархический порядок которых образует скелет советского государства. По принципу своему такая система имеет в виду постепенно провести на государственные верхи истинно деловых людей с государственных низов. Если такой порядок упрочился бы как нормальный, это означало бы, что в правительство могут пройти только люди, которые выказали себя деловой работой в местных учреждениях. Парламент, составленный из таких людей, был бы уже не «говорильней», но истинно рабочим учреждением.
Мы часто слышим мнение, что вредно местное самоуправление вмешивать в политику – пускай оно занимается своей работой, а не выборами депутатов. Мнение это покоится на в высшей степени несправедливом взгляде, что «политика» это – одно, а деловая работа – другое. Действительно, партийный режим способствует упрочению подобного взгляда; «политика» при нем сводится к партийным дрязгам и партийной борьбе в парламенте. От такой «политики», конечно, следует держаться подальше местному самоуправлению, хотя при господстве партийного режима пожелание это является чисто платоническим: все равно партийность проникает и в органы самоуправления, которые тоже ведь составлены из представителей партий. Однако для нас вся проблема организации правильно построенного, демократического государства сводится к тому, чтобы на место народного представительства, избранного по партийному признаку, поставить народное представительство, чисто деловое и рабочее. Для нас дело идет об уничтожении «политики» в парламенте, а раз она будет уничтожена, не будет ее и в местном самоуправлении. Уничтожить же ее можно только одним путем: путем непосредственной связи с деловой государственной работой в центре.
в) Государственная система названного типа является системой последовательно проведенной опосредствованной демократии. Управление через полномочных представителей, депутатов – вот основная ее норма. В силу этого названная система в значительной степени чужда тем трудностям, которые тотчас же наблюдаются, когда демократию понимают не как власть депутатов, а как полное самоуправление народа, где, строго говоря, никто не властвует, а каждый управляет самим собою.
Тупик, в который попали западные демократии, в значительной степени объясняется этим пониманием демократического строя как некоего анархического самоуправления. На самом деле, как такое «правление всех и никого» можно осуществить в действительности? По-видимому, оно мыслимо только в виде постоянно созываемой сходки всех граждан, которые решают все вопросы голосованием и только исполнение своих решений поручают отдельным лицам. Подобная сходка возможна, конечно, только в небольшой общине, так как сходка в несколько миллионов и даже тысяч человек была бы и немыслима, и вполне неработоспособна. Кроме того, такое управление через общее собрание граждан возможно только в общине с очень простой и несложной жизнью. Если же перед общиной стоят многочисленные и сложные вопросы, это значит, что общая сходка граждан должна собираться постоянно и граждане большую часть времени должны тратить на сидение в собрании, на произнесение речей и на голосование. Русские хорошо знают, как идет дело на таких сходках и как бесконечно долго на них обсуждается самый простой вопрос. Пожалуй, при таком «самоуправлении» людям ничего не осталось бы делать, как посвящать все свое время политике. А так как это весьма скучно и жизненно невозможно, то практика общих собраний силою вещей превращается в то, что на них идут только любители, призванные политики, которые фактически со временем и становятся правящей группой. Но все это мы говорим о случае, когда вообще общая сходка возможна. А когда она немыслима, вследствие количества ее участников, тогда современные демократии предлагают заменить ее некоторыми суррогатами, в виде, например, референдума или плебисцита. И опять-таки построить жизнь государства на голосовании всех вопросов путем плебисцита совершенно немыслимо. Плебисцит есть сооружение тяжелое, дорогое, берущее немало времени у участников и применимое только в особо важных и исключительных случаях. Таким образом, куда мы ни идем, везде наталкиваемся на мысль, что управлять фактически можно только через известную группу лиц, через специальное меньшинство.
Мы переходим, таким образом, к идее демократии опосредствованной, которая по существу дела является политической формой, реально привившейся в жизни благодаря ее удобству и осуществимости. Народ может управляться не сам, а посредством депутатов. Сторонники западных демократических учений часто стараются, как мы уже говорили выше, создать фикцию, согласно которой выходит, что управляемый через депутатов народ как бы самоуправляется. Для оправдания этой фикции утверждали, что собрания депутатов являются как бы народом в миниатюре. Однако все эти образы и сравнения не обладают ровно никакой реальностью. Собрания депутатов в действительности являются не миниатюрной копией народа, а тем правящим властным органом, который стоит во главе демократического государства. Поэтому совершенно правильно говорить о диктатуре парламента в демократиях европейского типа, только всегда нужно помнить отличия этой диктатуры от других, сходных политических форм. Прежде всего – и это самое главное – диктатура парламентских депутатов есть диктатура людей, которые попали в правящую группу после избирательной борьбы, после известного всенародного состязания. Этим диктатура парламента отличается от диктатуры старой родовой аристократии или от диктатуры назначенной абсолютным монархом бюрократический группы, «служилого сословия». Родовая аристократия существует в силу исторических преимуществ, по действующему праву, не сменяема; бюрократия подобрана волею монарха, назначена его односторонним актом и без монарха не сменяема также. Властное первенство парламентское создалось, напротив, в силу личной конкуренции: происходила избирательная борьба, кандидаты дебютировали перед народом, народ оценивал того или другого – и остановился на тех, кто ему казался лучшим. И с другой стороны, и аристократия, и старая бюрократия безответственны, парламентские же депутаты ответственны уже прежде всего тем, что их всегда могут забаллотировать на следующих выборах. Член демократического правительства должен так или иначе показать свою способность и свое умение управлять. Во всем этом проявляется некоторое неоспоримое преимущество демократической правящей группы. Хотя народ и не всегда умеет выбирать лучших, однако умеет ли всегда выбирать их монарх и лучшие ли непременно те, кто считается уже лучшим по роду? В данном случае у демократии и других политических форм преимущества и недостатки, так сказать, одинаковые. Но демократия бесспорно лучше аристократии и абсолютной монархии в том смысле, что она отрицает личный режим и создает условия для оценки правящих по признакам чисто объективным. Личная симпатия или личная принадлежность к роду могут быть единственными критериями для оценки правящего в монархии. Самый неспособный министр может таким образом существовать, если родовит и угоден. А в демократии принципиально, по крайней мере, такой случай невозможен. Демократические власти должны завоевать себе симпатии борьбой и работой. Не отрицаем, что в этой борьбе могут быть применяемы и нечистые средства, однако это не есть возражение по существу. Нечистыми средствами можно исказить каждый институт, даже самый совершенный. Мы же говорили здесь о принципах. И принципы конкуренции и ответственности составляют принцип первостепенной важности для будущих судеб России.
Старая царская Россия была государством бюрократическим, в котором это начало «конкуренции и подбора» всего менее находило применение. Хороша ли, худа ли была царская бюрократия, это другой вопрос, но сейчас она является разбитой и уничтоженной. Советское правительство породило собственную, коммунистическую бюрократию, которая большими достоинствами также не отличается. В настоящее время особенно важно для России привлечь к управлению государством широкие народные круги, чтобы выработать из них способных и деятельных лиц, могущих хорошо двигать государственную машину. Нужно помнить, что когда кончится коммунистическая диктатура, у любого будущего правительства не будет рабочей силы, не будет исполнителей и руководителей – их негде достать, помимо обращения к народным массам. Поэтому тот принцип опосредствованной демократии, который мы встречаем в советском государстве, является принципом первостепенной важности для будущих судеб России.
Таково начало опосредствованной демократии, провозглашенное в советском государстве, но фактически в нем ныне задавленное и влачащее довольно жалкое существование. Фактически современная Россия управляется на основе не демократического, но чисто олигархического начала, воплотившегося в диктатуре коммунистической партии. И здесь, конечно, мы имеем дело не с «правдой», а с «кривдой» советского государства, которая рано или поздно обличит свое собственное ничтожество. Современное господство этой «кривды» покоится на разных основаниях, которые можно свести к трем главным: 1) Непривычка русского, особенно крестьянского, населения к самоуправлению, отсутствие в нем крупных организаций и широкой сплоченности. Известно, что крестьяне очень неохотно идут на выборы в советы, процент уклоняющихся от выборов – огромный. В выборах принимают участие далеко не лучшие деревенские силы. При выборах у населения никакой ясно осознанной и признанной всеми программы нет, между тем коммунисты выступают всегда сплоченной группой, организованно и поступая по обдуманной программе. 2) Различные неправомерные с точки зрения советского права действия правящей партии и произвол, царящий в современной России, отсутствие в ней строгих правовых норм. Так, советский избирательный закон позволяет правящей партии лишить избирательных прав целые группы граждан, объявив их «кулаками», «буржуями» и т. д. Далее, коммунисты могут производить на выборах сильное давление на избирателей, используя то, что они стоят у власти и что в их руках государственная сила. И тем не менее мы видим, что в последние выборы в советы крестьяне довольно успешно сорганизовались и выбрали в сельские советы не коммунистов, а своих «беспартийных» представителей. Однако и это не помогает. Когда начинаются выборы на различные съезды советов, давление коммунистов начинает все более и более повышаться в зависимости от стадии выборов. Помогает этому давлению то обстоятельство, что выборы в волостной, губернский, окружной и т. д. съезды происходят в численно незначительных избирательных собраниях, куда сходятся или съезжаются с мест. В таких собраниях депутатов, конечно, весьма легко обработать, если они не организованы. 3) Наконец, самые особенности современного советского государственного права. Избирательный закон в Советской России и построен так, что городские советы имеют право посылать от себя непосредственно депутатов на различные съезды советов, начиная с уездных и губернских и кончая съездами самого Союза. Сельские же советы лишены права выбирать от себя депутатов непосредственно. Депутаты из крестьян могут пройти в высшие республиканские съезды только в том случае, если они избраны в губернские или уездные съезды советов. Это обстоятельство ставит в большое преимущество города и фабрики, где имеются самостоятельные советы, перед деревней. А так как в городах и на фабриках у коммунистов и более приверженцев, и они здесь имеют большую возможность давить на население, то при помощи такого закона и выходит всем знакомая в Советской России вещь: в сельских советах в среднем 90 процентов некоммунистов, а на республиканских съездах – 90 процентов коммунистов. Это – настоящий фокус, вроде тех, которые показываются в цирках.
Для будущего самым существенным вопросом русской внутренней политики является постепенное освобождение советского демократического начала от коммунистического гнета. Учреждение советов дало оружие для такого освобождения в руки самому русскому народу. Как ни задавлены советы коммунистами, все же русское, преимущественно крестьянское, население постепенно учится в них самоорганизации и самоуправлению. Советы – суть те лаборатории, в которых вырабатывается подбор истинно «деловых» людей, истинной соли земли русской, фундамента для построения будущей народной России. Это уже не «глиняные» ноги громадного русского великана, это – настоящий гранит, который не сможет разрушить никакая сила. Но чтобы работа такой лаборатории стала нормальной, следует добиться того, чтобы истинные представители советов проходили и на верхи государства.
Поэтому должна быть снята с советов коммунистическая опека, должно быть прекращено давление на выборах, должна быть обеспечена полная свобода выражать свое политическое мнение, должен быть снят непомерный советский деспотизм города над деревней. Сельские советы должны получить такое же право непосредственно выбирать депутатов в вышестоящие органы, как и советы городские. Только тогда мы увидим на верху России не фальсифицированное и сфабрикованное коммунистами «общественное мнение», а действительный голос русского народа. В то же время и русский народ должен понять то значение, которое имеют для него советы. Он должен освободиться от своей политической инертности, должен понять, что советы – его народное дело и что, в сущности, в советах лежат все судьбы его родины. Ведь теперь уже нет тех, под опекой которых русский народ жил ранее, теперь он сам – хозяин и распорядитель. Если он не досмотрит, то кто же за него сделает. Коммунисты? Но ведь он не хочет коммунистов. Стало быть, он должен относиться к своим советам так же, как к своему личному хозяйству, – не посеешь вовремя, будешь голодать; так и в советах, – не позаботишься о России, так и Россия погибнет. Словом, нет России без советов; советы не могут не собраться в срок, как бы там коммунисты ни фокусничали; на выборы должны идти все до одного; выбирать организованно людей крепких, верных народному делу; наказывать им, чтобы в дальнейших выборах депутаты шли как стена, не поддавались никакому давлению. Будет это – исцелится Россия.
Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. М., 2000. С. 337–359.
Ф. А. Степун Задачи эмиграции[305]
1. Эмиграция на перевале
Всматриваясь в процессы, происходящие сейчас в эмиграции, ясно видишь, что мы на перевале. Некая господствовавшая до сих пор форма эмигрантского сознания очевидно разлагается. Ей на смену как будто бы слагается другая. С разложением первой связан рост пессимистических настроений в части эмиграции. Нарождению второй сопутствуют подъем и напряжение творческих сил.
Без ясного осознания сущности и смысла этого двуединого процесса невозможна никакая успешная работа в эмиграции. Постараемся же разобраться во внутренней природе того кризиса, который не со вчерашнего дня переживает общественно-политическое сознание русского зарубежья.
2. Культурная значительность и политическая немощь русской эмиграции
Узкоклассовый и небывало жестокий характер большевистской диктатуры выбросил в эмиграцию отнюдь не только старорежимную Россию, но и весь верхний слой русской интеллигенции. Духовный и культурный уровень эмиграции очень высок. Не может быть спора о том, что пребывание эмиграции в Европе оставит по себе весьма заметный след. Религиозно-философская и научно-исследовательская мысль немногочисленного эмигрантского народа, равно как и эмигрантское искусство, могут с успехом конкурировать с культурными достижениями целого ряда благополучно здравствующих европейских стран[306]. Лишь в одной сфере эмиграция очень много делала, но почти ничего не достигла: в сфере своей общественно-политической борьбы за Россию. К весьма разнохарактерным общественно-политическим задачам, которые ставили себе весьма разные течения русской эмиграции, можно относиться по-разному. Подымать сейчас спор о том, кто был в свое время прав: интервенционисты или представители «новой техники», – неуместно. Разрешение этого, ныне уже чисто «академического» спора мы можем спокойно предоставить будущим историкам русской революции. Для нас несравненно важнее разрешить совсем иной вопрос: вопрос о том, почему эмиграции не удалось осуществить ни одной из поставленных ею себе общественно-политических задач.
Все попытки вооруженной борьбы с большевиками обанкротились. Все мечты по созданию общеэмигрантского представительства подъяремной России в Европе – разлетелись. Влияние научных работ эмиграции по изучению Советской России минимально. Европейцы больше верят большевикам, чем нам. Но что самое прискорбное, это то, что старшее поколение эмиграции не сумело завещать своего общественно-политического credo и своего антибольшевистского пафоса своим собственным детям: дети или денационализируются, или… большевизанствуют.
В чем дело? Как объяснить это тяжелое поражение эмиграции как раз на том фронте, на котором победа была ей гораздо нужнее, чем на всех остальных, взятых вместе? По моему глубокому убеждению, причину надо искать в преимущественном господстве в эмигрантской среде той дореволюционной формы антибольшевистского сознания, которая ныне переживает тяжелый кризис.
3. Дореволюционная форма антибольшевистского сознания
Сущность дореволюционной формы антибольшевистского сознания заключается в упрощенном ощущении большевизма как простого отрицания подлинной России и подлинной революции. Отсюда – в правомонархическом лагере – утопическая мечта о дофевральской России (февраль для этого лагеря – только начало октября), а в левореспубликанском – о дооктябрьской, февральской свободе. Самою разительною формулою этой реакционной сущности эмигрантского антибольшевизма является не раз высказывавшееся – с особой силой в левых кругах – мнение, что большевики не революционеры, а контрреволюционеры, что большевизм не революция, а контрреволюция. Ничего теоретически более ложного и практически более бездейственного выдумать нельзя. Корень этой несостоятельной выдумки очевиден: он заключается в неправильном противопоставлении «февраля» и «октября».
Конечно, положительная идея революции связана не с октябрем, а с февралем. Февральские лозунги родины, свободы и социальной справедливости и сейчас составляют краеугольные камни того миросозерцания, под знаком которого только и возможна борьба против большевизма. Верность этого положения должна быть признана незыблемой. Отказ от нее равносилен принципиальному переходу на сторону большевиков. Все это так. И все же из этого никак не следует, что большевики – контрреволюция. Не может быть никакого сомнения в том, что история, оставившая титул подлинных революционеров за якобинцами, оставит его и за большевиками. И, конечно, не по прихоти и произволу, а по тому углубленному пониманию диалектики революции, которого не хватает дореволюционному сознанию эмигрантского антибольшевизма.
Установление правильного отношения к большевизму, а тем самым и правильных методов борьбы с ним требует отчетливого осознания того факта, что сущность революций состоит не в провозглашении революционной идеи, а, как бы это ни звучало страшно, в ее разрушении. Подлинная революция – всегда страдальческий путь верховной революционной идеи: ее предательство, смерть и ее возрождение.
Чем объясняется неизбежность этого пути и в чем его последний метафизический и религиозный смысл – не об этом сейчас речь. Сейчас, в целях выяснения дореволюционной формы антибольшевистского сознания, важно только одно: установление того факта, что этому сознанию недоступно то диалектическое понимание революции, которое повелительно требует от пореволюционного сознания такого замысла о новой России, который синтетически сочетал бы в себе тезис февраля с антитезисом октября.
Конечно, было время, когда углубленное понимание диалектики революции, ощущение большевизма как глубокой и провиденциальной темы русской судьбы было и теоретически, и нравственно почти что невозможно. Выяснившаяся ныне неизбежность окончательной ликвидации дореволюционно-антибольшевистского сознания определенно запрещает нам те заносчиво-несправедливые суждения, что, к сожалению, все еще часто срываются с особо пылких пореволюционных уст. Ни доблестного геройства белого движения, ни великого подвига демократической борьбы за свободу в советских тюрьмах и застенках отрицать никто не имеет ни малейшего права. Но отдавая долг прошлому, надо твердо помнить, что прошлое прошло и что решительно нет никакого другого пути к спасению его светлой памяти, кроме пути мужественного отказа от инстинктивного стремления длить его агонию. Люди, имевшие в свое время мужество смотреть в лицо смерти, должны найти в себе мужество посмотреть и в лицо правде. Правда же эта гласит, что: 1) непримиримые галлиполийцы, упорно не читающие большевистских книг и газет и не подающие руки человеку с советским паспортом, 2) писатели, уверяющие, что с большевиками перевелись на Руси курские соловьи и русские девушки, 3) твердокаменные демократы, все еще утверждающие, что у большевиков никогда ничего не выходит, так как в колхозах жеребцы стоят нечищеными, в школах нет карандашей и бумаги и все машины, привозимые из-за границы, оказываются всегда без каких-то самых важных частей, – что все это уже давно не Россия, а утерявшая всякую связь с живой Россией эмиграция, которая, «стопроцентно» хороня большевиков, преждевременно хоронит и себя как силу, способную на творческую борьбу с мировым злом большевизма.
4. Пореволюционная форма антибольшевистского сознания
Историческая задача все крепнущего в эмиграции пореволюционного сознания заключается в ликвидации охарактеризованной выше формы дореволюционного антибольшевзима. Слова «антиреволюционный антибольшевизм» представляют собою совершенно очевидный логический абсурд. Если большевики – революция, то антибольшевизм не может быть дореволюционным. Дореволюционный антибольшевизм – все равно что добольшевистский антибольшевизм. Если я позволяю себе очевидно абсурдную (с логической точки зрения) терминологию, то я делаю это исключительно с целью подчеркнуть тот дефект эмигрантской психологии, который я считаю помехой в деле борьбы с большевизмом. Трагическая неудача этой борьбы не в последнюю очередь объясняется, конечно, тем, что во главе борьбы стояли люди внутренне глухие к сложнейшей теме большевизма, не чувствовавшие ее глубокой укорененности в русской душе и русской истории, ее провиденциальности для наступающих судеб всего человечества, ее громадного размаха и тончайшего соблазна. Все эти по своей природе и своей биографии консервативные люди не могли, конечно, быть настоящими антибольшевиками. Ибо невозможен антибольшевизм, не чувствующий природы большевизма. Всем политическим вождям эмигрантского антибольшевизма большевизм представлялся всего только страшным пожарищем деревянной, избяной России, вызванным злостным поджогом компартии. Образ этот верен, но недостаточен. Большевизм не только злостный поджог и страшный пожар России, он еще и вечерняя заря старого мира, и утренняя заря какого-то нового дня истории, быть может, очень жестокого и безумного (какой взойдет день, зависит, между прочим, и от каждого из нас). Вот этой-то зари – сейчас мы это поняли – ни белогвардейскими пулями не расстреляешь, ни демократическим красноречием не зальешь. Тут нужны иные, творческие силы, которых до сих пор в эмиграции не было, но которые, быть может, ныне рождаются – силы нового, пореволюционного сознания.
В чем сущность этого сознания? В чем его главное отличие от сознания дореволюционного? Думаю, что все сказанное выше уже заключает в себе хотя предварительный, но все же достаточно отчетливый ответ на эти вопросы. Главная разница между пореволюционным и дореволюционным сознаниями сводится прежде всего к тому, что для дореволюционного сознания сущность большевизма в уничтожении правды вчерашнего дня, а для пореволюционного – в раскрытии его лжи. Что для дореволюционного сознания большевизм – только ложь, а для пореволюционного он не только ложь, но в известном смысле и истина. Разница этих установок определяет и разницу методов борьбы. В своей борьбе против большевизма пореволюционное сознание, в отличие от дореволюционного, опирается не на прошлое, а на будущее, в которое в качестве определяющей его темы и проблематики входит, по его мнению, и большевизм. Конечно, и пореволюционное сознание стремится прежде всего к спасению России от большевизма, но спасение это возможно, по его глубокому убеждению, только в сотрудничестве с изживающей сейчас большевизм новой Россией. Отсюда неизвестная дореволюционному сознанию страстная заинтересованность всем, что происходит в Советской России: ее мыслью, искусством, литературой, бытом и т. д. По остроте этой заинтересованности человека пореволюционного склада проще всего отличить от типичного эмигранта дореволюционного толка. Такому эмигранту – монархисту или демократу, безразлично, – органически претит все происходящее в Советской России и все связанное с нею. Доказательство этому – почти вся эмигрантская публицистика, значительная часть нашей литературной критики и многое другое, во что подробнее вдаваться мне сейчас не приходится; касаюсь здесь бегло этого вопроса лишь затем, чтобы отметить характернейшую для многих представителей пореволюционного сознания черту подчас злобного отталкивания от эмигрантской психологии признанных вождей и деятелей культуртрегерского и политического зарубежья.
Органическое тяготение к крепко связанной с большевизмом Россией таит в себе явную опасность – ската к печальной памяти сменовеховству. Как бы в предчувствии, но и в заклятие этой опасности все пореволюционные течения неустанно подводили под свои культурно-философские и общественно-политические построения твердый религиозный, религиозно-церковный, религиозно-бытовой фундамент. Наряду с некоторым антибольшевистским просоветизмом и отталкиванием от реакционной психологии эмиграции, эта крепкая – подчас, быть может, слишком крепкая – религиозность является третьим отличительным моментом нового сознания эмиграции. Все три момента сливаются в центральной теме пореволюционного миросозерцания, в столь характерном для него романтически-профетическом национализме. Любовь к давно умершим предкам и еще нерожденным поколениям своеобразно сочетается в этом национализме со страстным отрицанием «промотавшихся отцов». Вечная тема России гораздо легче соединяется в представлении эмигрантских патриотов новой формации с самыми темными сторонами древней Руси, чем с самыми светлыми порывами новейшей России. Отсюда определенная склонность к архаизирующему восприятию русской истории и русского человека.
Что и на этом пути пореволюционному сознанию грозят страшные срывы, говорить не приходится. К сожалению, в писаниях пореволюционной молодежи часто проскальзывают ноты, дающие основание предполагать, что она скорее согласится назвать Сталина, по некоторому сходству с Грозным, православным человеком, чем признать подлинную русскость за мыслителем типа Владимира Соловьева, всегда защищавшего в своей публицистике не только христианский универсализм, но и демократическое свободолюбие.
В заключение необходимо еще подчеркнуть столь характерное для пореволюционного сознания сочетание религиозно-культурного консерватизма с социальным радикализмом. Этим сочетанием объясняется ненависть к либерально-демократическому пониманию свободы. Христианское положение, что освобождение возможно только через Истину, соединяется в нем с твердою верою, что осуществление истины возможно, в свою очередь, только через насилие. Так слагается жесточайшее убеждение, что истина возможна только на путях насилия. Убеждение это, представляющее собою как бы квинтэссенцию отрицательных сторон пореволюционного сознания (его ложь), является одновременно и наиболее глубокою, ибо наиболее лично выстраданною, верою некоторой части эмигрантской молодежи.
Говорить подробно о том, как оно слагалось, – излишне. Оно и так ясно. Революция, бессилие демократического свободолюбия, успех большевистского насильничества, лютые ужасы гражданской войны, вольное галлиполийское геройство, быстрая капитуляция свободолюбивых европейских правителей перед торговыми замыслами свободоненавистнической Москвы, мучительная эмигрантская маята по фабрикам, заводам, участкам и границам, словно проволочным заграждением опутанным непреодолимою для русского беженца сетью законов, всюду растущая безработица, лишающая беженца насущного куска хлеба, всюду подымающаяся волна фашистски-националистических настроений, враждебных русским гражданам, людям без родины – все это делает, конечно, весьма понятной ту легкость, с которой многие представители пореволюционного сознания предают истину свободы насильничеству во имя истины.
5. Две формы пореволюционного сознания
Охарактеризованное мною, весьма сложное и противоречивое, пореволюционное сознание не со вчерашнего дня начало слагаться в зарубежье. Можно сказать, что прошло уже добрых десять лет с тех пор, как оно объявило войну дореволюционному сознанию эмиграции. За эти десять лет сделано не много. Справедливость требует отметить, что все цитадели культурной, просветительной и общественно-политической жизни эмиграции, изначально занятые представителями дореволюционного сознания, и поныне еще не сдались, хотя вокруг некоторых из них уже давно веет творческий дух пореволюционности. Причины этой неудачи весьма многообразны и сложны.
Чтобы хотя приблизительно разобраться в них, необходимо уяснить себе, что пореволюционные настроения появились в эмиграции в свое время в двух резко враждебных друг другу формах. Внутренне правильная форма пореволюционного сознания была выношена в России и занесена в эмиграцию некоторыми высланными из России в 1922 году писателями и публицистами. В общем и целом, пореволюционное настроение этих высланных было встречено эмиграцией, если можно так выразиться, первого призыва в штыки. Лишь с очень немногими из эмигрантов-первопризывников удалось высланным сразу же найти общий язык. В этой встрече было заложено начало той истинной пореволюционности, которая призвана сменить реакционно-эмигрантский антибольшевизм.
Зиму 1922 года высланные из России писатели жили в Берлине вместе с собиравшимися в СССР «сменовеховцами». Между взглядами «сменовеховцев» и теми взглядами, что некоторые из высланных писателей отстаивали в спорах с защитниками дореволюционного антибольшевизма, было, безусловно, нечто общее. Но была и одна, все общее уничтожающая разница: одни были только что изгнаны из России, другие по своей воле возвращались в нее.
Тот факт, что из этих двух форм пореволюционного сознания истинная только что зарождалась, ложная же и лживая представляла собою уже довольно отчетливую концепцию лакейски-конъюнктурного сменовеховства, естественно скомпрометировал перед лицом первопризывной эмиграции как бы самый нерв пореволюционного протеста против всякой «эмигрантщины». Появлялась подозрительная настороженность, предчувствие и боязнь, что всякая заостренная против реакционно-эмигрантского антибольшевизма пореволюционность прямым путем ведет к соглашательству и ликвидаторству.
В этих условиях всем откровенно пореволюционным концепциям надо было быть крайне осторожными, надо было не допускать в своих провозглашениях никаких тактических сомнительных приемов, избегать всякой двусмысленности. К сожалению, большинство определенно пореволюционных группировок, появившихся в эмиграции после сменовеховства, допустили в этом отношении много ошибок. За спиною всех их нет-нет да и появлялась тень сменовеховства, тяжелою плитою ложившаяся на работу по организации пореволюционного сознания, которая в тиши и исподволь велась некоторыми эмигрантскими органами и группировками. Успешнее всего, быть может, Н. Бердяевым в «Пути» и тою группою сотрудников «Современных записок», которая ныне заостряет свою деятельность на страницах «Нового града».
Эмиграция сейчас на переломе. Или она начнет очень быстро перерождаться в лишенное всякого политического значения беженство, или она должна будет еще раз собраться с силами и перелить в новую и единую форму свое культурно-политическое сознание – найти новую тональность своей волевой активности. Для меня ясно, что многообразно-единая форма нового эмигрантского сознания может быть нами найдена только при условии окончательной ликвидации – с одной стороны, реакционного эмигрантского антибольшевизма (эмигрантщины), с другой – всякого пореволюционного сменовеховства. Опасность эмигрантщины, конечно, много меньше, чем опасность сменовеховства. Это объясняется уже тем, что представителями реакционного антибольшевизма являются в эмиграции отцы и деды. Среди этих эмигрантских «старшин» находится, бесспорно, наибольший процент образованных, культурных и, в масштабе прошлого, значительных людей. Невозможность применения знания, опыта и образованности этих людей в работе преобразования эмигрантского сознания очень, конечно, печальна. Совершенно очевидна, к слову сказать, прямая связь между психологической реакционностью эмигрантских отцов и дедов и быстрой денационализацией их детей и внуков. И это ясно, – заставить молодежь жить любовью к портрету бабушки, особенно при условии, что портрет этот так слабо передает живую бабушку, как эмигрантская жизнь Парижа дореволюционную русскую действительность, – невозможно. Чтобы заставить молодежь интересоваться Россией, надо вместе с нею работать над вопросами современной русской жизни, исходя из круга тех интересов, которыми живет в эмиграции русская молодежь. Русские студенты-техники, совершенно глухие к сказанию о Китеж-граде, очень быстро заинтересовываются Россией, как только речь заходит об индустриализации Урала или о победе спортивной команды СССР над коммунистической командой Берлина. Это только пример, таких примеров можно было бы подобрать много. Если, указывая на вред эмигрантщины, я все же говорю, что она не так вредна, как сменовеховство, то я хочу сказать лишь то, что она может лишь фактически сузить социальную базу эмигрантской активности (превращением отцов в теневое царство отошедшей России, а детей в иностранцев), но она не может заставить ее служить большевизму. Эта гораздо более страшная опасность связана со сменовеховством, легко и незаметно вторгающимся в пореволюционные настроения наиболее живой эмигрантской молодежи.
6. Пореволюционное сознание и опасность сменовеховства
Говоря о сменовеховской опасности, грозящей пореволюционным группировкам, я отнюдь не имею в виду того пути, что был сознательно выбран и до конца пройден группою сменовеховцев. Вопрос сменовеховства, организовавшегося в свое время вокруг журнала «Накануне», прост и ясен. Группа эмигрантов, по тем или иным причинам, сдалась на милость победителей, перешла в лагерь большевиков. О возможности такого перехода я ни по отношению к «евразийцам», ни по отношению к «младороссам», ни по отношению к «утвержденцам», разумеется, не думаю. То, что я имею в виду, есть нечто гораздо более сложное, гораздо более тонкое и неуловимое… а тем самым и гораздо более опасное. Я имею в виду опасность заражения духом противника, которую несет в себе всякая страстная борьба. В борьбе с большевизмом очень легко обольшевичиться. Для этого достаточно хотя бы только временное согласие на большевистские приемы борьбы. Нейтральных приемов борьбы не существует. За каждою системою приемов стоит мир совершенно определенных ощущений. Согласие на большевистские приемы есть, таким образом, неизбежно и принятие в свою душу духа большевизма. Опасность такого бессознательного самоотравления я и называю опасностью сменовеховства.
Об опасности заражения большевистским духом говорилось и писалось в свое время много и в связи с неудачей белого движения. Такая опасность белому движению, безусловно, грозила. Не подлежит никакому сомнению, что белое движение не всегда успешно справлялось с ней. Слишком часто оно превращало «ненависть», представляющую собою, по слову Ленина, «основу коммунизма», в единственную основу своей борьбы против Ленина.
И все же говорить о сменовеховской опасности по отношению к белому движению не приходится. Это объясняется тем, что для белого движения существовали, в сущности, только большевики, но не существовала идея большевизма. Пореволюционное сознание увидело в большевизме идею. В этом его сила, но в этом и его уязвимость.
Галлиполиец, так же беспощадно расстреливавший большевика, как большевик-красноармеец белогвардейца, большевиком, конечно, не становился. Младороссы же, ведущие систематический обстрел сознания и воли эмигрантской молодежи на определенно большевистский лад, прибегающие к типично большевистским приемам агитации, к упрощенно-плакатному мышлению, к хлесткой, злой и веселой фразе, на добрую половину уже большевики; конечно, национал-большевики, но это дела не меняет. Ведь и Сталина многие начинают считать за национал-большевика.
В задачу этой статьи не входит анализ отдельных пореволюционных течений и раскрытие в них тех элементов, которые должны быть поставлены на счет соблазна о большевизме. Скажу только, что ничем иным, как действием этого соблазна, нельзя объяснить печальной судьбы евразийства. Скат левого евразийства к вульгарнейшему ленинизму всем памятен. Но не это существенно. Гораздо интереснее и симптоматичнее то, что, с момента отхода от евразийства его левых элементов, оно сразу же потеряло свою социально-политическую душу и свернулось в клубок культурно-философских и географически-этнографических учений. Правда, в некоторых талантливых и живых статьях, напечатанных в «Утверждениях», представители евразийства как будто снова силятся разжечь погасшую в нем общественно-политическую жизнь, но и эти попытки несут на себе определенный отпечаток духовно неблагополучного пробольшевизма.
Из всего сказанного вырастает тревожный вопрос. Как же обеспечить пореволюционным течениям чистоту своих учений и подлинную действенность своей работы?
Ответ совершенно определенен. Во-первых – не отрываться от эмиграции; во-вторых – не предавать религиозного смысла свободы.
Все срывы и вывихи глубоко правого по своему основному устремлению пореволюционного сознания объясняются несоблюдением этих двух правил. Внимательное изучение евразийства, младоросскости, утвержденства и всех других пореволюционных настроений отчетливо вскрывает тот факт, что, как только эмигрантское общественно-политическое течение отрывается от своей социологической (эмигрантской) базы, оно сразу же подпадает под идеологическое влияние большевизма.
Застраховать от этой опасности пореволюционное эмигрантское течение может только твердая вера в своеобразную миссию эмиграции, некий эмигрантский мессианизм. При наличии такой веры самая резкая критика эмиграции будет ей только на пользу. При ее отсутствии она будет если и не на пользу, то все же на радость большевикам. Пореволюционное сознание должно, таким образом, твердо стоять на точке зрения, что оно представляет собой не ликвидацию эмигрантской акции, а, наоборот, начало ее подлинной реализации.
Только такая верность своей судьбе в силах обеспечить эмигрантским исканиям нового образа России их единственное значение, которое не может заключаться ни в чем ином, кроме как в страстной защите свободы в качестве религиозного центра духовно-культурного уклада и общественно-политического строя будущей России. Не в отвлеченной выдумке этого уклада и такого строя задача эмиграции, но в извлечении его основной идеи из немых недр подъяремной России. Задача эмигрантской общественности – создать идеологию будущей России. Подъяремная Россия этого сделать не может. Для этого нужен воздух свободы, которого в катакомбах России нет. Творческая работа эмиграции должна соединить в себе покорную тонкость слуха со страстною напряженностью мысли. Необходимо прежде всего услышать новую идею России, т. е. нарождающуюся в ней духовно-душевную реальность. Необходимо затем ее логически раскрыть, защитить, отстроить и накрепко связать с конкретной политической борьбой. Только такое, на вольном эмигрантском воздухе свершенное раскрытие логоса идеи новой России может дать ту идеологию, которая так необходима для взращения духа творческой революции.
Степун Ф. А. Сочинения. М., 2000. С. 434–442.
Примечания
1
См.: Шелохаев В. В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905–1907 г. М., 1983; Он же. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии 1907–1914 гг. М., 1991; Вандалковская М. Г. П. Н. Милюков – А. А. Кизеветтер: история и политика. М., 1992; Шелохаев В. В. Конституционные демократы // Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993; Он же. Либеральная модель переустройства России. М., 1996; Он же. Социальная программа русского либерализма // Кентавр. 1994. № 6; Он же. Экономическая программа русского либерализма // Кентавр. 1994. № 4; Он же. Национальный вопрос в России. Либеральный вариант решения // Кентавр. 1993. № 2; Александров С. А. Лидер российских кадетов П. Н. Милюков в эмиграции. М., 1996; Канищева Н. И. Эволюция идеологии и программы кадетской партии в период Гражданской войны в эмиграции // Русский либерализм. Исторические судьбы и перспективы. М., 1999; Она же. Разработка П. Н. Милюковым тактического курса эмигрантских кадетских групп // П. Н. Милюков: историк, политик, дипломат. М., 2000; Репников А. В. Консервативная концепция российской государственности М., 1999; Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. / Под ред. В. Я. Гросула. М., 2000; Он же. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007; Вандалковская М. Г. Прогнозы социалистического возрождения постбольшевистской России (по материалам журнала «Современные записки») // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2003. 1 (30); Она же. Историческая мысль русской эмиграции. 20–30-е гг. ХХ в. М., 2009; Антоненко Н. В. Эмигрантские концепции и проекты переустройства России (20–30-е гг. ХХ в.). Мичуринск, 2011; Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии, 1905 – середина 1930-х гг.: В 6-ти т. / Отв. ред. В. В. Шелохаев, сост. Н. И. Канищева и Д. Б. Павлов. М., 1996–1999; и др.
(обратно)2
Подробнее об этом см. также: Солнцев Н. И. Провиденциальная историческая концепция в трудах историков-клириков XVIII–XIX веков. Н. Новгород, 2005. С. 3–4.
(обратно)3
Карпович М. М. Г. П. Федотов // Новый журнал. 1957. № 27. С. 208.
(обратно)4
Степун Ф. А. Г. П. Федотов // Сочинения. М., 2000. С. 747–761.
(обратно)5
Федотов Г. П. Новый град. Сб. статей. Нью-Йорк, 1952; Он же. И есть, и будет. Париж, 1932; Он же. Лицо России. Статьи 1918–1930. Париж, 1988; Он же. Россия, Европа и мы. Сб. статей. Париж, б. г.; и др.
(обратно)6
Федотов Г. П. Судьба и грехи России… Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Составление, вступительная статья, примечания В. Ф. Бойкова. СПб., 1991–1992. Т. 1–2; Сербиненко В. В. Оправдание культуры. Творческий выбор Г. Федотова // Вопросы философии. 1991. № 8; Волкогонова О. Д. Образ России в философии русского зарубежья. М., 1998; Федотов Г. П. Собрание сочинений в 12 тт. М., 2011–2012; и др.
(обратно)7
См.: Последние новости. 1926. 8 июня.
(обратно)8
Федотов Г. П. Россия, Европа и мы // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 4, 13.
(обратно)9
Федотов Г. П. Новый идол // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 89.
(обратно)10
Федотов Г. П. Там же. С. 59–60, 64.
(обратно)11
Федотов Г. П. Россия и свобода // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 281.
(обратно)12
Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Там же. Т. 1. С. 80.
(обратно)13
Федотов Г. П. Россия и свобода // Там же. Т. 2. С. 288–289.
(обратно)14
Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Там же. Т. 1. С. 81.
(обратно)15
Буганов А. В. Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян XIX – начала ХХ вв. Историко-этнографическое исследование. М., 2013. С. 68.
(обратно)16
Федотов Г. П. Святые древней Руси. М., 1990. С. 27.
(обратно)17
Волкогонова О. Д. Образ России в философии русского зарубежья. М., 1998. С. 91–95.
(обратно)18
Федотов Г. П. Письма о русской культуре // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 165.
(обратно)19
Федотов Г. П. Россия и свобода // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 284–285.
(обратно)20
Федотов Г. П. Письма о русской культуре // Там же. С. 165, 186.
(обратно)21
Федотов Г. П. Создание элиты // Там же. С. 207–210.
(обратно)22
Федотов Г. П. Правда побежденных // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 22–23.
(обратно)23
Федотов Г. П. Русский человек // Новый град. С. 63–64; Он же. Правда побежденных. С. 22–23; Он же. Сталинократия // Полн. собр. соч. Т. 3. С. 263.
(обратно)24
Федотов Г. П. Русский человек // Новый град. С. 60–61.
(обратно)25
Федотов Г. П. Правда побежденных // Собр. соч. Т. 3. С. 59.
(обратно)26
Федотов Г. П. Правда побежденных // Собр. соч. Т. 3. С. 59–60.
(обратно)27
Там же. С. 47–51.
(обратно)28
Федотов Г. П. Россия и свобода // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 277.
(обратно)29
Федотов Г. П. Лицо России // Судьба и грехи России… Т. 1. С. 44–45.
(обратно)30
Карпович М. М. Г. П. Федотов // Новый журнал. 1957. № 27. С. 271.
(обратно)31
Федотов Г. П. Лицо России // Судьба и грехи России… Т. 1. С. 45–46.
(обратно)32
Федотов Г. П. Социальное значение христианства. Собр. соч. в 12 тт. Т. IV. C. 292.
(обратно)33
Федотов Г. П. Социальный вопрос и свобода // Судьба и грехи России… Т. 1. С. 300.
(обратно)34
Федотов Г. П. Социальное значение христианства; Он же. Проблемы будущей России // Собр. соч. Т. V. С. 190–195.
(обратно)35
Федотов Г. П. Социальный вопрос и свобода // Судьба и грехи России… С. 287; Он же. С.-Петербург. 22 апреля (5 мая) 1918 г. // Лицо России. Париж, 1967. С. 10.
(обратно)36
Федотов Г. П. Социальный вопрос и свобода // Судьба и грехи России… Т. 1. С. 286.
(обратно)37
Там же. С. 59–62.
(обратно)38
Федотов Г. П. С.-Петербург. 22 апреля (5 мая) 1918 г. // Лицо России. Париж, 1967. С. 8.
(обратно)39
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Собр. соч. в 12 тт. Т. V. М., 2008. С. 144.
(обратно)40
Там же. С. 162–167.
(обратно)41
Федотов Г. П. Наша демократия // Полн. собр. соч. Т. V. С. 255.
(обратно)42
Федотов Г. П. Рождение свободы // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 257–275; Он же. Основы христианской демократии // Собр. соч. Т. V. С. 248; Он же. Наша демократия // Там же. С. 257.
(обратно)43
Федотов Г. П. Наша демократия // Там же. С. 252; Он же. О демократии формальной и реальной // Там же. С. 265–269.
(обратно)44
Федотов Г. П. Наша демократия // Там же. С. 250–264; Он же. И есть, и будет // Там же. С. 5–7.
(обратно)45
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Там же. С. 135–136.
(обратно)46
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Там же. С. 135–136.
(обратно)47
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Там же. С. 137–144.
(обратно)48
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Там же. С. 141.
(обратно)49
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Там же. С. 141.
(обратно)50
Там же. С. 144.
(обратно)51
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Там же. С. 146.
(обратно)52
Там же. С. 144–157.
(обратно)53
Федотов Г. П. Будет ли существовать Россия // Лицо России. С. 281; Он же. Судьба империй // Новый журнал. 1947. Т. XVI. С. 149–169.
(обратно)54
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Собр. соч. Т. V. С. 155.
(обратно)55
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Там же. С. 153.
(обратно)56
Федотов Г. П. Новое отечество // Судьба и грехи России… Т. 2. С. 238–239; Он же. Федерация и Россия // Там же. С. 228–232.
(обратно)57
Волкогонова О. Д. Образ России в философии русского зарубежья… С. 113–120; Федотов Г. П. Судьба империй // Новый журнал. 1947. Т. XVI. С. 149–169.
(обратно)58
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Собр. соч. Т. V. С. 178–187.
(обратно)59
Там же. С. 187.
(обратно)60
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Собр. соч. Т. V. С. 183–184.
(обратно)61
Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Собр. соч. Т. V. С. 188–195.
(обратно)62
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 198.
(обратно)63
Кантор В. К. Федор Степун: хранитель высших смыслов… // Философия России первой половины ХХ века. Федор Августович Степун. М., 2012. С. 11–12. См. также: Артизов А. Н. К истории высылки интеллигенции в 1922 г. // Отечественные архивы. 2003. № 1.
(обратно)64
Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК– ГПУ 1921–1923. М., 2005. С. 337.
(обратно)65
Цит. по: Кантор В. К. Федор Степун: хранитель высших смыслов… С. 21.
(обратно)66
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. М., 2000. С. 212.
(обратно)67
Степун Ф. А. Религиозный смысл революции // Соч. С. 377.
(обратно)68
Степун Ф. А. Религиозный смысл революции // Соч. С. 379.
(обратно)69
Степун Ф. А. Религиозный смысл революции // Соч. С. 383–384.
(обратно)70
Степун Ф. А. Религиозный смысл революции // Соч. С. 381–384.
(обратно)71
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 316–317.
(обратно)72
Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Там же. С. 300–301, 435.
(обратно)73
Степун Ф. А. Германия «проснулась» // Там же. С. 483–484.
(обратно)74
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 233–350; Он же. О будущем возрождении России // Там же. С. 939.
(обратно)75
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 337.
(обратно)76
Там же. С. 256.
(обратно)77
Степун Ф. А. Германия «проснулась» // Соч. С. 493.
(обратно)78
Степун Ф. А. Путь творческой революции // Там же. С. 426.
(обратно)79
Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Соч. С. 434.
(обратно)80
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 297.
(обратно)81
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 297–298.
(обратно)82
Там же. С. 298–299.
(обратно)83
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 299–300.
(обратно)84
Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Там же. С. 442.
(обратно)85
Степун Ф. А. Мысли о России // Там же. С. 307, 303–314.
(обратно)86
Там же. С. 228.
(обратно)87
Степун Ф. А. Религиозный смысл революции // Соч. С. 403.
(обратно)88
Степун Ф. А. Христианство и политика // Там же. С. 403.
(обратно)89
Степун Ф. А. Христианство и политика // Соч. С. 403–404.
(обратно)90
Степун Ф. А. Мысли о России // Там же. С. 338.
(обратно)91
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 368, 370–376.
(обратно)92
Степун Ф. А. Путь творческой революции // Там же. С. 427–428.
(обратно)93
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 341.
(обратно)94
Редакция. Новый град // Новый град. Париж, 1931. № 1. С. 4–5; Вандалковская М. Г. Европа и возрождение России в программе журнала «Новый град» // Историческая мысль русской эмиграции. 20–30-е гг. ХХ в. М., 2009.
(обратно)95
Редакция. Германия «проснулась» // Новый град. Париж, 1933. № 7. С. 3.
(обратно)96
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 356–358.
(обратно)97
Степун Ф. А. О человеке «Нового града» // Там же. С. 450.
(обратно)98
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 236.
(обратно)99
Степун Ф. А. Нация и национализм // Там же. С. 942.
(обратно)100
Степун Ф. А. О свободе (Демократия, диктатура и «Новый град») // Там же. С. 534.
(обратно)101
Степун Ф. А. Еще о человеке «Нового града» (Ответ моим оппонентам) // Соч. С. 453.
(обратно)102
Редакция. К молодежи // Новый град. Париж, 1932. № 3. С. 5.
(обратно)103
Степун Ф. А. О свободе (Демократия, диктатура и «Новый град» // Соч. С. 540.
(обратно)104
Редакция // Новый град. Париж, 1931. № 1. С. 6.
(обратно)105
Степун Ф. А. О свободе (Демократия, диктатура и «Новый град» // Соч. С. 536–539.
(обратно)106
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 302.
(обратно)107
Редакция. Германия «проснулась» // Новый град. Париж, 1933. № 7. С. 23–24.
(обратно)108
Степун Ф. А. О свободе (Демократия, диктатура и «Новый град») // Соч. С. 544–548.
(обратно)109
Степун Ф. А. Идея России и формы ее раскрытия (Ответ на анкету Пореволюционного клуба) // Там же. С. 496–497.
(обратно)110
Степун Ф. А. Путь творческой революции // Новый град. Париж, 1931. № 1. С. 18.
(обратно)111
Серапионова Е. П. Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 годы. М., 2006. С. 322–379.
(обратно)112
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 318–319.
(обратно)113
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 323.
(обратно)114
Степун Ф. А. Путь творческой революции // Там же. С. 496–503.
(обратно)115
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 218; Он же. Чаемая Россия // Там же. С. 530.
(обратно)116
Степун Ф. А. Идея России и формы ее раскрытия // Соч. С. 502–503.
(обратно)117
Степун Ф. А. Чаемая Россия // Там же. С. 531–532.
(обратно)118
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 208–210.
(обратно)119
Степун Ф. А. Нация и национализм // Там же. С. 941.
(обратно)120
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 228.
(обратно)121
Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Там же. С. 436.
(обратно)122
Степун Ф. А. Мысли о России // Соч. С. 292.
(обратно)123
Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Там же. С. 437.
(обратно)124
Степун Ф. А. Германия «проснулась» // Там же. С. 494.
(обратно)125
Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Там же. С. 442.
(обратно)126
Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Соч. С. 441.
(обратно)127
Струве П. Б. Великая Россия // Россия. Родина. Чужбина. СПб., 2000. С. 34, 40.
(обратно)128
Цит. по: Столыпин П. А. Полное собрание речей в государственной думе и государственном совете. 1906–1911. Нам нужна Великая Россия… М., 1991. С. 96.
(обратно)129
Струве П. Б. П. А. Столыпину // Россия. Родина. Чужбина. С. 187–189; Он же. Двадцать лет русской истории // Возрождение. 1926. 13 мая.
(обратно)130
Струве П. Б. Некоторые положительные результаты полемики с П. М. Милюковым. Лояльные предложения в духе либерального консерватизма // Дневник политика (1925–1935). М. – Париж, 2004. С. 32.
(обратно)131
Вандалковская М. Г. Россия в творчестве П. Б. Струве // Петр Бернгардович Струве. Философия России первой половины ХХ века. М., 2012. С. 52–53.
(обратно)132
Струве П. Б. О соглашении и соглашательстве // Возрождение. 1926. 5 сентября.
(обратно)133
Струве П. Б. «Младороссы». Социал-легитимисты. «Крестьянская Россия». Национал-республиканцы // Россия. 1928. 18 февраля.
(обратно)134
Струве П. Б. По поводу соображений А. И. Пильца // Возрождение. 1925. 18 октября.
(обратно)135
Жукова О. А. Единство культуры и политики: либерально-консервативный проект П. Б. Струве в созидании России // Петр Бернгардович Струве. М., 2012.
(обратно)136
Струве П. Б. Размышления о русской революции // Избранные сочинения. М., 1999. С. 258–288; Он же. В чем революция и контрреволюция? Несколько замечаний по поводу статьи И. О. Левина // Там же. С. 253–257; Он же. Россия // Там же. С. 331–349; Он же. Буржуазная стихия в СССР // Возрождение. 1926. 7 ноября; Он же. По поводу статей Н. А. Цурикова и А. С. Изгоева // Россия. 1928. 24 марта.
(обратно)137
Струве П. Б. Мелкие свары и великая борьба // Россия и славянство. 1932. 4 июня.
(обратно)138
Струве П. Б. Фасад и фундамент // Возрождение. 1926. 5 августа.
(обратно)139
Струве П. Б. Наши идеи // Возрождение. 1926. 3 июня.
(обратно)140
Струве П. Б. Ни гордыни, ни самоуничижения // Возрождение. 1926. 4 февраля.
(обратно)141
Струве П. Б. Ответ А. Н. Крупенскому // Возрождение. 1925. 23 сентября.
(обратно)142
Струве П. Б. О «Возрождении и возрождениях» // Возрождение. 1926. 30 января.
(обратно)143
Струве П. Б. Интеллигенция и народное хозяйство // Избранные сочинения. М., 1999. С. 81.
(обратно)144
Струве П. Б. Заметки писателя // Возрождение. 1926. 20 мая.
(обратно)145
Струве П. Б. Интеллигенция и народное хозяйство // Избранные сочинения. М., 1999. С. 81–82.
(обратно)146
Кара-Мурза А. А. П. Б. Струве и развитие им концепции «личной годности» // Петр Бернгардович Струве. М., 2012. С. 142.
(обратно)147
Струве П. Б. Политические взгляды Пушкина // Россия. Родина. Чужбина. С. 314.
(обратно)148
Струве П. Б. Памяти М. Я. Герценштейна // Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 21–22.
(обратно)149
Струве П. Б. Памяти А. А. Бакунина и П. А. Корсакова // Там же. С. 49–50.
(обратно)150
Струве П. Б. Граф П. А. Гейден // Там же. С. 36–37.
(обратно)151
Струве П. Б. Два основных освободительных требования // Дневник политика (1925–1935). Москва – Париж, 2004. С. 416–417.
(обратно)152
Будницкий О. В. Послы несуществующей страны // «Совершенно лично и доверительно!» Б. А. Бахметев, В. А. Маклаков: Переписка 1919–1951. Т. 1. Август 1919 – сентябрь 1921. Москва – Стэнфорд, 2001. С. 21–22; Вишняк М. Годы эмиграции (1919–1969 гг.). Париж – Нью-Йорк. Воспоминания. СПб., 2005. С. 293.
(обратно)153
Вандалковская М. Г. Историческая мысль русской эмиграции. 20–30-е гг. ХХ в. М., 2009. С. 50–53, 59–61.
(обратно)154
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 30 августа 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 469.
(обратно)155
Будницкий О. В. Послы несуществующей страны… С. 46–47.
(обратно)156
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 10 апреля 1920 г.; 15 апреля 1921 г.; 2 мая 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 197, 347, 377.
(обратно)157
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 27 декабря 1922 г.; 2 января, 25 сентября 1923 г.; 17 марта 1924 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 390–392, 428–429; Т. 3. С. 38–42, 161–164.
(обратно)158
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 7 декабря 1920 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 294–317.
(обратно)159
Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин 1921–1923. По материалам Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Париж, 1983. С. 107.
(обратно)160
Степун Ф. А. Задачи эмиграции // Соч. М., 2000. С. 439; Чернов В. М. «Отцы» и «дети» // Воля России. 1922. № 5. С. 8–9; Милюков П. Н. Непрошенные союзники // Последние новости. 1922. 7 апреля.
(обратно)161
Квакин А. В. Эмигрантская интеллигенция в поисках третьего пути: «Смена вех» // Культурное наследие российской эмиграции. 1917–1940. М., 1994. Кн. первая. С. 25–34.
(обратно)162
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 8 ноября 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 88–90.
(обратно)163
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 5 и 15 апреля 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 345–349.
(обратно)164
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 15 апреля 1921 г. // Там же. С. 348.
(обратно)165
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 12 марта 1920 г. // Там же. С. 187–188.
(обратно)166
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 4 марта 1922 г., 2 января 1923 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 193–194, 420.
(обратно)167
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 5 мая 1925 г. // Там же. Т. 3. С. 237.
(обратно)168
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 2 января 1923 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 419–428.
(обратно)169
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. Ноябрь 1922 г. // Там же. С. 373.
(обратно)170
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 8 ноября, 6 декабря 1921 г. // Там же. С. 87–91; 106–107, 237.
(обратно)171
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 21 декабря 1922 г.; 2 января 1923 г. // Там же. С. 410, 429.
(обратно)172
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 4 марта 1922 г. // Там же. С. 193–194.
(обратно)173
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 19 сентября 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 17–26; Маклаков В. А. Переустройство крестьянского быта // Вестник гражданского быта. 1916. № 8; 1917. № 1.
(обратно)174
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 19 сентября 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 17–26.
(обратно)175
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 4 марта 1922 г.// Там же. С. 193–194.
(обратно)176
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 3 января 1922 г.// Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 142–143.
(обратно)177
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 27 декабря 1922 г. // Там же. С. 392.
(обратно)178
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 31 декабря 1921 г.; 3 января 1922 г.; 1 ноября 1923 г. // Там же. С. 137–138, 141; Т. 3. С. 82.
(обратно)179
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 19 января 1922 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 161–167.
(обратно)180
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 27 декабря 1922 г. // Там же. С. 388–389.
(обратно)181
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 9, 19 января 1922 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 149–150, 163–167.
(обратно)182
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 17 января 1934 г. // Там же. Т. 3. С. 502.
(обратно)183
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 8 ноября 1921 г.; 19 декабря 1927 г.; 24 мая 1929 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 89; Т. 3. С. 373, 437.
(обратно)184
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 23 ноября 1923 г. // Там же. Т. 3. С. 96–110.
(обратно)185
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 17 марта 1924 г.; 15 июля 1925 г.; март 1926 г.; 17 января 1934 г. // Переписка 1919–1951. Т. 3. С. 160–170, 247–256, 261–267, 499–504.
(обратно)186
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 23 ноября 1923 г. // Переписка 1919–1951. Т. 3. С. 107–108.
(обратно)187
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 23 ноября 1923 г. // Там же. С. 96–110.
(обратно)188
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 17 марта 1924 г.; 16 июля 1926 г. // Там же. С. 167, 286–287.
(обратно)189
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 30 августа 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 449.
(обратно)190
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 23 февраля 1928 г. // Там же. Т. 3. С. 397.
(обратно)191
В. А. Маклаков – Б. А. Бахметеву. 30 августа 1921 г. // Там же. Т. 1. С. 449–455.
(обратно)192
На темы русские и общие. Сб. статей и материалов в честь проф. Н. С. Тимашева. / Под ред. П. А. Сорокина и Н. П. Полторацкого. Нью-Йорк, 1965.
(обратно)193
Тимашев Н. С. О подлинном смысле непредрешенства // Возрождение. 1929. 6 июля.
(обратно)194
Тимашев Н. С. Мысли о демократическом будущем России // Свободная Россия. 1924. № 4; Он же. О сущности советского государства // Новый журнал. 1964. № 76; Он же. Плановое хозяйство и демократия // Новый журнал. 1946. № 13.
(обратно)195
Тимашев Н. С. О том, что после большевиков останется // Возрождение. 1929. 8 августа; Он же. Мысли о демократическом будущем России // Свободная Россия. 1924. № 4. С. 203–210.
(обратно)196
Тимашев Н. С. О том, что после большевиков останется // Возрождение. 1929. 8 августа; Он же. Возможно ли предвидение завтрашнего дня // Возрождение. 1929. 25 июня.
(обратно)197
Тимашев Н. С. Центр и места в послереволюционной России. К проблеме федеративного устройства России // Крестьянская Россия. Сб. статей по вопросам общественно-политическим и экономическим. Прага, 1923. Т. V–VI; Федорова М.С. «Сложное государство» Н. С. Тимашева: попытка либерально-консервативного синтеза // Российское общество и власть в ХХ веке. М. – Рязань, 2003.
(обратно)198
Тимашев Н. С. О сильной и единой с общественным мнением власти // Возрождение. 1929. 5 июля; Он же. Центр и места в послереволюционной России (К проблеме федеративного устройства России) // Крестьянская Россия. Сб. статей по вопросам общественно-политическим и экономическим. Прага, 1923. Т. V–VI.
(обратно)199
Тимашев Н. С. Плановое хозяйство и демократия // Новый журнал. 1946. № 13.
(обратно)200
Тимашев Н. С. О том, что после большевиков останется // Возрождение. 1929. 8 августа; Он же. Центр и места в послереволюционной России (К проблеме федеративного устройства России) // Крестьянская Россия. Сборник статей по вопросам общественно-политическим и экономическим. Прага, 1923. Т. V–VI.
(обратно)201
Тимашев Н. С. Обречена ли Россия? // Новый журнал. 1947. Т. XVII. С. 159–166.
(обратно)202
Тимашев Н. С. Война и религия в Советской России // Новый журнал. 1943. Т. V. С. 173–197.
(обратно)203
Новый журнал. 1952. Т. XXX.
(обратно)204
Новый журнал. 1952. Т. ХХХ. С. 222.
(обратно)205
Тимашев Н. С. Окаменение коммунистического строя // Новый журнал. 1952. Т. ХХХ. С. 222–224.
(обратно)206
См.: Ганелин Р. Ш. Россия и США. 1914–1917. Л., 1969; Он же. Советско-американские отношения в конце 1917 – начале 1918 г. Л., 1975. См. также его статьи разных лет в сборнике: «В России двадцатого века» (М., 2014).
(обратно)207
Цит. по: «Совершенно лично и доверительно!» Б. А. Бахметев – В. А. Маклаков. Переписка 1919–1951. В 3-х тт. М. – Стэнфорд, 2001. Т. 1. С. 27. Биографические сведения о Бахметеве см. также: Будницкий О. В. Бахметев – посол в США несуществующего правительства России // Новая и новейшая история. 2000. № 1.
(обратно)208
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 27 июня 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 404–405.
(обратно)209
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 6 марта 1924 г. // Переписка 1919–1951. Т. 3. С. 157–158.
(обратно)210
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 8 ноября 1927 г. // Там же. С. 356.
(обратно)211
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 21 февраля 1923 г.; 27 сентября 1923 г. // Там же. Т. 2. С. 483; Т. 3. С. 49.
(обратно)212
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 19 марта 1921 г.; 21 февраля 1923 г. // Там же. Т. 1. С. 331; Т. 2. С. 483.
(обратно)213
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 11 мая 1920 г.; 6 июля 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 213, 413–414.
(обратно)214
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 16 января 1922 г.; 29 декабря 1922 г.; 9 октября 1923 г. // Там же. Т. 2. С. 158, 393; Т. 3. С. 54.
(обратно)215
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 19 января 1920 г. // Там же. Т. 1. С. 161–163.
(обратно)216
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 19 января 1920 г.; 22 марта 1920 г.; 9 октября 1923 г. // Там же. Т. 1. С. 164–165; Т. 2. С. 503; Т. 3. С. 56.
(обратно)217
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 8 июня, 6 июля, 13 августа 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 387, 388–389, 417, 430; Петров Ю. А. Павел Павлович Рябушинский // Россия на рубеже веков. Исторические портреты. М., 1991.
(обратно)218
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 31 декабря 1921 г.; 27 января 1922 г.; 29 октября 1923 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 144, 168; Т. 3. С. 73–74.
(обратно)219
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 29 октября 1923 г. // Переписка 1919–1951. Т. 3. С. 73–74.
(обратно)220
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 3 декабря 1921 г.; 27 января 1922 г. // Там же. Т. 2. С. 144, 168.
(обратно)221
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 6 марта 1924 г.; 6 июля 1921 г. // Там же. Т. 3. С. 157–158; Т. 1. С. 416.
(обратно)222
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 6 июля 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 416.
(обратно)223
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 23 марта 1922 г. // Там же. Т. 2. С. 229.
(обратно)224
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 6 июля 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 412–413.
(обратно)225
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 19 марта 1921 г. // Там же. С. 324–327.
(обратно)226
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 29 октября 1923 г. // Там же. Т. 3. С. 69.
(обратно)227
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 8 февраля 1928 г. // Там же. Т. 3. С. 381–382.
(обратно)228
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 9, 18 февраля 1920 г.; 11 ноября 1920 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 169–170, 178, 268, 273; Т. 3. С. 382.
(обратно)229
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 9 октября 1923 г. // Переписка 1919–1951. Т. 3. С. 54–55, 367.
(обратно)230
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 8 февраля 1923 г. // Там же. С. 378–379, 382–383.
(обратно)231
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 29 октября 1923 г. // Там же. С. 70.
(обратно)232
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 6 июля 1921 г.; 8 ноября 1927 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 416–417; Т. 3. С. 156–157.
(обратно)233
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 29 октября 1923 г.; 2 января 1924 г. // Переписка 1919–1951. Т. 3. С. 70–73, 140, 144–145.
(обратно)234
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 29 декабря 1922 г. // Там же. Т. 2. С. 408.
(обратно)235
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 6 июля 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 415.
(обратно)236
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 20 ноября 1922 г. // Там же. Т. 2. С. 358.
(обратно)237
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 19 марта 1921 г. // Там же. Т. 1. С. 334–335.
(обратно)238
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 9 октября 1923 г. // Там же. Т. 3. С. 54.
(обратно)239
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 27 июня 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 401–402.
(обратно)240
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 19 марта 1921 г. // Там же. С. 331; Системная история международных отношений в двух томах. М., 2006. Т. 1. События 1918–1945 годов. С. 159.
(обратно)241
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 27 июня 1921 г. // Переписка 1919–1951. Т. 1. С. 405–406.
(обратно)242
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 6 октября 1921 г. // Там же. Т. 2. С. 46–47.
(обратно)243
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 27 июня 1921 г. // Там же. Т. 1. С. 396.
(обратно)244
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 27 января 1922 г. // Там же. Т. 2. С. 169–170.
(обратно)245
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 22 мая 1922 г. // Переписка 1919–1951. Т. 2. С. 310–311.
(обратно)246
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 19 марта 1921 г. // Там же. Т. 1. С. 535.
(обратно)247
Б. А. Бахметев – В. А. Маклакову. 2 декабря 1920 г. // Там же. С. 291–292.
(обратно)248
См.: Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996; Он же. Социальная программа русского либерализма // Кентавр. 1994. № 6; Он же. Экономическая программа русского либерализма // Кентавр. 1994. № 4; Он же. Национальный вопрос в России. Либеральный вариант решения // Кентавр. 1993. № 2; Антоненко Н. В. Эмигрантские концепции и проекты переустройства России (20–30-е гг. ХХ в.). Мичуринск, 2011. С. 123–172; и др.
(обратно)249
От Парижской демократической группы Партии народной свободы // Последние новости. 1921. 20 августа.
(обратно)250
От Парижской демократической группы Партии народной свободы // Последние новости. 1921. 20 августа.
(обратно)251
Милюков П. Н. Для историка // Последние новости. 1921. 29 июля.
(обратно)252
Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С. 101–102.
(обратно)253
Милюков П. Н. Внутренний процесс // Последние новости. 1921. 2 декабря.
(обратно)254
Милюков П. Н. Для историка // Последние новости. 1921. 29 июля.
(обратно)255
Милюков П. Н. Три платформы Р.Д.О. (1922–1924). Политический комментарий П. Н. Милюкова. Париж, 1925. С. 52–53.
(обратно)256
Милюков П. Н. Внутренний процесс // Последние новости. 1921. 2 декабря.
(обратно)257
От Парижской демократической группы Партии народной свободы. // Последние новости. 1921. 20 августа; Милюков П. Н. Мой ответ // Последние новости. 1921. 7 сентября.
(обратно)258
Милюков П. Н. Внутренний процесс. 1921. 2 декабря; Он же. Мой ответ // Последние новости. 1921. 7 сентября.
(обратно)259
Последние новости. 1921. 13 марта.
(обратно)260
Последние новости. 1921. 31 марта.
(обратно)261
Последние новости. 1921. 8 мая; 1922. 4 января.
(обратно)262
Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. С. 90.
(обратно)263
Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. С. 91–92.
(обратно)264
Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. С. 95–99.
(обратно)265
Доклад П. Н. Милюкова в Лионе // Последние новости. 1928. 24 марта.
(обратно)266
Милюков в Америке // Последние новости. 1928. 25 мая.
(обратно)267
Последние новости. 1930. 3 ноября; Головня М. О. «Последние новости» об экономическом и внешнеполитическом положении советской России в 20-е гг. // История и историки. Историографический вестник. 2008. М., 2010. С. 395–349.
(обратно)268
Последние новости. 1924. 23 января.
(обратно)269
Последние новости. 1926. 14 ноября.
(обратно)270
Последние новости. 1927. 16 ноября, 15 декабря.
(обратно)271
Последние новости. 1926. 14 ноября.
(обратно)272
Последние новости. 1937. 3 июля.
(обратно)273
Последние новости. 1936. 16 августа.
(обратно)274
Последние новости. 1937. 9 ноября.
(обратно)275
П. Н. Милюков. Сталин // Современные записки. Париж, 1935. Т. LIX. С. 420–436.
(обратно)276
Каутский К. Терроризм и коммунизм. Берлин, 1919. С. 7, 56, 62; Он же.
Большевизм в тупике. Берлин, 1930. С. 18.
(обратно)277
Милюков П. Н. Либерализм и социализм // Последние новости. 1925. 27 марта.
(обратно)278
Милюков П. Н. Демократия и социализм // Последние новости. 1924. 9 июля.
(обратно)279
Последние новости. 1939. 21 августа.
(обратно)280
Последние новости. 1936. 13 июля.
(обратно)281
Последние новости. 1936. 14 июля.
(обратно)282
Выступление П. Н. Милюкова (Письмо из Праги) // Последние новости. 1936. 21 декабря.
(обратно)283
Вандалковская М. Г. Вторая мировая война и эмиграция: П. Н. Милюков // Раздвигая горизонты науки. М., 2008.
(обратно)284
Алексеев Н. Н. Русское западничество // Путь. 1928/1929. № 15. С. 18; Он же. На путях к будущей России (советский строй и его политические возможности) // Русский народ и государство. М., 2000. С. 287.
(обратно)285
Тараторин Д. Николай Алексеев // Николай Алексеев. Русский народ и государст во. М., 2000. С. 625–630.
(обратно)286
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 231, 235, 307, 355, 366, 368, 369 и др.
(обратно)287
Алексеев Н. Н. Теория государства. Теоретическое государствоведение, государственное устройство, государственный идеал. Б/м, 1931. С. 7.
(обратно)288
Алексеев Н. Н. Современное положение науки о государстве и ее ближайшие задачи // Николай Алексеев. Русский народ и государство. С. 460–492.
(обратно)289
Евразийство. Опыт систематического изложения. Париж, 1926. С. 41, 43.
(обратно)290
Евразийство. Опыт систематического изложения. С. 24–25, 39; Алексеев Н. Н. Евразийцы и государство // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 161–163.
(обратно)291
Алексеев Н. Н. Русский народ и государство // Путь. 1927. № 8. С. 27–28.
(обратно)292
Там же. С. 32.
(обратно)293
Алексеев Н. Н. Русский народ и государство // Путь. 1927. № 8. С. 34–36, 41–45.
(обратно)294
Алексеев Н. Н. На путях к будущей России (Советский строй и его политические возможности) // Николай Алексеев. Русский народ и государство. М., 2000. С. 292–301; Он же. О будущем государственном строе России // Новый град. 1938. № 13. С. 100–101.
(обратно)295
Алексеев Н. Н. Советский федерализм // Евразийский временник. Кн. 5. Париж,
1927. С. 250–251, 254.
(обратно)296
Алексеев Н. Н. Русский народ и государство // Путь. 1927. № 8. С. 57; См. также: Вандалковская М. Г. Историческая наука российской эмиграции: «Евразийский соблазн». М., 1997.
(обратно)297
Алексеев Н. Н. О будущем государственном строе России // Новый град. Париж, 1937. № 13. С. 103–105.
(обратно)298
Алексеев Н. Н. О будущем государственном строе России // Новый град. Париж, 1938. № 13. С. 96–102.
(обратно)299
Там же. С. 105–109.
(обратно)300
Алексеев Н. Н. О будущем государственном строе России // Новый град. Париж, 1938. № 13. С. 110–114.
(обратно)301
Алексеев Н. Н., Тимашев Н. С. Источники права // Право Советской России. Вып. 1. Прага, 1925. С. 65–66; Алексеев Н. Н. Советский федерализм // Евразийский временник. Кн. 5. Париж, 1927. С. 248–261.
(обратно)302
Евразийцы. Формулировка 1927 г. М., 1927. С. 9.
(обратно)303
Евразийство: Декларация. Формулировка. Тезисы. Прага, 1932. С. 5.
(обратно)304
Статья написана в 1927 г.
(обратно)305
Статья написана в 1931 г.
(обратно)306
Впоследствии идея о культурной значительности русской эмиграции выросла в замысел издать «Золотую книгу русской эмиграции». Об этом см.: Адамович Г. Вклад русской эмиграции в мировую культуру // Одиночество и свобода. М., 1996. С. 143–148. – Прим. публикатора.
(обратно)


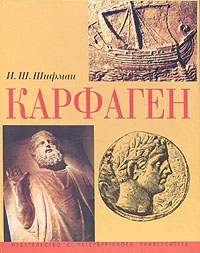

Комментарии к книге «Прогнозы постбольшевистского устройства России в эмигрантской историографии (20–30-е гг. XX в.)», Маргарита Георгиевна Вандалковская
Всего 0 комментариев