Книга I
1. Началом моего повествования станет год, когда консулами были Сервий Гальба во второй раз и Тит Виний[1]. События предыдущих восьмисот двадцати лет, прошедших с основания нашего города[2], описывали многие, и, пока они вели речь о деяниях римского народа[3], рассказы их были красноречивы и искренни. Но после битвы при Акции[4], когда в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека[5], эти великие таланты перевелись. Правду стали всячески искажать — сперва по неведению государственных дел, которые люди начали считать себе посторонними, потом — из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дела ни хулителям, ни льстецам. Но если лесть, которой историк пользуется, чтобы преуспеть, противна каждому, то к наветам и клевете все охотно прислушиваются; это и понятно: лесть несет на себе отвратительный отпечаток рабства, тогда как коварство выступает под личиной любви к правде. Если говорить обо мне, то от Гальбы, Отона[6] и Вителлия[7] я не видел ни хорошего, ни плохого. Не буду отрицать, что начало моим успехам по службе положил Веспасиан, Тит умножил их, а Домициан[8] возвысил меня еще больше[9]; но тем, кто решил неколебимо держаться истины, следует вести свое повествование, не поддаваясь любви и не зная ненависти. Старость же свою, если только хватит жизни, я думаю посвятить труду более благодарному и не столь опасному: рассказать о принципате Нервы и о владычестве Траяна[10], о годах редкого счастья, когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает.
2. Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору. Четыре принцепса, погибших насильственной смертью[11], три гражданские войны[12], ряд внешних и много таких, что были одновременно и гражданскими, и внешними[13], удачи на Востоке и беды на Западе — Иллирия объята волнениями[14], колеблется Галлия[15], Британия покорена и тут же утрачена[16], племена сарматов и свебов объединяются против нас[17], растет слава даков, ударом отвечающих Риму на каждый удар[18], и даже парфяне, следуя за шутом, надевшим личину Нерона, готовы взяться за оружие[19]. На Италию обрушиваются беды, каких она не знала никогда или не видела уже с незапамятных времен: цветущие побережья Кампании где затоплены морем, где погребены под лавой и пеплом[20]; Рим опустошают пожары, в которых гибнут древние храмы[21], выгорел Капитолий, подожженный руками граждан[22]. Поруганы древние обряды[23], осквернены брачные узы[24]; море покрыто кораблями, увозящими в изгнание осужденных, утесы запятнаны кровью убитых[25]. Еще худшая жестокость бушует в самом Риме, — все вменяется в преступление: знатность, богатство, почетные должности, которые человек занимал[26] или от которых он отказался[27], и неминуемая гибель вознаграждает добродетель[28]. Денежные премии, выплачиваемые доносчикам, вызывают не меньше негодования, чем их преступления[29]. Некоторые из них в награду за свои подвиги получают жреческие и консульские должности[30], другие управляют провинциями императора[31] и вершат дела в его дворце. Внушая ужас и ненависть, они правят всем по своему произволу. Рабов подкупами восстанавливают против хозяев, вольноотпущенников — против патронов. Если у кого нет врагов, его губят друзья[32].
3. Время это, однако, не вовсе было лишено людей добродетельных и оставило нам также хорошие примеры. Были матери, которые сопровождали детей, вынужденных бежать из Рима; жены, следовавшие в изгнание за своими мужьями[33]; друзья и близкие, не отступившиеся от опальных; зятья, сохранившие верность попавшему в беду тестю; рабы, чью преданность не могли сломить и пытки; мужи, достойно сносившие несчастья, стойко встречавшие смерть и уходившие из жизни как прославленные герои древности. Не только на людей обрушились бесчисленные бедствия: небо и земля были полны чудесных явлений: вещая судьбу, сверкали молнии, и знамения — радостные и печальные, смутные и ясные — предрекали будущее. Словом, никогда еще боги не давали римскому народу более очевидных и более ужасных доказательств того, что их дело — не заботиться о людях, а карать их[34].
4. Однако прежде чем приступить к задуманному рассказу, нужно, я полагаю, оглянуться назад и представить себе, каково было положение в Риме, настроение войск, состояние провинций и что было в мире здорово, а что гнило. Это необходимо, если мы хотим узнать не только внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также их смысл и причины. По началу смерть Нерона была встречена бурной радостью и ликованием, но вскоре весьма различные чувства охватили, с одной стороны, сенаторов, народ и расположенные в городе войска, а с другой — легионы и полководцев, ибо разглашенной оказалась тайна, окутывавшая приход принцепса к власти, и выяснилось, что им можно стать не только в Риме[35]. Сенаторы, несмотря на это, неожиданно обретя свободу, радовались и забирали все больше воли, как бы пользуясь тем, что принцепс лишь недавно приобрел власть и находится вдали от Рима. Немногим меньше, чем сенаторы, радовались и самые именитые среди всадников; воспрянули духом честные люди из простонародья, связанные со знатными семьями, клиенты и вольноотпущенники осужденных и сосланных. Подлая чернь, привыкшая к циркам и театрам, худшие из рабов, те, кто давно растратил свое состояние и кормился, участвуя в постыдных развлечениях Нерона, ходили мрачные и жадно ловили слухи.
5. Преторианцы издавна привыкли по долгу присяги быть верными Цезарям[36], и Нерона они свергли не столько по собственному побуждению, сколько поддавшись уговорам и настояниям[37]. Теперь же, не получив денежного подарка, обещанного им ранее от имени Гальбы, зная, что в мирное время труднее выделиться и добиться наград, чем в условиях войны, поняв, что легионы, выдвинувшие нового государя[38], имеют больше надежд на его благосклонность, и к тому же подстрекаемые префектом Нимфидием Сабином, который сам рассчитывал стать принцепсом, они жаждали перемен. Хотя попытка Нимфидия захватить власть была подавлена и мятеж обезглавлен, многие преторианцы помнили о своей причастности к заговору[39]; немало было и людей, поносивших Гальбу за то, что он стар, и изобличавших его в скупости. Сама его суровость, некогда прославленная в войсках и стяжавшая ему столько похвал, теперь пугала солдат, испытывавших отвращение к дисциплине былых времен и привыкших за четырнадцать лет правления Нерона так же любить пороки государей, как когда-то они чтили их доблести. Стали известны и слова Гальбы о том, что он «набирает солдат, а не покупает», — правило, полезное для государства, покоящегося на справедливых основах, но опасное для самого государя; впрочем, поступки Гальбы не соответствовали этим словам.
6. Положение немощного старика подрывали Тит Виний[40], отвратительнейший из смертных, и Корнелий Лакон, ничтожнейший из них; Виния все ненавидели за подлость, Лакона презирали за бездеятельность. Путь Гальбы к Риму был долог и кровав. Погибли — и, как полагали, невинно — кандидат в консулы Цингоний Варрон[41] и Петроний Турпилиан[42], бывший консул; их не выслушали, им не дали защитников, и обоих убили, первого — как причастного к заговору Нимфидия, второго — как полководца Нерона. Вступление Гальбы в Рим было омрачено недобрым предзнаменованием: убийством нескольких тысяч безоружных солдат, вызвавшим отвращение и ужас даже у самих убийц[43]. После того как в Рим, где уже был размещен легион, сформированный Нероном из морской пехоты, вступил еще и легион из Испании[44], город наполнился войсками, ранее здесь не виданными. К ним надо прибавить множество воинских подразделений, которые Нерон навербовал в Германии, Британии и Иллирии и, готовясь к войне с альбанами[45], отправил к каспийским ущельям, но вернул с дороги для подавления вспыхнувшего восстания Виндекса. Вся эта масса, склонная к мятежу, хоть и не обнаруживала явных симпатий к кому-либо, была готова поддержать каждого, кто рискнет на нее опереться.
7. Случилось так, что в это же время было объявлено об убийстве Клодия Макра[46] и Фонтея Капитона[47]. Макр, который бесспорно готовил бунт, был умерщвлен в Африке по приказу Гальбы прокуратором[48] Требонием Гаруцианом; Капитона, затевавшего то же самое в Германии, убили, не дожидаясь приказа, легаты[49] Корнелий Аквин и Фабий Валент. Кое-кто, однако, полагал, что Капитон, хоть и запятнанный всеми пороками, стяжатель и развратник, о бунте все же не помышлял, а убийство его было задумано и осуществлено легатами, когда они поняли, что им не удастся убедить его начать войну; Гальба же, или по неустойчивости характера, или стремясь избежать более тщательного расследования, лишь утвердил то, что уже нельзя было изменить. Так или иначе, оба эти убийства произвели гнетущее впечатление, и отныне, что бы принцепс ни делал, хорошее или дурное, — все навлекало на него равную ненависть. Общая продажность, всевластие вольноотпущенников, жадность рабов, неожиданно вознесшихся и торопившихся, пока старик еще жив, обделать свои дела, — все эти пороки старого двора свирепствовали и при новом, но снисхождения они вызывали гораздо меньше. Даже возраст Гальбы вызывал смех и отвращение у черни, привыкшей к юному Нерону и по своему обыкновению сравнивавшей, — какой император более красив и статен.
8. Таково было настроение в Риме, — если можно говорить об общем настроении у столь великого множества людей. Что касается провинций, то Испанией управлял Клувий Руф[50], человек красноречивый, сведущий в политике, но в военном деле неопытный; Галлию привязывала к новому режиму не только память о восстании Виндекса, но также и благодарность за недавно дарованное ей право римского гражданства и облегчение налогов[51]. Между тем племена галлов, жившие по соседству со стоявшими в Германии армиями, не получили подобных привилегий, в некоторых случаях даже лишились части своей земли[52] и с равным возмущением вели счет чужим выгодам и своим обидам. Германские армии были встревожены и раздражены; они гордились недавней победой[53], но боялись, что их обвинят в поддержке противной партии, — сочетание чувств крайне опасное там, где сосредоточено столько оружия и сил. Эти войска с опозданием отступились от Нерона, а Вергиний[54] не сразу встал на сторону Гальбы; никто не знал, захочет ли он сам сделаться императором, но было известно, что солдаты ему это предлагали. Убийство Фонтея Капитона возмутило здесь даже тех, кто не имел права выражать свое мнение[55]. После того как Гальба, притворившись другом Вергиния, вызвал его к себе, армия осталась без командующего, когда же он был в Риме не только задержан, но и привлечен к ответственности, солдаты восприняли это как угрозу самим себе.
9. Верхнегерманские легионы[56] презирали своего легата Гордеония Флакка[57] за телесную немощь, вызванную старостью и подагрой, за слабый и нерешительный характер. Он не умел командовать, даже пока солдаты вели себя спокойно, теперь же, когда они были раздражены, его беспомощные попытки навести порядок лишь распаляли их ярость. Легионы Нижней Германии[58] долго оставались без консульского легата, пока, наконец, Гальба не прислал к ним Авла Вителия — сына цензора и трижды консула Вителия. В войсках, расположенных в Британии, не было никаких беспорядков: среди потрясений, вызванных гражданскими войнами, именно эти легионы остались более, чем другие, верны своему долгу, — то ли потому, что они были удалены от Рима и отрезаны от него Океаном, то ли трудные походы научили их обращать свою ненависть прежде всего на врагов. Спокойно было и в Иллирии, хотя легионы, выведенные оттуда Нероном в Италию[59] и бесцельно стоявшие здесь, через своих представителей предлагали императорскую власть Вергинию. Однако эти воинские части были размещены на большом расстоянии одна от другой (что всегда является наилучшим средством сохранить среди них верность присяге), так что не могли ни заражать друг друга мятежными настроениями, ни объединить свой силы.
10. Восток пока оставался спокойным. Здесь командовал четырьмя легионами[60] и управлял Сирией Лициний Муциан, человек, равно известный своими удачами и своими несчастьями. В молодости он из честолюбия искал дружбы с людьми знатными и богатыми и тщательно поддерживал эти отношения. Когда же вскоре состояние его оказалось расстроенным и положение безвыходным, когда над ним готов был разразиться гнев Клавдия, его отправили в один из захолустных городов Азии, и он жил чуть ли не на положении ссыльного в тех самых местах, где позже пользовался почти неограниченной властью. В нем уживались изнеженность и энергия, учтивость и заносчивость, добро и зло, величайшая доблесть в походах и излишняя преданность наслаждениям во время отдыха; его поведение в обществе и на службе вызывало похвалы, о тайных сторонах его жизни говорили много дурного; с подчиненными, близкими, коллегами, — с каждым он умел быть обаятельным по-своему; власть он охотнее уступал другим, чем пользовался ею сам. Войну в Иудее вел Флавий Веспасиан с тремя легионами[61], во главе которых его поставил еще Нерон. Веспасиан тоже не помышлял о борьбе против Гальбы; как мы расскажем в своем месте, он даже послал к нему своего сына Тита в знак почтения и преданности. В то, что императорская власть была суждена Веспасиану и его детям тайным роком, знамениями и пророчествами, мы уверовали лишь позже, когда судьба уже вознесла его.
11. В Египте уже со времен божественного Августа место царей заняли римские всадники, которые управляли страной и командовали войсками, охранявшими здесь порядок: императоры сочли за благо держать под своим личным присмотром эту труднодоступную провинцию, богатую хлебом, склонную из-за царивших здесь суеверий и распущенности к волнениям и мятежам, незнакомую с законами и государственным управлением. В ту пору во главе ее стоял Тиберий Александр, египтянин. Африка и расположенные здесь легионы, достаточно натерпевшиеся от местных властей[62], были рады служить любому принцепсу, избавившему их от Клодия Макра. Обе Мавритании[63], Реция[64], Норик[65], Фракия[66] и прочие провинции, управлявшиеся прокураторами, склонялись в пользу нового государя или против него в зависимости от настроения стоявших поблизости армий. Провинции, в которых не было войск, и в первую очередь сама Италия, были обречены хранить рабскую покорность победителю и играть роль военной добычи.
Таково было положение дел, когда Сервий Гальба во второй раз и Тит Виний вступили в свой консульский год, ставший последним для них и едва не принесший гибель государству.
12. Через несколько дней после январских календ от Помпея Пропинква, прокуратора Белгики, пришло сообщение: верхнегерманские легионы, нарушив верность присяге, требуют нового императора и, рассчитывая таким путем вызвать более снисходительное отношение к своему заговору, предоставляют выбор его сенату и римскому народу. Это событие ускорило решение Гальбы избрать себе наследника и разделить с ним власть, — замысел, который он уже давно обдумывал сам и обсуждал с близкими. В те месяцы по всему городу только и было речи, что об этом выборе, прежде всего из-за обычной страсти к такого рода разговорам и потому еще, что Гальба был уж очень стар и слаб. Людей, судивших здраво или принимавших к сердцу судьбы государства, было мало; многие начинали питать нелепые надежды, каждый раз когда друзья или клиенты называли их как возможных наследников и сеяли слухи, льстившие их тщеславию. Играла свою роль и ненависть к Титу Винию, возраставшая по мере того, как день ото дня крепло его могущество[67]. В друзьях Гальбы нерешительность императора разжигала жадное стремление к власти, ибо при немощном и легковерном правителе творить беззакония менее опасно и сулит больше выгод.
13. Высшую власть в государстве делили между собой консул Тит Виний, префект претория Корнелий Лакон и пользовавшийся не меньшим доверием Гальбы его вольноотпущенник Икел[68]; последнему были дарованы кольца и всадническое имя Марциан[69]. Все трое вечно ссорились, и даже в мелочах каждый тянул в свою сторону; теперь, когда речь зашла о назначении наследника, они разделились на две группы. Виний стоял за Марка Отона; Лакон и Икел объединились, не столько чтобы покровительствовать тому или иному претенденту, сколько в стремлении противопоставить кого-нибудь кандидату Виния. Дружба Отона с Винием не была секретом и для Гальбы, а любители сплетен даже прочили неженатого Отона в зятья Винию, у которого дочь была вдовой. Думаю, что противники Отона учитывали и интересы государства: не было никакого смысла отнимать у Нерона власть, чтобы оставить ее в руках Отона. Дело в том, что Отон провел первые годы юности беспечно, молодость бурно и приобрел благосклонность Нерона, соревнуясь с ним в распутстве. Именно у Отона как соучастника всех его постыдных похождений скрыл принцепс свою наложницу Поппею Сабину, рассчитывая тем временем избавиться от жены Октавии[70]. Вскоре, однако, заподозрив Отона в связи с Поппеей, Нерон отправил его в Лузитанию[71], назначив для вида легатом этой провинции. Отон управлял провинцией хорошо, первым примкнул к Гальбе, стал рьяным его сторонником и, пока еще шла война, затмил щедростью всех в его окружении. Надежда, что Гальба усыновит его, уже тогда в нем зародившаяся, все более овладевала Отоном, тем более что солдаты в большинстве любили его, а люди, близкие Нерону, видя их сходство, его поддерживали.
14. Хотя в донесении о беспорядках в германских легионах и не содержалось ничего определенного относительно намерений Вителлия, все же Гальба, не зная, куда может броситься ярость восставших, и не доверяя даже войскам, сосредоточенным в Риме, решился сделать шаг, в котором видел единственную возможность поправить дело, — назначить себе преемника. Он вызывает к себе Виния и Лакона, кандидата в консулы Мария Цельза[72], префекта города[73] Дуцения Гемина и, сказав для начала несколько слов о своем старческом возрасте, приказывает ввести Пизона Лициниана[74]. Неизвестно, остановился он на этой кандидатуре сам, или, как некоторые полагали, — под влиянием Лакона, который подружился с Пизоном, встречаясь с ним у Рубеллия Плавта[75]; во всяком случае Лакон покровительствовал Пизону очень осторожно, делая вид, что помогает человеку, с которым незнаком, а добрая слава Пизона лишь придавала вес его словам. Сын Марка Красса и Скрибонии, Пизон был благородного происхождения и по отцу, и по матери; по внешности, манере держаться, взглядам это был человек старого склада; он был суров — если судить о нем справедливо, или угрюм — как уверяли недоброжелатели. Гальбе нравилась именно эта сторона его характера, внушавшая опасения людям, мятежно настроенным.
15. Взяв Пизона за руку, Гальба, как передают, начал свою речь следующим образом. «Если бы я был частным лицом и усыновил тебя, как это обычно принято, по решению куриатных комиций и жрецов, то и мне было бы лестно ввести в свой дом потомка Гнея Помпея и Марка Красса, и для тебя было бы почетно присоединить к знатному твоему роду славные имена Сульпициев[76] и Лутациев[77]. Сейчас, однако, когда я, с согласия богов и людей, призван к высшей власти, сознание твоих выдающихся способностей и любовь к родине приводят меня к решению именно тебе, наслаждающемуся миром и спокойствием, предложить принять принципат, за который наши предки сражались с оружием в руках и которого я добился войной. Я поступаю при этом по примеру божественного Августа, который сначала племяннику своему Марцеллу, потом зятю Агриппе, вскоре затем внукам[78] и, наконец, пасынку Тиберию Нерону дал положение, почти столь же высокое, как его собственное. Однако если Август искал преемников в пределах своей семьи, то я ищу их в пределах всего государства, и не потому, что у меня нет родных или боевых товарищей; я не из личного честолюбия принял власть, и то, что я оказываю тебе предпочтение не только перед моими, но и перед твоими сородичами, пусть будет этому доказательством. У тебя есть брат[79], равный тебе по благородству происхождения; он старше тебя и был бы достоин этой высокой участи, если бы ты не был достоин ее еще больше. За это говорит и твой возраст[80], которому уже чужды юношеские страсти, и вся твоя жизнь, не содержащая ничего, за что следовало бы краснеть. До сих пор судьба не была к тебе милостива[81], но ведь удачи подвергают наш дух еще более суровым испытаниям, ибо в несчастьях мы закаляемся, а счастье нас расслабляет. Конечно, сам ты сохранишь нетронутыми лучшие человеческие свойства: твердость души, любовь к свободе, верность друзьям; но другие своим раболепием погубят их. Появятся пресмыкательство, лесть и то, что вернее всего отравляет всякое искреннее чувство, — своекорыстие. Мы с тобой разговариваем сейчас откровенно и прямо, но другие обращаются скорее не к нам, а к положению, которое мы занимаем. Ведь давать государю правильные советы — вещь трудная, а соглашаться с каждым, кто стал принцепсом, можно, ничего не переживая и ничего не думая.
16. «Если бы огромное тело государства могло устоять и сохранить равновесие без направляющей его руки единого правителя, я хотел бы быть достойным положить начало республиканскому правлению. Однако мы издавна уже вынуждены идти по другому пути: единственное, что я, старик, могу дать римскому народу, — это достойного преемника, и единственное, что можешь сделать для него ты, человек молодой, — это стать хорошим принцепсом. При Тиберии, при Гае и при Клавдии мы представляли собой как бы наследственное достояние одной семьи. Теперь, когда правление Юлиев и Клавдиев кончилось, глава государства будет усыновлять наиболее достойного. Разум не играет никакой роли в том, что человек родился сыном принцепса, но если государь сам избирает себе преемника, он должен действовать разумно, должен обнаружить и независимость суждения, и готовность прислушиваться к мнению других. Пусть стоит перед твоими глазами судьба Нерона, который так гордился происхождением из семьи, давшей Риму длинный ряд Цезарей. Его низвергли не Виндекс со своей безоружной провинцией и не я с моим единственным легионом[82], а собственная чудовищная жестокость и собственная страсть к наслаждениям: неудивительно, что это первый принцепс, который заслужил официальное осуждение. Мы достигли власти войной и опираясь на признание разумных людей, но как бы благородно мы себя ни вели, злоба и зависть всегда будут сопровождать нас. И не следует тебе испытывать страха от того, что в этом охваченном потрясениями мире есть два легиона, которые все еще никак не успокоятся[83]: я ведь и сам принял власть, когда положение было нелегким. Зато теперь, как только распространится слух о твоем усыновлении, меня перестанут считать стариком, а ведь это — единственное, что мне ставят в вину. Дурные люди будут всегда сожалеть о Нероне; нам с тобой надо позаботиться о том, чтобы о нем не стали жалеть и хорошие. Сейчас не время давать тебе дальнейшие наставления; если, остановив свой выбор на тебе, я поступил правильно, — осуществилось все, на что я надеялся. Установить, что есть в человеке плохого и что хорошего, лучше и легче всего, если присмотреться, к чему он стремился и чего избегал при другом государе. У нас ведь не так, как у народов, которыми управляют цари[84]: там властвует одна семья и все другие — ее рабы; тебе же предстоит править людьми, неспособными выносить ни настоящее рабство, ни настоящую свободу». И Гальба долго еще продолжал говорить так или примерно так, наставляя будущего государя, в то время как все остальные уже обращались к Пизону как к принцепсу, облеченному полнотой власти.
17. Присутствовавшие сначала лишь посматривали на Пизона, вскоре все взоры сошлись на нем одном, но он, как рассказывают, не обнаружил никаких признаков волнения или радости. Ответная речь его была почтительна по отношению к отцу и императору и сдержанна в том, что касалось его самого. В лице его и манере держаться ничего не изменилось; казалось, что он скорее чувствует себя в праве повелевать, чем стремится к этому. Стали совещаться о том, где лучше объявить об усыновлении Пизона — в сенате, в лагере преторианцев или возвестить об этом с ростр[85]. Было решено отправиться в лагерь и этим оказать честь преторианцам: Гальба считал, что дурно добиваться расположения солдат подарками и лестью, но что не следует пренебрегать возможностью достичь этой цели честным путем. Между тем все больше народу, стремившегося проникнуть в тайну происходящего, окружало Палатин[86], и неудачные попытки подавить слухи лишь заставляли их расти и шириться.
18. Четвертый день перед январскими идами[87], мрачный и дождливый, был отмечен необычными небесными знамениями, громом и молниями. В такие дни издавна принято не созывать никаких собраний. Все это, однако, не испугало Гальбу, и он, несмотря ни на что, отправился в лагерь: то ли он презирал такие пророчества, считая их делом случая, то ли человеку не дано избежать своей судьбы, хотя она ему и ясно предсказана. На многолюдной солдатской сходке он кратко и властно объявил, что усыновляет Пизона — по примеру божественного Августа и по солдатскому обычаю, согласно которому каждый воин сам избирает следующего[88]. Опасаясь, что, промолчав о мятеже[89], он лишь еще больше привлечет к нему внимание, Гальба, с несколько излишней настойчивостью, стал утверждать, что число зачинщиков заговора невелико, что четвертый и двадцать второй легионы не пошли дальше разговоров и крика и что в самом ближайшем будущем они вернутся к исполнению своих обязанностей. К своей речи он не прибавил ни одного ласкового слова и не распорядился раздать преторианцам деньги. Однако трибуны[90], центурионы и солдаты в передних рядах встретили его слова с одобрением; остальные стояли молчаливые и мрачные: несмотря на войну, думали они, мы не получили денег, хотя другие императоры привыкли их раздавать даже и в мирное время. Прояви скупой старик хоть малейшую щедрость, он, без сомнения, мог бы привлечь солдат на свою сторону; ему повредили излишняя суровость и несгибаемая, в духе предков, твердость характера, ценить которые мы уже не умеем.
19. Обращение Гальбы к сенату было столь же простым и кратким, как и выступление его перед солдатами, речь Пизона — искусной и любезной. Сенаторы выразили ему свою благосклонность, многие искренне, недоброжелатели многоречиво, а равнодушное большинство — с угодливой покорностью, преследуя при этом лишь свои личные цели и нимало не заботясь об интересах государства. Ничего нового Пизон не сказал народу и не сделал и за последующие четыре дня, прошедшие между его усыновлением и гибелью. Поскольку каждый день поступали все новые и новые сообщения о мятеже в германских провинциях и так как люди всегда охотно прислушиваются к недобрым вестям и верят им, сенат принял решение направить в германскую армию легатов. Втайне обсуждалась возможность отправить с ними и Пизона: это придало бы всему мероприятию большую внушительность, ибо легаты представляли бы власть сената, а он славу, сопутствующую имени Цезаря[91]. Намеревались послать также и префекта претория Лакона, но он сумел этому воспрепятствовать. Сенат поручил выбор легатов Гальбе, но он с постыдной нерешительностью назначал одних, затем отменял свое решение и ставил на их место других; люди боязливые при этом старались остаться в Риме, честолюбцы вели интриги, чтобы быть посланными.
20. Следующая задача заключалась в том, чтобы достать деньги. Перебрав все возможности, решили, что правильнее всего добыть их из того же источника, из которого и проистекло нынешнее безденежье: Нерон раздарил два миллиарда двести миллионов сестерциев, Гальба приказал взыскать их, оставив каждому одну десятую часть подаренной суммы. Но сверх этой одной десятой у людей, облагодетельствованных Нероном, уже почти ничего и не было, ибо, привыкши расточать свое добро, они так же управлялись с дареным; у этих хищных негодяев не осталось ни капиталов, ни земли и хватало богатства лишь на разврат. Ведать изъятием этих денег — делом новым и нелегким, вызвавшим много происков и тяжб, — были назначены тридцать римских всадников[92]. Город заволновался: люди продавали и покупали, вели судебные дела; многие, однако, ликовали при мысли, что те, кого Нерон обогатил, станут беднее тех, кого он обобрал. В эти же дни были уволены из армии трибуны: из претория Антоний Тавр и Антоний Назон, из гарнизона[93] Эмилий Паценз, из городской стражи[94] Юлий Фронтон. Остальных эта мера не исправила, а напугала: из хитрости и осторожности, казалось им, Гальба уволил лишь некоторых, на подозрение же попали все.
21. Отон между тем хорошо понимал, что может добиться своего лишь пока длятся беспорядки и, если установится спокойствие, у него не останется никаких надежд. Многое толкало его к решительным действиям: расточительность, непосильная даже для императора, безденежье, нестерпимое и для частного человека, злоба против Гальбы, зависть к Пизону. Чтобы распалиться еще больше, он и сам внушал себе всяческие страхи: еще Нерону он был ненавистен, теперь же ему следует ждать даже не возвращения в Лузитанию, не новой почетной ссылки; правители всегда подозревают и ненавидят тех, кто может прийти им на смену; это уже повредило ему в глазах престарелого принцепса и повредит еще больше в мнении правителя молодого, угрюмого и свирепого по характеру, к тому же озлобленного длительной ссылкой. Поэтому следует набраться храбрости и действовать решительно, пока власть Гальбы непрочна, а власть Пизона еще не окрепла. Переход власти из рук в руки — самый благоприятный момент для великих дерзаний, и не следует медлить в такое время, когда выжидание может оказаться опаснее, чем смелость. Перед лицом природы смерть равняет всех, но она дарует либо забвение, либо славу в глазах потомков. Если же один конец ждет и правого, и виноватого, то для настоящего человека достойнее погибнуть недаром.
22. Отон был изнежен телом, но духом решителен и тверд. Он хотел иметь такой же дворец, как у Нерона, он жаждал роскоши, наслаждений в браке и вне брака — всех утех, которые сулит положение принцепса. Его приближенные из вольноотпущенников и рабов, более распущенные и хитрые, чем обычно в частном доме, убеждали его, что всего этого он может добиться, если найдет в себе достаточно мужества, чтобы рискнуть, но что все это может попасть в чужие руки, если он и дальше будет бездействовать. На то же толкали его и звездочеты: наблюдение светил, утверждали они, показывает, что государству предстоят новые потрясения и что начинающийся год принесет Отону славу. Люди этой породы обманывают государей и лгут честолюбцам, их вечно изгоняют из нашего государства и вечно оставляют, чтобы пользоваться их услугами[95]. На этих гнусных приспешников императорских семей опиралась в своих тайных интригах Поппея. Среди ее звездочетов находился также и Птолемей, впоследствии, в Лузитании, входивший в окружение Отона[96]. Именно он обещал Отону, что тот переживет Нерона. Когда это предсказание сбылось, ему стали верить, и он, основываясь на догадках и разговорах о том, что Гальба стар, а Отон еще молод, предсказал последнему императорскую власть. Человеку, обуреваемому честолюбием, свойственно рассчитывать на осуществление даже самых смутных надежд, и Отон поверил этим словам, решив, что они продиктованы мудростью и выражают волю судеб. Птолемей не терял времени и вскоре начал толкать Отона на преступления, — тем более что, раз поддавшись жажде власти, перейти к ним совсем нетрудно.
23. Едва ли, однако, преступный замысел родился у Отона внезапно; рассчитывая, что Гальба усыновит его, а может быть, и подумывая уже о захвате власти, он исподволь стремился обеспечить себе поддержку солдат. Во время похода[97], на марше и на стоянках он обращался к старейшим воинам по имени и, вспоминая время, когда они вместе состояли в свите Нерона, называл их своими товарищами. В одних он узнавал старых знакомых, других расспрашивал об их делах, оказывал им покровительство и помощь деньгами. В этих беседах он нередко жаловался на Гальбу, отзывался о нем двусмысленно и вообще делал все, чтобы вызвать в войсках недовольство. Трудности похода, нехватка продовольствия и строгость командиров раздражали солдат: они привыкли разъезжать по городам Ахайи[98] или плавать на кораблях по озерам Кампании, а теперь им приходилось делать огромные переходы и в полном вооружении карабкаться по склонам Пиренеев и Альп.
24. Солдаты уже пылали яростью, когда Мевий Пуденс, один из приближенных Тигеллина[99], еще подбросил хворосту в огонь. Он издавна привлекал на свою сторону каждого колеблющегося, каждого, кто, нуждаясь в деньгах, стремился к переменам. Постепенно он дошел до того, что всякий раз, как Гальба обедал у Отона, давал каждому преторианцу дежурной когорты якобы на угощение по сто сестерциев[100], а Отон к этой, как бы всем официально полагающейся награде добавлял еще тайно некоторым солдатам определенную сумму. Его изобретательность в деле подкупа была неистощима: когда один из преторианцев, по имени Кокцей Прокул, затеял с хозяином соседнего с его владениями земельного участка тяжбу из-за межи, Отон на свои деньги скупил всю землю этого соседа и подарил ее солдату. Всему этому попустительствовал префект, слабый и ограниченный, неспособный ни проникнуть в тайные замыслы, ни понять то, что происходит у него на глазах[101].
25. Потом Отон назначил одного из своих вольноотпущенников — Ономаста — руководить осуществлением злодейского замысла. Узнав, что тессерарий[102] Барбий Прокул и опцион[103] Ветурий (оба служившие в телохранителях) по разным поводам вслух возмущались Гальбой и даже угрожали ему, Отон через Ономаста вызвал их к себе, засыпал подарками и обещаниями и дал денег, чтобы они могли других также переманивать на свою сторону. И вот два солдата задумали передать Римскую империю из одних рук в другие и действительно добились своего! О заговоре знали немногие, остальные колебались, и заговорщики разными способами воздействовали на них: старшим солдатам намекали, что Гальба их подозревает, так как они пользовались в свое время благосклонностью Нимфидия; в рядовых вызывали ярость напоминаниями о ранее им обещанных и безвозвратно упущенных деньгах; некоторым, помнившим Нерона, говорили, что хорошо бы вернуться к легкой и праздной жизни, которую при нем вели солдаты; и всех пугали возможностью перевода из претория в легионы.
26. Мятежные настроения как чума перекинулись в легионы и вспомогательные войска[104], и без того взволнованные вестями о нарушении присяги германскими армиями. Заговорщики были уже настолько готовы к перевороту, а остальные так к нему безразличны, что на следующий день после январских ид преторианцы окружили Отона, возвращавшегося домой с ночного пира, и насильно увели бы его с собой, если бы не ночь, не боязнь расставленных по всему городу постов и не разброд, обычный между пьяными. Их остановила не забота о государстве, главу которого — Гальбу — они хладнокровно собирались зарезать, а только лишь опасение принять в темноте первого встречного, указанного солдатами из паннонской или германской армии, за Отона, которого большинство не знало в лицо. Заговорщикам до времени удавалось скрывать многочисленные признаки готового вот-вот вспыхнуть мятежа; когда же некоторые из этих признаков привлекали к себе внимание Гальбы, префект Лакон обращал все в шутку: не зная настроения солдат, относясь враждебно ко всякому предложению, даже самому дельному, если только не он сам его подал, этот человек упорно сопротивлялся всему, что советовали люди, более опытные.
27. В восемнадцатый день перед февральскими календами[105], когда Гальба совершал жертвоприношение в храме Аполлона, гаруспик[106] Умбриций сказал ему, что внутренности животных предвещают несчастья, что тайная измена готова вырваться наружу и что в его ближайшем окружении свили гнездо враги государства. Отон, стоявший рядом, истолковал это прорицание в свою пользу и очень обрадовался, увидев в нем знак того, что все благоприятствует его замыслам. Немного времени спустя вольноотпущенник Ономаст громко объявил, что Отона ждут архитектор и подрядчики; эти слова были условным сигналом, означавшим, что солдаты собрались и все готово для осуществления заговора. Отон, уже уходя, объяснил тем, кто стал его расспрашивать, что он покупает загородную виллу, но, так как она старая, должен раньше ее как следует осмотреть. Поддерживаемый вольноотпущенником, он прошел через дом Тиберия, вышел в Велабр и направился к позолоченному верстовому столбу у храма Сатурну[107]. Собравшиеся там двадцать три преторианца приветствовали его как императора, поспешно усадили в носилки — хотя он дрожал от страха, видя, как мало народа его приветствует, — обнажили мечи и, окружив носилки, понесли их. По дороге к ним присоединилось примерно еще столько же солдат, — одни из сочувствия задуманному делу, другие из любопытства, некоторые с радостными криками, остальные молча, рассчитывая, что по ходу дела станет ясно, как вести себя дальше.
28. В тот день дежурным по лагерю преторианцев был трибун Юлий Марциал. Растерявшись при виде того, какой размах принимает внезапно вспыхнувший бунт, и не зная, насколько широко мятежные настроения успели распространиться по лагерю, Марциал боялся рисковать жизнью, выступая против мятежников, так что многие сочли, будто он тоже замешан в заговоре. Остальные трибуны и центурионы тоже предпочитали оставить все как есть, чем стремиться к рискованным, хоть и заманчивым, новшествам. Словом, судя по общему настроению, на последнее злодеяние решились лишь некоторые, сочувствовали ему многие, готовились и выжидали все.
29. Между тем ни о чем не подозревавший Гальба продолжал усердно приносить жертвы, лишь утомляя ими богов — покровителей уже не принадлежавшей ему империи. Среди присутствующих распространился слух, что преторианцы увели к себе в лагерь какого-то сенатора; вскоре выяснилось, что похищен Отон, и тут же об этом заговорил весь город, каждый встречный. Одни преувеличивали опасность, другие все еще не хотели упустить возможность сказать Гальбе приятное и преуменьшали истину. Посовещавшись, решили проверить настроение той когорты, которая несла караул на Палатине, но не поручать это самому Гальбе, чтобы сохранить весь его авторитет на крайний случай. Солдат вызвали на лестницу перед дворцом, и Пизон заговорил с ними так: «Вот уже шестой день[108], боевые мои товарищи, как я стал Цезарем, не ведая, что сулит мне этот титул в будущем, и не зная, следовало мне к нему стремиться или правильнее было страшиться его. Каковы будут последствия этого избрания для нашей семьи и для государства, зависит от вас. Я сам не боюсь смерти: изведав немало бед, я теперь начинаю понимать, что и счастливая судьба таит в себе не меньше опасностей. Я скорблю об отце, о сенате, о порядке в государстве, ибо сегодня нам либо придется погибнуть самим, либо — а это для честного человека не меньшее несчастье — убивать других. Во время последнего переворота мы могли утешаться тем, что в Риме не была пролита кровь и переход власти обошелся без междоусобиц; когда меня избирали наследником, надеялись, что это позволит избежать войны также и после смерти Гальбы.
30. «Я не стану говорить ни о знатности моего происхождения, ни о том, что веду себя порядочно и скромно, — если речь идет о сравнении с Отоном, неуместно и упоминать о доблести и благородстве. Его пороки — а кроме них ему хвастать нечем — принесли много вреда государству, даже пока он считался всего только другом императора. Чем заслужил он высшую власть — своими повадками, походкой или тем, что всегда разряжен как женщина? Ошибаются те, кто принимают разнузданность за щедрость: погубить вас он сумеет, обогатить — нет. Постыдные развлечения, пиры да женщины — вот что у него на уме, в них видит он преимущества верховной власти. Но утехи и наслаждения достанутся ему, а стыд и позор — всем. Никто и никогда не использовал во благо власть, добытую преступлением. Гальбу все человечество единодушно провозгласило императором; меня, с вашего согласия, сделал Цезарем Гальба. Если слова „государство“, „сенат“ и „народ“ стали теперь пустым звуком, то лишь вы, соратники мои, можете помешать негодяям сделать императором своего человека. Иногда приходится слышать, что легионы восстают против командиров; ваша же верность, ваша добрая слава остаются незапятнанными до сего дня. Даже Нерон изменил вам, а не вы Нерону[109]. Можно ли допустить, чтобы два-три десятка перебежчиков и дезертиров, которым никто не давал права выбирать себе центурионов и трибунов, распоряжались судьбами империи? Что же, вы последуете их примеру и, потворствуя преступлению, сами окажетесь его соучастниками? Беспорядки перекинутся в провинции, и если преступления, происходящие сегодня, направлены против нас, то в завтрашних войнах умирать придется вам. Убив принцепса, вы выиграете не больше, чем сохранив верность своему долгу, и мы заплатим вам за преданность столько же, сколько другие за злодеяние».
31. Старшие солдаты дежурной когорты были разосланы еще раньше, остальные же выслушали оратора не без сочувствия и немедленно построились в боевой порядок. Как обычно бывает во время волнений, они действовали без всякого обдуманного замысла и скорее по воле случая, чем из вероломства и лицемерия, как стали считать позже. Не только Пизон был отправлен к солдатам; Мария Цельза послали к легионерам, выведенным в свое время из Иллирии[110] и расквартированным в Випсаниевом портике[111], а примипиляриям[112], Амулию Серену и Домицию Сабину, велели привести подразделения германской армии[113], стоявшие в Атриуме Свободы. Легиону морской пехоты не было оказано подобного доверия: здесь солдаты были настроены против Гальбы, ибо помнили, что он, входя в город, перебил столько их товарищей. В то же время трибуны Цетрий Север, Субрий Декстер и Помпей Лонгин отправились в преторианский лагерь, чтобы попытаться разумными советами успокоить едва начавшийся и еще по-настоящему не развернувшийся бунт. В лагере преторианцы напали на трибунов и разоружили их. При этом Субрию и Цетрию они лишь угрожали, у Лонгина же отняли оружие силой, ибо он был назначен трибуном не в порядке очередности, а по дружбе с Гальбой, был предан своему принцепсу и тем самым особенно подозрителен мятежникам. Легион морской пехоты[114] без промедления присоединился к преторианцам. Иллирийские войска прогнали Цельза, угрожая ему дротами. Германские отряды, сильно утомленные, но довольные своим положением, долго колебались: в свое время Нерон, собираясь ехать в Александрию, послал их вперед и затем вернул; долгое путешествие по морю измучило их, и Гальба не жалел денег на их лечение и отдых.
32. Чернь со всего города, смешавшись с рабами, уже заполняла Палатин и нестройными возгласами, словно требуя нового зрелища в театре или цирке, призывала убить Отона и покончить с заговором. В криках их не было ничего серьезного и искреннего: еще не кончился день, а они с равным пылом уже требовали вещей противоположных; просто по традиции принято льстить каждому принцепсу, приветствуя его до неприличия громкими и развязными возгласами и выказывая ему преданность, на деле ни к чему не обязывающую.
Между тем Гальба все не мог решить, какому совету последовать. Тит Виний считал, что нужно оставаться во дворце, выставить стражу из рабов, укрепить все подступы и не выходить к охваченным яростью мятежникам. Он убеждал Гальбу дать виновным время раскаяться, а честным людям — сплотиться. Преступлению, говорил он, нужна внезапность, доброму делу — время; выйти из дворца, если понадобится, можно и позже, а вот можем ли мы в случае неудачи возвратиться, зависит уже не от нас.
33. Остальные полагали, что следует действовать быстро, пока заговор, до сей поры бессильный, не разросся. Кроме того, утверждали они, Отон, тайком ушедший из храма и уведенный в лагерь, где никто его не ожидал, будет еще некоторое время чувствовать себя неуверенно; если же мы станем медлить и терять время в бездействии, то он успеет научиться вести себя как принцепс. Нельзя дожидаться, пока он, договорившись в лагере с преторианцами, на глазах у Гальбы взойдет на Капитолий, в то время как наш великий полководец со своими доблестными друзьями будет сидеть запершись во дворце, спокойно взирая на все происходящее и готовясь мужественно перенести осаду. Славную помощь окажут нам рабы, если ослабеет единодушие, владеющее собравшимися здесь, если — что гораздо важнее — угаснет первый порыв возмущения, их охвативший. Нет спасения в позоре. Если уж должны мы погибнуть, надо идти прямо навстречу опасности: нам это принесет славу, Отону еще больший позор. Когда Виний стал возражать против этого плана, Лакон, подстрекаемый Икелом, бросился на него с угрозами. Их домашние распри неуклонно вели государство к гибели.
34. Гальба не стал долее медлить и присоединился к тем, чей план, казалось, сулил больше славы. Сначала, однако, в лагерь преторианцев послали Пизона, рассчитывая, что он скорее добьется успеха, как отпрыск очень знатного рода, человек, лишь недавно вошедший в милость и противник Тита Виния. Трудно сказать, был ли Пизон действительно его врагом или враги Виния хотели в это верить: всегда легче считать, что людьми движет ненависть. Едва Пизон ушел, пополз первый, смутный и ненадежный, слух, будто Отон убит в лагере преторианцев. Как обычно в таких случаях, сколь бы ни была лжива передаваемая новость, нашлись люди, утверждавшие, что они при этом были, видели все своими глазами, и присутствовавшие, кто с радостью, а кто и по легкомыслию, поверили молве. Многие же считали, что отонианцы, уже замешавшиеся в толпу, пустили и раздувают этот слух, чтобы обмануть Гальбу радостной вестью и выманить его из дворца.
35. При этом известии не только народ и бессмысленная чернь разражаются рукоплесканиями, но даже позабывшие страх и осторожность всадники и сенаторы разбивают двери дворца и устремляются во внутренние покои, стремясь попасть на глаза Гальбе, громко жалуясь, что их опередили и не дали отомстить за нанесенные императору обиды; скопище глупцов, хвастунов, пустословов, в минуту опасности, как оказалось дальше, ни на что не способных решиться. Не понимал никто ничего, судили и рядили все. Наконец, Гальба, убедившись в невозможности установить правду и видя, что все повторяют одно и то же, надел панцирь и сел в носилки: он был стар и слаб и не мог устоять на ногах среди напиравшей на него толпы. Еще во дворце ему встретился телохранитель Юлий Аттик, который, показывая на свой окровавленный меч, крикнул, что убил Отона. «А кто тебе приказал это сделать, друг?», — сказал Гальба, до конца остававшийся беспощадным к солдатскому своеволию, бесстрашным перед лицом опасности, не поддающимся на угодливость и лесть.
36. Между тем преторианцы, остававшиеся в лагере перестали колебаться; неистовый пыл овладел ими, им показалось мало того, что они пронесли Отона на плечах через весь город и защищали его своими телами: они подняли его на возвышение, на котором среди боевых значков еще недавно стояла золоченая статуя Гальбы, и окружили вымпелами своих отрядов. Ни трибунов, ни центурионов не подпускали к этому месту: солдаты говорили, что командиров надо опасаться в первую голову. Над лагерем стоял гул, и в нем сливались голоса, шум и крики, которыми солдаты подбадривали друг друга. Когда так шумит толпа, состоящая из граждан и черни[115], ее крики не выражают ничего, кроме слабости и раболепия. Здесь было иное: едва завидев кого-нибудь из подходивших солдат, преторианцы хватали их за руки, обнимали, ставили в свои ряды, заставляли повторять слова присяги, расхваливали их императору или императора им. Отон простирал к толпе руки, склонялся перед ней в почтительном поклоне, посылал воздушные поцелуи и, стремясь стать владыкой, вел себя как раб. Когда присягу принес легион морской пехоты в полном составе, он счел, что располагает достаточными силами, и решил воодушевить сразу всю массу солдат, вместо того чтобы и дальше обращаться к каждому поодиночке. Поднявшись на лагерный вал, он начал так.
37. «Я все еще не могу сказать, друзья и товарищи, кем мне себя считать. Я не решаюсь назвать себя ни частным человеком, раз вы провозгласили меня принцепсом, ни принцепсом, раз государством правит другой. И кем считать вас, тоже будет неизвестно, пока не определится, кто находится в вашем лагере, — враг римского народа или его император. Разве вы не слышите, как гальбанцы требуют одновременно наказания для меня и казни для вас? Ясно, как день, что и погибнуть, и спастись мы можем только вместе. Милосердие Гальбы нам знакомо; человек, убивший безо всякой причины столько тысяч ни в чем не повинных солдат, наверное, уже поклялся, что покарает меня и уничтожит вас. Ужас охватывает, едва вспомню, как он по трупам въезжал в Рим; то была единственная, одержанная Гальбой победа — убийство на глазах всего города каждого десятого из солдат, поверивших в нового императора и по их же просьбе принятых под его покровительство. Так ознаменовав свое вступление в город, чем он прославил свое дальнейшее правление? Убийством Обультрония Сабина и Корнелия Марцелла в Испании? Бетуя Цилона в Галлии[116]? Фонтея Капитона в Германии? Клодия Макра в Африке? Цингония — на дороге в Рим, Турпилиана — в самом Риме, Нимфидия — в преторианском лагере? Где та провинция, где тот воинский лагерь, которые не были бы залиты кровью и обесчещены или, выражаясь его словами, «наставлены на правильный путь»? Ибо то, что для других преступление, по его мнению — целебное средство; исполненный лицемерия, он называет жестокость строгостью, скупость бережливостью, муки и оскорбления, которым вас подвергают, — дисциплиной. Со смерти Нерона прошло семь месяцев, а награбленное Икелом уже превосходит все, о чем поликлиты[117], ватинии[118] и тигеллины лишь смели мечтать. Если бы Тит Виний правил один, он не был бы так жаден и не вел бы себя так распущенно; теперь же он помыкает нами, словно подданными, и презирает, словно чужеземцев. Одного его состояния хватило бы на те денежные подарки, которых вам ни разу не дали и которыми вас каждый день попрекают.
38. «Не приходится надеяться и на преемника императора. Гальба вызвал из ссылки человека, которого считал равным себе по озлобленности и скупости. Вы сами видели, друзья, какую непогоду наслали на нас боги, недовольные этим выбором. То же недовольство владеет сенатом и римским народом. Ваша доблесть — их единственная надежда; опираясь на нее, честные люди ощущают свою силу, лишенный вашей поддержки, даже самый выдающийся человек не может ничего сделать. Я веду вас не в бой, не на опасности — все солдаты, владеющие оружием, с нами. Облаченные в тоги бойцы единственной когорты, составляющей парадный конвой Гальбы, не столько охраняют его, сколько держат под стражей. Едва они завидят вас, едва получат от меня пароль, как станут бороться друг с другом за мое расположение, — никакой другой битвы и не будет. Медлить в задуманном нами деле нельзя, надо победить, и лишь тогда мы сможем собой гордиться». Окончив речь, Отон велит открыть арсенал. В мгновение ока, не соблюдая порядка и строя, солдаты разбирают оружие; все смешалось: преторианец хватает вооружение легионера, легионер — преторианца, мелькают щиты и шлемы солдат из вспомогательных войск, не слышно приказов ни центурионов, ни трибунов. Каждый — сам себе командир, каждый сам себя подгоняет, и скорбь честных людей больше всего раззадоривает негодяев.
39. Уже Пизон, напуганный нарастающим грохотом восстания и доносившимися к нему со всех сторон криками, вернулся к Гальбе, который успел тем временем выйти из дворца и приближался к Форуму; уже принес неутешительные вести императору Марий Цельз, а окружавшие Гальбу все еще не могли решить, что делать: одни советовали вернуться на Палатин, другие — попытаться захватить Капитолий[119], большинство — занять ростры[120]. Как бывает обычно, когда советы дают люди, охваченные горем и смятением, многие настаивали на своем только из духа противоречия, и лучшими казались те меры, время для которых было уже упущено. Говорят, что Лакон тайком от Гальбы начал подстраивать убийство Тита Виния, — может быть, он надеялся смягчить солдат, если Виний понесет заслуженную кару, или считал его сообщником Отона, то ли, наконец, был движим личной к нему ненавистью. Гальба по-прежнему не мог остановиться на каком-либо решении: поздний час, непривычная обстановка, боязнь, что резня, раз начавшись, окончательно лишит его контроля над положением, лишь способствовали его неуверенности. Беспрерывно прибывали перепуганные гонцы, приближенные императора разбегались, на глазах ослабевал пыл даже тех, кто сначала был полон бодрой уверенности и выказывал твердость духа.
40. Под напором мечущейся толпы Гальбу кидало от одной базилики[121] к другой, от одного храма к другому, и зрелище, которое открывалось перед переполнявшими их людьми, вселяло ужас. И зажиточные граждане, и бедняки, с растерянными лицами, не произнося ни слова, напряженно прислушивались. Шума не было, но не было и спокойствия, — царило молчание, какое обычно сопутствует великому страху и великому гневу. Тем не менее Отону доложили, будто чернь вооружается. Он приказывает немедленно выступить и предупредить опасность. И вот римские солдаты, словно бы они спешили изгнать Вологеза или Пакора с древнего престола Аршакидов[122], а не убить своего старого и безоружного императора, разбрасывают толпу, отталкивают сенаторов и, потрясая оружием, на всем скаку[123] врываются на Форум. Ни вид Капитолия, ни грозно высящиеся со всех сторон храмы, ни уважение к принцепсам, бывшим и будущим, не в силах остановить их.
41. Завидев приближающихся вооруженных преторианцев, знаменосец отряда, охранявшего Гальбу (говорят, это был Атилий Вергилион), сорвал с древка изображение императора[124] и бросил его на землю. Это значило, что армия целиком перешла на сторону Отона; Форум мгновенно опустел; народ разбежался; преторианцы с дротами в руках преследовали тех, кто замешкался. Носильщики императора дрожали от страха — возле бассейна Курция[125] Гальба вывалился из носилок и покатился по земле. Последние слова Гальбы передают по-разному те, кто ненавидел его, и те, кто им восхищался. Одни утверждают, что он молил объяснить, в чем его вина, и просил даровать ему несколько дней жизни, дабы успеть раздать солдатам деньги. Большинство же рассказывает, что он сам подставил убийцам горло со словами: «Делайте, что задумали, и убейте меня, если так нужно для государства». Впрочем, убийцам было все равно, что он говорит. Кто именно убил его, в точности неизвестно. Одни называют ветерана Теренция, другие — Лекания; чаще же всего приходится слышать, что меч в горло Гальбы погрузил солдат пятнадцатого легиона[126] Камурий. Остальные изрезали ему ноги и руки (ибо грудь принцепса была закрыта панцирем) и, движимые дикой злобой, нанесли еще множество ран уже мертвому обезображенному телу.
42. Затем солдаты набросились на Тита Виния. И тут тоже в точности неизвестно, действительно ли у него от испуга перехватило горло или он успел крикнуть, что Отон не велел его убивать. Последнее он мог придумать со страха, но не исключено, что тем самым он признал свою причастность к заговору. Жизнь его, да и вся его дурная слава делают очень вероятным, что он был соучастником того самого заговора, который и возник-то из ненависти к нему. Он упал возле храма божественному Юлию[127] от первого же удара, который пришелся ему под колено, и тут же легионер Юлий Кар пронзил его насквозь.
43. В тот день мы стали свидетелями доблестного поведения замечательного человека — Семпрония Денса. Это был центурион когорты, которой Гальба поручил охранять Пизона. С одним кинжалом выбежал он навстречу нападавшим, вооруженным с головы до ног, стал поносить мятежников, отвлекая на себя убийц то голосом, то жестами, и дал-таки Пизону, хотя и раненому, возможность бежать. Пизон пробрался в храм Весте[128], где сторож, государственный раб, из сострадания принял его и скрыл в своей каморке. Только уединенность этого места, а не почтение, внушаемое религией, не святость храма позволили Пизону хоть немного отсрочить надвигавшуюся на него гибель. Он все еще прятался там, когда в храм явились служивший в британских когортах Сульпиций Флор, лишь недавно получивший из рук Гальбы римское гражданство, и один из телохранителей — Стаций Мурк. Отон дал им особый приказ убить Пизона, и они рвались исполнить порученное дело. Они вытащили Пизона из того места, где он скрывался, и убили его на пороге храма.
44. Рассказывают, что ни одно убийство не доставило Отону столько удовольствия и ни одну голову он не рассматривал с такой жадностью, — оттого ли, что только теперь он смог вздохнуть свободно и впервые стал ощущать настоящую радость, а может быть, воспоминания о величии Гальбы, о дружбе с Титом Винием все же омрачали его безжалостную душу, тогда как радоваться смерти Пизона — врага и соперника — казалось ему справедливым и естественным. На высоко поднятых пиках, рядом с орлом легиона, проносили окруженные боевыми значками головы убитых; тот, кто действительно убивал, и тот, кто лишь при этом присутствовал, тот, кто говорил правду, и тот, кто лгал, наперебой показывали измазанные кровью руки и похвалялись своими преступлениями, словно прекрасными и достопамятными подвигами. Позже Вителлий обнаружил больше ста двадцати ходатайств о вознаграждении за услуги, оказанные в этот день; он приказал разыскать и казнить всех, кто подавал эти ходатайства, не из уважения к памяти Гальбы, а чтобы, внушив страх современникам, обезопасить самого себя от повторения подобных заговоров и подать пример своим преемникам на случай, если и его постигнет та же участь.
45. И сенат, и народ как будто подменили: отталкивая друг друга и обгоняя тех, кто забежал вперед, все бросились в лагерь преторианцев, поносили Гальбу, прославляли мудрость солдат, целовали Отону руки и тем громче выражали свою преданность, чем лицемернее она была. Отон принимал благосклонно всех и каждого, солдат же сдерживал голосом и выражением лица, не давая их алчности и жестокости вырваться наружу. Они требовали казни кандидата в консулы Мария Цельза, друга Гальбы, до конца остававшегося ему верным, и ярость их вызывали именно энергия Цельза и его безукоризненная честность, словно то были худшие человеческие свойства. Было ясно, что они хотят истребить всех лучших людей и только ждут момента начать грабежи и убийства. Власть Отона пока еще не была настолько полной, чтобы он имел возможность запретить злодеяния, но уже была достаточной, чтобы он мог отдавать приказания. Он притворился разгневанным, велел заковать Цельза в кандалы и под тем предлогом, что хочет придумать для него наиболее мучительную казнь, спас его от немедленной гибели.
46. С этого времени все делалось по произволу преторианцев. Даже префектов они стали выбирать себе сами, — сначала Плотия Фирма, некогда служившего в телохранителях, позже командовавшего отрядами городской стражи и перешедшего на сторону Отона, когда вся власть была еще в руках Гальбы, затем — Лициния Прокула, который, будучи близким другом Отона, вероятно, содействовал его замыслам. Префектом города сделали Флавия Сабина, идя в этом по стопам Нерона, при котором Сабин занимал ту же должность; многие помогали этому избранию еще и потому, что за спиной Сабина, как они считали, стоял его брат Веспасиан. Солдаты требовали отменить плату за предоставление отпусков, по традиции взимавшуюся центурионами и превратившуюся для рядовых в ежегодную подать. Никак не меньше четвертой части солдат каждой манипулы, уплатив центуриону определенную сумму денег, постоянно уходили с его разрешения в город или слонялись без дела по лагерю. В состоянии ли солдаты внести такую сумму, откуда они ее достанут — никого не интересовало, и им приходилось, чтобы оплатить свое право на безделье, заниматься разбоем или выполнять унизительные работы, обычно поручаемые рабам. Солдат же, имевших свои деньги, центурионы до тех пор преследовали и донимали нарядами, пока те не соглашались заплатить за отпуск. Когда эти люди, в прошлом зажиточные и трудолюбивые, возвращались в свой манипул, растратив все деньги, привыкнув к безделью, развращенные нищетой и распутством, они жадно искали возможности ввязаться в заговоры, распри и даже в гражданскую войну. Отон понимал, однако, что, удовлетворивши требования солдат, он рискует настроить против себя центурионов, и поэтому обещал ежегодно выплачивать деньги за отпуска из своей казны, — мера бесспорно правильная и которую впоследствии лучшие из принцепсов превратили постепенно в постоянный обычай. Префект претория Лакон был для вида сослан на один из островов, но по дороге перехвачен и убит ветераном, которого Отон нарочно послал вперед с этой целью. Марциана Икела, как вольноотпущенника, казнили всенародно.
47. Но всего ужаснее были изъявления радости, которыми завершился этот переполненный преступлениями день. Городской претор[129] созывает сенат. Магистраты соревнуются в пресмыкательстве. Сбегаются сенаторы. Отону присваивают полномочия трибуна, звание Августа[130] и все знаки почета, подобающие принцепсу. Каждый изо всех сил старается, чтобы Отон забыл поношения и ругательства, еще так недавно раздававшиеся по его адресу. Никто не подозревал, что всем этим оскорблениям, даже высказанным вскользь и случайно, он вел в душе счет; действительно ли он предал их забвению или только на время отложил месть за них, решить нельзя из-за кратковременности его правления. Отона повели на Капитолий, оттуда на Палатин. Проходя через все еще залитый кровью Форум, где кучами валялись трупы, он разрешил выдать тела убитых родным для совершения похоронного обряда и предания огню. Пизона хоронили его жена Верания и брат Скрибониан, Тита Виния — дочь Криспина. Головы погибших пришлось разыскивать и выкупать у убийц, нарочно спрятавших их, чтобы потом продать.
48. Пизон погиб, не достигнув и тридцати одного года, прожив жизнь, скорее достойную, нежели счастливую. Два его брата были казнены: Магн — императором Клавдием, Красс — Нероном[131]. Сам он долго был изгнанником и четыре дня Цезарем. После того как Гальба столь поспешно его усыновил, он оказался вознесенным над старшим своим братом лишь затем, чтобы погибнуть раньше него. Тит Виний прожил пятьдесят семь лет и на своем веку повидал многое. Его отец происходил из преторской семьи, дед по матери числился в проскрипционных списках. В самом начале военной службы он опозорился: жена легата Кальвизия Сабина[132], под начальством которого Виний тогда состоял, загорелась грязным желанием во что бы то ни стало посмотреть, как устроен военный лагерь; она сумела пробраться туда ночью, переодевшись солдатом, при помощи этого же постыдного маскарада выведала у ночной стражи и дежурных все, что ей было надо, и, наконец, обнаглела до того, что стала заниматься любовью на главной площади лагеря. В преступлении этом обвинили Тита Виния. По приказу Гая Цезаря его заковали в кандалы, но вскоре времена изменились, Виния выпустили, и он стал беспрепятственно продвигаться по службе: после претуры был назначен командовать легионом и снискал на этом посту одобрение и похвалы. Вскоре на него пало новое обвинение, на этот раз в проступке, достойном разве что раба: говорили, что он на пиру у Клавдия украл золотой кубок, и Клавдий на следующий день приказал подать ему — единственному из всех присутствовавших — глиняную чашу. Однако, став проконсулом Нарбоннской Галлии, он управлял порученной провинцией с суровой и неподкупной честностью, пока дружба с Гальбой не погубила его[133]. Человек наглый, горячий и ловкий, он мог быть в равной мере легкомысленным и дельным в зависимости от цели, которую в данный момент преследовал. Наследникам своим Виний оставил такие огромные суммы, что завещание его было объявлено незаконным. Что же касается Пизона, то нищета его подтверждала полную законность всех его посмертных распоряжений.
49. Тело Гальбы, долго валявшееся без присмотра, а после наступления ночи снова подвергшееся надругательствам, взял, наконец, и схоронил в своем саду, в скромной могиле, диспенсатор Аргий — один из приближенных рабов погибшего императора[134]. Голову, которую лагерные маркитанты и обозные слуги успели тем временем истыкать гвоздями и окончательно изуродовать, удалось найти лишь на следующий день возле могилы Патробия, вольноотпущенника Нерона, казненного Гальбой[135]; ее сожгли и пепел смешали с прахом, оставшимся от ранее кремированного тела. Таков был конец Сервия Гальбы. За свои 73 года он благополучно пережил пятерых государей и при чужом правлении был счастливей, чем при своем собственном. Семья его принадлежала к древней знати и славилась своими богатствами. Его самого нельзя было назвать ни дурным, ни хорошим; он скорее был лишен пороков, чем обладал достоинствами; безразличен к славе не был, но и не гонялся за ней; чужих денег не искал, со своими был бережлив, на государственные скуп. Если среди его друзей или вольноотпущенников случались люди хорошие, он был к ним снисходителен и не перечил ни в чем, но зато и дурным людям прощал все самым недопустимым образом. Тем не менее все принимали его слабость и нерешительность за мудрость, — отчасти благодаря знатности его происхождения, отчасти же из страха, который в те времена владел каждым. В расцвете лет и сил он снискал себе громкую воинскую славу в германских провинциях, проконсулом умеренно и осторожно управлял Африкой, уже стариком заставил Тарраконскую Испанию уважать законы Рима[136]. Когда он был частным лицом, все считали его достойным большего и полагали, что он способен стать императором, пока он им не сделался.
50. Город еще не пришел в себя от только что пережитых ужасов, от страха, охватывавшего каждого при мысли о характере Отона, когда на него обрушилась весть об измене Вителлия. Пока Гальба был жив, этой новости не давали распространиться и представляли дело так, что мятеж захватил лишь войска, сосредоточенные в Верхней Германии. Теперь же не только сенаторы и всадники, которые принимали к сердцу дела государства и стремились сыграть в них свою роль[137], но даже и простой народ стал открыто сетовать, что судьба как бы нарочно выбрала из всех смертных двух самых бесстыдных, самых слабых и беспутных людей, дабы они верней погубили отечество. Люди уже не ждали ничего похожего на события недавнего времени — ужасного, но все же мирного. В их памяти вставали гражданские войны, Рим, вновь и вновь склоняющийся перед нашими же войсками, опустошенная Италия, разграбленные провинции, названия мест, напоминающие нам о наших бедах и поражениях, — Фарсалия и Мутина, Филиппы и Перузия[138]. Даже когда достойные люди боролись за принципат, рассуждали они, и то весь мир едва не погиб, но при победе Гая Юлия или Цезаря Августа власть императора все равно сохранялась, республика бы все равно осталась, взял бы верх Помпей или Брут. А теперь за кого молить богов — за Отона, за Вителлия? Молитвы за того и другого равно нечестивы, просьба о помощи тому или другому будет с равным негодованием отвергнута богами. Если же и разразится между ними война, все равно победитель будет хуже побежденного. Кое-кто предсказывал, что скоро выступит Веспасиан и восстанут войска на востоке. Хотя Веспасиан и был лучше тех двоих, все страшились новой войны и новых несчастий; да и слава, которая шла о Веспасиане, была не слишком доброй. Из всех римских государей он был единственным, кто, ставши принцепсом, изменился к лучшему.
51. Теперь, я полагаю, следует рассказать о том, как началось восстание Вителлия и какие причины его вызвали. Уничтожив Юлия Виндекса и его войска, германские легионы, без всякого труда и не подвергаясь опасностям, получили такие трофеи и такие почести, какие обычно достаются солдатам лишь в результате большой победоносной кампании. Они поэтому были полны боевого пыла, жаждали и дальше пользоваться плодами войны и грабежа, вместо того чтобы получать свое обычное жалованье. Уже в течение долгого времени служба не приносила им никаких доходов; солдаты все больше тяготились и местом службы, и здешним климатом, и воинской дисциплиной — столь неумолимой в мирное время и всегда ослабляющейся при внутренних распрях, когда обе стороны стремятся подкупить легионеров, а измена сходит с рук безнаказанно. В германских армиях было вдоволь людей, вооружения, коней; они были готовы к войне — и к той, что полезна государству, и к той, что может принести ему один лишь позор. Кроме того, до последнего похода люди знали только свою центурию или свой эскадрон[139], а каждая армия была сосредоточена в своей провинции. На подавление восстания Виндекса были стянуты легионы из нескольких провинций; солдаты узнали друг друга, узнали галлов, в которых они теперь уже видели не союзников, как прежде, а побежденных врагов, и стали стремиться к новым походам, к новым распрям. Галльские племена, жившие по Рейну[140], тоже жаждали перемен и больше всех старались пробудить ненависть к «гальбанцам»; в это новое прозвище они вкладывали теперь всю ненависть и презрение, которые связывались у них прежде с именем Виндекса. Прирейнские галлы люто ненавидели секванов, эдуев и их союзников[141] и с жадностью мечтали захватить их укрепленные поселения, уничтожить их посевы, разорить их дома. Последние тоже делали все, чтобы возбудить к себе ненависть: они не только были жадны и вели себя нагло, как это обычно бывает с богачами, но и оскорбляли других галлов, а армию презирали на том основании, что Гальба одарил их[142], освободил от четвертой части податей и обращался как с суверенным народом. В то же время в войсках ловко распускались слухи о том, что легионы будут подвергнуты децимации, что наиболее популярные центурионы будут уволены, а солдаты по легкомыслию верили этим сплетням. Отовсюду ползли мрачные вести, рассказывали об ужасах, которые происходят в Риме. Лугдунская колония, враждебная новому принцепсу и упорно сохранявшая верность Нерону, кишела слухами[143]. Однако больше всего выдумывали небылиц и охотнее всего им верили в самих лагерях. Тут царили ненависть и страх, сменявшиеся всякий раз, когда солдаты убеждались в своей силе, уверенностью в собственной безнаказанности.
52. Под самые декабрьские календы в зимние лагеря нижнегерманских легионов прибыл Авл Вителлий. Он стал внимательно разбираться в положении, которое здесь создалось: вернул многим их прежние должности, сделал наказания менее унизительными, смягчил взыскания. Движимый в большинстве случаев желанием добиться популярности, но иногда и из чувства справедливости, он беспристрастно распределил воинские должности, отменив назначения, которые Фонтей Капитон произвел за деньги или по грязным соображениям. Ничто здесь в сущности не выходило за пределы мер, которые обязан принимать консульский легат, но многие усматривали в них нечто большее. Перед людьми строгими и суровыми Вителлий заискивал, а среди своих сторонников слыл человеком славным и добродушным, потому что безрассудно и не считая раздавал и свои, и чужие деньги; войска так стосковались по настоящей власти[144], что принимали за достоинства и самые его пороки. В обеих армиях было много людей скромных и спокойных, но немало дурных и необузданных. Однако особой алчностью и редкой дерзостью отличались легаты легионов Алиен Цецина и Фабий Валент[145]. Валент ненавидел Гальбу, так как считал, будто именно он, Валент, разоблачил в свое время тактику сознательных проволочек, проводившуюся Вергинием[146], будто он же подавил в зародыше заговор Капитона, а император недостаточно вознаградил его. Поэтому он принялся подстрекать Вителлия к мятежу, всячески расхваливая ему боевой дух солдат. По его словам выходило, что нет места, где не гремела бы слава Вителлия, что Гордеоний Флакк не сможет ему помешать, что Британия поддержит его, а вслед за ней поднимутся и вспомогательные войска в Германии, что провинции ненадежны, власть старика колеблется и скоро рухнет. Пусть же Вителлий раскроет объятия и дары судьбы сами свалятся ему в руки: вполне естественно, что Вергиний, родом из всадников, сын никому неведомого отца, колебался принять власть, которая была ему не по плечу, и предпочитал ради собственной безопасности от нее уклониться. Таков ли Вителлий? Троекратное консульство отца, должности, которые он занимал совместно с принцепсом, — все это издавна уже облекло его императорским достоинством и заставляет ныне отказаться от спокойной жизни частного человека.
Вителлий был слаб духом, подобные разговоры сильно действовали на него, и под их влиянием он стал стремиться к таким целям, достичь которых ранее и не надеялся.
53. В Верхней Германии любовью солдат пользовался Цецина. Молодой, красивый, статный, непомерно честолюбивый, он сумел завоевать их расположение ловкими речами и простотой обращения. Раньше он был квестором в Бетике[147] и сразу же перешел на сторону Гальбы, который назначил его командиром легиона. Вскоре обнаружилось, что он растратил казенные деньги, и император приказал отдать его под суд по обвинению в казнокрадстве. Цецина, сочтя себя обиженным, решил вызвать смуту в государстве, с тем чтобы общественные бедствия отвлекли внимание от его личных обид. Настроения легионов давали для этого все возможности: верхнегерманская армия в полном составе участвовала в войне против Виндекса; если бы не смерть Нерона, она так и не перешла бы на сторону Гальбы; к тому же и в этом ее опередили войска Нижней Германии, успевшие первыми принести присягу новому императору. Тревиры, лингоны и люди из других племен[148], которых Гальба лишил части земель и угнетал своими суровыми распоряжениями, постоянно встречались с легионерами, стоявшими в зимних лагерях. Здесь возникали мятежные разговоры, дисциплина падала, как всегда бывает, когда солдаты живут среди местного населения, и любовь их к Вергинию могла быть использована кем угодно другим.
54. Племя лингонов прислало римскому войску изображение двух соединенных правых рук — подарок, издавна служивший символом гостеприимства и дружбы. Принесшие его послы, в траурных одеждах и с удрученным видом, появлялись на лагерной площади и в палатках, жаловались на перенесенные обиды, на то, что милости достались не им, а соседним племенам. Видя, что солдаты охотно к ним прислушиваются, послы стали заводить разговоры и о положении в самой римской армии — об опасностях, ее окружающих, об обидах, которые ей приходится терпеть, сея в войсках возбуждение и ярость. Восстание готово было разразиться, когда Гордеоний Флакк приказал послам вернуться домой и, чтобы привлекать к ним возможно меньше внимания, велел им покинуть лагерь ночью. Это породило множество домыслов, один ужаснее другого; большинство утверждало, что послы убиты и что так же, под покровом темноты и тайком от остальных, будут убиты и лучшие из солдат, жаловавшиеся на теперешнее состояние армии, если только они сами о себе не позаботятся. Легионы сплотились в тайном союзе) к которому вскоре примкнули и вспомогательные отряды. На первых порах эти отряды казались солдатам подозрительными: в пешем и конном строю они окружали легионы и, казалось, вот-вот готовы были обрушиться на них[149]. Вскоре, однако, обнаружилось, что и они стремятся к той же цели, но с еще большей яростью и энергией: дурным людям всегда легче объединиться для войны, чем в интересах мира и спокойствия.
55. Так или иначе, нижнегерманским легионам, как каждый год, было приказано принести в январские календы присягу Гальбе[150]. Церемония проходила вяло; среди центурионов лишь немногие произносили слова присяги, остальные молчали, выжидая, что станет делать кто-нибудь посмелее, — таково уж свойство нашей натуры: человек всегда спешит примкнуть к другим, но медлит выступить первым. Впрочем, настроения легионов были весьма различны. В первом и пятом дело дошло до того, что в изображения Гальбы стали кидать камнями. В пятнадцатом и шестнадцатом солдаты не позволяли себе ничего, кроме ропота и угроз; они посматривали на другие легионы, ожидая, что восстание начнется там. В Верхней Германии четвертый и двадцать второй легионы, занимавшие один и тот же лагерь, в самый день январских календ разбили изображения Гальбы[151]. Четвертый легион выступил более решительно, а двадцать второй поначалу медлил, но вскоре они договорились. Чтобы создать впечатление, будто они сохраняют верность государству, солдаты прибавили к присяге всеми уже забытые слова о сенате и римском народе[152]. Из легатов и трибунов никто не выступил в защиту Гальбы; некоторые, как обычно бывает во время беспорядков, даже сами подстрекали к восстанию. До сих пор, однако, никто не решался собрать солдат на сходку и обратиться к ним с трибуны: не было еще человека, от которого можно было бы ожидать за это награды.
56. Консульский легат Гордеоний Флакк не решался ни обуздать самых отчаянных, ни предостеречь колеблющихся, ни поддержать лучших. Вялый, бледный, он взирал на весь этот позор, не принимая в нем участия лишь потому, что был слишком труслив даже и для этого. Центурионы двадцать второго легиона Ноний Рецепт, Донатий Валент, Ромилий Марцелл и Кальпурний Репентин пытались защитить изображение Гальбы, но солдаты силой оттащили их и связали. Кроме них, никто и не вспомнил о принесенной прежде присяге; как обычно во время восстания, все переметнулись на сторону большинства. В ночь после январских календ в Агриппинову колонию[153] к Вителлию, который в это время ужинал, явился знаменосец четвертого легиона и сообщил ему, что четвертый и двадцать второй легионы сбросили изображения Гальбы и поклялись в верности сенату и римскому народу. Все понимали, что клятва эта не имеет серьезного значения, и надо было лишь не упустить благоприятный момент выдвинуть нового принцепса. Вителлий разослал в легионы и к легатам гонцов, которые объявили, что войска Верхней Германии покинули Гальбу, что надо либо двигаться против них, либо в интересах мира и согласия провозгласить своего императора и что поддержать уже имеющегося кандидата будет менее рискованно, чем искать нового.
57. На следующий день Фабий Валент, самый решительный и смелый из легатов, вступил в Агриппинову колонию во главе конных подразделений и вспомогательных войск первого легиона, чьи зимние лагеря находились ближе всего к городу, и приветствовал Вителлия как императора. За ним, соревнуясь друг с другом, бросились и остальные легионы этой провинции. Верхнегерманская армия, позабыв и про сенат, и про римский народ, примкнула к Вителлию на третий день после январских нон[154], доказав тем самым, что и за два дня до этого она уже была неверна государству. Жители колонии, лингоны, тревиры ни в чем не отставали от армии и наперебой предлагали людей, коней, оружие и деньги, смотря по тому, чего у каждого было больше — сил, богатств или воодушевления. Не только знатные люди в колонии и офицеры в лагерях, которые и так были богаты, а в случае победы рассчитывали разбогатеть еще больше, но даже простые солдаты целыми манипулами и поодиночке вносили свои сбережения, а если денег не было, отдавали нагрудные бляхи, изукрашенные портупеи, серебряные застежки, — то ли в порыве восторга, то ли по расчету.
58. Воздав солдатам должное за их рвение, Вителлий назначил всадников на дворцовые должности, прежде поручавшиеся вольноотпущенникам[155], из своей казны выплатил центурионам деньги, которые они получали за предоставление отпусков рядовым, удовлетворил большинство требований о смертной казни наиболее ненавистных командиров и лишь некоторых из них посадил в тюрьму для вида, обманув таким образом разъяренных солдат. Помпей Пропинкв, прокуратор Белгики, был убит сразу же. Префекта германского флота[156] Юлия Бурдона Вителлий спас, пустившись на хитрость. В армии Бурдона ненавидели, так как считали, что он оклеветал Фонтея Капитона и подстроил его гибель. Войска хранили о Капитоне светлую память, и Вителлию теперь оставалось выбрать только одно из двух: либо, если он хотел действовать открыто, убить Бурдона в угоду рассвирепевшим солдатам, либо, если он хотел простить его, — прибегнуть к обману. Поэтому он заключил Бурдона под стражу и выпустил его лишь после своей победы, когда гнев солдат уже улегся. Пока что в качестве искупительной жертвы на смерть выдали центуриона Криспина: он своими руками убил Капитона, солдаты именно его считали наиболее виновным, да и Вителлию он был отвратителен.
59. Избежал грозившей ему опасности также и Юлий Цивилис: он пользовался большим влиянием на батавов, и казнь его могла бы восстановить против Вителлия это воинственное племя[157]. К тому же восемь батавских когорт находились в это время в землях племени лингонов; они образовывали вспомогательные силы четырнадцатого легиона, отбились от него во время последних неурядиц, и было очень важно, как они себя поведут — дружественно или враждебно. Упомянутых мной выше центурионов Нония, Донатия, Ромилия и Кальпурния Вителлий приказал умертвить как повинных в верности своему долгу — самом тяжком преступлении в глазах изменников. На сторону мятежников перешли легат провинции Белгики Валерий Азиатик, которого Вителлий вскоре избрал себе в зятья[158], и правитель Лугдунской Галлии Юний Блез, приведший с собой Италийский легион[159] и расквартированную неподалеку от Лугдунума таврианскую конницу[160]. Без колебаний и промедлений присоединились к Вителлию войска, расположенные в Реции и даже в Британии.
60. Здесь командовал Требеллий Максим, которого войска презирали и ненавидели за скаредность и подлость[161]. Ненависть эту разжигал Росций Целий, легат двадцатого легиона, издавна мятежно настроенный, а теперь, в обстановке распрей и междоусобиц, совсем распоясавшийся. Требеллий упрекал Целия за неподчинение приказам и упадок дисциплины, а Целий обвинял Требеллия в том, что он обобрал легионеров и довел их до нищеты[162]. Отвратительные дрязги между легатами разлагали дисциплину в армии. Дело дошло до того, что Требеллий, покинутый и когортами, и конными отрядами, перешедшими на сторону Целия, осыпаемый насмешками и бранью солдат и союзников, был выгнан из лагеря и бежал к Вителлию. Несмотря на отсутствие консулярия, провинция оставалась спокойной — легаты легионов управляли ею на разных правах, но Целий, самый наглый из всех, пользовался наибольшей властью.
61. После того как к нему присоединилась британская армия[163], Вителлий, располагавший теперь несметными силами и богатствами, решил начать войну, действуя по двум направлениям и поручив ведение ее двум полководцам. Фабию Валенту было велено посулами переманить галльские провинции на сторону восставших, а в случае отказа — опустошить эти земли и через Коттианские Альпы[164] вторгнуться в Италию. Цецина получил приказ двигаться более коротким путем и спуститься в Италию через Пенинский перевал[165]. Под командование Валента были отданы отдельные подразделения, выбранные из нижнегерманской армии, и пятый легион в полном составе, со своим знаменем, когортами и конными отрядами, всего до сорока тысяч солдат. Цецина из Верхней Германии вывел тридцатитысячную армию, ядро которой составлял двадцать первый легион. И тому, и другому были приданы вспомогательные отряды, состоявшие из германцев. Ими же Вителлий пополнил и те части, с которыми намеревался сам следовать за главными силами.
62. Император и армия самым удивительным образом отличались друг от друга. Солдаты настаивают, требуют начать войну немедленно, пока галльские провинции еще трепещут от страха, а испанские медлят; нас не остановят ни зима, ни привычка к мирной жизни, достойная только трусов, кричат они; надо вторгнуться в Италию, занять Рим; во время гражданских смут самое безопасное — идти вперед, и действовать важнее, чем рассуждать. Вителлий же, как будто оцепенев, не двигался с места. Предвкушая положение принцепса, он проводил время в праздности, роскоши и пирах, среди бела дня появлялся на людях, объевшийся и пьяный. Солдаты, охваченные одушевлением и энергией, действовали за него, и поэтому могло показаться, будто в армии есть настоящий командующий, который людям мужественным внушает надежду на успех, а слабым страх. Войска стояли в полной боевой готовности и требовали приказа о выступлении. Вителлию они тут же присвоили имя Германика — называть себя Цезарем он не разрешал даже и после победы[166].
Когда Фабий Валент уходил со своей армией в поход, ему было счастливое знамение: в самый день выступления в небе появился орел и медленно полетел впереди войска, как бы указывая ему дорогу. Сопровождаемый радостными криками солдат, он долго парил над двигавшейся колонной. Никто не сомневался, что то было предзнаменование великого и блестящего успеха.
63. Армия спокойно вступила на территорию союзных тревиров и остановилась в городе Диводуре[167], принадлежащем племени медиоматриков[168]. Здесь солдатами, несмотря на оказанный им прекрасный прием, внезапно овладел беспричинный страх, и, похватав оружие, они бросились убивать ни в чем не повинных жителей — не ради добычи, не из желания пограбить, а движимые лишь исступлением и яростью. Чем непонятней были причини, вызвавшие резню, тем труднее было их устранить; лишь под влиянием просьб и заклинаний командующего солдаты пришли в себя, и племя удалось спасти от полного истребления. Тем не менее убитых оказалось около четырех тысяч человек. Галльские провинции охватил такой ужас, что целые племена, со старейшинами во главе, выходили навстречу войскам, моля о пощаде, женщины и дети бросались к ногам солдат, делали все, чтобы умилостивить гнев воинов и добиться мира, хотя по существу никакой войны и не было.
64. Весть об убийстве Гальбы и о захвате власти Отоном достигла Фабия Валента, когда он находился в землях племени левков[169]. У солдат, однако, это известие не вызвало ни радости, ни ужаса, — только война была у них на уме. Галльские провинции перестали колебаться — Вителлия и Отона они ненавидели равно, но бояться им приходилось прежде всего Вителлия. Следующим на пути армии было племя лингонов, верных сторонников вителлианской партии. Принятые ими весьма радушно, солдаты соревновались в предупредительности и любезности. Но радость была недолгой: наглость батавских когорт положила ей конец. Как я уже упоминал[170], они отбились от четырнадцатого легиона и Фабий Валент влил их в свою армию. Между батавами и легионерами начались перебранки, потом стычки, остальные солдаты встали на сторону кто тех, кто других, и дело дошло бы до настоящей битвы, если бы Валент, наказав нескольких смутьянов, не образумил батавов, забывших было о воинской дисциплине.
Найти повод для войны с эдуями, несмотря на все старания, оказалось невозможно: им было приказано снабдить армию оружием и деньгами — они поставили еще и провиант. Жители Лугдунума сделали то же самое, но не из страха, как эдуи, а с радостью[171]. Италийский легион и таврийская конница были выведены из Лугдунума, а в городе решили оставить восемнадцатую когорту[172], которая и раньше стояла здесь на зимних квартирах. Легат Италийского легиона Манлий Валент, несмотря на свои заслуги перед Вителлием, был встречен им весьма холодно: Фабий успел очернить в глазах Вителлия ничего не подозревавшего легата, которого он в присутствии других всячески расхваливал, чтобы усыпить его бдительность.
65. Между жителями Лугдунума и Виенны[173] издавна существовала вражда, которую сильно обострила минувшая война[174]. Они нападали друг на друга столь часто и с таким ожесточением, что вряд ли можно было это объяснить одной лишь преданностью Нерону или Гальбе. Разгневанный жителями Лугдунума, Гальба придрался к первому попавшемуся случаю и объявил все их доходы принадлежащими казне; жителей же Виенны, напротив того, осыпал почестями. Это породило зависть, раздоры, и тех, кого разделяла река[175], связала ненависть. Теперь жители Лугдунума, обращаясь то к одному солдату, то к другому, начали подстрекать их напасть на Виенну. Они говорили, что виеннцы держат Лугдунум в осаде, что они помогали Виндексу в его попытках захватить власть и совсем еще недавно набрали войска для защиты Гальбы. Перечисляя все это, жители Лугдунума в то же время не забывали упомянуть и о богатой добыче, которой солдаты могли бы поживиться в Виенне. Вскоре тайных разговоров с тем или другим солдатом им показалось мало, и они стали обращаться к армии в целом: пусть воины-мстители устремятся на Виенну и уничтожат этот очаг раздоров в Галлии, уничтожат город, где все чуждо и враждебно Риму. Ведь фортуна может еще отвернуться от Вителлия и его воинов, и надо позаботиться о том, чтобы Лугдунум — исконная римская колония[176], неразрывно связанная с армией, готовая делить с ней горе и радость. — не остался во власти разъяренных недругов.
66. Подобными речами они довели дело до того, что легаты и даже руководители восстания не могли дольше сдерживать гнев и раздражение, владевшие войсками. Тогда жители Виенны, понимавшие, какая опасность им грозит, вышли навстречу двинувшейся на них армии. Они шли в белых головных повязках, неся впереди перевитые лентами оливковые ветви[177], и, едва дойдя до первых рядов, бросились обнимать колени легионеров, целовали их ноги, руками отводили оружие. Римляне почувствовали к ним жалость. Валент тут же объявил, что выдает каждому легионеру по триста сестерциев, солдаты немедленно вспомнили, какой Виенна древний город, сколь почетное место она занимает среди других римских колоний, и благосклонно выслушали речь Фабия, советовавшего оставить город целым и невредимым. Хотя на жителей все же наложили наказание — их лишили права носить оружие, — они тем не менее собрали у частных лиц и в городских житницах большое количество продовольствия и снабдили им войска. Правда, ходили упорные слухи, что Валент был подкуплен и получил большие деньги: прожив так долго в позорной бедности и внезапно разбогатев, он не сумел скрыть, что состояние его изменилось: после многих лет нищеты неумеренно предался наслаждениям и стал под старость сорить деньгами.
Дальнейший путь армии пролегал через земли аллоброгов и воконтиев[178]. Двигалась она медленно, потому что Валент решал, по каким дорогам идти, и определял места стоянок в зависимости от того, сумеют ли владельцы участков и вожди племен от него откупиться, и вступал с ними в самые грязные сделки. В своей непомерной жестокости он до тех пор стоял, например, около Лука[179], города в земле воконтиев, угрожая его сжечь, пока жители не задобрили его деньгами. Там, где у населения денег не было, милость его приходилось покупать ценой бесчестья девушек и женщин.
Так армия Валента добралась до Альп.
67. Еще большими бесчинствами и кровопролитием был отмечен путь Цецины. Гнев этого взбалмошного человека вызвали гельветы[180], галльское племя, уже в древности прославившееся воинской доблестью[181] и с тех пор с гордостью хранившее честь своего славного имени. Они ничего не слышали об убийстве Гальбы и отказались признать власть Вителлия. Война вспыхнула из-за нетерпения и алчности солдат двадцать первого легиона: они силой захватили деньги, высланные гельветами на сторожевую заставу, где службу несли люди их племени, от них же получавшие и жалованье. Гельветы сочли себя оскорбленными, перехватили письма, которые германская армия направила паннонским легионам, задержали и взяли под стражу центуриона и нескольких солдат. Цецина, жаждавший войны, ухватился за этот повод, чтобы не дать гельветам времени раскаяться, и тут же двинулся отомстить им: лагеря были спешно перенесены ближе к гельветам, их посевы уничтожены, разграблено поселение, привлекавшее своим красивым местоположением и целебными источниками многих приезжих и разросшееся благодаря этому до размеров небольшого города; к расположенным в Реции вспомогательным войскам отправили гонцов с приказом зайти в тыл гельветам, которые были обращены фронтом к двадцать первому легиону.
68. Гельветы были весьма воинственны, пока им ничто не угрожало, но, увидев нависшую над ними опасность, растерялись. В первые дни, полные еще боевого задора, они выбрали себе полководца — Клавдия Севера, но ни распределить обязанности между войсками разного назначения, ни сражаться в правильном строю, ни подчиняться единому командованию они не умели. Решиться на битву с армией, состоявшей из ветеранов, означало верную гибель; запереться в крепости было тоже небезопасно: стены ее разваливались от старости; с одной стороны — Цецина со свежими войсками, с другой — ретийские легионы[182] со своей пехотой и конницей, поддержанные закаленной и привычной к войне молодежью этой провинции; куда ни погляди — со всех сторон поражение и гибель. Разбежавшись и побросав оружие, измученные гельветы долго метались между легионерами и ретийцами, а затем бежали на Воцетийскую гору[183], но были немедленно выбиты оттуда специально посланной фракийской когортой. Они бросились в леса, но германцы и ретийцы преследовали их там и убивали, в каких бы тайниках те ни скрывались. Много тысяч людей было убито, много тысяч продано в рабство. Когда, уничтожив здесь все и всех, армия в боевом строю подошла к столице гельветов Авентину[184], город выслал парламентеров. Они сообщили, что город сдается на милость победителя, и капитуляция была принята. Цецина наказал Юлия Альпина как зачинщика войны, а остальных предоставил милосердию — или жестокости — Вителлия.
69. Нелегко сказать, кто встретил послов гельветов более враждебно — полководец или легионеры. Солдаты грозили им кулаками, замахивались дротами, требовали уничтожить город, да и Вителлий осыпал их оскорблениями и угрозами. Смягчить солдат удалось лишь Клавдию Коссу, одному из послов. Выдающийся оратор, он сумел замаскировать свое искусное красноречие притворным страхом, отчего его слова произвели еще большее впечатление. Толпа, всегда подверженная внезапным переменам настроения, стала настаивать на помиловании жителей столь же рьяно, как только что требовала их истребления, послышались рыдания, каждый предлагал обойтись с побежденными возможно мягче, и в результате город был не только спасен, но и не понес никакого наказания.
70. Цецина все еще находился в земле гельветов, ожидая более точных указаний от Вителлия и готовясь к переходу через Альпы, когда, несколько дней спустя, получил из Италии радостную весть: на верность Вителлию присягнула занимавшая долину Пада силианская конница[185]. Эта кавалерийская часть находилась под командованием Вителлия, когда он был проконсулом в Африке; вскоре затем Нерон вывел ее из этой провинции, чтобы послать впереди себя в Египет, а затем, ввиду начавшейся войны с Виндексом, отозвал в Италию, где она и осталась. Ее декурионы, которые Отона не знали и были целиком преданы Вителлию, всячески превозносили мощь надвигавшихся легионов и великую славу германской армии. Под их влиянием солдаты перешли на сторону нового принцепса и передали ему в дар наиболее укрепленные города Транспаданской области — Медиолан и Новарию, Эпоредию и Верцеллы[186]. Через жителей этих городов Цецина и узнал о случившемся. Понимая, что одна кавалерийская часть не в силах удержать эту обширнейшую область Италии, он отправил туда когорты галлов, лузитанов, британцев и поддержанные петрианской конницей отряды германцев, а сам остался на месте, предполагая вскоре двинуться через ретийские перевалы в Норик против прокуратора этой провинции Петрония Урбика; Урбик стягивал вспомогательные войска, разрушал мосты через большие реки, и все предполагали, что он останется верен Отону. Решив, однако, что он может потерять ушедшую вперед пехоту и кавалерию, считая, что он добьется большей славы, если удержит в руках Италию, и полагая, что, где бы ни произошла решающая битва, Норик так или иначе достанется в награду победителям, Цецина двинулся через Пенинский перевал и сумел провести не только пешие и конные отряды, но даже и тяжеловооруженные легионы[187], с обозами и воинским имуществом, через Альпы, покрытые еще в эту пору года глубоким снегом.
71. Между тем Отон, против всеобщего ожидания, не предавался ни утехам, ни праздности. Отказавшись от любовных похождений и скрыв на время свое распутство, он всеми силами старался укрепить императорскую власть. Правда, такое поведение внушало еще больший ужас, ибо все понимали, что доблести эти притворны и что его дурные страсти, едва им снова дадут волю, окажутся страшнее, чем раньше. Чтобы прослыть великодушным к человеку, пользующемуся доброй славой, но ненавидимому окружением императора, Отон приказал привести на Капитолий Мария Цельза — кандидата в консулы, которого он в свое время заключил в тюрьму и спас таким образом от ярости солдат[188]. Цельз не только подтвердил, что оставался верным Гальбе, но и дал понять Отону, какую пользу могут принести ему самому люди, умеющие хранить верность своему принцепсу. Отон не стал вести себя как государь, прощающий преступника; он призвал богов в свидетели того, что они с. Цельзом примиряются как равный с равным, тут же ввел его в число своих самых близких друзей и вскоре отправил на войну вместе с другими полководцами. Цельз, как бы преследуемый злым роком, был и на этот раз столь же верен своему императору, столь же стоек и столь же несчастен. Знать встретила помилование Цельза с удовлетворением, чернь — с шумной радостью и даже солдаты ничего не имели против, — теперь они восхищались доблестью Мария, которая прежде приводила их в такую ярость.
72. Некоторое время спустя столь же бурную радость вызвало и другое событие — казнь Тигеллина. Софоний Тигеллин, человек темного происхождения, провел молодость в грязи, а старость — в бесстыдстве. Избрав более короткий путь, он подлостью достиг должностей, которые обычно даются в награду за доблесть, — стал префектом городской стражи, префектом претория, занимал и другие посты, отличаясь на первых порах жестокостью, а потом и жадностью, — пороками, которых трудно было ожидать в столь изнеженном человеке. Тигеллин не только вовлек Нерона в преступления, но и позволял себе многое за его спиной, а в конце концов его же покинул и предал. Ничьей казни поэтому в Риме не требовали с таким упорством, как казни Тигеллина; движимые противоположными чувствами, ее добивались и те, кто ненавидел Нерона, и те, кто его любил. При Гальбе его защищал могущественный Тит Виний, оправдывавшийся тем, что Тигеллин спас его дочь. Спас он ее, конечно, не по доброте — откуда бы ей быть у убийцы стольких людей, — а стараясь обеспечить себе лазейку на будущее: дурной человек тому, что есть, не доверяет, а перемен боится и ищет спасения от ненависти общества в покровительстве того или другого частного лица, заботится не о своей порядочности, а о безнаказанности. Теперь, когда к презрению, которое все издавна к нему питали, прибавилась еще и ярость против Виния, народ возненавидел Тигеллина окончательно. Граждане собирались на Палатине, на рынках и площадях, чернь — там, где она чувствует себя вольготнее, — в цирке и театрах, и, не считаясь ни с какими распоряжениями властей, все в один голос требовали смерти Тигеллина. Наконец, Тигеллин, находившийся в это время на лечебных водах в Синуессе[189], получил приказ лишить себя жизни. Окруженный наложницами, среди бесстыдных ласк, он долго старался оттянуть конец, пока не перерезал себе бритвой глотку, завершив и без того подлую жизнь запоздалой и отвратительной смертью.
73. Около того же времени народ требовал также казни Кальвии Криспиниллы, но император с помощью хитрости и обмана спас ее, хотя и сильно повредив себе этим в общественном мнении. В свое время Криспинилла устраивала для Нерона все его постыдные развлечения, потом отправилась в Африку с целью убедить Клодия Макра взяться за оружие и, не стесняясь, добивалась там принятия мер, которые должны были вызвать в Риме голод[190]. Позже она тем не менее приобрела уважение всего города: вышла замуж за консулярия, сумела уцелеть при Гальбе, Отоне и Вителлии и пользовалась большим влиянием благодаря богатству и бездетности — двум преимуществам, которые играют свою роль в любые времена, и дурные, и хорошие.
74. Между тем Отон вновь и вновь писал Вителлию письма, преисполненные ухищрений, к которым прибегают разве что женщины, предлагая ему свою милость, деньги, спокойную и обеспеченную жизнь в любом месте, которое тот пожелает выбрать. Вителлий делал подобные же предложения Отону. Сначала они обменивались любезностями, причем каждый прибегал к глупым и недостойным уловкам, стараясь обмануть соперника, но вскоре начали перебраниваться и упрекать друг друга — в обоих случаях с полным основанием — в подлостях и преступлениях. Отон вернул легатов Гальбы[191] и вместо них отправил в обе германские армии, в Италийский легион и в войска, расквартированные вокруг Лугдунума, других людей, представив их как посланцев сената. Посланные с такой готовностью остались в лагере Вителлия, что трудно было поверить, будто их там задержали силой. Отон послал с ними, якобы для большего почета, отряд преторианцев, которых тут же отправили обратно, не дав им времени вступить в сношения с легионерами. Фабий Валент дал им с собой письмо, обращенное от имени германской армии к преторианской гвардии и городской страже, где писал о подавляющих силах вителлианцев, об их готовности прийти к соглашению и обвинял преторианцев в том, что они передали Отону императорскую власть, давно уже[192] принадлежавшую Вителлию.
75. Таким образом была предпринята попытка подействовать на преторианцев одновременно обещаниями и угрозами и убедить их в том, что война им не по силам, а мир не сулит ничего дурного. Тем не менее поколебать их верность Отону этим путем не удалось. Несколько позже Вителлий подослал в Рим, а Отон в Германию своих агентов. Это, однако, тоже ничего не дало: вителлианцы, хоть сами и уцелели, ничего не сумели сделать, так как затерялись в огромной массе римского населения и не смогли установить связь друг с другом; отонианцы же сразу выдали себя, ибо были посторонними в лагере, где каждый знал друг друга. Вителлий написал брату Отона Тициану[193], угрожая, что убьет и его самого, и его сына, если тот не обеспечит безопасность матери и детям Вителлия[194]. И та, и другая семья остались невредимы. Говорили, что Отон не тронул семью Вителлия из страха. Когда же Вителлий, одержав победу, тем не менее пощадил родных Отона, все стали прославлять его за великодушие.
76. Первое сообщение, внушившее Отону уверенность в своих силах, пришло из Иллирии: на верность ему присягнули легионы Далмации, Паннонии и Мёзии[195]. Подобное же известие было доставлено из Испании. Но едва Отон успел особым эдиктом поблагодарить за это Клувия Руфа, тут же выяснилось, что Испания уже перешла на сторону Вителлия. Аквитания поклялась Юлию Корду[196] остаться верной Отону, но тоже очень скоро нарушила свои обещания. Никто не руководствовался ни верностью долгу, ни привязанностью к принцепсу, каждая провинция присоединялась к той или другой партии из страха или по необходимости: так, видя, какая опасность над ней нависла, и понимая, что всегда легче примкнуть к тому, кто ближе и сильнее, перешла на сторону Вителлия Нарбоннская Галлия. Более отдаленные провинции и армии, находившиеся за морем, оставались верны Отону, но не из преданности отонианской партии, а потому, что испытывали великое уважение к имени Рима и к достоинству сената, да и услыхали они об Отоне раньше, чем о Вителлии. В Иудее Веспасиан и Муциан в Сирии привели свои легионы к присяге Отону. Под его властью оставались также Египет и другие провинции, расположенные дальше на восток. Верность ему сохраняла и провинция Африка, где зачинщиком выступил Карфаген: здесь вольноотпущенник Нерона Кресценс — в дурные времена и подобные люди начинают вмешиваться в государственные дела, — не дожидаясь решения проконсула Випстана Апрониана, устроил для черни пир в честь Отона, и народ поспешно признал нового императора, ознаменовав это признание всякого рода безобразиями и бесчинствами. Примеру Карфагена последовали и прочие города.
77. Теперь, когда провинции и армии разделились на две враждующие партии, Вителлий стал еще сильнее стремиться к войне, которая ему была необходима, чтобы захватить верховную власть, а Отон, как будто в мире царило полнейшее спокойствие, занялся текущими делами империи; некоторые из них он решал в соответствии с достоинством государства, большинство же — в нарушение принятых обычаев, сообразуясь лишь с обстоятельствами. Консулами на срок до мартовских календ стали он сам и его брат Тициан, на следующий срок он, рассчитывая таким путем польстить германским войскам, сделал консулом Вергиния, а его коллегой — Помпея Вописка, по старой дружбе, как утверждал он сам, или чтобы проявить уважение к жителям Виенны, как говорили многие[197]. На остальные месяцы были сохранены те назначения, которые произвели еще Нерон и Гальба и которые Вителлий после своей победы также оставил в силе: до июльских календ — Целий и Флавий Сабины, до сентябрьских — Аррий Антонин и Марий Цельз[198]. Стариков, которые в свое время уже занимали высшие государственные должности, Отон, дабы достойно завершить их почетную деятельность, произвел в понтифики и в авгуры, а недавно возвращенным[199] из ссылки молодым нобилям вернул, чтобы их хоть как-то утешить, жреческие должности, принадлежавшие их отцам и дедам. Кадий Руф, Педий Блез и Сцевин Приск[200] вновь заняли в сенате свои места, которых они были лишены при Клавдии и Нероне за хищения и взятки. Чтобы добиться их оправдания, изменили формулировку обвинения, и то, что на деле было вымогательством, назвали оскорблением величия: возмущение, которое вызывали процессы этого последнего рода, заставило забыть и справедливый закон о вымогательствах.
78. Стремясь подобной же щедростью привлечь к себе симпатии союзных племен и жителей провинций, Отон допустил новые семьи в число полноправных колонистов Гиспала[201] и Эмериты[202], распространил на все племя лингонов право римского гражданства[203], передал несколько мавританских городов в дар провинции Бетика, ввел новые законы в Каппадокии[204] и в Африке; все эти реформы были нужны Отону лишь для завоевания популярности; он и не рассчитывал, что они останутся в силе сколько-нибудь длительное время. Среди всех этих дел, которые еще можно было оправдать требованиями момента и надвигавшейся опасностью, Отон, однако, не забывал и о своих былых увлечениях: он провел через сенат декрет о восстановлении статуй Поппеи[205] и даже, как говорили, подумывал об устройстве торжеств в память Нерона, надеясь таким образом привлечь чернь на свою сторону. Нашлись люди, выставившие изображения Нерона перед своими домами, и дело дошло до того, что народ и солдаты, как бы желая еще больше превознести знатность и славу Отона, в течение нескольких дней приветствовали его именем Нерона Отона. Сам он никак не высказал своего отношения к этому новому титулу, то ли боясь его отвергнуть, то ли стыдясь его принять.
79. У всех мысли были заняты гражданской войной и границы стали охраняться менее тщательно. Сарматское племя роксоланов, предыдущей зимой уничтожившее две когорты и окрыленное успехом, вторглось в Мёзию. Их конный отряд состоял из девяти тысяч человек, опьяненных недавней победой, помышлявших больше о грабеже, чем о сражении. Они двигались поэтому без определенного плана, не принимая никаких мер предосторожности, пока неожиданно не встретились со вспомогательными силами третьего легиона[206]. Римляне наступали в полном боевом порядке, у сарматов же к этому времени одни разбрелись по округе в поисках добычи, другие тащили тюки с награбленным добром; лошади их ступали неуверенно, и они, будто связанные по рукам и ногам, падали под мечами солдат. Как это ни странно, сила и доблесть сарматов заключены не в них самих: нет никого хуже и слабее их в пешем бою, но вряд ли существует войско, способное устоять перед натиском их конных орд. В тот день, однако, шел дождь, лед таял, и они не могли пользоваться ни пиками, ни своими длиннейшими мечами, которые сарматы держат обеими руками; лошади их скользили по грязи, а тяжелые панцири не давали им сражаться. Эти панцири, которые у них носят все вожди и знать, делаются из пригнанных друг к другу железных пластин или из самой твердой кожи; они действительно непроницаемы для стрел и камней, но если врагам удается повалить человека в таком панцире на землю, то подняться он сам уже не может. Вдобавок ко всему их лошади вязли в глубоком и рыхлом снегу, и это отнимало у них последние силы. Римские солдаты, свободно двигавшиеся в своих легких кожаных панцирях, засыпали их дротиками и копьями, а если ход битвы того требовал, переходили в рукопашную и пронзали своими короткими мечами ничем не защищенных сарматов, у которых даже не принято пользоваться щитами. Немногие, которым удалось спастись, бежали в болото, где погибли от холода и ран. После того как весть об этой победе достигла Рима, проконсул Мёзии Марк Апоний был награжден триумфальной статуей[207], а легаты легионов Фульв Аврелий, Юлиан Теттий и Нумизий Луп — консульскими знаками отличия[208]. Отон был весьма обрадован, приписал славу этой победы себе и старался создать впечатление, будто военное счастье ему улыбается, а его полководцы и его войска стяжали государству новую славу.
80. Между тем в Риме по ничтожному поводу, никому не внушавшему никаких опасений, возникли беспорядки, едва не приведшие к гибели всего города. Отон еще раньше приказал вызвать в Рим из Остии семнадцатую когорту[209] и поручил трибуну преторианцев Варию Криспину обеспечить ее оружием. Криспин, решив выполнить приказ, когда он сам не занят, а в лагере уже всё успокаивается, дождался сумерек, велел открыть арсенал и начал грузить оружие на принадлежавшие когорте повозки. Выбранное Криспином время показалось преторианцам подозрительным, намерения его преступными, и чем тише он старался все делать, тем больший шум поднимался в лагере. Пьяные солдаты, увидев оружие, захотели пустить его в ход, стали обвинять центурионов и трибунов в измене, кричать, что они хотят погубить Отона и для этого вооружают сенаторских клиентов; некоторые кричали, потому что были пьяны и не понимали толком, что происходит, другие — худшие, — надеясь, что, может быть, удастся пограбить, чернь, как всегда, — из любви к беспорядкам; солдаты, верные своему долгу, не могли помешать происходящему из-за наступившей темноты. Трибуна, пытавшегося обуздать мятеж, убили, убиты были и самые строгие и требовательные из центурионов; расхватав оружие, обнажив мечи, солдаты вскочили на коней и устремились в город и на Палатин.
81. У Отона в это время был большой пир, устроенный им для знатнейших женщин и мужчин. Перепуганные гости, не зная, как объяснить вспышку солдатской ярости — видеть ли в ней случайность, приписать ли ее коварству императора, не понимая, чтó опаснее — оставаться на месте, рискуя быть схваченным, или бежать и оказаться один на один с толпой, то храбрились, то выдавали весь свой испуг и не сводили глаз с Отона; как часто случается с людьми, не в меру проницательными, они усматривали опасность для себя в словах и поступках Отона, которые на самом деле были продиктованы одним лишь страхом. Опасаясь за самого себя не меньше, чем за сенаторов, он сразу же послал префектов претория навстречу солдатам с поручением успокоить их, а гостям велел немедленно разойтись. Высшие должностные лица государства, побросав знаки своего достоинства и избегая свиты клиентов и рабов, кинулись врассыпную; старики и женщины брели по улицам ночного города. Мало кто направлялся домой, большинство искало приюта у друзей или в глухих трущобах, у самого незаметного из клиентов.
82. Солдат не удалось остановить даже у входа во дворец; они ворвались в зал, где шел пир, ранили трибуна Юлия Марциала и префекта легиона Вителлия Сатурнина[210], пытавшихся их задержать, и стали громко требовать, чтобы им показали Отона. Потрясая оружием, преторианцы угрожали то центурионам и трибунам, то сенату и, обезумев от слепого страха, не зная, на ком выместить свою ярость, были готовы расправиться со всеми сразу. Наконец, Отон, позабыв о достоинстве императора, вскочил на ложе и, обливаясь слезами, стал умолять солдат успокоиться. С великим трудом он убедил их вернуться в лагерь; солдаты ушли, но неохотно, чувствуя свою вину. На следующий день город выглядел так, будто его захватили враги: дома заперты, на улицах почти не видно граждан; простой народ, удрученный, молчит; солдаты, скорее озлобленные, чем смущенные, ходят, опустив глаза в землю. Префекты Лициний Прокул и Плотий Фирм обошли манипулы, обращаясь к солдатам каждый на свои лад — один с увещеваниями, другой с угрозам; впрочем, речи обоих заканчивались обещанием выплатить каждому преторианцу по пять тысяч сестерциев. Только после этого Отон отважился вступить в лагерь. Здесь его обступили трибуны и центурионы; побросав наземь знаки своего достоинства, они стали требовать, чтобы Отон спас их от гибели и освободил от службы. Солдаты поняли, чем вызвана эта просьба, снова начали подчиняться приказам командиров и сами потребовали наказания зачинщиков мятежа.
83. Отон видел, что положение остается неспокойным и что в армии нет единодушия. Среди солдат лучшие требовали покончить с распространившейся повсюду распущенностью, большинство же было радо бунтовать, помыкать властями и стремилось перейти от грабежей и беспорядков к гражданской войне. Отон понимал также, что власть, захваченную преступлением, нельзя удержать, внезапно вернувшись к умеренности и древней суровости нравов; беспокоило его и то, что город оказался в опасности, а над сенатом нависла угроза. Взвесив все это, он обратился к преторианцам со следующей речью. «Не с тем пришел я к вам, друзья, чтобы пробудить в вас еще большую любовь к себе или поощрить вашу доблесть, — и та, и другая выше всяких похвал. Я пришел потребовать, чтобы вы умерили свое мужество и сдержали изъявления своей верности. Недавние неурядицы возникли не от алчности или ненависти, которые так часто порождают беспорядки в других войсках, не от непослушания или страха перед опасностью. Их вызвала ваша преданность, в выражении которой вы проявили больше страсти, чем осмотрительности: если действовать не подумавши, то и самые похвальные намерения часто приводят к дурным последствиям. Мы стоим на пороге войны. Разве можно в такую минуту, в столь чрезвычайных обстоятельствах, выслушивать при всех каждое новое сообщение, всенародно обсуждать каждый новый план? Есть вещи, о которых солдатам надлежит ведать, и есть вещи которых им лучше не знать. Власть полководца и незыблемый порядок в армии зиждутся именно на том, что даже трибуны и центурионы во многих случаях должны только лишь выполнять приказы. Если каждый, получив приказание, начнет спрашивать, зачем да почему оно нужно, прахом пойдет дисциплина, а за ней погибнет и государство Что же, и на войне вы броситесь среди ночи расхватывать оружие? И там один-два пьяных негодяя — ибо я не хочу верить, что вчерашнее безумие захватило многих, — будут пятнать руки кровью центурионов и трибунов, станут ломиться в шатер своего императора.
84. «То, что вы делали, — вы сделали для меня. Но если нет порядка, если повсюду царят смятение и мрак, то открываются пути силам, которые враждебны и мне. Имей Вителлий и его приспешники возможность выбирать, в каком настроении хотели бы они нас видеть? Что доставило бы им бóльшую радость, чем распри и ссоры в наших рядах? Они только и мечтают, чтобы наши солдаты перестали подчиняться центурионам, центурионы — трибунам и чтобы все мы, пешие и конные, позабыв о порядке и дисциплине, устремились навстречу собственной гибели. Мощь армии, друзья, основана на том, что солдаты подчиняются приказам полководца, а не стараются разузнать побольше о его планах, и в час опасности то войско оказывается сильнее, которое перед тем было более сплоченным и спокойным. Пусть остаются при вас ваше мужество и ваше оружие, а думать и направлять вашу доблесть предоставьте мне. Провинились среди вас немногие, наказаны будут лишь двое, остальные пусть навсегда забудут о событиях этой позорной ночи, пусть ни в одной армии никогда не узнают об угрозах сенату, раздававшихся здесь. На высший совет империи, где заседают лучшие люди всех провинций, не решились бы поднять руку, клянусь Геркулесом, даже варвары-германцы, которых Вителлий изо всех сил старается натравить на нас. Так может ли быть, чтобы подлинные сыны Италии стали требовать убийств и казней сенаторов, чтобы истинно римское юношество посягнуло на сословие, придающее славу и блеск нашему делу и ставящее нас неизмеримо выше того сброда, что окружает Вителлия? Он захватил земли нескольких племен, у него есть какое-то подобие армии, но сенат с нами, значит государство здесь, а там — враги государства. Ужели вы думаете, что лишь дома, крыши, нагромождения камня составляют этот прекрасный город? Их можно разрушить, можно отстроить заново, — ничего от этого не изменится. Но неколебимо стоит Рим, мир царит в мире, и мы с вами живы до тех пор, пока цел и невредим сенат. По велению богов создал его прародитель и основатель нашего города; вечный и нерушимый, простоял он от времени царей до времени принцепсов; таким мы приняли его от предков, таким передадим и потомкам нашим; ибо как из вас выходят сенаторы, так из сенаторов выходят государи».
85. Преторианцы благосклонно приняли речь Отона, рассчитанную на то, чтобы пристыдить их и одновременно им польстить, покарать виновных н, однако, сделать это в мягкой форме, — не случайно из всех зачинщиков мятежа он велел наказать лишь двоих. Этой речью он сумел хотя бы на время достичь того, чего не мог добиться с помощью силы, — заставить солдат соблюдать дисциплину и подчиняться приказам. Спокойствие тем не менее не возвращалось. Рим был полой звона оружия и выглядел как город, охваченный войной. Сообща преторианцы больше не затевали никаких смут, однако поодиночке и тайком солдаты, действуя якобы от имени и в интересах государства, продолжали нападать на дома наиболее знатных, богатых и вообще чем-либо известных граждан; к тому же по городу распространился слух, будто в Рим проникли солдаты Вителлия, чтобы выведать настроения различных группировок, и многие этой сплетне верили. Поэтому все всех подозревали, и даже разговоры, которые люди вели у себя дома, при закрытых дверях, не были до конца безопасны. Но больше всего страху натерпелись те, кому приходилось принимать участие в государственных делах: какую бы весть ни принесла молва, каждый старался настроиться на нужный лад и придать своему лицу подходящее к случаю выражение, как бы кто не подумал, что он легкомысленно относится к дурным известиям или недостаточно обрадован хорошими. Особенно сложно было правильно держать себя на заседаниях сената, где молчание могло показаться строптивостью, а независимость подозрительной. Впрочем, Отон, который еще недавно сам был частным лицом и вел себя точно так же, хорошо знал цену всем этим уловкам. На разные лады все называли Вителлия врагом и изменником, наиболее дальновидные ограничивались обычными бранными выражениями, другие осуждали его более резко, но старались, чтобы слова их прозвучали неясно или утонули в общем шуме.
86. В довершение бед на всех наводили ужас доходившие с разных сторон слухи о чудесах и знамениях. На Капитолии статуя Победы, стоящая на колеснице, запряженной парой коней, выронила из рук вожжи; из придела Юноны в Капитолийском храме внезапно вышел призрак выше человека ростом; в ясный безветренный день Тибр тек совершенно спокойно, как вдруг стоявшая на острове посреди реки обращенная на запад статуя божественного Юлия повернулась лицом к востоку; в Этрурии заговорил бык; животные рожали странных уродцев, и происходило еще множество всяких чудес. В далеком прошлом, исполненном невежества и дикости, люди и в обычное время с благоговением и ужасом относились к разным странным явлениям, сейчас же на них обращают внимание только, когда все охвачены страхом. Но главным событием этих дней было неожиданное наводнение, которое и само по себе, принесло много несчастий, и вселило в граждан еще больший страх перед будущим. Уровень воды в Тибре резко поднялся, река сорвала стоявший на сваях мост и разбила мол, перегораживавший течение; масса обломков рухнула в поток, и вытесненные воды затопили не только кварталы, примыкавшие к Тибру, но и части города, всегда считавшиеся безопасными[211]. Волны смывали людей на улицах, настигали их в домах и лавках; народ голодал, заработков не было, продовольствия не хватало; вода подмыла основания огромных доходных домов, и когда река отступила, они обрушились. Едва прошел первый страх, все увидели, что непроходимы стали Марсово поле и Фламиниева дорога[212], а тем самым оказался закрытым путь, по которому Отон должен был выступать в поход. В этом обстоятельстве, порожденном естественными причинами или возникшем по воле случая, тут же усмотрели знамение, указывавшее на неизбежное поражение.
87. Отон, совершив обряд очищения города, принес очистительные жертвы и, взвесив все возможные планы кампании, решил двинуться к Нарбоннской Галлии,так как Пеннинские и Коттианские Альпы, а равно все другие подступы к галльским провинциям были заграждены вителлианскими войсками. Избирая такой план, Отон рассчитывал на силу и преданность своего флота: он выпустил из тюрьмы солдат морской пехоты, уцелевших во время резни у Мульвиева моста, которых Гальба с присущей ему жестокостью велел держать в заточении, сформировал из них особые подразделения в составе легиона, а остальным[213] дал понять, что в будущем они могут рассчитывать на более почетную службу. Флоту были приданы некоторые когорты городской стражи и преторианцы, по численности и боевым качествам составлявшие главную силу армии, охранявшие полководцев и даже дававшие им советы. Верховное командование было поручено примипиляриям Антонию Новеллу и Сведию Клементу, а также Эмилию Пацензу, которому Отон вернул должность трибуна, отнятую у него Гальбой. Кораблями по-прежнему ведал вольноотпущенник Мосх[214]; Отон поручил ему даже следить за людьми, которые по рождению были гораздо его выше. Командовать пешими и конными войсками назначили Светония Паулина, Мария Цельза и Анния Галла[215], но самым доверенным лицом был префект претория Лициний Прокул. Отличившийся во время службы в римском гарнизоне, но неопытный в военном деле, он избрал легкий путь к почестям: стал клеветать на других командиров, отрицая те хорошие качества, которые у каждого из них были, — способность Паулина внушать к себе уважение, стойкость Цельза, опытность Галла, и в результате благодаря своей ловкости и подлости добился превосходства над людьми порядочными и скромными.
88. Примерно в эти же дни был выслан в Аквин[216], под гласный и не слишком строгий надзор, Корнелий Долабелла[217], он не совершил никакого преступления, но был под подозрением как человек из древней фамилии и родственник Гальбы. Многие из высших должностных лиц и большинство консуляриев получили от Отона приказ выехать вместе с ним в армию, — не для участия в военных операциях или содействия им, а для того только, чтобы состоять в его свите; среди них находился и Луций Вителлий[218]; Отон обращался с ним с обычной своей любезностью, не как с братом императора, но и не как с братом врага. Приказ Отона вызвал в городе переполох. Люди всех сословий боялись происходящего и опасались за будущее: наиболее заслуженные сенаторы были дряхлы и за долгие годы мирной жизни обленились, изнеженные аристократы отвыкли от походов, всадники никогда их и не знали. Чем больше каждый старался скрыть свой страх и трепет, тем очевиднее они становились. Немало было и таких, кого обуревало бессмысленное тщеславие; они покупали дорогое оружие, породистых лошадей и уместные разве что на пирах и попойках предметы роскоши, которые они тоже считали частью военного снаряжения. Люди мудрые думали о том, как обеспечить интересы мира и государства; самые легкомысленные, неспособные заглянуть в будущее, тешили себя пустыми надеждами; многие из тех, кто в обычное время со страхом скрывается от кредиторов, теперь среди неурядиц и беспорядков приободрились и чувствовали себя в безопасности.
89. Мало-помалу, однако, и чернь, и простонародье, которых обычно не задевают беды, переживаемые государством, начали испытывать на себе тяготы войны: все деньги уходили на нужды армии, цены на продукты питания росли. Во время восстания Виндекса эти трудности мало коснулись населения; тогда город чувствовал себя в безопасности, борьба легионов с галлами, разворачивавшаяся в провинциях, казалось, шла за рубежами империи. Вообще с тех пор, как божественный Август положил начало власти цезарей, римский народ вел войны на далеких окраинах империи, а все заботы и почет выпадали на долю одного человека. При Тиберии и Гае государство страдало от бед, преследующих людей и в мирное время; восстание Скрибониана[219] против Клавдия оказалось уже подавлено, когда весть о нем достигла Рима; Нерон был свергнут не силой оружия, а слухами и молвой. Теперь же на театр военных действий были выведены легионы и флоты, были выведены — что прежде бывало очень редко — войска городской стражи и преторианцы; западные и восточные провинции со всеми сосредоточенными в них армиями образовывали тыл, и, при других полководцах, такая война могла бы затянуться надолго. Отон был уже совсем готов к походу, но ему стали советовать проявить уважение к древним обрядам и повременить с выступлением, пока не будут возвращены на место священные щиты[220]; он же не допускал и мысли об отсрочке, говоря, что подобное промедление сгубило Нерона. К тому же Цецина уже перешел Альпы и надо было спешить.
90. Накануне мартовских ид Отон поручил сенату заботы о делах государства и распорядился передать лицам, возвращенным из ссылки, деньги, вырученные от распродажи их имущества, конфискованного Нероном, если только эти суммы не были уже взяты в казну. При всей справедливости и эффектности этого распоряжения практически оно ничего не дало, ибо конфискации эти производились Нероном очень поспешно[221]. Вскоре затем Отон созвал собрание граждан, где говорил о величии Рима, превозносил единодушие, с которым сенат и народ его поддерживают, и весьма осторожно коснулся легионеров-вителлианцев, обвиняя их скорее в незнании подлинного положения дел, чем в неподчинении. О Вителлии он не упомянул совсем, — то ли потому, что сам опасался говорить о нем, то ли человек, писавший ему речь, боясь за себя, предпочел обойтись без нападок на Вителлия: говорили, что в гражданских делах Отон пользовался знаниями и способностями Галерия Трахала[222], точно так же как в военных опирался на советы Светония Паулина и Мария Цельза. Некоторые даже утверждали, что уловили в речи Отона ораторскую манеру Трахала, прославившегося частыми выступлениями в суде, — его многословный и звучный слог, поражающий рядового слушателя. Льстивые, как всегда, крики и рукоплескания толпы были преувеличенно громки и неискренни: можно было подумать, что в поход провожают диктатора Цезаря или императора Августа. Стараясь превзойти друг друга, все наперебой желали Отону удачи и призывали на него благословение богов, не из страха или особой преданности, а как бы наслаждаясь собственным пресмыкательством; так, в частном доме, в толпе рабов и клиентов каждый преследует свои корыстные цели, и даже мысль о чести семьи не приходит никому в голову. Отправляясь в поход[223], Отон поручил наблюдать за спокойствием в городе и ведать делами государства своему брату Сальвию Тициану.
(обратно)Книга II
1. Между тем на другом конце земли по воле фортуны незаметно зрела новая власть, которой суждено было принести государству множество великих удач и ужасных бед, породить принцепсов, знавших безоблачное счастье[1], и правителей, встретивших бесславную гибель[2]. Гальба еще был облечен всей полнотой власти, когда Тит Веспасиан выехал по поручению отца из Иудеи в Рим. Тит ехал, как объяснял он сам, чтобы воздать почести государю и обратить на себя его внимание; юноша вступал в тот возраст, когда пора уже думать о занятии почетных государственных должностей. Среди черни же, всегда склонной к выдумкам, разнесся слух, будто Тит хочет добиться, чтобы Гальба его усыновил. Пересуды эти были вызваны преклонным возрастом принцепса, его бездетностью и привычкой людей гадать о том, кто захватит власть, пока кто-нибудь один еще не завладел ею. Всё поддерживало эти слухи — ум и характер Тита, дававшие ему основания претендовать на любое, самое высокое положение, его красивая, даже величественная, внешность, успехи Веспасиана, предсказания, оракулы и, наконец, случайные происшествия, в которых легковерные люди склонны видеть предуказания судьбы. Тит находился в городе Коринфе, в Ахайе, когда до него дошли бесспорные известия о гибели Гальбы; кое-кто в его окружении уже поговаривал также о восстании Вителлия и гражданской войне. Встревоженный, он собрал нескольких друзей, чтобы обсудить с ними две различные возможности дальнейшего поведения: если он явится сейчас в Рим, то не встретит никакой благодарности за знаки внимания, изначально предназначавшиеся другому, и рискует оказаться в заложниках у Вителлия или Отона; если же он теперь повернет назад, то будущий принцепс, разумеется, оскорбится таким поступком. Но кто окажется победителем, пока что неизвестно, а кроме того, отец, признав власть нового государя, заставит его тем самым простить и сына. Наконец, если Веспасиан сам вмешается в борьбу за власть, ни Отон, ни Вителлий, занятые гражданской войной, не станут вспоминать о былых обидах.
2. Так или примерно так размышлял Тит, колеблясь между надеждой и страхом, пока не остановился на решении, внушавшем более всего надежд. Кое-кто думал, что повернуть обратно заставила Тита страсть, которой он пылал к царице Беренике[3]. Юноша и в самом деле не был к ней равнодушен, что, однако, нисколько не мешало ему вести свои дела разумно и осмотрительно. В молодости он был действительно склонен к утехам и развлечениям и еще в годы правления своего отца вел себя далеко не столь сдержанно, как позже, когда сам сделался императором. Он не стал двигаться вдоль берегов Ахайи и Азии и, оставив влево от себя море, их омывающее, отправился прямо к островам Родосу и Кипру, а оттуда — в Сирию, т.е. избрал путь, требовавший особого мужества[4]. На Кипре Тит пожелал посетить и осмотреть храм Венере Пафосской[5], слава которого гремела среди местных жителей и приезжих. Я думаю, не займет много времени, если я в нескольких словах расскажу о возникновении здешнего культа, о храмовых обрядах и о том, как выглядит изображение богини, нигде не имеющее себе подобных.
3. Древние сказания называют основателем храма царя по имени Аэрия, хотя кое-кто и полагает, что это — имя самой богини. Более позднее предание гласит, что храм поставил Кинир[6] — на том самом месте, куда прибой вынес рожденную морем богиню; учение же и искусство гаруспиков[7] занес на Кипр киликиец[8] Тамир. При этом было по взаимному согласию решено, что культ будут отправлять совместно потомки обеих семей. Впоследствии, однако, чтобы царский род[9] не оказался в менее почетном положении, чем род пришельцев, новые поселенцы перестали пользоваться учением, ими же самими введенным, и жреческие должности начали занимать лишь потомки Кинира. В храме принимают любых жертвенных животных, каких кто принесет, но для заклания выбирают самцов; прорицания считаются самыми верными, если они составлены по внутренностям молодых козлят. Обливать жертвенники кровью запрещается, лишь молитвы и чистое пламя возносятся с алтарей, и, хотя они находятся под открытым небом, не было еще случая, чтобы дождь залил огонь. Идол богини не имеет человеческого облика, а напоминает мету на ристалищах — круглый внизу и постепенно сужающийся кверху[10]. Почему он такой — неизвестно.
4. Осмотрев драгоценности, царские подношения и прочие вещи, которые, как уверяли любящие старину греки, были подарены храму еще в незапамятные времена, Тит сразу же постарался выяснить, можно ли плыть дальше. Узнав, что путь открыт и море спокойно, он принес обильные жертвы и лишь после этого осторожно попытался выяснить, какая судьба ждет его в будущем. Сострат (так звали жреца), увидев по благоприятному расположению внутренностей[11], что богиня согласна ответить на вопросы столь знатного посетителя, сперва ограничился несколькими словами, обычными в таких случаях, а потом, явившись к Титу тайком, открыл ему будущее, которое его ожидает[12]. Воспрянув духом, Тит прибыл к отцу в тот самый момент, когда положение в войсках и провинциях было крайне неустойчивым, и переполнявшая его вера в свое будущее заставила чашу весов склониться на сторону Флавиев.
Веспасиан тем временем почти окончил войну в Иудее, хотя ему еще и предстояло взять Иеросолиму, — дело трудное, требовавшее большого напряжения, — и не из-за того, что в городе скопилось много сил и жители легко переносили тяготы осады, а главным образом потому, что Иеросолима стояла на недоступной круче, а осажденные упорствовали в своих суевериях. Как я уже упоминал, тремя закаленными в боях легионами командовал сам Веспасиан и еще четыре находились под началом Муциана[13]. Хотя этим последним не приходилось еще участвовать в войне, их нельзя было назвать слабыми, ибо слава, которую стяжали их товарищи, возбуждала соперничество между обеими армиями и разжигала их боевой дух. Солдаты Веспасиана были сильны благодаря перенесенным трудностям и опасностям, легионы Муциана — потому, что хорошо отдохнули и не были измучены войной. Оба полководца располагали вспомогательными когортами и конницей, флотами[14], армиями местных царей[15], оба были, хотя и по-разному, знамениты.
5. Веспасиан обычно сам шел во главе войска, умел выбрать место для лагеря, днем и ночью помышлял о победе над врагами, а если надо, разил их могучею рукой, ел, что придется, одеждой и привычками почти не отличался от рядового солдата, — словом, если бы не алчность, его можно было бы счесть за римского полководца древних времен; Муциан, напротив того, отличался богатством и любовью к роскоши, привык окружать себя великолепием, у частного человека невиданным; он лучше владел словом, был опытен в политике, разбирался в делах и умел предвидеть их исход. Какой образцовый получился бы принцепс, если бы можно было, отбросив пороки, слить воедино достоинства того и другого! Они, однако, не ладили друг с другом, так как правили, один — Сирией, а другой — Иудеей, двумя соседними и потому соперничавшими провинциями. Лишь после смерти Нерона они перестали враждовать и начали советоваться друг с другом; посредниками между ними были сначала друзья, а потом Тит, который быстро и ко взаимной выгоде покончил с разделявшими их мелочными дрязгами, сумел благодаря своему врожденному обаянию и тонкой обходительности понравиться даже Муциану и вскоре стал опорой и вдохновителем их дружбы. Трибуны, центурионы и рядовые солдаты поддерживали этот союз, — кто из верности долгу, а кто из желания поживиться, одни — движимые доблестью, другие — пороками.
6. Еще до возвращения Тита обе армии были уведомлены о захвате власти Отоном и присягнули ему на верность. Такие вести всегда доходят быстро, но много нужно времени и многое приходится преодолеть, прежде чем решиться на гражданскую войну, о которой тогда впервые начали подумывать восточные провинции, столько лет остававшиеся послушными и спокойными. Самые крупные гражданские войны издавна разворачивались в Италии или в Галлии и вели их войска, расположенные в западных провинциях. Ни Помпею, ни Кассию, ни Бруту, ни Антонию[16] — никому из тех, кто пробовал перенести гражданскую войну на восток, — не удавалось добиться здесь победы. Сирия и Иудея больше слышали о государях, чем видели их. В то время как в других местах все уже пришло в движение в ожидании гражданской войны, здесь царил безмятежный покой; никаких беспорядков не было и в легионах; лишь изредка, с переменным успехом, вступали они в схватки с парфянами. Легионы спокойно принесли присягу Гальбе, но вскоре распространился слух, что Отон и Вителлий, стремясь захватить императорский престол, затевают друг против друга преступную войну. Тогда-то солдаты испугались, что власть со всеми ее благами попадет в руки другим, а на их долю останется одна лишь тяжкая служба. Они стали оглядываться вокруг, дабы посмотреть, какими силами располагают: здесь на месте — семь легионов с приданными им крупными вспомогательными армиями Сирии и Иудеи, дальше — Египет с двумя легионами[17], а с другой стороны — Каппадокия, Понт, гарнизоны, цепью охватывающие Армению, Азия и другие провинции, многолюдные и богатые, бесчисленные острова, омываемые морем, наконец, и само море, отделяющее эти земли от Рима, обеспечивающее их безопасность и дающее возможность исподволь готовить гражданскую войну.
7. Полководцы видели мятежные настроения солдат, но пока что предпочитали выжидать и смотреть, как будут воевать другие. Победители и побежденные в гражданской войне, рассуждали они, никогда не примиряются надолго. Гадать же сейчас, кому удастся взять верх — Отону или Вителлию, не имеет смысла: добившись победы, даже выдающиеся полководцы начинают вести себя неожиданно, а уж эти двое, ленивые, распутные, вечно со всеми ссорящиеся, все равно погибнут оба, — один оттого, что проиграл войну, другой — оттого, что ее выиграл. Поэтому Веспасиан и Муциан решили, что вооруженное выступление необходимо, но что его надо отложить до более подходящего случая. Остальные по разным соображениям давно уже придерживались того же мнения, — лучших вела любовь к отечеству, многих подталкивала надежда пограбить, иные рассчитывали поправить свои домашние дела. Так или иначе, и хорошие люди, и дурные, все по разным причинам, но с равным пылом, жаждали войны.
8. Примерно в это же время в Ахайе и в Азии распространились ложные вести о появлении Нерона, вызвавшие ужас в этих провинциях[18]. Чем больше ходило слухов об обстоятельствах гибели Нерона, тем больше встречалось людей, утверждавших, что он жив, и таких, что этому верили. В дальнейшем ходе моего повествования я расскажу о судьбе самозванцев, пытавшихся выдавать себя за Нерона, тот же, о котором сейчас идет речь, был рабом из Понта[19] или, как говорят иные, вольноотпущенником из Италии. Он хорошо пел и играл на кифаре, и это вселило в него уверенность, что ему удастся выдать себя за Нерона[20], на которого он к тому же походил лицом. Наобещав великое множество всяких благ каким-то нищим бродягам из беглых солдат, он увлек их за собой и вместе с ними пустился в море. Буря прибила их к острову Цитну[21], где они повстречались с солдатами из восточных легионов, находившимися здесь в отпуске; самозванец часть из них уговорил следовать за собой, тех же, кто отказался, велел убить и, ограбив нескольких купцов, вооружил самых сильных и крепких из рабов. Центуриона Сисенну, который от имени сирийской армии вез преторианцам изображение переплетенных правых рук — символ мира и согласия, он всяческими уловками пытался перетянуть на свою сторону, так что перепуганный центурион, опасаясь за свою жизнь, бежал с острова. С этого момента паника стала распространяться все шире; славное имя Нерона привлекало многих — и любителей перемен, и недовольных существующим. Успех смутьянов ширился день ото дня, пока случай не положил ему конец.
9. Еще до всех этих событий Гальба поручил Кальпурнию Аспренату управление провинциями Галатия и Памфилия[22]. Тот отправился к месту назначения с почетным эскортом из двух трирем, взятых из состава Мизенского флота[23], с которыми и прибыл на остров Цитн. Здесь нашлись люди, передавшие командирам обоих кораблей приглашение от имени Нерона. Прикинувшись удрученным и взывая к чувству долга солдат, некогда столь верно ему служивших, он стал убеждать их поддержать начатое им дело в Сирии и в Египте. То ли вправду заколебавшись, то ли из хитрости, триерархи[24] пообещали соответствующим образом настроить солдат, перетянуть их на его сторону и тогда вернуться; сами же пошли и все честно рассказали Аспренату. По его призыву солдаты штурмом взяли корабль самозванца, где этого человека — кто бы он на самом деле ни был — и убили. Голову его, поражавшую дикостью взгляда, косматой гривой и свирепым выражением лица, отправили в Азию, а оттуда в Рим.
10. Государство терзали распри; из-за частой смены принцепсов в Риме царила свобода, граничившая с распущенностью; мелкие повседневные дела шли здесь своим чередом под шум потрясавших империю великих событий. Вибий Крисп[25], которому его богатство, власть и таланты стяжали больше известности, чем уважения, возбудил в сенате дело против всадника Анния Фавста, сделавшего при Нероне своим ремеслом сочинение доносов: в начале принципата Гальбы сенаторы приняли решение о том, что они сами будут разбирать дела доносчиков. Это сенатское постановление в одних случаях применялось со всей строгостью, в других о нем едва вспоминали, в зависимости от того, был ли обвиняемый богат или беден, но в общем сохраняло всю свою силу[26]. Крисп набросился на Фавста, донесшего в свое время на его брата[27], со всей страстью лично заинтересованного человека и убедил бóльшую часть сенаторов потребовать казни Фавста, не выслушав ни защитников, ни его собственных оправданий. Некоторых сенаторов, однако, именно непомерное влияние обвинителя больше всего настраивало в пользу обвиняемого. Они считали, что улики отнюдь не очевидны, что торопиться не к чему и повторяли, что, сколь бы ненавистен и виновен Фавст ни был, надо следовать обычаям и выслушать его. На первых порах сторонники этого взгляда взяли верх, и следствие было отложено на несколько дней, но тем не менее вскоре Фавст был осужден. Его осуждение, правда, не вызвало в обществе того одобрения, которого Фавст заслужил своими пороками. Вспоминали, что и сам Крисп с великой для себя выгодой занимался такими же доносами; словом, все были довольны, что преступление наказано, но никому не нравился тот, кто добился наказания.
11. Между тем для Отона война начиналась счастливо: на его поддержку двинулись войска из Далмации и Паннонии — четыре легиона, каждый из которых выслал вперед авангард из двух тысяч человек и основными силами следовал за ними на небольшом расстоянии. То были созданный Гальбой седьмой, закаленные в боях одиннадцатый и тринадцатый и знаменитый четырнадцатый[28], прославившийся подавлением восстания в Британии, позже отмеченный Нероном как сильнейший легион римской армии и потому долго сохранявший ему верность, а теперь полностью преданный Отону. Эти легионы располагали огромным количеством людей и оружия, а поэтому высоко ценили свою помощь и не спешили. Перед каждым двигались входившие в его состав конные отряды и вспомогательные когорты. Силы, выступившие из Рима, тоже были весьма немалые — пять когорт и конные отряды преторианцев, первый легион и две тысячи гладиаторов — постыдная разновидность вспомогательного войска, которой, однако, в пору гражданских войн не брезговали и более взыскательные полководцы[29]. Командовать этой армией было поручено Аннию Галлу, и он ушел вперед, чтобы вместе с Вестрицием Спуринной[30] занять долину Пада: хотя первоначальный план кампании провалился, так как Цецина тем временем уже перешел Альпы, Отон все же рассчитывал, что вителлианцев удастся остановить в галльских провинциях. Самого Отона сопровождали отборные отряды, составленные из особо заслуженных солдат, остальные когорты претория, преторианцы-ветераны[31] и значительные силы морской пехоты. В походе Отон не выказывал ни изнеженности, ни любви к роскоши: в железном панцире, просто одетый, он шел перед строем, впереди боевых значков, суровый, непохожий на того Отона, которого знала молва.
12. Судьба была благосклонна к замыслам Отона; флот обеспечивал ему контроль над большей частью Италии, вплоть до Приморских Альп, и он поручил Сведию Клементу, Антонию Новеллу и Эмилию Пацензу продвинуться с находившимися под их командованием войсками к этим горам и выйти на границу Нарбоннской провинции[32]. Но Паценз был схвачен и заточен вышедшими из повиновения солдатами, Антоний Новелл не пользовался никаким авторитетом, и командовал фактически один Сведий Клемент[33], заигрывавший с солдатами, потерявший всякое представление о воинской дисциплине и старавшийся, где только можно, начать военные действия. Казалось, что он идет не по Италии, не по полям и селениям своей родины, а опустошает чужие берега, выжигает и грабит вражеские города. Это было тем отвратительнее, что никто и не думал защищаться — на полях кипела работа, дома стояли открытыми. Хозяева, уверенные, что кругом царят мир и безопасность, с женами и детьми выбегали навстречу войскам, и тут их настигала война со всеми ее ужасами. Прокуратором Приморских Альп[34] был в это время Марий Матур. Он собрал местных жителей, среди которых было много молодежи, и задумал, опираясь на нее, преградить отонианцам путь в свою провинцию. Но уже в первой схватке горцы были перебиты или разбежались, как того и следовало ожидать от людей, наспех собранных, не имевших представления ни об устройстве лагерей, ни о едином командовании; таким солдатам и победа не в славу, и бегство не в укор.
13. Сражение это только раздражило солдат Отона, и они решили выместить свою досаду на жителях города Альбинтимилия[35]. Победа не принесла никакой добычи, так как крестьяне были нищи и плохо вооружены, захватить их, чтобы продать в рабство, тоже не удалось, потому что они прекрасно знали местность и ловко прятались. Алчность отонианцев хоть как-то насытилась лишь страданиями ни в чем не повинных горожан. Ненависть к солдатам Клемента еще возросла, когда пример редкой доблести явила одна из лигурийских[36] женщин. Она где-то укрыла своего сына, доверив ему, как полагали солдаты, все свои богатства. Они пыткой хотели добиться от женщины, где она прячет сына, но она указала себе на живот и ответила, что скрывает его в своем теле. Ни угрозы, ни смерть не заставили ее отречься от своих гордых слов[37].
14. К Фабию Валенту явились перепуганные гонцы из Нарбоннской Галлии и донесли, что флот Отона угрожает этой провинции, присягнувшей на верность Вителлию. Одновременно к нему через своих легатов обратились за помощью и колонии[38]. Валент послал им две тунгрские когорты[39], четыре эскадрона и всю тревирскую конницу[40], поставив во главе их Юлия Классика[41]. Часть этих войск он позже задержал в колонии Форум Юлия, опасаясь, что, отведя в глубь страны все свои силы, он упустит контроль над морем и ускорит этим нападение отонианского флота. Путь на врага продолжали двенадцать конных отрядов и пехотинцы, набранные из солдат обеих когорт. К ним добавили когорту лигурийцев, которые издавна знали местность и потому могли оказать большую помощь, а также пятьсот новобранцев из Паннонии, еще не успевших принести присягу. Битвы пришлось ждать недолго. Отонианская армия была расположена так, что приморские холмы занимала часть солдат морской пехоты вместе с местными ополченцами, прибрежную равнину — преторианцы[42], а море — флот, в полном боевом порядке, грозно развернутый фронтом к берегу и готовый в нужную минуту прийти на помощь. Вителлианцы, главную силу которых составляла не пехота, а кавалерия, разместили в ближних ущельях отряды горцев, а когорты поставили тесными рядами позади конницы. Конные отряды тревиров, позабыв осторожность, далеко вырвались вперед. Их встретили ветераны претория, а с фланга стали засыпать камнями ополченцы, благо метать камни вполне по силам и крестьянам; рассеянные среди солдат, они все — и храбрецы, и трусы — с равным пылом стремились к победе. Вителлианцы были уже разбиты, когда с тыла на них обрушился флот, обративший их в полное замешательство. Окруженные со всех сторон, они были бы начисто истреблены, если бы спустившаяся ночная тьма не остановила победителей и не скрыла бегущих.
15. Хотя вителлианцы и были побеждены, они не успокоились. Подтянув вспомогательные войска, они напали на врагов, которые после одержанной победы чувствовали себя в безопасности и действовали не так решительно, как раньше. Часовые были перебиты, оборона лагерей прорвана, и схватки закипели уже у самых кораблей. Тут только преторианцы пришли в себя и, заняв соседний холм, начали сопротивляться, а вскоре и сами перешли в наступление. Резня была ужасная; погибли, засыпанные дротами, префекты тунгрских когорт, долго удерживавшие своих солдат в боевом строю. Отонианцам тоже победа стоила немало крови: они так увлеклись преследованием конников Вителлия, что те, повернув, лошадей, сами окружили и разбили их. Затем, как бы заключив перемирие и опасаясь, одни — внезапной атаки кавалерии, другие — неожиданного нападения флота, противники разошлись: вителлианцы отошли к Антиполису, городу в Нарбоннской Галлии; отонианцы вернулись в Альбигаун, во внутренней Лигурии[43].
16. Слава победоносного флота разнеслась по Корсике, Сардинии, по другим соседним островам и заставила их сохранить верность Отону. Корсику, однако, чуть не погубило безрассудство прокуратора Декума Пакария[44], принесшее ему самому смерть, а пользы в столь долгой и трудной войне не оказавшее никому. Из ненависти к Отону он решил поддержать Вителлия силами корсиканцев, чем оказал бы ему, даже если бы задуманный план и удался, лишь незначительную помощь. Собрав всех, кто пользовался на острове влиянием, Пакарий рассказал о своих намерениях, а возражавших ему триерарха либурнских судов[45] Клавдия Пиррика и всадника Квинтия Церта велел убить; остальные, устрашенные их гибелью, присягнули на верность Вителлию. Толпа, ничего не понимавшая в происходящем и, как всегда, готовая трепетать, если трепещут другие, тут же последовала их примеру. Однако, когда Пакарий приступил к воинскому набору и начал требовать от местных жителей, не привыкших ни к какому порядку, строгого исполнения воинских обязанностей, они стали проклинать обрушившиеся на них тяготы и раздумывать о своем бедственном положении. Мы живем на острове, рассуждали они, Германия и легионы от нас далеко, а флот — рядом. Не раз ведь уж было, что моряки уничтожали население и губили людей, даже надежно защищенных пешими и конными войсками. Все как один отвернулись от Пакария, но, не решаясь пока что выступить открыто и прибегнуть к силе, выжидали подходящего времени для мятежа. Он был убит раздетый и беспомощный, вместе со своими слугами, когда однажды, проводив гостей, собирался сесть в ванну. Убийцы сами доставили Отону их головы, будто головы врагов. Однако они не получили ни награды от Отона, ни наказания от Вителлия: в бурном течении событий это преступление затерялось среди других, несравненно бóльших.
17. Как я уже говорил, силианская кавалерия[46] перенесла войну в Италию. В здешних местах никто не испытывал особой любви к Отону, но вовсе не потому, что предпочитали ему Вителлия, — просто долгие годы мирной жизни приучили людей бессильно склоняться перед каждым, захватившим власть, и не задумываться, кто из них лучше. Тем временем когорты, высланные Цециной вперед, уже спустились в Транспаданскую Галлию, и эта цветущая область Италии, со всеми городами и военными поселениями, разбросанными между Падом и Альпами, оказалась под контролем вителлианской армии. Солдаты Вителлия захватили возле Кремоны паннонскую когорту, между Плаценцией и Тицином [47] — сотню всадников и тысячу солдат морской пехоты, так что реки и морской берег теперь тоже перестали представлять для них опасность. Батавам и зарейнским германцам не терпелось переправиться через Пад. Неожиданно для всех они перешли эту реку около Плаценции, захватили в плен несколько человек из патрульного отряда отонианской армии и так перепугали остальных, что те разбежались в ужасе, разнося повсюду весть, будто в Циспаданской Галлии[48] находится уже вся армия Цецины.
18. Спуринна, который командовал гарнизоном Плаценции, достоверно знал, что Цецина еще далеко. Но, даже если бы вителлианцы действительно оказались близко, он все равно рассчитывал держать своих солдат за городскими укреплениями и не думал пытаться противопоставить свои три преторианские когорты, тысячу легионеров и небольшое число всадников закаленной в боях армии. Но разнузданные и непривычные к походам солдаты, не обращая внимания на центурионов и трибунов, захватывают боевые значки[49] и вымпелы[50], устремляются вон из лагеря и угрожают дротами командующему, который пытается их удержать. Слышатся крики, будто Отона предали, будто Цецину призвали в город. Спуринне пришлось согласиться на безрассудные требования солдат. Сначала он не скрывал, что действует по принуждению, но потом прикинулся, будто и сам хочет того же, рассчитывая, что мятеж все равно затихнет, а ему таким путем удастся сохранить власть.
19. Пад уже скрылся из виду и спускалась ночь, когда было решено разбить лагерь и обнести его валом, но солдаты римского гарнизона не привыкли к такой тяжелой работе и вскоре приуныли. Самые старые принялись сетовать на свою опрометчивость и объяснять более молодым, какая опасность нависнет над ними, если Цецина со своей армией здесь, в чистом поле, окружит их несколько когорт. Солдаты утихли, центурионы и трибуны вмешались в беседу и вскоре все с похвалой заговорили о мудрой проницательности командующего, намеревавшегося сделать главным узлом обороны колонию, с ее богатствами и силами, в ней сосредоточенными. Наконец, выступил и сам Спуринна, который не стал особенно пенять солдатам за их поведение, а вместо того разъяснил все преимущества своего плана. Оставив лазутчиков, он с остальными повернул назад и привел их в Плаценцию уже не столь буйными, а послушными его власти. Стены города были исправлены, перед ними сооружены новые укрепления, возведены башни, усилено не столько вооружение войска, сколько дисциплина и порядок — единственное, чего не хватало сторонникам Отона, на мужество которых жаловаться не приходилось.
20. Солдаты Цецины, как бы оставив по ту сторону Альп свою жестокость и распущенность, вели себя в Италии, по которой они теперь шли, сдержанно и дисциплинированно. Осуждение колонистов и горожан вызывала, правда, одежда самого Цецины: они видели высокомерие в том, что он носил длинные штаны, короткий полосатый плащ и в таком виде позволял себе разговаривать с людьми, облаченными в тоги[51]. Жена его, Салонина, ехала на великолепном скакуне, покрытом пурпурным чепраком, и, хотя никому никакого вреда в том не было, это тоже раздражало жителей. Так уж устроены люди: с неодобрением смотрят они на каждого, кто внезапно возвысился, и ни от кого не требуют такой скромности, как от человека, еще недавно бывшего им равным. Перейдя Пад и сделав попытку уговорами и обещаниями перетянуть отонианцев на свою сторону, попытку, на которую они отвечали тем же, так что немало времени прошло в столь же высокопарных, сколь и бессмысленных разговорах о мире и согласии, Цецина решил сосредоточить все свои мысли и силы на осаде Плаценции. Он хотел, чтобы взятие этого города подействовало устрашающе, ибо хорошо понимал, что от первых шагов войны зависит, как будут относиться к ней в дальнейшем.
21. В первый день, однако, события разворачивались скорее по воле страстей, чем по планам, продиктованным военным искусством. Вителлианцы появились под стенами города, слишком плотно поев, пьяные, без прикрытий и позабыв о всякой осторожности. Во время сражения сгорел расположенный за городскими стенами прекрасный амфитеатр. Может быть, его подожгли нападающие, когда забрасывали в город горящие лучины, раскаленные ядра и зажигательные стрелы, а может быть, и осажденные, которые, возвращаясь после вылазки к себе, проходили через этот амфитеатр. Склонная к подозрениям городская чернь решила, что здание подожгли из зависти люди, подосланные соседними колониями, ибо нигде в Италии не было столь огромного амфитеатра. От чего бы это ни произошло, пока жителям Плаценции грозили еще большие беды, они не слишком сокрушались о сгоревшем амфитеатре, когда же все успокоилось, стали так горевать, будто ничего худшего с ними не могло и случиться. Пролитая кровь не давала Цецине покоя, и он употребил всю ночь на подготовку к новому штурму. Вителлианцы плели фашины, сколачивали щиты и навесные крыши, которые защищали бы нападающих, пока они будут вести подкоп под стены; отонианцы острили колья, собирали в огромные кучи камни, куски свинца и меди, чтобы обрушивать их на нападающих и уничтожать их осадные машины. И те и другие боятся позора и жаждут славы, и тех и других командиры подбадривают, напоминая одним о мощи германской армии и ее легионов, другим — о чести римского гарнизона и преторианских когорт; здесь поносят преторианцев — слабосильных бездельников, не знающих ничего, кроме цирков и театров; там — легионеров, которые, скитаясь на чужбине, забыли о родине, и чужестранцев, им помогающих; здесь, чтобы подзадорить солдат, ругают Отона и превозносят Вителлия, там, наоборот, Отона расхваливают, а Вителлия поносят, благо в обоих случаях оснований для осуждения больше, чем поводов для похвал.
22. Едва забрезжил день, защитники города высыпали на стены, поля покрылись войсками и засверкали оружием. Сомкнутым строем двигались легионы[52], врассыпную шли вспомогательные отряды, стрелами и камнями засыпая стены там, где они были повыше, и устремляясь на приступ в местах, где они небрежно охранялись или обветшали. Сверху, со стен, откуда было легче целиться и удобнее размахнуться, отонианцы метали дроты в отчаянно лезущих на приступ германцев из вспомогательных когорт. По обычаю своих предков, германцы наступали полуголые, потрясая над головой щитами и опьяняя себя боевыми песнопениями[53]. Легионеры, прикрытые навесами и плетеными крышами, подкапывали стены, насыпали валы, пытались разбить ворота. Преторианцы с грохотом скатывали на них нарочно приготовленные для этой цели огромные тяжелые камни, которые увлекали за собой наступающих, давили и калечили раненых. Вителлианцы дрогнули, число убитых стало еще больше, град камней, дротов и стрел со стен усилился, и, наконец, вителлианцы стали отходить, навсегда расставаясь со славой, сопутствовавшей дотоле партии Вителлия. Снедаемый стыдом из-за столь безрассудно начатой осады, Цецина решил покинуть лагеря, где все смеялось над ним и напоминало о его пустом тщеславии, вновь перейти Пад и попытать свои силы под Кремоной[54]. Цецина уже уходил, когда к нему присоединились Туруллий Цериал, со множеством солдат морской пехоты, и небольшое число конников во главе с Юлием Бригантиком. Бригантик был префект кавалерии, родом из Батавии, а Цериал — примипилярий, служивший в свое время центурионом в Германии и потому знавший Цецину.
23. Когда Спуринне стало известно, куда направился противник, он послал Аннию Галлу донесение, в котором описал оборону Плаценции, рассказал обо всем, что случилось, и о дальнейших намерениях Цецины. Галл в это время вел первый легион на поддержку гарнизона Плаценции. Зная, как мало в городе войск, он опасался, что они не выдержат осады и не смогут долго сопротивляться германской армии. Получив сведения о том, что Цецина отброшен и движется на Кремону, он с большим трудом — солдаты до того рвались в бой, что едва не взбунтовались, — остановил свой легион у Бедриака. Селение это находится на полпути между Вероной и Кремоной и пользуется недоброй славой из-за двух поражений, которые потерпело здесь римское войско[55].
В эти же дни неподалеку от Кремоны одержал победу Марций Макр, человек храбрый и решительный, он на лодках перевез через Пад отряды гладиаторов и внезапно появился с ними на том берегу реки. Вспомогательные отряды вителлианцев были смяты, те, кто оказал сопротивление, вырезаны, остальные бежали по направлению к Кремоне. Опасаясь, однако, что противник получит подкрепление и сумеет повернуть ход битвы в свою пользу, Макр приказал победителям прекратить преследование. Отонианцам, которые и без того истолковывали в худшую сторону все поступки своих командиров, это показалось подозрительным. Каждый, кто был трус в душе, но боек на язык, спешил взвести всяческие обвинения на Анния Галла, Светония Паулина и Мария Цельза, которым Отон поручил командовать войсками. Особенно рьяно сеяли смуту и подстрекали к мятежу убийцы Гальбы. Содеянное преступление и страх лишали их уверенности; они стремились к беспорядкам и с этой целью то открыто призывали к бунту, то тайно писали доносы Отону. Отон всегда доверял любому ничтожеству и опасался честных людей. Неуверенный в успехе, лишь в несчастьи обнаруживавший лучшие стороны своего характера, он находился в постоянном волнении. Наконец, он вызвал своего брата Тициана и поручил ведение войны ему[56].
24. Тем временем дела отонианцев под руководством Паулина и Цельза шли блестяще. Цецина дошел до отчаяния оттого, что каждый предпринятый им шаг оказывался неудачным и слава его армии меркла на глазах. От Плаценции его отбросили, вспомогательные отряды свои он только что потерял, даже в стычках разведчиков, не заслуживающих упоминания, но происходивших весьма часто, его солдаты неизменно терпели поражение. К тому же Фабий Валент был уже близко, и Цецина, чтобы не уступать ему славу победителя, стремился возможно быстрей добиться успеха, проявляя при этом больше нетерпения, чем разума. В двенадцати милях от Кремоны есть место, по названию Касторы, где лес подходит к самой дороге. Цецина расположил здесь наиболее боеспособные из своих вспомогательных отрядов, а коннице приказал продвинуться дальше вперед, завязать бой и внезапно отступить, заманив преследователей в засаду. Этот план стал известен полководцам отонианской армии. Паулин взял на себя командование пехотой, а Цельз — всадниками[57]. Одно подразделение тринадцатого легиона, четыре вспомогательные когорты и пятьсот всадников встали слева, середину дороги заняли построенные в колонну три когорты преторианцев, правый фланг образовал первый легион с двумя вспомогательными когортами и пятьюстами всадниками. Наконец, сзади всех расположился конный отряд претория и конники вспомогательных войск — всего тысяча человек, готовых закрепить успех в случае победы или прийти на помощь в случае неудачи.
25. Войска еще не успели сойтись врукопашную, как вителлианцы стали отступать, но Цельз, зная о задуманной ловушке, удержал своих солдат на месте. Вителлианцы, которые были спрятаны в лесу, позабыв всякую осторожность, бросились преследовать медленно отходившего Цельза и, вырвавшись слишком далеко вперед, сами попали в засаду: на флангах у них оказались когорты, впереди — легионы, сзади — конница, внезапным маневром преградившая им путь к отступлению. Однако Светоний Паулин ввел в бой пехоту не сразу. Человек по природе своей медлительный и предпочитавший случайному успеху осторожные и продуманные действия, он приказал сначала засыпать канавы, расчистить поле битвы и лишь тогда строем развернул свои войска. «Предусмотри все, чтобы тебя не разбили, — говорил он, — а победа придет в свое время». Его медлительность дала возможность вителлианцам укрыться в виноградниках, где преследовать их было трудно из-за перепутанных лоз, тянувшихся от дерева к дереву. Рядом находился небольшой лесок, откуда они, осмелев, сделали вылазку и убили самых неосторожных из конных преторианцев. Ранен был и царь Эпифан[58], ревностно призывавший всех сражаться за Отона.
26. В это время в бой ринулась отонианская пехота. Сокрушив основные силы противника, пехотинцы одно за другим обращали в бегство подходившие на помощь своим подразделения вителлианцев. Дело в том, что Цецина вводил в бой свои когорты не сразу, а по одной; это вызвало смятение, ибо страх, владевший бежавшими с поля битвы солдатами, передавался и тем, что порознь и неуверенно приближались к месту сражения. В лагере вителлианцев начался бунт. Возмущенные тем, что их не посылают в бой всех сразу, солдаты схватили и заковали в цепи префекта лагеря Юлия Грата, утверждая, будто он изменяет им в угоду своему брату, воевавшему на стороне Отона; брат его, трибун Юлий Фронтон, был в это же самое время арестован отонианцами на основании точно такого же обвинения. Между тем повсюду — на подступах к полю боя и при отступлении с него, в центре битвы и под валами укреплений — вителлианцами владел такой ужас, что все войско Цецины можно было бы уничтожить, если бы Светоний Паулин не приказал дать отбой; слух о конце сражения быстро распространился по обеим армиям. По словам Паулина, он решил так поступить из опасения, как бы его солдаты, утомленные боем и долгой дорогой, не оторвались от своих и не попали возле лагеря вителлианцев под удар свежих сил противника. Эти соображения командующего кое-кто считал правильными, но массой солдат его решение было встречено неодобрительно.
27. Это поражение не столько напугало вителлианцев, сколько заставило их стать более дисциплинированными, — и не в одной только армии Цецины, который обвинял во всем солдат, думавших, по его словам, больше о бунте, чем о битве; в войске Фабия Валента (дошедшем тем временем до Тицина) тоже перестали с презрением отзываться о противнике; движимые желанием вернуть утраченную славу, солдаты и здесь стали вести себя сдержаннее и почтительнее по отношению к командующему и подчиняться его приказам. Между тем все сильнее разгоралось большое восстание, о начале которого можно рассказать, лишь вернувшись несколько назад: говорить о нем ранее не было возможности, ибо это нарушило бы связность повествования о Цецине и его делах. Я уже упоминал[59], что батавские когорты, которые Нерон, готовясь к войне, вывел из состава четырнадцатого легиона, услышали, находясь на пути в Британию, о восстании Вителлия и присоединились в земле лингонов к Фабию Валенту. Батавы эти вскоре стали вести себя нагло и самоуверенно: они приходили в палатки солдат и говорили, будто именно они, батавы, заставили выступить четырнадцатый легион, будто тем самым Нерон из-за них потерял Италию и будто вообще от одних батавов зависит исход войны. Солдат это оскорбляло, командующего раздражало. Перебранки и драки ослабляли дисциплину, и в конце концов Валент стал опасаться, что батавы, начав с дерзостей, кончат изменой.
28. По всем этим причинам, когда Валент получил сообщение, что конница тревиров и тунгры разбиты флотом Отона, а Нарбоннская Галлия окружена, он решил защитить союзников и прибегнуть к военной хитрости: разделить охваченные брожением когорты, представлявшие собой, пока они находились вместе, столь опасную силу, и отдал приказ части батавов выступить на поддержку осажденной провинции. Слух об этом приказе быстро распространился по армии, союзные войска пришли в уныние, а легионы — в ярость. «У нас забирают лучших воинов, — говорили солдаты. — Именно сейчас, когда враг стоит прямо перед нами, отправить ветеранов, победителей в стольких сражениях, — это все равно, что выгнать их из строя перед битвой. Если провинция важнее Рима и спасения империи, то всем нам надо идти туда; если же исход войны и судьба нашего дела решаются в Италии, то отделить сейчас от армии эти когорты — все равно что отсечь от тела самые могучие его члены».
29. Валент попытался было подавить восстание силами ликторов, но разъяренные солдаты бросились на него, кидали в него камни, а когда он обратился в бегство, устремились за ним, крича, что он присвоил себе и добычу, взятую у галлов, и золото, полученное от жителей Виенны, и все деньги, полагавшиеся им за труды. Пока Валент, переодетый рабом, прятался у одного из декурионов кавалерии, они разворотили тюки с его добром, сорвали его палатку и даже землю под ней перекопали дротами и копьями. Вскоре префект лагеря Алфен Вар, заметив, что восстание понемногу идет на убыль, решил покончить с ним хитростью: он запретил центурионам обходить посты, а трубачам не велел сзывать войско на работу и учения. Солдаты увидели, что никто ими не командует, и это больше всего испугало их. Сначала они как бы застыли в оцепенении, потом начали растерянно озираться, замолкли, притихли и, наконец, стали со слезами молить о прощении. Когда же Валент, которого все считали погибшим, появился, — плачущий, в безобразной одежде, но здравый и невредимый, — солдатами овладели радость, сострадание и любовь к своему полководцу. Чернь в веселии так же необузданна, как и в ярости. Ликующая толпа окружила Валента боевыми значками когорт и орлами легионов и понесла к трибуналу[60], всячески восхваляя его и желая ему счастья. Он проявил разумную снисходительность и не стал требовать ничьей казни, хорошо зная, что во время гражданских войн солдатам позволено больше, чем полководцам. В то же время опасаясь, как бы войска не сочли подобную умеренность неискренней, он все-таки назвал несколько человек и указал на них как на виновных.
30. Армия занималась постройкой укреплений возле Тицина, когда пришло известие о том, что Цецина разбит. Сообщение это чуть было снова не вызвало мятежа; солдаты решили, что Валент медлил нарочно, из желания досадить Цецине, и что именно поэтому они опоздали к сражению. Позабыв об отдыхе и не дожидаясь приказа командующего, воины устремились вперед; они обгоняли знаменосцев, упрашивали их идти быстрее, — армия шла форсированным маршем и вскоре соединилась с войсками Цецины. Солдаты Цецины были настроены против Валента и жаловались, что он оставил их маленькую группу на милость несравненно более сильного неприятеля, который к тому же располагал свежими, отдохнувшими войсками. Говоря так, они, с одной стороны, льстили вновь прибывшим, приписывая решающую роль их армии, и в то же время снимали с себя обвинение в трусости и неспособности добиться победы. Хотя Валент действительно командовал почти вдвое большим числом легионов и вспомогательных войск, любимцем солдат все-таки оставался Цецина. Он находился в расцвете лет и сил, вызывал в людях безотчетную симпатию, а его радушие и щедрость привлекали к нему все сердца. Отсюда и пошла распря между полководцами. Цецина издевался над Валентом, называя его человеком подлым и грязным. Валент насмехался над Цециной, выставляя его гордецом и хвастуном. Однако оба, затаив ненависть, служили одному делу. Уже не рассчитывая на прощение, они без устали сочиняли памфлеты против Отона, в которых осыпали его самыми позорными обвинениями; из полководцев Отона ни один не писал ничего подобного, хотя Вителлий и мог бы дать для таких сочинений богатейшую пищу.
31. Пока оба они не погибли — Отон, стяжав громкую славу, а Вителлий — окончательно себя опозорив, римляне больше боялись бешеных вожделений первого, чем ленивого сластолюбия второго. Убийство Гальбы еще увеличило ненависть и страх, которые внушал Отон, Вителлия же, однако, никто не обвинял в том, что он развязал гражданскую войну. Своим обжорством и пьянством Вителлий позорил самого себя[61], в то время как распутный, жестокий и наглый Отон[62] казался опасным для государства.
Когда войска Цецины и Валента соединились, вителлианцы решили больше не медлить и дать сражение всеми имевшимися у них силами. Отон со своей стороны тоже начал задумываться, стоит ли ему и дальше затягивать войну или лучше попытать счастья в решающей битве.
32. Светоний Паулин, считавший, что репутация самого искусного полководца своего времени дает ему право судить об общем ходе кампании, настаивал на том, что поспешность выгодна только противнику, а в интересах отонианцев — всячески затягивать военные действия. «В Италию спустилась вся армия вителлианцев, — говорил он, — в тылу у нее почти не осталось резервов. Между тем в галльских провинциях зреет бунт[63], а снять войска с берегов Рейна нельзя, ибо это грозит вторжением враждебных племен. Британские легионы отрезаны от нас морем, да и враг, с которым им там приходится иметь дело, приковывает их к месту. Войска, сосредоточенные в Испании, не так уж велики. Нарбоннская провинция не в силах еще прийти в себя от страха после проигранного сражения и нападения нашего флота[64]. Транспаданская Италия[65] не может рассчитывать на помощь с моря, с суши ее окружают Альпы; край этот опустошен прошедшими здесь войсками и не в состоянии обеспечить армию продовольствием, без продовольствия же не может продержаться долго ни одно войско. Германцы, представляющие для нас наибольшую опасность, плохо переносят непривычный им климат, и если нам удастся затянуть боевые действия до лета, они совсем выбьются из сил. Многие войны, бурно, с успехом начатые, затянувшись и утомив всех, кончались ничем. Напротив того, все, что есть в мире надежного и сильного, — все на нашей стороне: хорошо отдохнувшие и крепкие духом армии Паннонии, Мёзии, Далмации и восточных провинций; Италия и Рим — столица мира, его сенат, его народ, — имена эти не померкли, хоть тень иногда и падала на них; несметные сокровища, принадлежащие государству и частным лицам, огромные суммы денег, которые в пору гражданских смут важнее оружия; солдаты, либо привыкшие к Италии, либо служившие в местах, где они научились переносить еще большую жару[66]. Нас прикрывают река Пад[67] и города с сильными гарнизонами и крепкими стенами, из которых, как показал пример Плаценции, ни один не уступит врагу. Надо, следовательно, затягивать войну. Через несколько дней здесь будет четырнадцатый легион, а с ним мёзийские войска. Тогда мы сможем снова обсудить положение, и если уж принимать бой, то располагая бóльшими силами, чем теперь».
33. Марий Цельз поддержал доводы Паулина; послали узнать мнение Анния Галла, который за несколько дней до того упал с лошади и лежал больной; он велел отвечать, что думает то же самое. Тем не менее Отон был склонен принять сражение. Брат его Тициан и префект претория Прокул[68], оба люди неопытные, и слышать не хотели о промедлении. Они уверяли, что судьба, боги, удача, неизменно сопутствующая Отону, — все будет на их стороне, если только они рискнут, и, стремясь пресечь всякие возражения, подкрепляли свои доводы лестью по адресу принцепса. После того как было решено дать сражение, возник вопрос, участвовать ли императору в битве или находиться вдали от нее. Те же злополучные советчики настояли, чтобы Отон уехал в Брикселл[69] и там, не подвергаясь случайностям и риску, сосредоточился лишь на самых главных вопросах управления государством и общем руководстве империей. Паулин и Цельз на этот раз не возражали, опасаясь создать впечатление, будто они хотят подвергнуть опасности жизнь принцепса. Этот день и положил начало бедствиям отонианцев: с принцепсом ушла значительная часть войска, состоявшая из преторианских когорт, наиболее заслуженных солдат и отрядов конницы; оставшиеся пали духом, ибо к полководцам они относились подозрительно и верили одному только Отону, который и сам по-настоящему полагался только на солдат. Кроме того, Отон, уходя, не распределил точно обязанностей между командующими.
34. Ни одна из этих мер не ускользала от внимания вителлианцев благодаря перебежчикам, которых бывает так много во время гражданских войн, — да и лазутчики, стараясь выведать, как идут дела у врага, не умели скрыть положение в собственной армии. Спокойно и пристально наблюдали Цецина и Валент за противником, совершавшим одну ошибку за другой, и раз уж сами не могли придумать ничего умного, выжидали, пока другие наделают глупостей. Чтобы создать впечатление, будто они готовятся напасть на стоявших против них на другом берегу гладиаторов[70] и в то же время не дать своим солдатам разлениться, они начали строить мост через Пад. Корабли расставили на равных расстояниях друг от друга, связали их крепкими балками, перекинутыми от носа к носу и от кормы к корме, а чтобы мост не снесло, суда укрепили якорями, удерживавшими их носом прямо против течения; якорные канаты, однако, не были натянуты и свисали свободно: если бы вода прибыла, корабли всплыли бы и мост остался бы цел. Мост замыкался башней, построенной на переднем корабле, откуда можно было, пользуясь машинами и метательными снарядами, обстреливать позиции врага. Отонианцы на своем берегу тоже возвели башню, откуда осыпали противника камнями и зажигательными стрелами[71].
35. Посредине реки был остров. Пока гладиаторы собирались добраться до него на кораблях, германцы переплыли реку и захватили его. Увидев, что на острове скопилось их довольно много, Макр посадил на быстроходные суда отборных гладиаторов и напал на германцев. Однако гладиаторы по своему боевому опыту не могли сравниться с солдатами, да и стрелять с качающихся кораблей им было гораздо труднее, чем германцам, стоявшим на твердой земле. Они перебегали от одного борта к другому, суда от этого раскачивались все сильнее, пока, наконец, бойцы, назначенные первыми выскочить на берег, не смешались в одну беспорядочную толпу с гребцами. Тут-то германцы по мелководью бросились к кораблям, хватались за корму, вскакивали на борт, тащили суда за собой и топили их. Все это происходило на глазах обеих армий, и чем громче радовались вителлианцы, тем больше отонианцы проникались ненавистью к Макру, который все это затеял и довел их до такого разгрома.
36. Сражение кончилось тем, что уцелевшие и не попавшие в руки германцев корабли вернулись восвояси. Солдаты требовали казни Макра; кто-то издали метнул в него дротик; он был ранен и несомненно погиб бы, если бы трибуны и центурионы не подоспели ему на помощь. Через некоторое время Вестриций Спуринна по приказу Отона оставил в Плаценции небольшой гарнизон и, выступив из города, присоединился к основным силам армии. Во главе войск, которыми командовал прежде Макр, Отон поставил кандидата в консулы Флавия Сабина[72]. Солдаты радовались, как всегда при смене командира; командиры же, видя, что в войсках все чаще вспыхивают бунты, неохотно соглашались командовать такой разложившейся армией.
37. У некоторых писателей[73] мне доводилось читать, будто войска боялись, что война затянется, и испытывали отвращение к обоим принцепсам, о преступлениях и низостях которых с каждым днем говорили все более открыто; будто они поэтому подумывали, не отказаться ли им вообще от вооруженной борьбы и либо принять всем вместе какое-то решение, либо поручить сенату выбрать нового императора; будто командиры отонианской армии потому и советовали всячески затягивать кампанию, что искали нового принцепса и возлагали главные надежды на Паулина, — старшего среди консуляриев, прекрасного полководца, стяжавшего своими британскими походами громкую славу. Вполне допуская, что были люди, в глубине души предпочитавшие спокойствие распрям, а хорошего и ничем не запятнанного принцепса — двум дурным и преступным, я в то же время не думаю, будто такой трезвый человек, как Паулин, живя в на редкость испорченное время, мог ожидать от черни благоразумия и надеяться, что люди, нарушившие мир из любви к войне, теперь откажутся от войны из любви к миру. Трудно поверить, кроме того, чтобы такое единодушие могло охватить армию, состоявшую из разнородных частей, отличных друг от друга по языку и обычаям; да и вряд ли легаты и командиры, хорошо знавшие, насколько большинство из них погрязло в долгах, распутстве и преступлениях, стали бы терпеть императора, который не был бы столь же обесславлен, как они, и не зависел бы во всем от их услуг.
38. Жажда власти, с незапамятных времен присущая людям, крепла вместе с ростом нашего государства и, наконец, вырвалась на свободу. Пока римляне жили скромно и неприметно, соблюдать равенство было нетрудно, но вот весь мир покорился нам, города и цари, соперничавшие с нами, были уничтожены, и для борьбы за власть открылся широкий простор. Вспыхнули раздоры между сенатом и плебсом; то буйные трибуны[74], то властолюбивые консулы одерживали верх один над другим; на Форуме и на улицах Рима враждующие стороны пробовали силы для грядущей гражданской войны. Вскоре вышедший из плебейских низов Гай Марий и кровожадный аристократ Луций Сулла оружием подавили свободу, заменив ее самовластьем[75]. Явившийся им на смену Гней Помпей был ничем их не лучше, только действовал более скрытно; и с этих пор борьба имела одну лишь цель — принципат. У Фарсалии и под Филиппами легионы, состоявшие из римских граждан, не поколебались поднять оружие друг против друга, — нечего и говорить, что войска Отона и Вителлия тоже не сложили бы оружие по доброй воле. Все тот же гнев богов и все то же людское безумие толкали их на борьбу друг с другом, все те же причины породили и эту преступную войну, и только из-за бездарности правителей подобные войны оканчиваются после первой же битвы[76]. Однако размышления о нравах былых и нынешних времен завели меня слишком далеко; возвращаюсь к моему рассказу.
39. После того как Отон отправился в Брикселл, весь почет, подобающий главнокомандующему, выпал на долю брата его Тициана, действительную же власть сосредоточил в своих руках префект претория Прокул. Цельз и Паулин, с их умом и дальновидностью, оказались не у дел, и им ничего не оставалось, как прикрывать своим званием полководцев ошибки, которые совершали другие. Трибуны и центурионы, видя, что лучшие люди в опале, а худшие в силе, помалкивали. Солдаты были настроены бодро, но предпочитали обсуждать приказы командиров, вместо того чтобы выполнять их. Лагерь решили перенести на четыре мили в сторону от Бедриака[77], но при этом обнаружили такую неопытность, что в самый разгар весны, в местности, орошаемой множеством рек, армия страдала от нехватки воды. Надо ли принимать сражение — все еще оставалось неясным. Отон присылал письма, в которых требовал быстрее дать бой; солдаты настаивали, чтобы император сам принял в нем участие; многие предлагали привести войска, находившиеся по ту сторону Пада[78]. Рассудить, какой образ действия был бы здесь самым лучшим, труднее, чем решить, не был ли избранный самым худшим.
40. Снарядившись так, будто ей предстоит не битва, а поход, армия двинулась к месту слияния Адуи[79] и Пада, расположенному в шестнадцати милях от лагеря. Цельз и Паулин доказывали, что нельзя ставить солдат, изнуренных переходом и перегруженных поклажей, под удар противника, который, конечно, не упустит возможности, пройдя налегке только четыре мили[80], напасть на отонианцев, пока они либо находятся на марше и не построены для боя, либо, разделившись на небольшие группы, заняты постройкой лагеря. Тициан и Прокул не могли ничего противопоставить этим доводам, но данной им властью решили действовать по-своему. От Отона прискакал гонец-нумидиец[81] и привез письмо, в котором император в угрожающем тоне обвинял своих полководцев в нерадивости и приказывал им дать решительное сражение, — не в силах ждать дольше, он горел нетерпением увидеть, сбудутся ли его надежды[82].
41. В тот же день[83] к Цецине, который находился у строящегося моста и изо всех сил торопил окончание работ, явились трибуны двух преторианских когорт. Они просили принять их, и Цецина только что собрался выслушать их предложения и выдвинуть свои, когда примчавшиеся во весь опор разведчики сообщили о приближении неприятеля. Переговоры были тут же прерваны, и так и осталось неясным, что привело обоих трибунов — желание устроить ловушку Цецине, измена собственной армии или, напротив того, намерения серьезные и достойные. Отпустив трибунов, Цецина вернулся в лагерь и увидел, что Фабий Валент уже распорядился протрубить сигнал к бою и что солдаты стоят в полном вооружении. Пока легионы тянули жребий, определявший расстановку их во время битвы, конница вителлианцев бросилась в атаку. Странно сказать, но горстки отонианцев оказалось достаточно, чтобы обратить их в бегство, и всадники были бы прижаты к валу[84], если бы не находчивость Италийского легиона[85]: выставив обнаженные мечи, легионеры заставили конников повернуть обратно и вернуться в бой. Остальные вителлианские легионы спокойно строились для битвы; хотя враг находился совсем рядом, они не видели его из-за густых зарослей. В отонианской армии тем временем командиры трусили, солдаты им не доверяли; обозы и повозки маркитантов ломали строй; войску предстояло наступать по дороге[86], вдоль которой шли две глубокие канавы, и проезжая часть была настолько узка, что по ней было трудно двигаться и в обычных условиях. Одни строились, другие разыскивали значки своей когорты, с криком подбегали и метались по всему лагерю солдаты — те, кто посмелей, протискивались в передние ряды, кто потрусливей, забивались назад.
42. Внезапно прошел слух, будто армия Вителлия отступилась от своего вождя. Страх и уныние тут же сменились весельем, которое лишь еще больше ослабило солдат. Распустили эту весть лазутчики Вителлия или она возникла в отонианском лагере — по чьему-либо злому умыслу, а может быть, и случайно — установить трудно. От боевого подъема отонианцев не осталось и следа; мало этого, они приветствовали армию противника, ответившую им глухим враждебным ропотом. Большинство отонианцев не понимало, что означают эти приветственные крики, и в испуге решило, что часть солдат изменила их делу. В этот-то момент на них и устремилась двигавшаяся стройными рядами неприятельская армия, превосходившая их мощью и числом. Отонианцы, хотя их было меньше, хотя они не успели построиться и были изнурены переходом, мужественно приняли бой. Деревья и вьющиеся виноградные лозы мешали солдатам: им приходилось то сходиться врукопашную, то вести бой на расстоянии, то схватываться мелкими группами, то нападать на неприятеля, построившись клином, так что каждый участок битвы выглядел на свой лад. На дороге бились грудь с грудью, щит о щит; за дроты никто не брался; панцири и шлемы разлетались в куски под ударами мечей и секир. Сражаясь на глазах у всех против людей, которых он знал издавна, каждый солдат вел себя так, будто от его мужества зависел исход войны.
43. На поле, раскинувшемся между Падом и дорогой, случай свел гордый своей давней боевой славой двадцать первый легион, по прозванию Стремительный, стоявший за Вителлия, и сражавшийся на стороне Отона первый Вспомогательный, солдаты которого в подлинном сражении еще не бывали, но яростно рвались в бой, дабы стяжать себе первые лавры[87]. Прорвав передовые линии двадцать первого легиона, отонианцы овладевают его орлом. Взбешенные легионеры отбрасывают нападающих, убивают их легата Орфидия Бенигна и захватывают множество значков и вымпелов. На другом участке под натиском пятого легиона отступает тринадцатый, со всех сторон окружен превосходящими силами противника четырнадцатый[88]. Полководцы Отона давно уже обратились в бегство, а Цецина с Валентом продолжают вводить в бой все новые и новые подкрепления. Неожиданно на поле боя появился Алфен Вар[89] со своими батавами. Стоявшие напротив них на другом берегу реки отряды гладиаторов начали переправляться через Пад, но батавы перебили их прямо на кораблях и теперь, окрыленные победой, наступали на левый фланг отонианцев.
44. Когда прорванным оказался и центр, отонианцы повсюду обратились в бегство, стремясь возможно скорей добраться до Бедриака. Путь, который им предстояло пройти, был бесконечен[90]; дороги завалены трупами; резня становилась все более жестокой — в гражданской войне не берут пленных, раз их нельзя продать. Светоний Паулин и Лициний Прокул отступали по разным дорогам, и ни тот, ни другой в лагерь не вернулись. Легат тринадцатого легиона Ведий Аквила, ничего не соображая от страха, сам себя выставил на поругание: он поднялся на вал, когда было еще совсем светло, и бежавшие с поля боя, вышедшие из повиновения солдаты накинулись на него с криком, с проклятиями и побоями, называя его дезертиром и изменником. Никакой особой вины за Аквилой не было, но чернь всегда обвиняет других в преступлениях, которые совершила сама. Тициану и Цельзу помогла темнота ночи — к тому времени как они добрались до лагеря, солдат уже удалось успокоить и повсюду были расставлены караулы. Действуя то увещаниями и просьбами, то приказами, Анний Галл сумел убедить отонианцев не отягчать понесенное поражение кровопролитием в своем же стане. «Кончится ли на этом война, — говорил он, — решим ли мы продолжать борьбу, одна только сплоченность может спасти побежденных». Солдаты чувствовали себя подавленными. Преторианцы жаловались, что были преданы, а не разбиты в честном бою. «Разве не пришлось вителлианцам кровью заплатить за победу? — спрашивали они. — Конница их понесла поражение, один легион потерял своего орла; Отон по-прежнему с нами, с нами его войска, находящиеся по ту сторону Пада, и приближающиеся мёзийские легионы, и вся армия, которая стоит в Бедриаке[91], — их-то во всяком случае никто еще не победил. А если уж приходится умирать, то всегда почетнее погибнуть в бою». Охваченные такими размышлениями, солдаты то дрожали от страха, то вдруг возгорались жаждой мщенья. Ими все сильнее овладевало отчаяние, и, ослепленные гневом, они забывали об опасности.
45. Вителлианская армия остановилась на ночь возле пятого камня, не доходя Бедриака[92]. Командиры ее не решились штурмовать отонианский лагерь в тот же день да и надеялись, что противник капитулирует сам. Заночевали они налегке[93], в том, в чем вышли сражаться; не валы, а мечи и дроты охраняли их сон, согревали их не палатки, а радость и гордость одержанной победой. На следующий день рассеялись последние сомнения относительно того, что намерена предпринять отонианская армия, — теперь даже самые ожесточенные противники Вителлия были готовы выразить свое раскаяние. Отонианцы выслали парламентеров[94]; полководцы Вителлия согласились заключить с ними мир. Парламентеры возвратились не сразу, и вся армия ждала, затаив дыхание, гадая, удалось ли склонить победителей к миру. Вскоре послы вернулись; распахнулись ворота лагеря; обливаясь слезами, мешая горе и радость, проклиная гражданскую войну, победители и побежденные бросились друг к другу; в палатках перевязывали раны — брат брату, родственник родственнику. Мечты о наградах, честолюбивые надежды — все казалось спорным, бесспорны были только страдания и кровь; не было воина, которого пощадила бы злая судьба — каждому было кого оплакивать. Тело легата Орфидия отыскали и сожгли с подобающими воинскими почестями. Немногих похоронили друзья, трупы других остались валяться на земле.
46. Отон ожидал известия об исходе битвы без всякого волнения, твердо зная, что ему делать дальше. Сначала по неясно доносившимся до него мрачным слухам, а потом по рассказам солдат, бежавших с поля боя, он понял, что сражение проиграно. Охваченные боевым пылом солдаты не стали ждать, пока император заговорит с ними. «Мужайся, — кричали они ему, — есть у нас еще свежие силы! Да и сами мы на все готовы, все вынесем!». Они не лгали: войска действительно пылали яростью, жаждой мести и рвались в бой спасать дело своей партии. Стоявшие в задних рядах протягивали к Отону руки, те, что были поближе, обнимали его колени. Особенно выделялся префект претория Плотий Фирм, умолявший Отона не бросать войско, столь ему верное, не покидать солдат, столь доблестно ему служивших. Он убеждал Отона, что достойнее переносить трудности, чем избегать их, что люди доблестные и сильные даже вопреки судьбе не перестают надеяться, что отчаиваются при виде опасности лишь трусы и глупцы. Солдаты сопровождали слова Плотия Фирма то криками радости, когда видно было, что Отон к ним прислушивается, то стонами и жалобами, если им казалось, что он упорствует. Так вели себя не только преторианцы, издавна преданные Отону; солдаты из мёзийского авангарда с не меньшей настойчивостью повторяли, что армия их приближается, что легионы уже вступили в Аквилею[95], лишь бы убедить всех, что существует возможность и дальше продолжать эту ужасную, губительную войну, не сулящую ничего верного ни побежденным, ни победителям.
47. Когда Отон заговорил, было ясно, что он уже оставил всякую мысль о войне. «Вы, по-моему, слишком высоко цените мою жизнь, — начал он, — если готовы с такой твердостью и мужеством идти ради нее навстречу гибели. Чем больше надежд, по вашим словам, мне остается, тем прекраснее предпочесть жизни смерть. Мы с судьбой достаточно долго испытывали друг друга, и не стоит гадать, смогу ли я еще раз добиться ее милости: чем яснее понимаешь, что счастье дано тебе ненадолго, тем труднее вовремя перестать за него цепляться. Из-за Вителлия началась гражданская война. По его вине мы с оружием в руках вступили в борьбу за принципат; я готов дать пример того, что не следует ее затягивать; по этому поступку пусть судят меня потомки. Я предоставляю Вителлию наслаждаться любовью брата, жены, детей, я не хочу мстить, не хочу искать утешения в чужом горе[96]. Другие дольше меня пользовались императорской властью; но никто не проявил такого мужества, расставаясь с ней. Могу ли я допустить, чтобы столько римских юношей, столько замечательных солдат бездыханные устилали землю и гибли без всякой пользы для государства? Мысль о том, что вы готовы были умереть за меня, я унесу с собой, но вы оставайтесь и живите. Не будем дольше тратить время, я не должен мешать вам спастись, вы не должны мешать мне выполнить мое твердое решение. Много говорит о смерти лишь тот, кто ее боится. Мое же решение умереть — неколебимо. Вы видите, что это правда хотя бы уже потому, что я никого ни в чем не обвиняю; только пока человек держится за жизнь, он продолжает нападать на богов и людей».
48. Окончив речь, Отон сказал солдатам, что они лишь вызовут гнев победителей, если и дальше будут медлить с капитуляцией, и посоветовал им поскорей отправляться. Стариков он об этом просил, от молодежи требовал, ласков был со всеми. Он велел им сдержать свою скорбь, и черты его были ясны, а голос тверд. Отон распорядился обеспечить отъезжавших судами[97] и повозками. Уничтожил памфлеты и письма, авторы которых неумеренно выражали преданность ему или поносили Вителлия. Роздал деньги, проявив при этом бережливость, необычную в человеке, решившем умереть. Он стал утешать своего племянника Сальвия Кокцейана, совсем еще мальчика, дрожавшего от ужаса и горя, хвалил его за преданность, стыдил за робость. «Вся семья Вителлия, — говорил он, — осталась цела и невредима, не может быть, чтобы у него хватило жестокости не ответить нам тем же; своей скорой смертью я тоже заслужил милость победителя; наша армия стремится в бой, и, следовательно, смерть моя вызвана не отчаянной крайностью, а желанием избавить государство от гибели». Отон говорил далее, что стяжал достаточно славы себе и своему потомству, ибо после Юлиев, Клавдиев, Сервиев[98] был первым, кто, происходя из недавно возвысившегося рода, добился императорской власти. Пусть же юноша преисполнится бодрости и продолжает жить, пусть никогда не забывает, что он племянник Отона, но и не думает об этом слишком часто.[99]
49. Отпустив всех, Отон прилег отдохнуть. Он уже обратился мыслями к близкой смерти, но внезапный шум отвлек его. Ему доложили, что удрученные горем разбушевавшиеся солдаты угрожают смертью тем, кто решил уйти и сдаться Вителлию. Самую лютую ненависть вызывал у них Вергиний[100], чей дом, запертый со всех сторон, подвергся настоящей осаде. Выбранив зачинщиков, Отон вернулся к себе и стал прощаться с друзьями, не торопясь, стараясь, чтобы никто не имел повода на него обидеться. День уже клонился к вечеру. Отон зачерпнул пригоршню ледяной воды и напился. Ему принесли два кинжала, он попробовал, какой острее, выбрал один и спрятал его под изголовьем. Проверив, все ли друзья ушли, он лег, провел ночь спокойно и, как говорят, даже поспал, а с первыми лучами солнца[101] бросился грудью на подставленный кинжал. Прибежавшие на стоны умирающего вольноотпущенники, рабы и префект претория Плотий Фирм увидели на теле его только одну рану. Погребение было совершено быстро, — он сам перед смертью усиленно просил об этом, — чтобы враги не отрубили голову и не стали глумиться над ней. Тело несли преторианцы. Они восхваляли покойного, целовали его руки, рану на груди. Возле костра несколько солдат покончили с собой: за ними не было никакой вины, и им нечего было бояться; они хотели показать свою любовь к принцепсу и затмить других столь славной гибелью. Смерть их вызвала восхищение и в Бедриаке, и в Плаценции, и в других лагерях. Над могилой Отона возвели гробницу — скромную и прочную. Так кончил он свою жизнь тридцати семи лет от роду.
50. Отон происходил из муниципия Ферентина[102]. Отец его был консулярий[103], дед претор, мать родилась в семье не столь видной, но не лишенной заслуг. Как прошли его детство и молодость, я уже рассказывал[104]. Он увековечил память о себе двумя поступками — одним позорным, другим благородным[105] — и приобрел у потомков и добрую, и дурную славу. Повторять россказни и тешить читателей вымыслами несовместно, я думаю, с достоинством труда, мной начатого, однако я не решаюсь не верить вещам, всем известным и сохранившимся в преданиях. Как вспоминают местные жители, в день битвы под Бедриаком неподалеку от Регия Лепида[106], в роще, где обычно бывает много народу, опустилась некая невиданная птица. Она не испугалась стечения людей, и летавшие кругом птицы не могли прогнать ее; но она исчезла из глаз в ту самую минуту, когда Отон покончил с собой. Вспоминая об этом впоследствии, люди поняли, что странная птица сидела неподвижно как раз все то время, пока Отон готовился к смерти.
51. Во время похорон Отона солдаты, охваченные смятением и горем, снова взбунтовались, и на этот раз некому было их успокоить. Они бросились к Вергинию и, мешая мольбы с угрозами, просили его то принять императорскую власть, то отправиться в качестве легата к Цецине и Валенту. Вергиний тайком вышел из дома через заднюю дверь; только так, обманом, ему удалось спастись от ворвавшихся к нему солдат. Рубрий Галл[107] отправился от имени когорт, расположенных в Брикселле, заявить, что они сдаются, и капитуляция их была немедленно принята. Флавий Сабин тоже передал победителям войска, которыми командовал[108].
52. Уже после того как военные действия повсюду кончились, едва не погибло множество сенаторов, выехавших вместе с Отоном из Рима. Отон оставил их в Мутине[109], где они и получили известие о поражении под Бедриаком. Солдаты не хотели ему верить и решили, что сенаторы, настроенные враждебно к Отону, нарочно распускают подобные слухи. Они начали следить за сенаторами; в их словах, одежде и выражении лица им виделась измена; наконец, они принялись осыпать сенаторов бранью и оскорблениями, чтобы таким образом получить повод и начать резню. В довершение бед над сенаторами нависла еще одна опасность: время шло, Вителлий с его сторонниками уже одержали победу и могли подумать, что сенаторы нарочно медлят с выражением своей радости. Никто не отваживался самостоятельно принять решение; перепуганные опасностями, грозившими им с обеих сторон, сенаторы сошлись вместе, решив, что уж если быть виноватыми, то всем сразу, и что так оно спокойнее. Затруднительность их положения увеличили еще декурионы[110] Мутины, которые явились к сенаторам и, весьма некстати называя их отцами отечества[111], принялись предлагать им оружие и деньги.
53. На этом собрании разразилась громкая ссора: Лициний Цецина обрушился на Эприя Марцелла,[112] утверждая, что тот выступил в сенате нарочито неопределенно и двусмысленно. Другие сенаторы говорили не более определенно, чем Марцелл, но Цецина выбрал именно его, стяжавшего своими доносами всеобщую ненависть и тем самым более уязвимого: как человек новый и недавно допущенный в сенат, он хотел во что бы то ни стало привлечь к себе внимание и поэтому старался нападать на людей известных. Самые благоразумные и умеренные из сенаторов разняли их, и все вернулись в Бононию[113], так как надеялись там скорее получить новые сведения и тогда еще раз обсудить создавшееся положение. На дороги, ведущие к Бононии, были высланы люди, которые расспрашивали каждого новоприбывшего. Среди последних оказался вольноотпущенник Отона. Его спросили, почему он покинул своего господина; вольноотпущенник отвечал, что несет предсмертные распоряжения Отона, что, когда он уходил, Отон был еще жив, но уже порвал все нити, связывающие его с этим миром, и помышлял лишь о мнении потомства. Сенаторы пришли в восхищение от доблести Отона, из уважения к смерти не стали расспрашивать дальше и тотчас обратили все помыслы к Вителлию.
54. На совещаниях сенаторов присутствовал его брат Луций Вителлий. Он уже принимал льстивые выражения преданности, как вдруг ужасная весть, принесенная вольноотпущенником Нерона Ценом, привела всех в оцепенение: прибыл четырнадцатый легион, войска соединились в Брикселле, победители уничтожены, борющиеся стороны поменялись местами. Цен распустил этот слух, чтобы с помощью столь радостного известия вновь придать силу подорожной, данной ему Отоном и которой никто не хотел подчиняться. Цен действительно был немедленно доставлен в Рим, но там через несколько дней казнен по приказу Вителлия. Однако солдаты-отонианцы поверили распространившемуся слуху, и положение сенаторов стало еще опаснее. Паника росла, ибо все решили, будто отъезд сенаторов из Мутины носил официальный характер и знаменовал их отказ поддерживать дальше партию Отона. Теперь сенаторы вообще перестали собираться, каждый принимал решения на свой страх и риск. Наконец, прибыло письмо от Фабия Валента, которое рассеяло все страхи. К тому же смерть Отона была столь прекрасна, что молва о ней распространилась очень быстро, и дольше сомневаться в ней было невозможно.
55. В Риме волнений не знали. В установленный обычаем срок были устроены игры в честь Цереры[114]. Когда актеры в театре объявили, что Отон умер и префект Рима Флавий Сабин привел все находящиеся в городе войска к присяге Вителлию, имя победителя было встречено аплодисментами. Народ обходил храмы, неся украшенные лаврами и цветами изображения Гальбы, неподалеку от бассейна Курция, на том месте, которое умирающий Гальба обагрил своей кровью, из венков сложили нечто вроде могильного холма. Сенат разом присвоил Вителлию все почести, которые были придуманы за долгие годы правления других принцепсов[115]. Постановили воздать хвалу и благодарность германской армии и отправить легатов, которые бы выразили войскам удовлетворение сената. Письма Фабия Валента консулам были прочитаны и найдены весьма умеренными; с еще большей благосклонностью отметили скромность Цецины, не приславшего никаких писем.
56. Между тем Италия терпела беды и страдания еще худшие, чем во время войны. Рассыпавшиеся по колониям и муниципиям вителлианцы крали, грабили, насиловали; жадные и продажные, они любыми правдами и неправдами старались захватить побольше и не щадили ни имущества людей, ни достояния богов. Находились и такие, что переодевались солдатами, дабы расправиться со своими врагами. Легионеры, хорошо знавшие местность, выбирали самые цветущие усадьбы и самых зажиточных хозяев, нападали на них и грабили, а если встречали сопротивление, то и убивали; командиры понимали, что находятся во власти солдат, и не решались запрещать им что бы то ни было. Цецина был занят только своими честолюбивыми планами, Валент же так запятнал себя хищениями и вымогательством, что ему ничего не оставалось, как покрывать преступления других. Италия, и без того уже разоренная, едва могла прокормить все эти пешие и конные войска, едва выносила все эти несчастья и оскорбления.
57. Тем временем Вителлий, ничего еще не зная о своей победе и готовясь к длительной войне, стягивал остальные силы германской армии. Он оставил в зимних лагерях немногих престарелых солдат и поспешно вербовал рекрутов в галльских провинциях, чтобы пополнить свои легионы. Охрану рейнского берега он поручил Гордеонию Флакку[116] и присоединил к своим войскам восемь тысяч солдат из британской армии[117]. Едва он продвинулся на несколько дневных переходов, как получил известие о том, что битва при Бедриаке выиграна и смерть Отона положила конец войне. Вителлий тут же собрал войска и воздал солдатам хвалу за проявленную ими доблесть. Армия стала требовать, чтобы он даровал права всадника своему вольноотпущеннику Азиатику[118]. Вителлий отказался выполнить эту просьбу, слишком уж отдававшую грубой лестью, но потом, с присущим ему непостоянством, негласно сделал то, на что не хотел согласиться открыто, и на пиру вручил кольца[119] Азиатику, подлому рабу и злобному пройдохе.
58. В эти же дни прибыло сообщение о том, что на сторону Вителлия перешли обе Мавритании и что прокуратор этих провинций[120] Альбин убит. Лукцей Альбин был назначен управлять Мавританией Цезарейской еще Нероном. После того как Гальба распространил его полномочия и на Тингитанскую провинцию, в его руках оказались крупные силы: девятнадцать когорт, пять эскадронов конницы и большой отряд мавританцев, которые столько грабили и насильничали, что тоже приобрели немалый военный опыт. После убийства Гальбы Альбин, который склонялся на сторону Отона и которому Африка представлялась слишком тесным полем деятельности, стал угрожать Испании, отделенной от Мавритании лишь узким проливом. Это вызвало опасения у Клувия Руфа[121]. Он приказал десятому легиону выйти к побережью и делать вид, будто готовится переправа в Африку, а сам выслал вперед центурионов и поручил им склонить мавров на сторону Вителлия. Сделать это им было нетрудно, ибо слава германской армии гремела в этих провинциях. В довершение всего распространился слух, будто Альбин брезгует должностью прокуратора, украшает себя царскими регалиями и принял имя Юбы[122].
59. Настроение в мавританских провинциях изменилось. Префект кавалерии Азиний Поллион, один из ближайших друзей прокуратора, и префекты когорт Фест и Сципион были удавлены, Альбин убит, когда он, прибыв морем из Тингитанской провинции в Цезарейскую, сходил на берег, жена его сама подставила грудь ножам убийц и была ими зарезана. Никого из тех, кто все это проделал, Вителлий так и не привлек к ответу, — неспособный ни к чему серьезному, он и более важные дела выслушивал лишь краем уха.
Армии своей он приказал продолжать путь пешком, а сам плыл вниз по реке Арар[123], без всякого великолепия, подобающего принцепсу, выставляя на всеобщее обозрение свою нищету, пока, наконец, правитель Лугдунской Галлии Юний Блез[124], человек знатный, щедрый и богатый, не дал ему людей для его штата и не окружил блестящей свитой, за что Вителлий его возненавидел, хотя и прикрывал свои чувства самой низкой лестью. В Лугдунуме его ждали полководцы обеих партий — победители и побежденные. Воздав перед строем войск хвалу Валенту и Цецине, он усадил их по обеим сторонам своего курульного кресла[125]. Вскоре затем Вителлий велел принести своего новорожденного сына, укутал его боевым плащом и приказал войскам дефилировать перед ребенком, которого держал прижатым к груди; он назвал сына Германиком[126] и облек его всеми знаками императорского достоинства; почести эти, в те счастливые дни ребенку ненужные, стали позже, когда все для него изменилось к худшему, единственным его утешением.
60. Вскоре затем самые храбрые и преданные из центурионов-отонианцев были убиты, что сразу оттолкнуло от Вителлия солдат иллирийской армии; под их влиянием другие легионы, и без того недолюбливавшие германские войска и завидовавшие им, тоже стали помышлять о войне. Светония Паулина и Лициния Прокула Вителлий долгое время держал под угрозой обвинения, пока, наконец, не дал им аудиенции, во время которой они старались обелить себя с помощью аргументов, продиктованных скорее их безвыходным положением, чем искренностью. Они дошли до того, что изобразили сами себя изменниками и приписали своим проискам и длиннейший переход[127], и утомление войск перед битвой, и давку, которую произвели повозки, замешавшиеся в ряды солдат, и даже все те перенесенные отонианцами невзгоды, что были вызваны простой случайностью. Вителлий им поверил и простил людей, бывших образцом верности, лишь когда счел их изменниками. Никаких обвинений не было предъявлено брату Отона Тициану: его достаточно оправдывали и подчиненное положение, и полная бездарность. Марий Цельз остался консулом; ходили, однако, слухи, будто Цецилий Симплекс пытался (во всяком случае такое обвинение ему было вскоре предъявлено в сенате) за деньги приобрести эту должность и подстроить гибель Цельза. Вителлий на это не согласился и позже сам отдал Цецилию консулат[128], за который тому не пришлось платить ни преступлением, ни деньгами. Трахала спасла от обвинителей Галерия, жена Вителлия[129].
61. Рассказывая о несчастьях, обрушившихся на стольких замечательных людей, стыдно даже упоминать некоего Марикка из племени бойев[130], который возымел наглость добиваться власти и пойти против римского оружия, утверждая, что действует по велению неба. Он называл себя богом и мстителем за дело галлов; благодаря этому ему удалось собрать восемь тысяч человек, и они начали грабить окружающие деревни эдуев. Тогда это племя, славящееся суровой чистотой нравов, послало против них лучшую часть своего юношества, Вителлий — несколько когорт, и они вместе разогнали беснующуюся толпу. Марикка в этом сражении захватили в плен и бросили диким зверям, но звери не тронули его, и невежественная чернь была убеждена, что его охраняет высшая сила до тех пор, пока присутствовавший здесь Вителлий не велел его убить.
62. Больше не было принято никаких мер против сторонников Отона, и никто не покушался на их имущество. Завещания людей, погибших, сражаясь за Отона, исполнялись; если завещаний не было, действовали согласно закону о наследовании. Вообще если бы Вителлий мог справиться со своим обжорством, алчности его опасаться не приходилось. Он отличался отвратительной, ненасытной страстью к еде. Дороги, ведшие от обоих морей, дрожали под грохотом повозок, доставлявших из Рима и Италии все, что могло еще возбудить его аппетит. В городах устраивались пиры, своим великолепием разорявшие магистратов и истощавшие городские запасы продовольствия. Солдаты отвыкали от труда и воинской доблести, ибо все больше погружались в разврат и проникались презрением к своему вождю. Вителлий отправил в Рим эдикт, которым отклонял звание Цезаря и, до времени, звание Августа, но сохранял за собой всю полноту власти. Звездочеты были изгнаны из Италии. Строжайше запрещено римским всадникам позорить себя участием в гладиаторских боях. При прежних принцепсах их склоняли к этому деньгами, а чаще силой; многие муниципии и колонии наперебой старались подкупить наиболее развращенных из своих молодых людей, чтобы сделать их гладиаторами.
63. Все больше людей, стремившихся навязать Вителлию свои советы по управлению государством, втирались в его доверие; вскоре к ним присоединился брат императора, и под их общим влиянием принцепс становился день ото дня заносчивей и кровожадней. Он приказал умертвить Долабеллу, который, как я уже упоминал, был выслан Отоном в Аквинскую колонию[131]. Получив известие о смерти Отона, Долабелла прибыл в Рим, где Планций Вар, бывший претор и его ближайший друг, донес на него префекту города Флавию Сабину[132]. Планций уверял, будто Долабелла самовольно вернулся из ссылки, чтобы взять на себя руководство разбитой партией[133], и будто он пытался склонить к измене стоявшую в Остии когорту солдат[134]. Все эти обвинения ни на чем не были основаны; позже Планций всячески в них раскаивался и старался оправдаться, но преступление было уже совершено. Флавий Сабин медлил, но жена Люция Вителлия Триария, отличавшаяся невиданной в женщине жестокостью, в угрожающем тоне потребовала, чтобы он не пытался прослыть гуманным и милосердным, спасая преступников, представляющих угрозу для принцепса. Сабин, человек по характеру добрый, но в минуты опасности терявшийся и легко менявший свои решения, стал бояться уже за самого себя и подтолкнул падающего, дабы не подумали, что он пытается его спасти.
64. Новый принцепс не только боялся Долабеллы, но и ненавидел его, потому что тот сочетался браком с Петронией, вскоре после ее развода с Вителлием[135]. Вызвав Долабеллу к себе письмом, Вителлий приказал тем, кто его вез, свернуть с оживленной Фламиниевой дороги на Интерамну[136] и там его убить. Убийце, однако, все это показалось слишком сложным; в одном из трактиров по дороге он просто повалил Долабеллу на землю и перерезал ему горло. Убийство Долабеллы возбудило ненависть к новому принцепсу, впервые обнаружившему свой подлинный нрав. Необузданная свирепость Триарии выступала лишь еще отчетливее при сравнении со скромностью жены императора Галерии, принадлежавшей к тому же тесному кругу, но не запятнавшей себя участием ни в одном из злодеяний. Подобной же древней чистотой нравов отличалась и мать братьев Вителлиев Секстилия. Рассказывают, будто, получив первое письмо от сына[137], она сказала, что рожала не Германика, а Вителлия. И позже ей не принесли радости ни милости судьбы, ни лесть всего государства, — до того чувствовала она себя чужой своей семье.
65. Вителлий уже выступил из Лугдунума, когда его догнал, бросив в Испании все свои дела, Клувий Руф; с виду он был полон радости и горячо поздравлял нового императора, в душе же скрывал страх, так как знал о взводимых на него обвинениях. Вольноотпущенник Цезаря Гиларий[138] донес, будто Клувий Руф, узнав о провозглашении принцепсами Отона и Вителлия, тоже решил захватить власть и овладеть Испанией, будто именно поэтому он не ставил имени ни того, ни другого из принцепсов на выдаваемых им подорожных[139] и будто некоторые из его речей были рассчитаны на завоевание популярности и оскорбительны для Вителлия. Уважение, которым пользовался Клувий, оказалось сильнее этих наветов, и Вителлий даже велел наказать вольноотпущенника[140]. Клувий присоединился к свите принцепса, в Испанию не вернулся и стал управлять ею на расстоянии по примеру Луция Аррунция[141]. Аррунция Тиберий Цезарь не отпускал от себя из страха, Клувия же Вителлий оставил при себе без всяких тайных мыслей. Требеллий Максим, который, спасаясь от ярости солдат, бежал из Британии, не был удостоен подобной чести, — на его место Вителлий послал нового легата Веттия Болана[142], человека из своего ближайшего окружения.
66. Вителлия серьезно беспокоило настроение, царившее в разбитых легионах[143]. Разбросанные по всей Италии среди легионов победившей армии, они были рассадниками слухов и разговоров, враждебных новому принцепсу. Особенно буйствовали солдаты четырнадцатого легиона, которые вообще не считали себя побежденными. Под Бедриаком, говорили они, поражение потерпели одни лишь приданные легиону отряды, а главных наших сил там и не было. Вителлий счел за лучшее отправить их обратно в Британию, откуда Нерон некогда их вывел, а пока что поместить в одном лагере с когортами батавов, издавна враждовавших с солдатами четырнадцатого легиона[144]. Батавы и легионеры, ненавидевшие друг друга и при этом вооруженные, недолго жили в мире. В колонии Августа Тавринов[145] один батав обругал какого-то ремесленника изменником; легионер, стоявший у этого ремесленника на квартире, за него вступился; на помощь тому и другому подоспели товарищи, и дело, начавшись с перебранки, кончилось резней. Драка превратилась бы во всеобщее побоище, если бы две преторианские когорты не встали на сторону легионеров, умножив тем самым их силы и напугав батавов. За проявленную преданность Вителлий влил батавов в состав своей армии, а легиону приказал перевалить через Грайские Альпы и двигаться дальше, минуя Виенну, так как жители этой колонии тоже опасались буйства легионеров[146]. В ночь, когда четырнадцатый легион уходил из Таврины, от больших костров, оставленных повсюду солдатами, начался пожар, уничтоживший часть города. Беда эта, как и многие, порожденные войной, была позже вытеснена из памяти людей худшими несчастьями, которые пришлось перенести другим городам. Когда легион спустился с Альп, некоторые самые мятежные его подразделения свернули на дорогу, ведущую к Виенне, но лучшие солдаты подавили бунт, и легион благополучно переправился в Британию.
67. Немногим меньше, чем побежденных легионов, боялся Вителлий преторианских когорт. Сначала их изолировали, затем предложили почетную отставку на льготных условиях[147]; наконец, они сдали трибунам оружие, но едва распространился слух о войне, начатой Веспасианом, — снова вернулись в строй и составили главную опору флавианской партии. Первый легион морской пехоты отправили в Испанию, дабы он успокоился, живя на отдыхе, вдали от военных столкновений, одиннадцатый и седьмой вернулись в свои зимние лагеря[148]; тринадцатый получил приказ приступить к сооружению амфитеатров: Цецина в Кремоне, а Валент в Бононии готовили гладиаторские игры, ибо Вителлий никогда не был в состоянии настолько предаться делам, чтобы забыть об удовольствиях.
68. Вителлию таким образом удалось без шума разъединить и изолировать силы побежденной партии, но как раз в это время начался мятеж в стане победителей. Повод для его возникновения был незначителен, но количество жертв, которое он за собой повлек, еще увеличило ненависть к новому принцепсу. Однажды Вителлий обедал в Тицине; среди приглашенных был Вергиний[149]. В лагере Вителлия легаты и трибуны подражали императору: то старались перещеголять друг друга суровостью нравов, то начинали пировать среди бела дня; солдаты вели себя точно так же: то удивляли всех послушанием, то буйствовали. Вообще в лагерях вителлианской армии не прекращались беспорядки и пьянство, все здесь походило больше на ночную пирушку или вакханалию, чем на воинский лагерь. Два солдата, один из пятого легиона, другой — из галльских вспомогательных войск, затеяли борьбу, сначала в шутку, потом, разозлившись, — всерьез; легионер упал, галл стал всячески поносить его; зрители разделились; сбежавшиеся легионеры набросились на солдат вспомогательных войск и перебили две когорты. Побоище прекратилось, только когда поднялся новый переполох: кто-то, завидев вдали клубы пыли и блеск оружия, крикнул, что это возвращается на помощь своим четырнадцатый легион. На самом деле то было тыловое охранение уходившего легиона, и едва это стало ясно, как волнение улеглось. Тем временем солдаты случайно повстречали на улице принадлежавшего Вергинию раба, стали обвинять его в убийстве Вителлия и бросились в дом, где шел пир, требуя смерти Вергиния. Вителлий, обычно трепетавший от всякого рода подозрений, на этот раз не сомневался, что обвинение ложно; ему, однако, стоила большого труда усмирить солдат, с криками требовавших смерти консулярия, еще недавно бывшего их полководцем. Вообще трудно найти человека, которому бы столько раз грозили смертью мятежные войска; солдатам казалось, будто Вергиний их презирает[150], и они не могли простить ему этого, хотя преклонялись перед его доблестью и славой.
69. На следующий день Вителлий принял представителей сената (он еще раньше приказал им дожидаться его в Тицине), а затем отправился в лагерь и произнес речь, в которой хвалил войска за преданность и дисциплину. Солдаты вспомогательных отрядов, увидев, что легионеры, после всех бесчинств, ими содеянных, остаются безнаказанными, пришли в ярость. Опасаясь их гнева и буйства, Вителлий отправил батавов назад в Германию[151], сделав первый шаг к той войне, одновременно и внешней, и междоусобной, которую готовила нам судьба[152]. Вернули в свои племена и галльских ополченцев: они были набраны немедленно после измены[153], набраны в несметном количестве и во время военных действий оказались совершенно бесполезными. Впоследствии Вителлий, опасаясь, что императорской казне не хватит денег на все его расходы, распорядился сократить кадровый состав легионов и вспомогательных войск, впредь пополнений не проводить и стал всем и каждому предлагать выход в отставку. Эти меры, губительные для государства, не одобряли и солдаты: раз людей становилось меньше, а труды и опасности оставались те же, на долю каждого их должно было приходиться больше. Армия теряла силы в распутстве и наслаждениях и все больше забывала древнюю дисциплину, установления предков, при которых Римское государство стояло твердо, ибо зиждилось на доблести, а не на богатстве[154].
70. Из Тицина Вителлий свернул на Кремону[155] и, посмотрев устроенные Цециной гладиаторские игры, выразил желание побывать на поле сражения у Бедриака, чтобы своими глазами увидеть места, где его войска недавно добились победы. Зрелище, открывшееся глазам Вителлия, вызывало лишь отвращение и ужас. Со времени сражения прошло уже сорок дней; повсюду виднелись растерзанные тела, отрубленные члены, гниющие останки людей и коней, пропитанная кровью земля дышала миазмами, деревья были поломаны, посевы вытоптаны, кругом расстилалась мертвая пустыня. Дорога, шедшая через эти нагромождения трупов[156], выглядела еще ужаснее оттого, что кремонцы, следуя обычаям восточных деспотий, разбросали по ней цветы и лавровые ветки и соорудили алтари, на которых убивали жертвенных животных[157]. Кремонцы ликовали, но прошло совсем немного времени, и эти самые торжества обернулись для них несчастьями и бедами[158]. Валент и Цецина рассказывали о ходе битвы и показывали Вителлию места, где разворачивались те или иные ее эпизоды, — здесь легионы бросились в атаку, отсюда налетела конница, оттуда вспомогательные войска двинулись на окружение противника. В разговор вмешались трибуны и префекты; каждый восхвалял свои подвиги, примешивая к правде всяческие преувеличения, а то и прямую ложь. Солдаты с шумом и веселыми криками разбрелись по полю, узнавая места, где происходили схватки, дивились на горы оружия и груды трупов. Некоторые же, видя, сколь превратно бывает счастье человеческое, сокрушались и плакали. Вителлий, однако, не пришел в ужас, не опустил глаза при виде стольких тысяч своих сограждан, оставшихся без погребения[159]; не зная еще, что готовит ему судьба, он радостно приносил жертвы местным богам.
71. Затем в Бононии бои гладиаторов устроил и Фабий Валент. За оружием и всем необходимым для этих зрелищ он послал в Рим. Чем ближе подъезжали посланные им люди к столице, тем больше окружали они себя роскошью и распутничали. К ним присоединялись бродячие актеры, целые шайки миньонов и множество других подобных же лиц, обычно составлявших свиту Нерона, — было известно, что Вителлий восхищался Нероном и присутствовал обычно на всех его выступлениях не по принуждению, как многие достойные люди, а потому только, что любил разврат и готов был продаться в рабство каждому, кто хорошо угостит. Чтобы предоставить почетные должности Валенту и Цецине, Вителлий стал сокращать консульские сроки других. Без всякого шума был освобожден от обязанностей консула как один из руководителей отонианской партии Марций Макр; не получил полагавшейся ему должности выдвинутый в консулы еще Гальбой Валерий Марин, — он ни в чем не провинился, а просто был известен как человек покладистый и терпеливо сносящий обиды. Обошли консульским званием и Педания Косту, — Вителлий, хоть и приводил другие основания, на самом деле не любил его за то, что Коста осмеливался выступать против Нерона и поддерживать Вергиния. Следуя рабским обыкновениям того времени, все они выразили Вителлию благодарность.
72. В это время объявился новый самозванец, продержавшийся, несмотря на сопутствовавший ему вначале успех, лишь несколько дней. Он выдавал себя за Скрибониана Камерина[160] и утверждал, будто бежал при Нероне в Истрию, где сохранились поместья и клиенты Крассов[161] и где имя их было окружено почетом. Набрав несколько человек из самой сволочи, которые согласились сыграть назначенные роли в задуманной им комедии, он вскоре привлек на свою сторону чернь, всегда верящую разным слухам, и некоторых солдат, либо не понявших, где правда, либо надеявшихся поживиться во время беспорядков; но тут его схватили и доставили к Вителлию. Император начал расспрашивать его, чтó он за человек, но никакой веры словам его придать было нельзя. Когда же бывший хозяин узнал его и оказалось, что он — беглый раб по имени Гета, то его казнили, — так, как обычно казнят рабов[162].
73. Сейчас нам даже трудно представить себе, до чего возгордился Вителлий и какая беспечность им овладела, когда прибывшие из Сирии и Иудеи гонцы сообщили, что восточные армии признали его власть. До тех пор в народе на Веспасиана смотрели как на возможного кандидата в принцепсы и слухи о его намерениях[163], хоть и смутные, хоть и неизвестно кем распускаемые, не раз приводили Вителлия в волнение и ужас. Теперь и он сам, и его армия, не опасаясь больше соперников, предались, словно варвары, жестокостям, распутству и грабежам.
74. Веспасиан между тем еще и еще раз взвешивал, насколько он готов к войне, насколько сильны его армии, подсчитывал, на какие войска у себя в Иудее и в других восточных провинциях он может опереться. Когда он первым произносил слова присяги Вителлию и призывал на него милость богов, солдаты слушали его молча, и было ясно, что они готовы восстать немедленно. Муциан к Веспасиану относился сдержанно благожелательно, а Титу явно симпатизировал; префект Египта Тиберий Александр[164] знал о замыслах Веспасиана и одобрял их; Веспасиан полностью полагался на третий легион, переведенный им из Сирии в Мёзию, и рассчитывал, что остальные иллирийские легионы в нужный момент тоже последуют за ним[165]. На то были основания: вся армия возмущалась наглостью солдат, приезжавших сюда от имени Вителлия, их свирепым видом, их грубой речью, их манерой насмехаться над окружающими и считать всех ниже себя. Но нелегко решиться на такое дело, как гражданская война, и Веспасиан медлил, то загораясь надеждами, то снова и снова перебирая в уме все возможные препятствия. Два сына в расцвете сил, шестьдесят лет жизни за плечами, — неужели настал день, когда все это надо отдать на волю слепого случая, воинской удачи? Частный человек волен сам решать, добиваться ли осуществления своих замыслов или отказаться от них, он может взять от судьбы больше или меньше, как захочет. Перед тем же, кто идет на борьбу за императорскую власть, один лишь выбор — подняться на вершину или сорваться в бездну.
75. Перед глазами Веспасиана проходили германские армии, мощь которых он, старый полководец[166], хорошо знал. «Мои легионы, — думал он, — не имеют опыта гражданской войны, а легионы Вителлия одушевлены только что одержанной победой; на побежденных рассчитывать нельзя — они охотнее жалуются, чем дерутся. Солдаты, пережившие столько гражданских смут, все вместе ненадежны, а поодиночке — опасны. Что пользы в пеших когортах и конных отрядах, если один-два солдата в расчете на награду, которая ждет их в лагере противника, могут внезапно броситься на полководца и покончить с ним? Так погиб в правление Клавдия Скрибониан, а его убийца Волагиний неожиданно поднялся из низов и дошел до высших военных должностей[167]. Легче увлечь за собою целую толпу, чем избежать коварства одного человека».
76. Друзья и приближенные старались развеять мрачные мысли Веспасиана. Муциан, который и раньше через тайных посредников не раз убеждал его решиться на восстание, встретился, наконец, с Веспасианом и обратился к нему со следующими словами: «Каждый, кто отваживается на великое дело, должен взвесить, принесет ли оно пользу государству и славу ему самому, как скоро удастся его осуществить и не сопряжено ли оно со слишком большими трудностями. Надо убедиться также, готов ли человек, толкающий тебя на такое дело, разделить весь риск, с ним связанный, надо предугадать, кому в случае удачи достанется наибольший почет. Я призываю тебя, Веспасиан, взять императорскую власть, которую сами боги отдают тебе в руки; государству это принесет спасение, тебе — великую славу. Не думай, что слова мои продиктованы желанием польстить тебе: стать императором после Вителлия скорее унизительно, чем почетно. Мы[168] не пытались бороться ни с могучим и мудрым божественным Августом, ни с подозрительным стариком Тиберием, мы не шли против Гая, Клавдия или Нерона — все они принадлежали к семье, власть которой была долгой и прочной; ты склонился и перед Гальбой, но бездействовать далее, наблюдать, как государство идет к поруганию и гибели, — трусость и позор; бесчестным трусом сочтут тебя, если ты предпочтешь ценой унижений и покорности обеспечить себе безопасность. Теперь уже никто не подумает, что ты хочешь захватить императорскую власть из честолюбия, она для тебя — единственное спасение. Или ты забыл о гибели Корбулона[169]? Я понимаю, что благородством происхождения он превосходил нас с тобой, но ведь и Нерон вышел из более знатной семьи, чем Вителлий. Трусу представляется великим и знатным каждый, кто внушает страх. Вителлий, сделавшийся императором без денег, без боевых заслуг, благодаря одной лишь ненависти солдат к Гальбе, по собственному опыту знает, что, опираясь на поддержку армии, можно стать принцепсом. Сейчас он сокращает состав легионов, разоружает преторианские когорты, вызывая раздражение, которое каждый день может привести к новой гражданской войне. Ведь Отон погиб не оттого, что противник превосходил его стратегическим искусством или численностью, а оттого лишь, что слишком рано счел свое дело проигранным; теперь же, видя, сколь нелепо управляет империей Вителлий, люди начинают скорбеть об Отоне как о великом государе и вспоминать о нем с сожалением. Если у вителлианских солдат и были энергия и боевой пыл, то они, по примеру своего принцепса, растратили их по трактирам и пирушкам. У тебя же в Иудее, Сирии и Египте стоят девять нетронутых легионов, не утомленных походами, не развращенных смутами; солдаты здесь закалены, привыкли смирять врагов-иноземцев, боевой мощи исполнены эскадры кораблей, конные отряды и пешие когорты, целиком преданы нам местные цари, и ты превосходишь всех соперников опытом полководца.
77. «Для себя я хотел бы только одного — не считаться хуже Валента и Цецины. Не пренебрегай мной как союзником только потому, что я не стремлюсь с тобой соперничать. Я ставлю себя выше Вителлия, тебя же — выше себя. Ты триумфом прославил свое родовое имя[170], у тебя двое сыновей, один из которых уже может управлять государством и еще юношей стяжал себе славу, сражаясь в германской армии[171]. Если бы я был императором, я сам бы выбрал его в наследники; поэтому я поступаю разумно, с самого начала уступая тебе императорскую власть. Мало этого, удача и неудача в затеваемом деле по-разному отзовутся на каждом из нас: если мы победим, я получу лишь ту награду, которую ты мне даруешь, перед лицом же опасностей и смерти мы равны. Лучше всего, если ты сохранишь в своих руках верховное командование и не станешь подвергать себя риску, а все превратности военного счастья пусть выпадут на мою долю. Настроение в побежденной армии сейчас лучше, чем у победителей, — солдатам разбитого войска гнев, ненависть и жажда мщения заменяют доблесть; силы же их бывших противников ослаблены спесью и упрямством. Война сорвет корку, которая сейчас скрывает от глаз гноящиеся раны вителлианства, и я еще больше рассчитываю на лень, невежество и жестокость Вителлия, чем на твою проницательность, бережливость[172] и мудрость. Так или иначе, война сулит нам меньше опасностей, чем мир, ибо того, что мы говорим сейчас, уже достаточно, чтобы нас сочли изменниками».
78. Муциан умолк. Все окружили Веспасиана, требовали, чтобы он решился на затеваемое дело, напоминали ему о благоприятных ответах прорицателей и счастливом расположении светил. Веспасиан не был чужд суеверий — недаром, уже ставши владыкой мира, он открыто держал при себе некоего Селевка, звездочета и прорицателя, и прислушивался к его советам[173]. И сейчас давние предзнаменования всплыли у него в памяти. Он был еще юношей, когда у него в имении неожиданно рухнул на землю огромный кипарис. На следующий день упавший ствол сам вернулся на свое место и стал расти и зеленеть пуще прежнего. Гаруспики в один голос истолковали это как предсказание величия и счастья, которое сулит юному Веспасиану судьба, как предвестие славы, его ожидающей. Триумф, консулат, победа в Иудейской войне казались ему исполнением пророчества; теперь, когда все это уже было позади, он стал думать, не предрекало ли ему это давнее знамение и императорскую власть. Между Сирией и Иудеей есть место, где высится гора Кармел и где чтут божество того же имени[174]. Тут стоит его алтарь, тут возносят ему молитвы, но по заветам предков ему не строят храмов и не ставят изображений. Здесь-то, в ту пору, когда тайные надежды уже владели его душой, Веспасиан совершал жертвоприношение. Жрец Басилид долго всматривался в расположение внутренностей жертвенного животного и, наконец, сказал: «Что бы ты ни замышлял, Веспасиан: постройку дома, расширение своих поместий или покупку новых рабов — все даруют тебе боги, — и пышные палаты, и бескрайние владения, и власть над множеством людей». Загадочные слова эти сразу же стали достоянием молвы, но лишь теперь люди начали понимать их тайный смысл, и среди черни только и было речи, что об этом пророчестве. Еще больше толковали о нем в доме Веспасиана: если человек вынашивает какие-либо планы, близкие обычно предсказывают ему успех.
Муциан и Веспасиан разъехались. Один направился в столицу Сирии Антиохию, другой — в Цезарею, столицу Иудеи[175]. И тот, и другой понимали, что жребий брошен.
79. Первым признал Веспасиана императором Тиберий Александр. С торопливостью, пожалуй чрезмерной, он уже в июльские календы[176] привел к присяге стоявшие в Александрии легионы. В дальнейшем именно эта дата праздновалась как первый день правления Веспасиана, хотя он сам принял присягу иудейской армии лишь на пятые сутки после июльских нон[177]. Случилось это так внезапно, что не дождались даже Тита, возвращавшегося в это время из Сирии, где он выполнял роль посредника между отцом и Муцианом. Никто не собирал легионы, никто не устраивал сходки — все решил энтузиазм солдат.
80. Еще никто не знал, где и когда начнется сходка, еще не решили, — в таких случаях это всегда самое трудное, — кто заговорит первым, люди то надеялись, то пугались, то пытались все рассчитать, то полагались на случай, а уж несколько солдат, собравшихся у шатра Веспасиана, чтобы как обычно воздать ему почести, подобающие легату, неожиданно приветствовали его как императора. Немедленно сбежались остальные и тут же присвоили ему титулы Цезаря, Августа и все прочие звания, полагающиеся принцепсу. Страх исчез, солдаты уверовали в свою счастливую судьбу. Сам Веспасиан в этих новых и необычных обстоятельствах оставался таким же, как прежде — без малейшей важности, без всякой спеси. Едва прошло первое волнение, густым туманом застилающее глаза каждому, кто попадает на вершину могущества, он обратился к войску с несколькими словами, по-солдатски простыми и суровыми. В ответ со всех сторон раздались громкие крики ликования и преданности. Радостный подъем охватил также легионы, стоявшие в Сирии, и Муциан, с нетерпением ожидавший начала событий, тотчас привел их к присяге Веспасиану. Затем он явился в антиохийский театр, где местные жители обычно собираются, чтобы поговорить о делах[178], и обратился к толпе с речью, встреченной со льстивой восторженностью. Муциан был искусен в делах и словах, на всем, что он говорил или делал, всегда лежала печать какого-то артистизма, и речь его, хотя произнесенная по-гречески, получилась яркой и красивой. Слова Муциана о том, что Вителлий решил перевести германские легионы в Сирию, где служить выгодно и спокойно, а в германские лагеря, с их суровым климатом и тяжелым режимом, отправить войска из Сирии, вызвали бурное возмущение провинциалов и солдат. Возмущались они потому, что и провинциалы привыкли к стоявшим в этих местах войскам, хорошо относились к солдатам, со многими из них породнились и вели общие дела, и солдаты, после стольких лет службы, стали смотреть на лагерь как на родной дом.
81. Еще до июльских ид присягу приняла вся Сирия. К восставшим примкнули Сохем со своим царством и находившимися под его властью немалыми боевыми силами, а также Антиох — самый крупный среди местных подчиненных Риму царьков, знаменитый своими богатствами, доставшимися ему от предков[179]. Вскоре затем Агриппа, получив секретное сообщение от своих приближенных, покинул Рим и по-прежнему ничего не подозревавшего Вителлия, стремительно пересек море и вернулся к себе[180]. Царица Береника также решительно встала на сторону восставших. Молодая и красивая, она даже старого Веспасиана обворожила любезностью и роскошными подарками. Все приморские провинции, вплоть до границ Азии и Ахайи, и все внутренние, вплоть до Понта и Армении, присягнули на верность Веспасиану. Правда, легионы в Каппадокию тогда еще введены не были[181] и легаты всех этих провинций не располагали военными силами. Чтобы обсудить наиболее важные вопросы, в Берите[182] было собрано совещание. Муциан прибыл туда, окруженный легатами, трибунами, самыми блестящими центурионами и солдатами; отборных своих представителей прислала и иудейская армия. Все эти пешие и конные воины, цари, соревнующиеся друг с другом в роскоши, придавали совещанию такой вид, будто именно здесь принимали настоящего принцепса.
82. Подготовку к войне Веспасиан начал с того, что набрал рекрутов и призвал в армию ветеранов; наиболее зажиточным городам поручили создать у себя мастерские по производству оружия, в Антиохии начали чеканить золотую и серебряную монету. Эти меры спешно проводились на местах особыми доверенными лицами. Веспасиан показывался всюду, всех подбадривал, хвалил людей честных и деятельных, растерянных и слабых наставлял собственным примером, лишь изредка прибегая к наказаниям, стремился умалить не достоинства своих друзей, а их недостатки. Он роздал должности префектов и прокураторов и назначил новых членов сената, в большинстве своем людей выдающихся, вскоре занявших высокое положение в государстве; встречались, однако, и такие, которым счастливый случай помог больше, чем собственные достоинства. Что до денежного подарка солдатам, то Муциан на первой же сходке предупредил, что он будет весьма умеренным, и Веспасиан обещал войскам за участие в гражданской войне не больше, чем другие платили им за службу в мирное время: он был непримиримым противником бессмысленной щедрости по отношению к солдатам, и поэтому армия у него всегда была лучше, чем у других. К парфянам и в Армению были посланы легаты, и были приняты меры к тому, чтобы после ухода легионов на гражданскую войну границы не оказались незащищенными. Тит остался в Иудее, Веспасиан занял ворота Египта[183], — было решено, что для победы над Вителлием хватит лишь части войск и такого командующего, как Муциан, а также славы, окружавшей имя Веспасиана; во всем остальном они полагались на фортуну, которая может сокрушить любые препятствия. Были подготовлены письма ко всем армиям и легатам, командирам приказано переманивать на свою сторону преторианцев, настроенных враждебно к Вителлию, обещая им в награду возвращение на службу.
83. Муциан вел себя не как доверенное лицо Веспасиана, а скорее как его соправитель. Выступив в путь во главе отборного отряда, он двигался не слишком медленно, дабы не подумали, будто он затягивает кампанию, но и не слишком быстро, ибо знал, что войск у него немного, а армия, которую еще никто не видел, всегда кажется опаснее, и ужас, ею вызываемый, тем больше, чем медленнее она приближается. Правда, двигавшиеся за ним шестой легион и насчитывавшие тринадцать тысяч бойцов самостоятельные отряды и без того производили весьма внушительное впечатление. Муциан приказал кораблям выйти из Понта и собраться в Византии[184]. План кампании не был ему еще до конца ясен, но он все более склонялся к мысли, оставив Мёзию в стороне, двинуться пешими и конными силами к Диррахию[185],одновременно заперев большими кораблями выход из моря, омывающего Италию[186]. Это давало возможность закрыть доступ в Ахайю и Азию, которые иначе пришлось бы укреплять особыми гарнизонами или оставить безоружными на милость Вителлия. Если бы этот план удался, Вителлий оказался бы в растерянности, не зная, какую часть Италии защищать от нападения вражеского флота, — Брундизий или Тарент, берега Калабрии или Лукании[187].
84. Провинции содрогались от грохота оружия, поступи легионов, передвижений флотов. Хуже всего, однако, им приходилось от денежных поборов. Муциан часто повторял, что деньги — становая жила войны; при сборе их поэтому он исходил только из величия задач, перед ним стоявших, и не считался ни с правом, ни с реальными возможностями провинций. Доносы сыпались к нему со всех сторон, все богатые имения были разграблены. Эти свирепые и безжалостные меры в условиях войны еще можно было оправдать, но их продолжали применять и в мирное время. В начале своего правления Веспасиан только не мешал злоупотреблениям других, позднее же, избалованный удачами, поощряемый дурными советчиками, стал позволять их себе и сам[188]. Муциан тратил на военные нужды немало и собственных денег, — тем охотнее, что он их с лихвой возмещал из государственных сумм. Другие следовали его примеру и тоже расходовали свои средства, но восполнять их теми способами, какие применял он, позволяли себе весьма немногие.
85. Дела Веспасиана пошли еще успешнее, после того как на его сторону перешла иллирийская армия. В Мёзии третий легион подал пример остальным[189], т.е. восьмому и седьмому Клавдиеву, которые, хотя и не участвовали в битве при Бедриаке, были страстно преданы Отону. Заняв Аквилею[190], они разогнали всех, кто распространял сведения о смерти Отона, разгромили отряды, несшие на своих значках изображения Вителлия, и кончили тем, что разграбили и поделили между собой казну. Оказавшись таким образом в лагере противников принцепса, они испугались, а испугавшись, сообразили, что провинности перед Вителлием можно представить как заслуги перед Веспасианом. Тогда они отправили в Паннонию письмо, в котором убеждали стоявшую там армию присоединиться к ним, а на случай отказа стали готовиться к вооруженному столкновению. В разгар всех этих событий правитель Мёзии Апоний Сатурнин решился на гнусное преступление: прикрывая политическими соображениями личную вражду, он поручил одному из центурионов убить легата седьмого легиона Теттия Юлиана[191]. Юлиан, узнав о грозящей ему опасности, связался с людьми, хорошо знающими тамошние места, окольными дорогами пересек Мёзию и скрылся по ту сторону Гэмских гор[192]. Он и в дальнейшем не принимал участия в гражданской войне: выехав к Веспасиану, он то замедлял, то ускорял свой путь в зависимости от поступавших к нему вестей и в конце концов так до Веспасиана и не добрался.
86. Тем временем в Паннонии тринадцатый и седьмой Гальбанский легионы[193], удрученные и обозленные разгромом под Бедриаком, без всяких промедлений присоединились к Веспасиану, главным образом под влиянием Прима Антония. Этот человек, не уважавший законы, осужденный при Нероне за подлог, был возвращен в число сенаторов, — как будто и без того война принесла нам мало бедствий. Поставленный Гальбой во главе седьмого легиона, Антоний, если верить молве, много раз писал Отону и вызывался возглавить его сторонников. Отон пренебрег его предложениями, и во время отонианской войны Антоний остался не у дел. Когда положение Вителлия только начало колебаться, он перешел на сторону Веспасиана, и этот переход имел тогда большое значение. Антоний был лихой рубака, бойкий на язык, мастер сеять смуту, ловкий зачинщик раздоров и мятежей, грабитель и расточитель, в мирное время нестерпимый, но на войне небесполезный. Мёзийская и паннонская армии, таким образом, объединились и увлекли за собой войска, расположенные в Далмации, хотя консульские легаты в этих провинциях вовсе не были склонны к мятежу. Паннонией правил Тампий Флавиан, Далмацией — Помпей Сильван[194], и тот, и другой — люди богатые и старые. Был там, однако, еще и прокуратор Корнелий Фуск, человек в расцвете сил и знатного рода. Еще в ранней молодости, горя желанием побыстрее разбогатеть, он вышел из сенаторского сословия[195]. Он был одним из главных магистратов своей родной колонии и вместе с ней перешел на сторону Гальбы, что принесло ему, наконец, вожделенное место прокуратора[196]; присоединившись же к Веспасиану, Фуск сделался ярым вдохновителем войны. Опасности он любил больше, чем блага, добываемые их ценой, крайние и рискованные меры предпочитал испытанным и верным. Фуск объединился с Антонием, и они вместе принялись разжигать ненависть солдат, напоминая об обидах, некогда им нанесенных, и бередя старые раны. Было составлено обращение к солдатам четырнадцатого легиона, расположенного в Британии, и первого, стоявшего в Испании, — оба они не так давно выступали на стороне Отона против Вителлия[197]; галльские провинции были засыпаны подметными письмами, и в мгновение ока на огромных пространствах забушевала война. Иллирийская армия открыто изменила Вителлию, остальные решили положиться на судьбу.
87. Пока Веспасиан и руководители его партии вели в провинциях эти приготовления, Вителлий лениво двигался к Риму, останавливаясь в каждом муниципии, на каждой вилле, где только можно было приятно провести время. День ото дня он становился все более беспомощным и вызывал к себе все большее презрение. За ним следом шло шестьдесят тысяч разнузданных и наглых солдат, еще больше войсковой прислуги и обозных рабов, выделявшихся своей развращенностью даже среди невольников, и свита, состоявшая из такого количества официальных лиц и знакомых императора, что с ними нельзя было бы справиться и при самой строгой дисциплине. Толпа эта еще увеличивалась за счет сенаторов и всадников, которые выехали из столицы навстречу принцепсу, одни — движимые страхом, другие — подобострастием, остальные, число которых понемногу росло, — боязнью отстать от других. Со всех сторон сбегались шуты, лицедеи, возницы; некогда[198] они тешили Вителлия своим искусством, он не забыл этих участников своих постыдных похождений и встречал их с радостью, повергавшей многих в недоумение. Вся эта масса войск опустошала не только колонии и муниципии, но даже усадьбы земледельцев; нивы, уже колосившиеся новым урожаем, они вытаптывали, как будто шли по земле врага.
88. Со времени беспорядков в Тицине[199] легионеры продолжали враждовать с солдатами вспомогательных войск; они беспрерывно ссорились, убивали друг друга и примирялись, только чтобы выступить вместе против мирных жителей. Самое большое побоище произошло у седьмого камня, не доходя Рима[200]. Вителлий начал здесь раздавать солдатам паек — каждому поодиночке, будто откармливал гладиаторов; сбежавшиеся со всех сторон местные жители проникли в лагерь и смешались с солдатами. Несколько человек из простонародья придумали нелепую шутку: они потихоньку срезали портупеи у ничего не подозревавших солдат, а потом спрашивали, где их оружие. Воины, не привыкшие сносить насмешки, возмутились и с обнаженными мечами бросились на безоружную толпу. Среди прочих был убит отец одного из них, пришедший проводить сына; когда это стало известно, солдаты утихли и решили пощадить ни в чем не повинных людей. Рим тем не менее был охвачен паникой, так как жители успели познакомиться с солдатами, вступившими в город еще до прибытия армии. Солдаты эти стремились прежде всего попасть на Форум: им не терпелось взглянуть на то место, где несколькими месяцами ранее лежал труп Гальбы. Одетые в звериные шкуры, с огромными дротами, наводившими ужас на окружающих, они представляли дикое зрелище. Непривычные к городской жизни, они то попадали в самую гущу толпы и никак не могли выбраться, то скользили на мостовой, падали, если кто-нибудь с ними сталкивался, тут же разражались руганью, лезли в драку и, наконец, хватались за оружие. Даже трибуны и префекты носились по городу во главе вооруженных банд, наводя повсюду страх и трепет.
89. Сам Вителлий, в боевом плаще, опоясанный мечом, верхом на великолепном скакуне, тронулся с Мульвиева моста[201], гоня перед собой сенаторов и народ, как победитель, въезжающий в покоренный город. Друзья, однако, посоветовали ему так в Рим не входить[202]; он испугался, сменил плащ на тогу и вступил в столицу во главе армии, шедшей в сомкнутом строю. Впереди двигались орлы четырех легионов[203], по обеим их сторонам — вымпелы четырех остальных[204], следом — двенадцать значков кавалерийских отрядов, легионеры, конница и тридцать четыре пешие когорты, разделенные по племенам и видам оружия. Перед орлами шагали, все в белом, префекты лагерей, трибуны и первые центурионы первых десяти манипул; остальные центурионы, сверкая оружием и знаками отличия, шли каждый впереди своей центурии; фалеры и нагрудные украшения солдат блестели на солнце[205]. Великолепное зрелище, великолепная армия, достойная не такого полководца, как Вителлий! Он поднялся на Капитолий, обнял мать и назвал ее почетным именем Августы.
90. На следующий день Вителлий произнес пышную речь, в которой восхвалял самого себя, свою энергию и миролюбие. Можно было подумать, что он выступает перед сенатом и народом чужой страны: ведь и приближенные, и те, кто сейчас слушали его, и Италия, по которой он только что прошел, бесстыдно выставляя напоказ свое распутство и лень, — все были свидетелями его преступлений. И тем не менее неспособная отличать истину от лжи, приученная к лести бессмысленная толпа покрыла его речь возгласами одобрения. Как он ни отказывался, его заставили принять имя Августа — титул, который никак не пристал Вителлию, независимо от того, соглашался он принять его или нет.
91. В нашем государстве люди склонны искать толкование для любого события, и когда Вителлий, ставши верховным понтификом[206], распорядился провести в пятнадцатый день августовских календ публичное богослужение, все восприняли это как недоброе предзнаменование: день этот, отмеченный поражением на Кремере и аллийским разгромом, издавна считался несчастливым[207]. Вителлий, однако, ничего не смыслил ни в человеческих, ни в божественных установлениях, он поступал по советам друзей, столь же глупых и легкомысленных, как его вольноотпущенники, и к тому же всегда казавшихся пьяными. Правда, он, как простой гражданин, отстаивал на консульских комициях своих кандидатов[208] ходил в театры, аплодировал в цирке и, сидя там, внимательно прислушивался ко всем мнениям, высказывавшимся в толпе, вплоть до самых вздорных. Такое поведение, будь оно выражением высоких душевных качеств, конечно, обеспечило бы Вителлию любовь и популярность, но так как все помнили его прошлую жизнь, то оно выглядело непристойным и вульгарным. Он часто бывал в сенате, даже когда там обсуждались незначительные вопросы. Однажды кандидат в преторы[209] Приск Гельвидий выступил против него. В первую минуту Вителлий вспылил, но овладел собой и лишь обратился к народным трибунам с просьбой защитить авторитет власти, попранный в его лице. Друзья, опасаясь, как бы гнев не завел его далеко, стали его успокаивать. «Нет ничего странного в том, — отвечал Вителлий, — что два сенатора, обсуждая государственные дела, разошлись во мнениях», и добавил, что сам он много раз выступал против Тразеи[210]. Сравнение было настолько нескромным, что многие рассмеялись; некоторым, однако, понравилось, что в качестве подлинного образца он назвал Тразею, а не кого-нибудь из стоявших у власти.
92. Во главе претория Вителлий поставил префекта одной из когорт Публилия Сабина и центуриона Юлия Приска; первому покровительствовал Цецина, второму — Валент. Окруженный распрями, Вителлий не имел настоящей власти, — Цецина и Валент правили за него. Их давняя ненависть друг к другу, которую в походах и лагерях как-то удавалось скрывать, теперь в столице, где поводы для ссор столь обильны, разжигаемая коварными друзьями, разгорелась еще сильнее. Они старались перещеголять друг друга числом сторонников, пышностью свиты, обилием клиентов, ожидавших их выхода по утрам[211]. Вителлий, непостоянный в своих привязанностях, склонялся на сторону то одного, то другого; на власть, зависящую от произвола правителя, никогда нельзя по-настоящему положиться. Оба они презирали и боялись принцепса, вечно колебавшегося, осыпавшего их то беспричинными оскорблениями, то неуместными ласками, что не мешало им захватывать дома, сады, сокровища казны, в то время как толпы аристократов, возвращенных Гальбой из ссылки[212], обремененных детьми, жалких и нищих, не получали от принцепса никакого вспомоществования. Эти отпрыски знатнейших родов государства с радостью приняли распоряжение Вителлия, одобренное даже и чернью, по которому вернувшимся из ссылки гарантировались обычные права патрона на своих вольноотпущенников[213]. Хитрые рабы, однако, всячески нарушали это распоряжение, то пряча свой деньги, то помещая их под чье-либо высокое покровительство; некоторые даже жили теперь в императорском дворце и стали могущественнее своих господ.
93. Солдаты не умещались в лагере[214], переполняли портики и храмы, бродили по всему городу. Они забыли о строе, о дежурствах, об укрепляющей тело работе и предались таким развлечениям, о которых даже стыдно говорить; безделье губило их тела, низкие страсти — душу. Даже о сохранении своей жизни люди перестали заботиться — многие расположились лагерем в гиблом Ватиканском овраге и умирали один за другим[215]. Томимые жарой и постоянным желанием освежиться, галлы и германцы, и без того болезненные, беспрерывно купались в протекавшем неподалеку Тибре, и это ослабляло их еще больше. Обычный порядок прохождения службы был нарушен из-за интриг и всеобщей распущенности: формировалось шестнадцать когорт претория и четыре городской стражи, по тысяче человек каждая, и Валент, утверждавший, что он некогда спас Цецину от гибели, на этом основании набирал теперь в преторианцы и городскую стражу кого ему заблагорассудится[216]. Появление Валента с войсками в свое время действительно обеспечило победу вителлианцев; удачный исход сражения заставил забыть недобрые слухи о том, что Валент шел к Бедриаку подозрительно медленно, и теперь все солдаты нижнегерманской армии были на его стороне. Говорят, что именно в эти дни Цецина впервые поколебался в своей преданности Вителлию.
94. Впрочем, если Вителлий и закрывал глаза на своеволие командиров, еще больше потакал он солдатам. Каждый сам выбирал себе род войск. Любой, пусть и недостойный, мог, если только ему взбрело на ум, проходить службу в столице, и наоборот, даже самый хороший солдат, стоило ему захотеть, оставался в легионах или кавалерийских отрядах. Немало легионеров, измученных болезнями и жарой, выражали такое желание. Так или иначе, легионы лишились основных своих сил, а престижу римского гарнизона, в который влили двадцать тысяч человек, навербованных без разбора по всей армии, был нанесен тяжкий удар.
Однажды, когда Вителлий проводил солдатскую сходку, раздались голоса, требовавшие казни Азиатика, Флава и Руфина — галльских вождей, воевавших на стороне Виндекса, и Вителлий даже не попытался обуздать крикунов. Дело заключалось не только в его природной глупости и слабости: он понимал, что приближается день, когда солдатам придется выдать вознаграждение, денег у него не было, и он старался задобрить их любым другим способом. На императорских вольноотпущенников наложили подать по числу рабов, которым каждый из них владел. Сам же Вителлий, умевший только тратить, строил конюшни своим возничим, свозил отовсюду гладиаторов и диких зверей для зрелищ, которые собирался устраивать, как будто владел несметными богатствами.
95. День рождения Вителлия[217], прежде никем не отмечавшийся, Цецина и Валент отпраздновали с редким великолепием, устроив гладиаторские бои в каждом квартале Рима[218]. Радость негодяев и возмущение людей порядочных вызвали жертвоприношения в память Нерона, устроенные Вителлием у жертвенника, сооруженного для этой цели на Марсовом поле. Жертвенных животных убивали и сжигали во славу римского народа, жертвенный огонь разводили жрецы-августалы[219], — был восстановлен весь обряд, созданный Ромулом в честь царя Татия[220] и Цезарем Тиберием для прославления рода Юлиев. Не прошло еще и четырех месяцев со времени победы Вителлия, а уж его вольноотпущенник Азиатик возбудил к себе такую же ненависть, как в былые годы поликлиты, патробии[221] и им подобные. Никто в этом доме не пытался выдвинуться с помощью честности или трудолюбия, к власти вел только один путь — тешить ненасытные вожделения Вителлия оргиями и пирами, один другого роскошней и расточительней. Сам принцепс радовался тому, что может наслаждаться, пока есть время, о будущем старался не думать и, как говорят, за несколько месяцев проел двести миллионов сестерциев[222]. Целый год пришлось злосчастному городу терпеть Отона и Вителлия, сносить обиды и оскорбления от виниев, фабиев, икелов, азиатиков, пока не явились Муциан и Марцелл[223], — другие люди, но с теми же нравами.
96. Первое сообщение о мятеже в армии, полученное Вителлием, касалось третьего легиона и было послано Апонием Сатурнином[224] еще до того, как сам он примкнул к партии Веспасиана. По письму Апония, перепуганного внезапно развернувшимися событиями, трудно было судить, какой размах они приняли, льстивые же придворные старались преуменьшить значение случившегося, уверяя, что взбунтовался всего-навсего один легион и что остальная армия сохраняет верность императору. В этом духе Вителлий и произнес речь перед солдатами. Он обрушился на недавно демобилизованных преторианцев, которые, по его словам, занимались распространением всех этих ложных слухов, не упомянул ни об опасности гражданской войны, ни даже имени Веспасиана и разослал по городу солдат, приказав им пресекать все опасные разговоры. Эта последняя мера как раз и дала больше всего пищи для разнотолков.
97. Тем не менее Вителлий стал вызывать войска из Германии, Британии и Испании, не торопясь и делая вид, что ему не грозит никакая опасность. Не спешили и провинции во главе со своими легатами. Гордеоний Флакк, которому поведение батавов уже тогда начало казаться подозрительным, больше думал о войне, угрожавшей ему самому: Веттий Болан управлял страной, где никогда не было настоящего спокойствия[225]; оба колебались, не зная, на чью сторону лучше стать. Из испанских провинций, лишенных в ту пору единой верховной власти[226], тоже никто не торопился на помощь Вителлию; легаты всех трех легионов[227] были равны по своему положению; если бы удача сопутствовала Вителлию, они стремились бы перещеголять друг друга в угодливости, теперь же, когда его положение пошатнулось, они с редким единодушием старались держаться от него подальше. В Африке легион[228] и отдельные когорты, набранные Клодием Макром и вскоре распущенные Гальбой, по приказу Вителлия снова вернулись в строй. Молодежь, не попавшая в этот набор, тоже охотно записывалась в солдаты. Дело в том, что и Вителлий, и Веспасиан в разное время были проконсулами Африки, и первого вспоминали здесь с уважением и благодарностью, в то время как имя второго повторяли с ненавистью и злобой[229]. На этих-то воспоминаниях провинциалы и строили свои предположения о будущем правлении каждого из них, предположения, опровергнутые дальнейшие ходом событий.
98. Сначала легат Валерий Фест[230] от всей души поощрял эти настроения провинциалов. Вскоре, однако, он повел двойную игру: в донесениях и эдиктах открыто поддерживал Вителлия, а секретно сообщаемыми сведениями втайне помогал Веспасиану, рассчитывая выждать и выступить на стороне той партии, которая возьмет верх. Из числа солдат и центурионов, разосланных Веспасианом с письмами и эдиктами по Реции и галльским провинциям, лишь немногие были схвачены, доставлены к Вителлию и казнены, остальным удалось обмануть бдительность виттелианцев: одних спрятали друзья, другие сумели скрыться сами. Так или иначе, о приготовлениях Вителлия было известно все, о замыслах Веспасиана — почти ничего. Причиной тому были и глупость Вителлия, и заставы в Паннонских Альпах[231], задерживавшие гонцов, и этезийские ветры[232], благоприятные кораблям, шедшим на Восток, но мешавшие тем, кто плыл в противоположную сторону.
99. Перепуганный продвижением противника и доходившими со всех сторон зловещими вестями, Вителлий приказал Цецине и Валенту двинуться на врага. Цецина отправился вперед; Валент задержался в Риме, так как был еще слишком слаб после только что перенесенной тяжелой болезни. Уходившие из города войска мало походили на прежнюю германскую армию: воины не чувствовали более ни сил в теле, ни бодрости в душе; они шли медленно, несомкнутым строем, оружие едва не падало из ослабевших рук, кони шатались от истощения. Измученные жарой, пылью, резкими переменами погоды, солдаты были изнурены и неспособны переносить трудности походной жизни, но тем более склонны к бунтам и ссорам. Сам Цецина, обычно полный энергии, теперь как бы впал в оцепенение, — то ли этот баловень судьбы растратил в оргиях все свои силы, то ли вынашивал измену и разложение армии входило в его планы. Многие думали, что к измене он начал склоняться под влиянием Флавия Сабина. Действовавший по поручению Сабина Рубрий Галл[233] уверял Цецину, что Веспасиан примет все его условия, разжигал его зависть и ненависть к Валенту, убеждал добиваться влияния при новом дворе и милостей нового принцепса, раз Вителлий не оценил его по заслугам.
100. Вителлий осыпал Цецину почестями, обнял его на прощание, и тот выступил в поход, отправив вперед часть кавалерии с приказом занять Кремону. Вслед за Цециной двинулись отдельные подразделения первого, четвертого, пятнадцатого и шестнадцатого легионов, за ними — пятый и двадцать второй; наконец, походным строем пошли двадцать первый Стремительный и первый Италийский, сопровождаемые отдельными подразделениями трех британских легионов и отборными отрядами вспомогательных войск. Уже после того как Цецина выступил, Валент написал в те легионы, которыми прежде командовал, письмо, прося солдат остановиться и подождать его и уверяя, что о задержке этой он с Цециной договорился. Цецина сам шел с армией и, воспользовавшись этим, убедил солдат, что договоренность его с Валентом будто бы была позже изменена и что не следует дробить войско перед лицом надвигающейся опасности. Одним легионам он приказал быстро идти на Кремону, другим — двигаться на Гостилию[234], сам же, под предлогом, что ему нужно договориться с флотом, свернул на Равенну и вскоре, в поисках возможности начать тайные переговоры с противником, оказался в Патавии[235]. Во главе Равеннского и Мизенского флотов[236] стоял Луцилий Басс. Вителлий назначил его — простого префекта кавалерийского отряда — командиром двух флотов. Луцилий, однако, счел себя оскорбленным тем, что его тут же следом не сделали префектом претория, и принялся с подлым коварством выискивать, на чем бы выместить свою бессмысленную ярость. Сейчас уже нельзя сказать, он ли увлек за собой Цецину или, как это часто бывает, — у недобрых людей мысли сходятся, — одни и те же дурные наклонности двигали обоими.
101. Писатели, которые рассказывали историю этой войны во время правления Флавиев[237] из лести объясняли измену Цецины и других их заботами о мире и любовью к родине. Нам же кажется, что людьми этими, — не говоря уж об их непостоянстве и готовности раз изменив Гальбе, изменять кому угодно, — двигали соперничество и зависть; они готовы были погубить Вителлия, лишь бы не уступить его расположение кому-нибудь другому. Вернувшись к своим легионам[238], Цецина принялся разными хитростями восстанавливать центурионов и солдат против Вителлия, которому они были фанатически преданы. Басс действовал в том же направлении, но ему было не так трудно добиться своей цели: моряки, еще недавно воевавшие за Отона, и без того склонялись к измене.
(обратно)Книга III
1. Гораздо удачнее и с большей преданностью своему вождю разрабатывали планы войны полководцы флавианской партии. Они собрались в Петовионе, в зимних лагерях тринадцатого легиона, и между ними возник спор о том, укрепляться ли в Паннонских Альпах и ждать, пока с востока придут основные силы, или избрать более решительный образ действий — двигаться прямо на врага и завязать бой за Италию. Командиры, предпочитавшие медлить и ждать резервов, много говорили о славе и мощи германских легионов, об отборных частях британской армии, только что присоединившихся к Вителлию[1]. «Наши легионы, — утверждали они, — недавно лишь потерпели поражение и уступают противнику не только по числу, — какие бы грозные речи солдаты ни произносили, боевой дух у них далеко не тот, что у вителлианцев. Если же мы займем Альпы и там остановимся, к нам присоединятся Муциан и его восточные армии, а Веспасиану останутся эскадры кораблей[2] и преданные ему провинции, — с такими силами в пору начать еще одну войну. Разумное промедление, таким образом, в будущем умножит наши силы, а в настоящее время ничему не вредит».
2. Антоний Прим, самый рьяный среди сторонников войны, доказывал, что быстрота действий восставшим выгодна, а для Вителлия губительна. «Победа, — говорил Антоний, — скорее ослабила наших противников, чем укрепила их силы. Вителлианцы перестали готовиться к боям, забыли лагерную жизнь: расставленные на постой по муниципиям всей Италии, они тем больше боятся хозяев, у которых живут, чем сильнее притесняли их раньше, тем жаднее набрасываются на удовольствия, чем меньше к ним привыкли. От цирков и театров, от удобств столичной жизни силы их тают, здоровье слабеет. Если только дать им время, они вспомнят о походах и войнах, снова обретут былую боевую мощь. Германия, откуда они черпают силы, — недалеко, лишь узкий пролив отделяет от них Британию, рядом — провинции Галлии и Испании, шлющие им подати, людей и коней; в их руках Италия и сокровища Рима. Захотят они перейти в наступление — к их услугам два флота[3], и на всем Иллирийском море ни одного корабля, способного дать им отпор[4]. Что проку будет тогда от наших горных укреплений? Какой смысл затягивать войну еще на одно лето? Откуда тем временем добывать деньги и продовольствие? Не лучше ли воспользоваться тем, что паннонские легионы, скорее обманутые, чем разбитые[5], только и мечтают о мести, что мы располагаем нетронутыми силами мёзийской армии? Если вести расчет не по числу легионов, а по количеству солдат, то мы сильнее вителлианцев, да и дух наших войск несравненно лучше: самый стыд, который они испытывают, помогает укреплению дисциплины. Что же касается конницы, то она ведь даже и не была разбита; напротив того, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, она сумела разгромить пехоту Вителлия[6]. Всего два кавалерийских отряда — паннонский и мёзийский — смогли тогда нанести противнику поражение; теперь же на врага разом устремятся шестнадцать таких отрядов — пыль, несущаяся из-под копыт, облаком окутает вителлианцев, топот коней и грохот оружия оглушат отвыкших от сражений лошадей и всадников. Я не просто убеждаю вас в преимуществах этого плана, я готов сам и осуществить его, если только никто мне не помешает[7]. Ваш час еще не пробил, оставайтесь с легионами, мне довольно одних легковооруженных когорт. Скоро вы услышите, что путь в Италию открыт, а Вителлию нанесен решительный удар. И тогда вы радостно двинетесь вслед за мной по пути, проложенному победителем».
3. Глаза Антония горели. Он говорил резким громким голосом, стараясь, чтобы его услышало возможно больше народу: в помещение, где шел совет[8], понемногу собрались и центурионы, и кое-кто из солдат. Доводы Антония сыпались в таком изобилии, что заколебались даже люди осторожные и предусмотрительные; толпа признавала теперь только одного вождя, только одного человека превозносила до небес и презирала всех прочих за слабость и нерешительность. Популярность эту Антоний завоевал еще раньше, когда на солдатской сходке было оглашено обращение Веспасиана[9]. В отличие от других командиров, выступавших уклончиво и нерешительно, он не лавировал, не выжидал, как развернутся события; он открыто встал на сторону солдат, и солдаты, видя, что он готов разделить с ними и вину, и славу, прониклись к нему уважением.
4. Прокуратор Корнелий Фуск пользовался почти такой же властью, как Антоний. Он тоже так часто и яростно нападал на Вителлия, что и у него не осталось никакой надежды на примирение с властями. Подозрительность солдат вызывал Тампий Флавиан[10]: он был медлителен, и по натуре, и из-за своего преклонного возраста, они же считали, что он сохраняет верность Вителлию, помня о своем родстве с ним. Кроме того, Флавиан в начале восстания бежал, потом неожиданно вернулся, и в этом тоже усматривали какой-то коварный умысел. Флавиан действительно уехал из Паннонии, вернулся в Италию и был уже вне всякой опасности, как вдруг снова принял звание легата и ринулся в гражданскую войну, отчасти из стремления к переменам, отчасти под влиянием Корнелия Фуска. Фуск же убеждал Флавиана присоединиться к восставшим не потому, что нуждался в его помощи, а для того чтобы имя консулярия придало вид законности зарождавшемуся движению.
5. Апонию Сатурнину[11] было отправлено письмо с просьбой привести возможно скорее войска из Мёзии, — их помощь позволила бы осуществить вторжение в Италию быстро и без потерь. Чтобы лишившиеся защиты провинции не подверглись нападению варваров, вождям сарматских язигов[12], правившим здешними племенами, предоставили возможность участвовать в войне. Они предложили также привести с собой своих людей и конницу, которая одна лишь и составляет подлинную боевую силу сарматов. Эта их услуга, однако, не была принята из опасения, что они воспользуются гражданской войной в своих целях, а может быть, и переметнутся к тем, кто больше заплатит. Повстанцам удалось привлечь на свою сторону королей свебов Сидона и Италика[13]. Свебы издавна отличались верностью Риму, и с людьми этого племени легче было договориться, обращаясь с ними не как с подчиненными, а как с союзниками. Один из флангов наступающей армии укрепили вспомогательными отрядами, так как из соседней Реции можно было ожидать нападения: прокуратор этой провинции[14] Порций Септимин сохранял неколебимую верность Вителлию. После всех этих приготовлений вперед был выслан Секстилий Феликс во главе аурианской кавалерии, восьми пеших когорт и ополчения, состоявшего из молодежи провинции Норик; он получил задание занять берег реки Эн[15], отделяющей Норик от Реции. Ни сам Феликс, ни противники его не стремились к сражению, и судьбам флавианской партии предстояло решаться далеко от этих мест.
6. Отобрав часть всадников, Антоний поспешно создавал из них конные отряды и набирал по когортам бойцов для вторжения в Италию. Ему помогал в этом Аррий Вар, известный как решительный командир, особенно прославившийся победами в Армении и своей службой под началом Корбулона. Говорили, впрочем, что именно он тайными наветами очернил доблестного Корбулона в глазах Нерона и в награду за подлость был назначен примипилярием; это добытое бесчестным путем звание на первых порах доставило ему много радости[16], но вскоре и погубило его. После того как Прим и Вар заняли Аквилею, все окрестные города, в частности Опитергий и Альтин[17], — с радостью открыли им свои ворота. В Альтине решили оставить гарнизон для защиты края от возможных нападений Равеннского флота, ибо весть о его измене Вителлию[18] в эту пору сюда еще не дошла. Патавий и Атесте[19] тоже вынуждены были перейти на сторону флавианцев. Здесь полководцы получили сведения о том, что три вителлианские когорты и конный отряд, известный под именем Себосианского, выстроили мост, открывавший им доступ к Форуму Алиенуму[20], и заняли этот город. Флавианцы знали, что солдаты расположившихся здесь когорт не ожидают нападения, сочли момент подходящим и на заре бросились в атаку на ничего не подозревавшего противника. Нападавшим было приказано убить лишь некоторых, остальных же заставить перейти на свою сторону. Действительно, нашлись солдаты, которые тут же сдались флавианцам, большинство, однако, предпочло уничтожить мост и закрыть дорогу наступавшему противнику. Война, таким образом, с самого начала принимала благоприятный для флавианцев оборот.
7. Весть об этой победе успела разнестись повсюду, когда седьмой Гальбанский легион и тринадцатый Сдвоенный в бодром и радостном настроении вступили во главе с легатом Ведием Аквилой в Патавий. Войскам дали несколько дней отдыха. Здесь же пришлось спасать от раздраженных солдат префекта лагерей седьмого легиона Муниция Юста, обращавшегося с легионерами более сурово, чем это допустимо в условиях гражданской войны, — его отправили к Веспасиану. Антоний приказал восстановить во всех городах изображения Гальбы, уничтоженные во время гражданских неурядиц. Мера эта, которой все давно и с нетерпением ожидали, пользовалась тем большей популярностью, что каждый на свой лад истолковывал причины, ее вызвавшие; Антоний же прибег к ней просто потому, что считал выгодным для своей партии, если люди станут говорить, будто флавианцы высоко ценят принципат Гальбы и возрождают его дело.
8. Затем стали искать место, где было бы удобнее всего развернуть военные действия. Выбор пал на Верону: поля, окружавшие этот город, хорошо подходили для маневров конницы, которая составляла главную силу наступавшей армии, отнять же у Вителлия богатую колонию казалось флавианцам делом, сулящим и выгоду, и славу. По пути к Вероне заняли Вицецию[21], небольшой муниципий со слабым гарнизоном, неожиданно приобретший, однако, немалое значение: здесь, как говорили, родился Цецина, и, захватив этот городок, повстанцы овладели родиной вражеского полководца. Подлинным торжеством явилось взятие Вероны, молва об этом событии и захваченные здесь богатства принесли флавианцам большую пользу; кроме того, их войска, проникнув в долину между Рецией и Юлиевыми Альпами, овладели горными проходами и закрыли доступ сюда германской армии. Веспасиан ничего не знал об этих действиях или был против них. Он велел войскам остановиться возле Аквилеи, ждать там Муциана и приводил доводы в пользу этого плана. Пока мы владеем Египтом, держим в руках ключ от житницы империи[22] и располагаем доходами от богатейших провинций, говорил он, мы можем принудить вителлианцев к сдаче, лишив их денег и продовольствия. О том же самом много раз писал Антонию и Муциан. Он утверждал, что можно добиться победы без крови и слез, приводил множество других подобных же доводов, в то время как на самом деле, снедаемый честолюбием, стремился единственно к тому, чтобы сохранить всю славу лишь за собой. Их письма, впрочем, проделывали столь долгий путь, что, когда они попадали в руки Антония, дело так или иначе оказывалось уже сделанным.
9. Внезапным набегом Антоний проник за аванпосты врага; после небольшой стычки, в которой обе стороны лишь прощупывали силы друг друга, противники, так и не добившись победы, разошлись. Вскоре после этого Цецина отстроил хорошо укрепленный лагерь между Гостилией, деревней неподалеку от Вероны, и болотистым берегом реки Тартар[23], в безопасном месте, прикрытом с тыла рекой, а с боков болотом. Если бы он хотел выполнять свой долг, он свободно мог разгромить соединенными силами вителлианцев оба легиона противника[24] до их соединения с мёзийской армией и не оставить им иного выхода, кроме отступления из Италии, позора и бегства. Вместо этого Цецина с самого начала позволил противнику захватить инициативу; имея все возможности изгнать флавианцев из Италии силой оружия, он довольствовался тем, что писал им грозные письма и медлил до тех пор, пока посланные им люди не договорились окончательно об условиях, на которых он соглашался предать Вителлия. Тем временем к флавианцам прибыл Апоний Сатурнин с седьмым Клавдиевым легионом. Командовал легионом трибун[25] Випстан Мессала, человек знатного рода, выдающихся достоинств и единственный, кто участвовал в этой воине по искреннему убеждению[26]. Этой-то армии, которая, располагая тремя легионами[27], была пока все еще слабее вителлианской, Цецина направил письмо, где упрекал противников в том, что после понесенного поражения они вновь безрассудно ввязываются в войну. В своем письме он восхвалял доблесть германских легионов, Вителлия упоминал лишь между прочим и не позволял себе никаких выпадов против Веспасиана, — словом, не делал ни малейшей попытки запугать врагов или перетянуть их на свою сторону. В ответном письме флавианские полководцы не стали оправдывать прошлые неудачи своей армии. Они с восторгом писали о Веспасиане, выражали уверенность в правоте своего дела и его конечном торжестве, заранее праздновали победу над Вителлием, которого объявляли своим заклятым врагом. Флавианцы намекали, что перешедшим на их сторону трибунам и центурионам будут сохранены привилегии, пожалованные им Вителлием, и без всяких обиняков призывали Цецину к измене. Оба письма были прочитаны на сходке и только укрепили солдат в том мнении, что Цецина решил не оказывать настоящего сопротивления и поэтому старается ничем не задеть Веспасиана, а что их собственные вожди презирают своих противников и Вителлия, их императора.
10. Вскоре к восставшим прибыли еще два легиона — третий во главе с Диллием Апонианом и восьмой под командованием Нумизия Лупа[28]. Чтобы показать всем, какие несметные силы собрались под Вероной, было решено соорудить укрепленный вал вокруг всего города. Солдатам Гальбанского легиона досталась работа на участке, ближе всего подходившем к неприятельским позициям. Заметив вдали отряд союзнической конницы, они приняли его за противника, решили, что их предали, и, придя в ужас от опасности, которую сами выдумали, схватились за оружие. Ярость солдат обратилась против Тампия Флавиана. Никаких оснований для этого не было, но легионеры были давно уже злы на него и, охваченные безрассудным гневом, стали требовать его казни. Они кричали, что Флавиан — родственник Вителлия, что он предал Отона и захватил деньги, присланные для раздачи солдатам. Разорвав на себе одежды, содрогаясь от рыданий, Флавиан простирался на земле перед легионерами, с мольбой протягивая к ним руки. Никто не слушал его оправданий: солдаты считали, что такой страх может испытывать только человек с нечистой совестью, и озлоблялись еще больше. Апоний пытался говорить, но рев толпы заглушил его голос. Слова других командиров тоже тонули в общем крике и грохоте оружия. Солдаты согласились выслушать только Антония; он один обладал нужным красноречием и умением ладить с чернью, один внушал настоящее уважение. Видя, что бунт разгорается и что мятежники готовы перейти от крика и брани к драке и резне, он приказал заковать Флавиана в кандалы, но солдаты учуяли подвох[29] и, охваченные жаждой крови, бросились к трибуналу[30], разогнав стражу, его охранявшую. Тогда Антоний сорвал с пояса меч и, подставив грудь ударам солдат, стал клясться, что, если его не зарубят, он покончит с собой сам. Он обращался к самым известным и отличившимся в боях легионерам, называя их по именам, и требовал, чтобы они убили его. Повернувшись к боевым значкам с изображениями богов[31], Антоний молил их вдохнуть бешенство и дух раздора, владеющие его армией, в сердца неприятелей, молил до тех пор, пока бунт не начал иссякать. День клонился к вечеру, и солдаты разошлись по своим палаткам. Той же ночью Флавиан выехал из лагеря. По дороге он встретил гонцов, везших в армию письмо Веспасиана. Письмо это отвлекло внимание солдат и избавило Флавиана от опасности.
11. Будто чума охватила легионы: вслед за паннонской восстала против своего легата мёзийская армия. Солдаты здесь не были утомлены целым днем работы[32], — бунт вспыхнул около полудня под влиянием распространившегося слуха о письме, которое легат мёзийских легионов Апоний Сатурнин якобы написал Вителлию. Когда-то воины состязались между собой в доблести и послушании, теперь они старались превзойти друг друга дерзостью и преследовали Апония с тем же яростным упорством, с каким только что требовали казни Флавиана. Солдаты из Мёзии напоминали паннонским легионам о поддержке, которую оказали им в преследовании Флавиана; паннонские же войска, видя, что другие тоже бунтуют и это как бы освобождает их от ответственности, устремились на поддержку мёзийцев и, готовые на новые преступления, вместе с ними ворвались в парк, окружавший виллу Сатурнина. Хотя Антоний, Апониан и Мессала пытались сделать все, что могли, им не удалось бы спасти Сатурнина, если бы он сам не спрятался в таком месте, где никому не могло прийти в голову его искать, — в печи одной из бань, в ту пору случайно не топившейся. Вскоре затем он, бросив своих ликторов[33], бежал в Патавий. После отъезда консуляриев[34] Антоний оказался полновластным хозяином обеих армий, — товарищи и так уступали ему первое место, солдаты любили и уважали только его. Были люди, считавшие, что Антоний сам подстроил оба бунта, чтобы все плоды победы достались ему одному.
12. В стане вителлианцев тоже царили распри, тем более опасные, что порождали их не бессмысленные подозрения черни, а коварные интриги полководцев. Моряки Равеннского флота были в большинстве своем родом из Далмации и Паннонии, т.е. из провинций, находившихся под властью Веспасиана, и префекту флота Луцилию Бассу[35] без труда удалось склонить их на сторону этого государя. Заговорщики наметили ночь для выступления и решили, что они одни, никого ни о чем не предупреждая, сойдутся в условленный час на центральной площади лагеря. Басс, то ли мучимый стыдом, то ли неуверенный в исходе затеваемого предприятия, остался дома, выжидая, чем кончится дело. Триерархи[36], крича и гремя оружием, набросились на изображения Вителлия и перебили тех немногих, кто пытался оказать им сопротивление; остальная масса, движимая обычной жаждой перемен, сама перешла на сторону Веспасиана. Тогда-то Луцилий выступил на сцену и признался, что заговор устроил он. Моряки выбрали себе в префекты Корнелия Фуска, который, едва узнав об этом, спешно прибыл во флот. Басс, в сопровождении почетного эскорта из либурнских кораблей, направился в Атрию[37], где префект конницы Вибенний Руфин, командовавший гарнизоном города, немедленно посадил его в тюрьму. Правда, его тут же освободили благодаря вмешательству вольноотпущенника Цезаря Горма, — оказывается, и он входил в число руководителей восстания.
13. Узнав, что флот изменил Вителлию, Цецина дождался времени, когда большинство солдат было разослано на работы, и собрал на центральной площади лагеря несколько легионеров и самых заслуженных центурионов, якобы для того, чтобы обсудить кое-какие вопросы, не подлежащие разглашению. Здесь он заговорил о доблести Веспасиана и мощи его сторонников, о том, что флот перешел на его сторону, об угрозе голода, нависшей над вителлианской армией; рассказал о положении в галльских и испанских провинциях, готовых выступить против принцепса, о настроении в Риме, где вителлианцам тоже не на кого положиться; напомнил о слабостях и пороках Вителлия и начал поспешно приводить присутствующих к присяге Веспасиану — те, кто знали все заранее, присягнули первыми, остальные, ошеломленные неожиданностью, последовали их примеру. Изображения Вителлия были тут же сорваны с древков, к Антонию отправлены гонцы с сообщением о случившемся. Весть об измене вскоре распространилась. Сбежавшиеся солдаты, увидев надписи с именем Веспасиана[38] и валяющиеся на земле изображения Вителлия, остановились в молчании, но тут же разразились яростными криками. «Так вот где суждено закатиться славе германской армии! Сдать оружие, позволить связать себе руки, без боя, без единой раны? Кому сдаваться — легионам, над которыми мы же сами одержали победу? Даже не первому, не четырнадцатому — единственным в отонианской армии, с кем стоит считаться, хотя мы и их били, били на этих же самых полях, на которых сейчас стоим. Допустить, чтобы тысячи вооруженных солдат пригнали, словно стадо наемников, в подарок ссыльному преступнику[39] Антонию? Подарить ему восемь легионов вдобавок к его одной-единственной эскадре? Это все Басс с Цециной… Мало им домов, садов, денег, которые они накрали у Вителлия, теперь они хотят украсть у принцепса армию, а у армии принцепса. Мы не потеряли ни одного человека, не пролили ни капли крови, — даже флавианцы станут нас презирать; а что мы скажем тем, кто спросит нас об одержанных победах, о понесенных поражениях?».
14. Так кричали солдаты, так кричала вся охваченная скорбью армия. Сначала пятый легион, а за ним и остальные снова нацепили на свои знамена изображения Вителлия. Цецину заковали в кандалы. Армия выбрала полководцами легата пятого легиона Фабия Фабулла и префекта лагеря Кассия Лонга. Легионеры набросились на случайно встретившихся им, ничего не понимавших и ни в чем не повинных солдат с трех либурнских кораблей и изрубили их в куски. Уничтожив мосты[40], армия выступила из лагеря на Гостилию, а оттуда — в Кремону, на соединение с первым Италийским и двадцать первым Стремительным легионами, которые Цецина еще раньше отправил вместе с частью конницы вперед, чтобы занять этот город.
15. Услышав об этих событиях, Антоний решил напасть на вителлианцев теперь же, пока войска их охвачены брожением и разделены на части. Он опасался, что с течением времени полководцы противника сумеют вновь овладеть положением, их солдаты опять начнут подчиняться приказам и вся вражеская армия снова обретет уверенность в своих силах. Антоний догадывался, что Фабий Валент уже выехал из Рима и, узнав об измене Цецины, постарается возможно скорее прибыть в армию, а Валент был опытный военачальник и предан Вителлию. Антоний знал, кроме того, что через Рецию на него угрожают ринуться значительные силы германцев[41], что Вителлий еще раньше начал стягивать резервы из Британии, Галлии и Испании и что если сейчас не дать бой и не добиться победы, то война обрушится на него всей своей тяжестью. Он вывел всю армию из Вероны и после двух дней пути остановился возле Бедриака. На следующее утро легионы получили приказ заняться укреплением лагеря. Вспомогательные войска Антоний послал в окрестности Кремоны: под предлогом фуражировки он хотел дать солдатам пограбить и приохотить их таким образом к гражданской войне. Сам он с четырьмя тысячами всадников выехал к восьмому мильному камню от Бедриака, чтобы заняться грабежом, не мешая другим. Как обычно, на большое расстояние вокруг были разосланы патрули.
16. Шел пятый час дня[42], когда прискакавший во весь опор верховой сообщил Антонию, что противник начал наступление, на пути его находится лишь несколько человек и со всех сторон доносится шум движущейся армии и грохот оружия. Пока Антоний советовался с окружающими, Аррий Вар, нетерпеливо искавший случая показать себя, врезался с лучшими своими конниками в строй вителлианцев и заставил их отступить. Едва он начал рубить, врага, как к вителлианцам подоспели новые силы, положение изменилось, и те, что наступали первыми, оказались в хвосте обратившегося в бегство отряда. Антоний предвидел, что из затеи Вара ничего не получится и теперь не спешил прийти ему на помощь. Он обратился к своим солдатам с краткой речью, призвал их мужественно встретить врага и велел рассыпаться по обеим сторонам дороги, чтобы оставить свободный проход конникам Вара. Легионам был дан приказ готовиться к бою, тем, кто находился на соседних виллах, — прекратить грабеж и присоединиться к ближайшему отряду. Тем временем в панике несшиеся обратно конники Вара ворвались в ряды своих же отрядов, сея смятение и страх, сталкиваясь на узких тропинках со своими еще не вступившими в бой товарищами.
17. В этом переполохе Антоний делал все, что подобает опытному командиру и храброму солдату. На глазах врагов и своих он бросается навстречу бегущим, удерживает колеблющихся; всюду, где нависает опасность, всюду, где брезжит надежда, мелькает его фигура, раздаются его распоряжения, слышится его голос. Охваченный воодушевлением, он пронзает копьем убегающего знаменосца, выхватывает у него вымпел и устремляется на врага. Увидев это, около сотни всадников, устыдившись своего бегства, поворачивают коней. Сама природа помогла Антонию: дорога, все более сужаясь, уперлась, наконец, в реку, мост через реку был разрушен, берега круты и русло неизвестно. Бегущие остановились. То ли они поняли, что нет другого выхода, то ли сама судьба им помогла, но они снова овладели положением. Поставив лошадей вплотную одна к другой, они ожидали противника. Мчавшиеся врассыпную вителлианцы налетели на сомкнутые ряды и покатились обратно. Антоний бросился преследовать бегущих, поражая мечом всех, кто оказывал сопротивление. Солдаты пустились грабить, вязать пленных, захватывать оружие и лошадей, — кому что больше было по вкусу и по нраву. Услыхав крики радости, вернулись и вмешались в ряды победителей даже беглецы, попрятавшиеся было на соседних полях.
18. Вдруг на дороге к Кремоне засверкали значки легионов — это Стремительный и Италийский, услышав о первых успехах своей конницы, двинулись вперед и дошли до четвертого камня от города. Однако они не сумели, когда положение изменилось, ни перестроить свои ряды, ни расступиться, чтобы пропустить отступавших всадников, ни перейти в атаку, а уж тем более опрокинуть врага, хоть он и был ослаблен боем и длительным маршем[43]. Оба легиона выступили самовольно, и пока дела шли успешно, даже не вспоминали о своих полководцах, но когда над ними нависла угроза поражения, они пожалели, что командиров с ними нет. Строй их дрогнул, в этот момент на них обрушилась кавалерия, а следом за ней трибун Випстан Мессала со вспомогательными отрядами из Мёзии, которые даже после проделанного форсированного марша мало чем уступали легионам. Соединившись, пехота и кавалерия флавианцев прорвали строй легионов. Кремона была рядом. Легионеры понимали, что за ее стенами легко скрыться от поражения, и не очень старались отразить атаку врага. Антоний тоже не стал двигаться дальше: в течение этого дня, в конце концов все-таки принесшего победу флавианцам, боевое счастье столько раз обманывало их, что теперь они были ослаблены потерями и измучены усталостью.
19. Под вечер прибыли основные силы флавианской армии. Увидав горы трупов и следы только что разыгравшегося сражения, солдаты решили, будто война кончена, и стали требовать, чтобы их вели на Кремону — принимать капитуляцию противника или брать город штурмом. Все вместе они повторяли эти красивые слова, про себя же каждый думал совсем другое: «Колония лежит на равнине, и захватить ее внезапным налетом нетрудно. Что днем, что ночью — мужество от нас потребуется то же, а грабить в темноте свободнее. Если дождаться дня, пойдут мольбы и просьбы, разговоры о мире, за все труды, за всю кровь нам достанутся только пустая слава и никчемная репутация великодушных воинов, а богатства Кремоны прикарманят префекты да легаты. Каждый ведь знает, что если город взят, добыча принадлежит солдатам, если он сдался — командирам». Солдаты не давали говорить центурионам и трибунам, заглушали их слова звоном оружия, потрясали мечами и копьями, угрожая поднять бунт, если их не поведут на Кремону.
20. Тогда Антоний вошел в гущу толпы. Вид его и почтительный страх, который он всегда вызывал, заставили солдат затихнуть. «Я не хочу лишать вас ни почестей, ни добычи, столь вами заслуженных, — начал он. — Но существует разделение обязанностей: дело воинов — стремиться к бою, дело командиров — не торопиться, служить армии не пылкостью, а проницательностью и зрелым размышлением. Как простой солдат, с оружием в руках, я внес свой вклад в нашу сегодняшнюю победу; теперь я должен помочь ей, как подобает полководцу, — умом и знаниями. Кругом ночь, расположение города нам неизвестно, враг укрыт за стенами, на каждом шагу нас подстерегают ловушки, — не ясно ли, что нас ждет, если мы сейчас двинемся на Кремону? Даже среди бела дня, даже если бы ворота Кремоны стояли распахнутые, и тогда нельзя было бы входить в город, не выяснив все заранее. Разве можно идти на штурм, не зная условий местности, высоты стен, не решив, достаточно ли будет одних баллист и стрел или придется строить навесы и осадные машины?». Антоний обращался то к одному, то к другому солдату и спрашивал, взяли ли они топоры, захватили ли лопаты, есть ли у них с собой все прочие орудия, необходимые для осадных работ; слыша отовсюду отрицательные ответы, он продолжал: «Вы что же, собираетесь подкапывать стены мечами и долбить их дротами? А если понадобится насыпать валы, плести щиты и фашины, чтобы было где скрыться? Если мы ничего не предусмотрим, нам останется только стоять толпой под стенами вражеского города и бессмысленно глазеть на его башни и укрепления. Разве не лучше выждать одну ночь, но зато явиться туда с машинами и осадными орудиями, уверенными в своих силах и в предстоящей победе?». Он тут же послал в Бедриак за продовольствием и необходимым снаряжением обозных слуг и тех конников, что были меньше других утомлены дневным сражением.
21. Всякая отсрочка казалась солдатам невыносимой, и в армии готов был вспыхнуть бунт, но тут всадники, выехавшие под стены города, захватили нескольких случайно там оказавшихся жителей Кремоны. Жители эти рассказали, что шесть вителлианских легионов и остальные войска, стоявшие в Гостилии[44], совершили за один день переход в тридцать миль; только что узнали о понесенном поражении, начали готовиться к бою и вот-вот должны появиться. Эта страшная весть убедила солдат послушаться своего полководца. Антоний приказал тринадцатому легиону остаться на насыпи Постумиевой дороги, слева, вплотную к ней, в открытом поле, расположил седьмой Гальбанский и еще левее, использовав в качестве естественного прикрытия проходившую здесь канаву, — седьмой Клавдиев. Справа от дороги, с незащищенной стороны, встал восьмой легион, за ним в рощице — третий. В таком порядке располагались только орлы легионов и значки когорт; солдаты в темноте не могли найти свои легионы и становились в ряды той части, которая оказывалась поблизости. Отряд преторианцев[45] поместился возле третьего легиона, вспомогательные когорты — на флангах, конница прикрывала армию с боков и с тыла; перед строем передвигались отборные бойцы из свебского ополчения во главе со своими вождями — Сидоном и Италиком.
22. Вместо того чтобы, как то подсказывал здравый смысл, переночевать в Кремоне, восстановить свои силы сном и едой, а наутро разгромить голодного и промерзшего противника, вителлианская армия, лишенная руководства[46], не имевшая никакого плана действий, в третьем часу ночи[47] обрушилась на флавианцев, в боевом строю ожидавших нападения. В темноте взволнованные и раздраженные солдаты сбили строй легионов, и я не берусь описать, в каком порядке располагались части вителлианской армии. Некоторые, правда, рассказывают, будто на правом фланге находился четвертый Македонский легион, в центре — пятый и пятнадцатый с приданными им отдельными подразделениями британских легионов — девятого, второго и двадцатого, на левом фланге — шестнадцатый, двадцать второй и первый. Солдаты Стремительного и Италийского легионов разбрелись по чужим манипулам[48], конные отряды и вспомогательные когорты встали туда, куда им заблагорассудилось. Всю ночь кипел жестокий бой, всю ночь то одной, то другой армии грозила гибель, то в ту, то в другую сторону клонилось коварное, переменчивое военное счастье. Ни доблестный дух, ни могучая рука, ни острый глаз, ясно видевший приближающуюся опасность, — ничто не спасало от неминуемой смерти: вооружение солдат — одинаковое у своих и у врагов, пароль обеих армий известен каждому, столько раз приходилось его спрашивать и кричать в ответ; вымпелы, которые противники без конца отбивали друг у друга, перемешались. Хуже всего пришлось недавно созданному Гальбой седьмому легиону. Здесь было убито шестеро первых центурионов, захвачены значки нескольких когорт, даже орел легиона едва не попал в руки врага. Его спас центурион первой пилы Атилий Вер[49], нагромоздивший вокруг себя груду вражеских трупов и под конец погибший сам.
23. Чтобы поддержать колеблющийся строй своих легионов, Антоний вызвал преторианцев. Они отвлекли на себя основные силы противника и обратили его в бегство, но вскоре сами были отброшены. Дело в том, что вителлианцы сосредоточили на дорожной насыпи метательные орудия и теперь в упор расстреливали врагов; прежде их орудия стояли в разных местах и стреляли по зарослям, в которых противника не было. Невиданных размеров баллиста шестнадцатого легиона извергала огромные камни, прорывавшие брешь в рядах противников. Она погубила бы еще больше народу, если бы не славный подвиг, на который отважились двое солдат: подобрав щиты мертвых вителлианцев, они прокрались, никем не узнанные, к самой баллисте и перерубили скрученные тяжи и канаты[50]. Оба были тут же убиты, и имена их до нас не дошли, но того, что они сделали, не отрицает никто. Поздней ночью взошла луна и озарила своим обманчивым светом ряды сражающихся, а исход битвы все еще не был ясен. К счастью для флавианцев, луна вставала у них за спиной, от коней и бойцов ложились длинные тени, и в эти-то тени, принимая их за людей, метали враги свои дроты и стрелы. Вителлианцам же луна светила в лицо, и они были хорошо видны противнику, поражавшему их из темноты.
24. В лунном свете Антоний увидел свои легионы, и легионы увидели его. Он обратился к войскам, порицая и стыдя одних, хваля и ободряя других, внушая надежду и раздавая обещания всем. Солдат паннонской армии он спрашивал, зачем они взялись за оружие, напоминал, что только здесь, на этих полях, могут они смыть с себя позор[51] и вернуть свою былую славу. «Вы зачинщики войны, — говорил он мёзийским войскам[52]. — Зачем вы угрожали вителлианцам, оскорбляли их, вызывали на бой, если теперь не только не имеете сил выдержать их натиск, но дрожите при одном взгляде на них?». Так обращался Антоний к каждому легиону. Дольше всех говорил он с солдатами третьего, говорил о подвигах былых времен, о недавних победах, напоминая, как под водительством Марка Антония[53] они разгромили парфян[54], как вместе с Корбулоном нанесли поражение армянам[55], как только что разбили сарматов. Еще более суровой и грозной была его речь к преторианцам: «Упустите победу сейчас, и никогда больше вам не видать Рима. Какой император возьмет вас на службу? Какой лагерь откроет вам свои ворота? Вот ваши знамена, вот ваше оружие. Потеряете вы их — и одна только смерть останется вам, ибо позор вы уже испили до дна»[56]. В это время поле загремело от крика: солдаты третьего легиона по обычаю, усвоенному ими в Сирии, приветствовали восходящее солнце[57].
25. Многие, однако, решили, что то прибыли войска Муциана и что приветственные клики относились к ним; может быть, сам Антоний нарочно распустил этот слух. Солдаты ринулись в бой, будто и в самом деле получили подкрепление. Вителлианцы к этому времени уже понесли тяжелые потери: командующего у них не было, и каждый действовал на свой лад — люди мужественные теснее сплачивали ряды, трусы разбегались. Почувствовав, что вителлианцы дрогнули, Антоний бросил на них свои сомкнутым строем двигавшиеся когорты. Ряды вителлианцев оказались прорванными, солдаты, не в силах восстановить их, метались среди повозок и машин. Увлеченные преследованием победители устремились вперед по обочинам дороги. Началась резня, которая до сих пор памятна многим, — один из воинов погиб в ней от руки собственного сына. Я передаю эту историю и имена действовавших в ней лиц так, как описал ее Випстан Мессала. Юлий Мансуэт, родом из Испании, был призван и проходил службу в рядах Стремительного. Дома он оставил малолетнего сына, который вскоре подрос, был мобилизован Гальбой в сформированный им седьмой легион и теперь, случайно встретив Мансуэта на поле боя, смертельно его ранил: обшаривая распростертое тело, он узнал отца, и отец узнал сына. Обняв умирающего, жалобным голосом стал он молить отцовских манов не считать его отцеубийцей, не отворачиваться от него. «Все, а не я, — взывал он, — повинны в этом злодеянии. Что может сделать один солдат, ничтожная частица бушующей повсюду гражданской войны?». Он тут же выкопал яму, на руках перенес к ней тело и воздал отцу последние почести. Это сначала привлекло внимание тех, кто находился поблизости, потом остальных. Вскоре по всей армии только и слышались возгласы удивления и ужаса, все проклинали безжалостную войну, но каждый с прежним остервенением убивал и грабил близких, родных и братьев, повторял, что это преступление, — и снова совершал его.
26. Под Кремоной наступающих ждали новые, едва одолимые препятствия. Еще во время отонианской войны[58] солдаты германской армии окружили стены города своими лагерями, обнесли их валами, а на валах возвели еще дополнительные укрепления. Увидев эти оборонительные сооружения, воины-победители заколебались, командиры не знали, что им приказывать. Начинать осаду было едва ли по силам войску, утомленному дневным маршем и ночным боем, да и успех ее представлялся сомнительным, так как никаких резервов под руками не было; возвращаться в Бедриак — значило не только обречь армию на мучительный бесконечный переход, но и оставить нерешенным исход сражения; сооружать лагерь в непосредственной близости от вителлианцев было рискованно: враги могли внезапно напасть на рассеянных по равнине и занятых работой легионеров. Больше всего, однако, беспокоило командиров настроение солдат: они готовы были вынести любые опасности, но не допускали и мысли о промедлении, всякая мера предосторожности вызывала у них раздражение, только безрассудная дерзость сулила надежду, алчность и страсть к добыче заставляли забывать о смерти, ранах и крови.
27. Антоний не стал спорить с солдатами и приказал охватить полукругом валы лагеря. Сначала бой шел на расстоянии, обе армии осыпали друг друга камнями и стрелами, к великому урону для флавианцев, которые стояли внизу под валами и потому представляли для противника отличную мишень. Тогда Антоний распределил участки вала и лагерные ворота между отдельными легионами; он рассчитывал, что соперничество заставит солдат сражаться еще лучше, а ему так будет виднее, кто ведет себя мужественно и кто трусит. Третий и седьмой легион взяли на себя ту часть вала, что примыкала к бедриакской дороге, восьмой и седьмой Клавдиев встали правее, тринадцатый устремился к Бриксийским воротам[59]. Наступило короткое затишье: солдаты свозили с соседних полей мотыги и заступы, тащили лестницы и длинные шесты с укрепленными на концах железными крючьями. Но вот бойцы выстроились тесными рядами вплотную друг к другу, взметнулись над головами щиты, и черепаха[60] двинулась к валу. Однако обе стороны владели римским искусством ведения боя: вителлианцы обрушили на наступавших огромные камни, панцирь черепахи закачался, изогнулся и треснул, вителлианцы стали вонзать в щели дроты и копья: крыша из щитов распалась, и груды растерзанных трупов покрыли землю. И снова наступило затишье. Ни приказы, ни подбадриванья не действовали больше на обессиленных солдат. Тогда полководцы указали солдатам на Кремону и пообещали отдать им город на разграбление.
28. Прав ли Мессала, утверждающий, будто план этот придумал Горм[61], или следует больше полагаться на слова Гая Плиния[62], который обвиняет во всем Антония, — решить нелегко; и Горм, и Антоний давно забыли, что такое порядочность и честь, и оба были готовы на самые ужасные преступления. Ни кровь, ни раны не могли больше удержать солдат. Они подкапывают валы, таранят ворота, снова строят черепаху и по щитам, образующим ее панцирь, по спинам товарищей устремляются на вителлианцев, вырывают у них оружие, хватают их за руки. Мертвые скатываются во рвы, увлекая живых, истекающие кровью цепляются за раненых и стаскивают их за собой. Многоликая смерть обращает к гибнущим то одно, то другое свое лицо.
29. Главную тяжесть боя, соревнуясь в храбрости, приняли на себя третий и седьмой легионы. Антоний со вспомогательными войсками устремился им на помощь. Вителлианцы не выдержали столь упорного натиска; видя, что их дроты отскакивают от панциря черепахи, они обрушили на нападающих баллисту. Машина раздавила множество солдат и на мгновенье расстроила их ряды, но, падая, увлекла за собой верхнюю площадку вала и зубцы, ее прикрывавшие. Одновременно под градом камней осела стоявшая рядом башня. В образовавшуюся брешь устремились, построившись клиньями, солдаты седьмого легиона. В это же время третий легион топорами и мечами разбил ворота. Первым ворвался в лагерь, как утверждают в один голос все авторы, солдат третьего легиона Гай Волузий. Разбросав тех, кто еще сопротивлялся, он взбежал на вал и, вставши там на виду у всех, объявил, что лагерь взят. За ним, в то время как охваченные паникой вителлианцы скатывались с вала, последовали остальные. На всем пространстве между лагерем и стенами Кремоны шла кровопролитная резня.
30. И снова сражение изменило свой облик. Перед наступающими выросли высокие стены города, каменные башни, ворота, запертые окованными железом брусьями. На стенах стояли солдаты и потрясали дротами. Многочисленные жители Кремоны все были преданны Вителлию; в эти дни там к тому же была ярмарка, на которую съехался народ почти со всей Италии, — защитники города считали приезжих своим резервом, и это питало их веру в победу, нападающие видели в них свою добычу и еще яростнее рвались к грабежу. Антоний приказал захватить и поджечь лучшие здания, расположенные вне города, так как надеялся, что кремонцы, опасаясь за свое имущество, перейдут на его сторону. На крышах домов, расположенных поблизости от городских стен и возвышавшихся над ними, он разместил во множестве лучших своих солдат. Они бросали в вителлианцев бревна, черепицу, зажженные факелы, стараясь прогнать защитников Кремоны со стен.
31. Легионы уже строили черепаху, а солдаты вспомогательных войск метали в противника дроты и камни. Мужество вителлианцев мало-помалу начало слабеть. Первыми отказались от сопротивления командиры: они понимали, что после взятия города у них не останется надежд на прощение и что вся ярость победителей обратится не на бедняков солдат, а на трибунов и центурионов, у которых есть чем поживиться. Рядовые были настроены более решительно: как люди подневольные, они не подвергались особой опасности, а будущее их не заботило. Однако и они давно разбрелись по улицам Кремоны, отсиживались в домах обывателей; мира они не просили, но воевать по сути дела перестали. Префекты лагерей попрятали изображения Вителлия и старались не упоминать его имени. С Цецины, которого до сих пор держали в кандалах, сняли оковы, и командиры стали просить его заступиться за них перед флавианцами. Цецина отказывался, чванился, они принялись плакать и умолять его. Что может быть отвратительнее такого зрелища — толпа доблестных воинов молит предателя о защите? Вскоре на стенах показались обвитые лентами масличные ветви, замелькали священные головные повязки. Антоний приказал опустить дроты; из города вынесли орлов легионов и значки когорт; следом, опустив головы и глядя в землю, шли удрученные безоружные солдаты. Победители окружили их, посыпались проклятья, угрозы. Побежденные, забыв о былой заносчивости, молча, покорно выслушивали оскорбления. Видя это, флавианцы вспомнили, что перед ними те самые люди, которые совсем недавно одержали победу у Бедриака и проявили столько умеренности и снисходительности. Но в ту же минуту ярость и возмущение снова охватили их: в воротах города показался Цецина, со знаками консульского достоинства — в претексте[63], окруженный ликторами, разгонявшими толпу. Обвинения в высокомерии, жестокости и даже — такую лютую ненависть вызывают у людей изменники — в предательстве полетели со всех сторон. Антоний приказал солдатам молчать и под конвоем отправил Цецину к Веспасиану.
32. Между тем жители Кремоны в ужасе метались по улицам, наводненным вооруженными воинами. Резня чуть было не началась, но командирам удалось уговорить солдат сжалиться. Антоний собрал войска на сходку и обратился к ним с речью, в которой воздал хвалу победителям, милостиво отозвался о побежденных и не сказал ничего определенного о жителях города. Солдаты, однако, были движимы не только обычной жаждой грабежа, — легионеры издавна ненавидели жителей Кремоны и рвались перебить их всех. Считалось, что еще во время отонианской войны они поддерживали Вителлия; солдаты тринадцатого легиона, оставленные в свое время в городе для сооружения амфитеатра[64], не забыли шуток и оскорблений, которых им пришлось тогда наслушаться от распущенной как всегда городской черни; флавианцев возмущало, что здесь, в Кремоне, Цецина устраивал свои гладиаторские бои[65]; они приходили в ярость при воспоминании о том, что именно тут дважды происходили кровопролитные сражения, жители выносили пищу сражающимся вителлианцам и даже кремонские женщины принимали участие в битве, — до того велика была их преданность Вителлию. Сыграла свою роль и происходившая в городе ярмарка: благодаря ей колония, и без того зажиточная, выглядела сказочно богатой. Позже виноватым за все здесь случившееся оказался в глазах людей один Антоний, остальные полководцы сумели остаться в тени. Сразу же после боя Антоний поспешил в баню, чтобы смыть покрывавшую его кровь; вода оказалась недостаточно теплой, он рассердился, кто-то крикнул: «Сейчас поддадим огня!». Слова эти, принадлежавшие одному из домашних рабов, приписали Антонию, истолковав их так, будто он приказал поджечь Кремону, и общая ненависть обратилась на него; на самом же деле, когда он находился в бане, колония уже пылала.
33. Сорок тысяч вооруженных солдат вломились в город, за ними — обозные рабы и маркитанты, еще более многочисленные, еще более распущенные. Ни положение, ни возраст не могли оградить от насилия, спасти от смерти. Седых старцев, пожилых женщин, у которых нечего было отнять, волокли на потеху солдатне. Взрослых девушек и красивых юношей рвали на части, и над телами их возникали драки, кончавшиеся поножовщиной и убийствами. Солдаты тащили деньги и сокровища храмов, другие, более сильные, нападали на них и отнимали добычу. Некоторые не довольствовались богатствами, бывшими у всех на виду, — в поисках спрятанных кладов они рыли землю, избивали и пытали людей. В руках у всех пылали факелы, и, кончив грабеж, легионеры кидали их, потехи ради, в пустые дома и разоренные храмы. Ничего не было запретного для многоязыкой многоплеменной армии, где перемешались граждане, союзники и чужеземцы[66], где у каждого были свои желания и своя вера. Грабеж продолжался четыре дня. Когда все имущество людей и достояние богов сгорело дотла, перед стенами города продолжал выситься один лишь храм Мефитис[67], сохранившийся благодаря своему местоположению или заступничеству богини.
34. Так, на двести восемьдесят шестом году своего существования, погибла Кремона. Ее основали в те времена, когда в Италию вторгся Ганнибал, при консулах Тиберии Семпронии и Публии Корнелии[68], как передовую крепость, выдвинутую против транспаданских галлов и других народов, которые могли нахлынуть из-за Альп. Впоследствии благодаря притоку колонистов, удачному расположению на водных путях, плодородию почвы, мирным отношениям и родственным связям с окружающими племенами город окреп и расцвел. Внешние войны его не коснулись, гражданские же принесли горести и беды[69]. Антоний, стыдясь преступлений, которым он потворствовал, чувствуя, что ненависть к нему все растет, издал приказ, запрещающий кому бы то ни было держать в неволе жителей Кремоны. Пленные эти оказались для солдат невыгодной добычей, так как вся Италия единодушно и с отвращением отказывалась покупать рабов, захваченных таким образом. Солдаты стали их убивать; прослышав об этом, родные и друзья начали тайком выкупать своих близких. Вскоре потянулись на прежние места уцелевшие жители, вновь зашумели рынки, отстраивались разрушенные храмы. Щедрую помощь оказывали Кремоне соседние муниципии, и Веспасиан со своей стороны поощрял жителей восстанавливать город.
35. Пока что, однако, вокруг победителей расстилалась дышащая миазмами земля[70], и долго оставаться в погребенном под развалинами городе было невозможно. Встав лагерем возле третьего камня от Кремоны, солдаты ловили разбредшихся по всей округе перепуганных вителлианцев и возвращали каждого в его когорту. В условиях продолжающейся гражданской войны эти разбитые легионы могли вновь стать опасными, и поэтому их разбросали по всему Иллирику. Флавианцы решили, что не одни гонцы, но и молва донесут весть о победе до испанских провинций, а затем и до Британии; в Галлию был послан трибун Юлий Кален, в Германию — префект когорты Альпиний Монтан. Вестников выбирали с расчетом произвести вящее впечатление на жителей этих провинций: Кален был эдуй, Монтан — тревир, и оба в прошлом — вителлианцы. В альпийских проходах расположились сторожевые заставы, дабы из Германии никто не мог прийти на помощь Вителлию.
36. Между тем Вителлий через несколько дней после отъезда Цецины сумел выпроводить из Рима на театр военных действий и Фабия Валента, и теперь, стараясь забыть обрушившиеся на него беды, предавался роскоши и развлечениям. Он даже не помышлял о том, чтобы обеспечить себя оружием, закалить армию перед предстоящими боями, обратиться к солдатам с речью, показаться народу. Укрывшись в тени своих садов, подобный бессмысленным животным, которые, едва насытятся, погружаются в оцепенение, Вителлий не заботился ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Вялый, неподвижный, сидел он в Арицийской роще[71], когда пришла весть о предательстве Луцилия Басса и переходе Равеннского флота на сторону Веспасиана. Через некоторое время ему доложили о том, что случилось с Цециной[72]. Это известие одновременно и огорчило, и обрадовало Вителлия: его удручало, что Цецина ему изменил, но рассказ о том, что солдаты заковали Цецину в кандалы, доставил ему удовольствие. В этой ничтожной душе приятные впечатления всегда заслоняли серьезные. С великим ликованием Вителлий возвратился в Рим и на многолюдном собрании граждан воздал солдатам хвалу за проявленную ими верность, приказал заточить в тюрьму префекта претория Публилия Сабина[73], который был дружен с Цециной, и назначил на его место Алфена Вара[74].
37. Некоторое время спустя он выступил в сенате с тщательно составленной пышной речью, и сенаторы осыпали его выражениями самой льстивой преданности. На Цецину обрушились все, первым — Луций Вителлий[75], за ним остальные. Старательно разыгрывая возмущение, они клеймили консула, предавшего республику, полководца, изменившего своему императору, предателя, обманувшего друга, который осыпал его богатствами и почестями. Каждый сетовал на обиды, нанесенные Вителлию, но в глубине души думал лишь с себе. Никто из выступавших не позволил себе никаких резкостей по адресу Веспасиана, говорили о заблуждении, в которое впали солдаты, о неосмотрительности, ими проявленной, и тщательно избегали упоминать имя, бывшее у всех на уме. Срок консульства Цецины истекал через день; нашелся человек, упросивший Вителлия разрешить ему занять эту должность на оставшиеся сутки; просьба была удовлетворена, что вызвало множество насмешек и над тем, кто оказал подобное благодеяние, и над тем, кто его принял. В течение одного дня — накануне ноябрьских календ — Росий Регул и принял консульские полномочия, и сложил их с себя[76]. Впервые, как говорили сведущие в этих делах люди, новый магистрат был назначен без предварительно принятого законного решения о снятии обязанностей с человека, раньше занимавшего эту должность. Консулы одного дня были известны и прежде. Так, диктатор Гай Цезарь, торопясь вознаградить Каниния Ребила за услуги, оказанные во время гражданской войны, назначил его консулом при таких же обстоятельствах[77].
38. В эти же дни умер Юний Блез[78], смерть его привлекла к себе всеобщее внимание и вызвала много разговоров. Вот что мне удалось о ней узнать. Тяжело заболевший Вителлий ночевал в Сервилиевых садах[79]; вдруг он заметил, что один из расположенных поблизости дворцов ярко освещен. Вителлий послал узнать, в чем дело; ему доложили, что Цецина Туск[80] устроил многолюдное пиршество в честь Юния Блеза, и со всяческими преувеличениями описали пышность пира и распущенность, якобы там царящую. Тут же нашлись люди, вменившие в преступление Туску, его гостям и в первую очередь Блезу, что они веселятся, когда принцепс болен. Придворные, которые всегда только и ждут, на кого бы натравить императора, видя, что на Вителлия действуют их разговоры и таким образом открывается возможность погубить Блеза, уговорили Луция Вителлия выступить в роли обвинителя. Запятнанный всеми пороками, он издавна завидовал безупречной репутации Блеза и ненавидел его. Явившись в комнату принцепса, Луций Вителлий бросился на колени, а потом принялся горячо обнимать и прижимать к груди сына Вителлия. На вопрос, в чем дело, Луций отвечал, что боится не за себя, что пришел слезно умолять брата защитить лишь свою жизнь и оградить от опасности детей. «Не Веспасиана надо бояться, — говорил он, — между ним и нами германские легионы, верные своему долгу провинции, бескрайние моря и земли. Другого врага нам следует опасаться — того, кто здесь, в Риме, у нас на глазах, хвастается своими предками — Юниями и Антониями[81], кичится своим происхождением из императорского рода[82] и выставляет напоказ перед солдатами свою доброту и щедрость[83]. Он привлек к себе все сердца, он бражничает, спокойно взирая на муки и страдания принцепса. Не разобрав, где враг и где друг, ты пригрел на своей груди соперника. Надо наказать этого человека за неуместное веселье, пусть эта ночь станет для него ночью ужаса и скорби. Пусть знает, что Вителлий жив, что он правит, и у него есть сын, который в случае роковой необходимости заменит его».
39. Вителлий трепетал от страха, но не мог решиться на преступление. Он боялся, что, сохраняя Блезу жизнь, подвергает себя смертельной опасности, но в то же время знал, что, приказав убить его, рискует вызвать к себе всеобщую лютую ненависть. Поэтому он счел за лучшее отравить его. Радость, которую он не сумел скрыть при виде мертвого тела Блеза, еще раз показала всем, кто повинен в этом злодеянии. Передавали сказанные им мерзкие слова (я привожу их совершенно точно), будто видом мертвого врага он насыщает свой взор. Блез был человек не только знатный и отлично воспитанный, но и на редкость верный своему долгу. Вителлию еще ничто не угрожало, когда Цецина и другие главари вителлианской партии уже разочаровались в нем и стали всячески обхаживать Блеза: однако Блез упорно отвергал все их домогательства. Он был чист душой, держался в стороне от интриг, не стремился ни к незаслуженным почестям, ни к принцепской власти, которой его едва не сочли достойным.
40. Между тем Фабий Валент двигался к театру военных действий во главе целой армии изнеженных наложниц и евнухов, и далеко не так поспешно, как подобает полководцу. Когда ему срочной эстафетой доставили сведения об измене Луцилия Басса и переходе Равеннского флота на сторону Веспасиана[84], он еще мог форсированным маршем опередить колебавшегося Цецину или присоединиться к легионам до того, как над ними нависла опасность разгрома. Одни из его приближенных советовали свернуть с главной дороги и с группой верных людей, окольными тропами, в обход Равенны, поспешить к Гостилии или Кремоне, другие настаивали на том, чтобы вызвать из Рима преторианские когорты и, собрав достаточно сил, прорвать фронт врага[85]. Валент медлил и вместо того, чтобы действовать, проводил время в бесполезных разговорах. В конце концов он отверг оба плана и, не обладая ни подлинной смелостью, ни мудрой предусмотрительностью, выбрал самое худшее, что может быть в таком положении, — среднюю линию.
41. Валент написал Вителлию, прося подкреплений. Ему прислали три когорты[86] и британскую конницу; для скрытого маневра, рассчитанного на обман врага, это было слишком много, для открытого прорыва — слишком мало. Валент и в этих критических обстоятельствах не хотел отказываться от своих подлых привычек: ходили слухи об извращенных наслаждениях, которым он предается, о прелюбодеяниях и преступлениях, творимых им в домах, где он останавливался. Силы и деньги у него еще были, но он видел, что звезда его закатывается, и стремился натешиться напоследок. Как только к Валенту прибыли вызванные им из Рима пехотные и конные подразделения, нелепость его плана стала очевидна всем: с такими ограниченными силами нечего было и думать выступать против врага, даже если бы прибывшие солдаты и были готовы до конца стоять за Вителлия, а они подобной преданностью не отличались. Свои подлинные настроения они проявили не сразу, поначалу стыд и почтение, которое обычно внушает присутствие командующего, удерживали их. Однако люди, которые опасностей страшатся, а позора нет, не надолго поддаются подобным чувствам. Валент хорошо понимал это и, отправив пешие когорты к Аримину[87], а кавалерии поручив оборону тыла, в сопровождении немногих солдат, сохранивших ему былую верность, свернул в Умбрию, а оттуда в Тоскану, где его застало известие об исходе битвы под Кремоной. Тогда-то у него и возник новый план, не лишенный дерзости, а в случае удачи грозивший ужасными последствиями: добраться морем до Нарбоннской провинции и оттуда поднять Галлию, римские армии и германские племена на новую войну.
42. Когорты, оставленные Валентом в Аримине, после отъезда командующего совсем пали духом. Корнелий Фуск подтянул против них свои войска, приказал быстроходным судам курсировать вдоль берегов и таким образом запер вителлианцев с суши и с моря. Теперь долины Умбрии и омываемая Адриатическим морем часть Пицена оказались заняты[88]; между Италией Веспасиана и Италией Вителлия единственной преградой остался Апеннинский хребет. Валент тем временем вышел на кораблях из Пизанского залива, но штиль или встречные ветры заставили его пристать в порту Геркулеса Монойкийского[89], неподалеку от которого действовал прокуратор Приморских Альп Марий Матур[90], пока еще по-прежнему сохранявший верность Вителлию, хотя все кругом уже перешли на сторону его врагов. Марий Матур хорошо принял Валента и отговорил его от безрассудной поездки в Нарбоннскую Галлию. Доводы Матура навели на Валента ужас, а вскоре и солдат его страх заставил забыть о долге и присяге.
43. Расположенные поблизости города перешли на сторону Веспасиана. Принудил их к этому прокуратор[91] Валерий Паулин, опытный военачальник, связанный с Веспасианом узами старинной дружбы, начавшейся еще до того, как судьба вознесла будущего принцепса. Паулин собрал людей, уволенных Вителлием из армии и жаждавших принять участие в войне[92], и занял колонию Форум Юлия[93], контролировавшую выход к морю. Власть Паулина была тем более велика, что сам он происходил из этой колонии; преторианцы его поддерживали, потому что он некогда был у них трибуном; даже крестьяне из окрестных деревень помогали ему, стремясь завоевать расположение городских властей и рассчитывая на поддержку со стороны Паулина в будущем. Когда слух об его успехах, и без того значительных, да еще приукрашенных молвой, распространился среди колебавшихся, неуверенных в себе вителлианцев, Фабий Валент поспешил вернуться на свои корабли. За ним последовали четверо ординарцев, трое друзей и три центуриона; Матур и остальные решили остаться и присягнуть Веспасиану. Валент хорошо понимал, откуда ему грозит опасность, гораздо хуже он представлял себе, на кого ему можно было бы опереться; будущее казалось смутным, и в море он чувствовал себя увереннее, чем на берегу или в городах. Непогодой корабли его отнесло к Стойхадам — островам, находившимся под властью города Массилии[94]. Здесь его и схватили моряки быстроходных либурнских кораблей, которые Паулин еще раньше выслал к Стойхадам.
44. После ареста Валента дела Веспасиана повсюду пошли на лад. К нему присоединились сначала Испания, где первый Вспомогательный легион, верный памяти Отона и потому враждебный Вителлию, увлек за собой десятый и шестой, затем — галльские провинции и, наконец, Британия. Солдаты расположенного здесь второго легиона любили Веспасиана, который при Клавдии командовал ими и хорошо проявил себя в боях. Они сумели перетянуть на свою сторону и остальные войска, правда, не без сопротивления и споров: большинство центурионов и солдат получили от Вителлия повышения по службе и очень неохотно отказывались от принцепса, доказавшего им на деле свою благосклонность[95].
45. Все эти распри и непрерывно доходившие слухи о междоусобиях в Риме вдохнули новые силы в сердца британцев. Больше всех подстрекал их к восстанию Венуций[96], человек неукротимый, лютый враг римлян и к тому же имевший свои причины ненавидеть царицу Картимандую. Эта царица, происходившая из старого знатного рода, правила племенем бригантов. Могущество ее сильно возросло после того, как она, обманом захватив царя Каратака, как бы своими руками устроила триумф Клавдия Цезаря[97]. Вместе с богатством и удачей пришли, как обычно, роскошь и разврат. Картимандуя отвергла своего мужа Венуция и разделила ложе и власть с его оруженосцем Веллокатом. Это преступление вызвало целую бурю: на сторону Венуция стало все государство, на сторону Веллоката — царица, ослепленная страстью и готовая на любую жестокость. Венуций сумел собрать силы, британцы изменили Картимандуе, и, доведенная до последней крайности, она обратилась за помощью к римлянам. После нескольких сражений, кончавшихся победой то одной, то другой стороны, римские когорты и конные отряды спасли царицу от нависшей над ней опасности. Победа осталась за нами, царство — за Венуцием.
46. В эти же дни вспыхнули волнения в Германии. Здесь господство римлян едва не было уничтожено из-за слабости полководцев, распущенности легионов, коварства союзных племен и обилия сил, которыми располагали варвары. О причинах и ходе этой надолго затянувшейся войны я вскоре расскажу особо.
Возмущение захватило также и племя даков[98]; они никогда не были по-настоящему верны Риму, а после ухода войск из Мёзии решили, что теперь им уж совсем нечего бояться. Сперва они хранили спокойствие и только наблюдали за происходящим, когда же война заполыхала по всей Италии и армии одна за другой стали втягиваться в борьбу, даки захватили зимние лагеря пеших когорт и конных отрядов, овладели обоими берегами Дуная и уже собирались напасть на лагеря легионов, но Муциан, получивший тем временем сведения о победе под Кремоной и понимавший, что если даки и германцы с разных сторон вторгнутся в пределы империи, то ему придется иметь дело с вдвое более грозным противником, двинул против даков шестой легион[99]. Опять, как во многих других случаях, сама судьба позаботилась о римском народе: Муциан с восточными армиями вовремя оказался на месте[100], а Кремону мы тем временем окончательно закрепили за собой. Во главе Мёзии был поставлен Фонтей Агриппа[101], переведенный из Азии, которой он в течение года управлял в качестве проконсула. В помощь ему дали армию, набранную из бывших вителлианцев, — и здравый смысл, и интересы мира требовали рассредоточить их по провинциям и занять войной с противником, угрожавшим Риму извне.
47. Неспокойны были и другие племена. В Понте[102] неожиданно взялся за оружие раб, варвар, некогда командовавший царским флотом, — отпущенник Полемона Аникет. Прежде он пользовался большой властью в этой стране; когда же она сделалась римской провинцией, принялся с нетерпением ожидать переворота. Именем Вителлия он привлек на свою сторону пограничные с Понтом племена, пообещал самым нуждающимся дать возможность пограбить и во главе значительных сил неожиданно ворвался в Трапезунд, славный древний город, основанный греками в самой отдаленной части Понтийского побережья[103]. Расположенная здесь когорта[104], составлявшая в прошлом царский гарнизон, была перебита: хотя этим солдатам недавно дали римское гражданстве, значки и оружие, принятые в нашей армии, они по сути дела остались прежними ленивыми, распущенными греками. Аникет сжег римские суда, забросав их горящими факелами, и стал полновластным хозяином на море, так как лучшие либурнские галеры и всех солдат Муциан еще прежде увел отсюда в Бизантий[105]. Варвары с удивительной быстротой понастроили себе кораблей и безнаказанно бороздили море. Корабли эти называются у них камары[106], борта их расположены близко друг к другу, а ниже бортов корпус расширяется; варвары не пользуются при постройке кораблей ни медными, ни железными скрепами; когда море бурно и волны высоки, поверх бортов накладывают доски, образующие что-то вроде крыши, и защищенные таким образом барки легко маневрируют. Грести на них можно в любую сторону, эти суда кончаются острым носом и спереди, и сзади, так что могут с полной безопасностью причаливать к берегу и одним, и другим концом.
48. Мятеж Аникета привлек внимание Веспасиана, и он выслал против повстанцев отдельные подразделения легионов во главе с опытным военачальником Вирдием Гемином. Напав на занятых грабежом, разбредшихся по всей округе варваров, он принудил их вернуться на корабли. Поспешно выстроив несколько быстроходных галер, Гемин погнался на них за Аникетом и настиг его в устье реки Хоб[107], где тот чувствовал себя в безопасности, так как успел деньгами и подарками привлечь на свою сторону местного царя Седохеза[108] и теперь рассчитывал на его поддержку. Царь сначала действительно оказывал покровительство своему гостю, умолявшему его о помощи, и даже грозил римлянам оружием. Вскоре, однако, Гемин дал ему понять, что, предав повстанцев, он может получить деньги, продолжая же защищать Аникета, рискует подвергнуть свою страну нападению римских войск. Непостоянный, как все варвары, царь решился погубить Аникета и выдал римлянам тех, кто искал у него спасения. На том и кончилась эта война с рабами.
Все желания Веспасиана сбывались, и исполнение каждого его замысла приносило еще больше удачи, нежели он рассчитывал: не успел он нарадоваться победе над Аникетом, как к нему в Египет пришла весть о битве под Кремоной. Тем быстрее устремился Веспасиан к Александрии, чтобы теперь, когда войска Вителлия были разгромлены, закрыть подвоз припасов в Рим и голодом принудить к сдаче столицу, вечно нуждавшуюся в продовольствии. С этой целью он собирался вторгнуться с моря и суши в расположенную по соседству провинцию Африка и, приостановив поставки хлеба, вызвать в стане врага смятение и голод.
49. В результате этих охвативших весь мир потрясений по-новому начали складываться судьбы империи; далеко не так как прежде стал действовать после победы под Кремоной и Прим Антоний. То ли он решил, что хватит с него воинских подвигов и теперь можно ни о чем не заботиться, то ли удача обнажила присущие ему жадность, высокомерие и прочие пороки, которые он прежде тщательно скрывал, но он повел себя в Италии как в завоеванной стране, а с легионами начал обращаться так, будто то было его собственное войско. Теперь в каждом его слове, в каждом поступке сказывалось желание любой ценой проложить себе путь к власти. Чтобы поддержать мятежные настроения солдат, он разрешил им самим выбрать себе центурионов на место погибших; в результате избранными оказались отъявленные смутьяны. Теперь уже не солдаты подчинялись командирам, а командиры зависели от произвола солдат. Вскоре Антоний попытался использовать разложение армии и упадок дисциплины в своих интересах. Он не подумал о том, что Муциан уже близко, а между тем встать на пути этого человека было гораздо опаснее, чем оскорбить самого Веспасиана.
50. Приближалась зима, сырость ложилась на поля в пойме Пада, когда армия налегке, без поклажи и обозов, выступила в поход. Значки и орлы легионов, раненых, престарелых, а с ними и многих здоровых солдат победители оставили в Вероне. Они считали, что конец войны уже не за горами и можно справиться с помощью конных отрядов, отдельных когорт и набранных по легионам добровольцев. Одиннадцатый легион[109], который в начале войны медлил и выжидал, теперь, после победы флавианцев, испугавшись, что можно опоздать к дележу добычи, присоединился к победителям. С ним шли шесть тысяч новобранцев — далматов[110]. Командовал им консулярий Помпей Сильван[111], на самом же деле все военные планы разрабатывал легат легиона Анний Басс. Делая вид, будто он полностью подчиняется своему командиру, Басс спокойно и энергично руководил легионом и фактически направлял все поступки Сильвана, который был неопытен в военном искусстве и вместо того, чтобы действовать, произносил речи. Моряки Равеннского флота требовали, чтобы их перевели в число легионеров[112]; из них выбрали лучших, включили в состав армии, а на их место поставили далматов. В Фанум Фортунэ[113] армия и полководцы остановились и стали решать, что делать дальше: ходили слухи, будто преторианские когорты выступили из Рима; проходы в Апеннинах, по всей вероятности, охранялись сторожевыми заставами; местность, где остановились войска, была разорена войной; командиры боялись солдат, буйно требовавших выплаты клавария[114]. Никто в свое время не позаботился ни о пополнении казны, ни о запасах пищи. Алчность и нетерпеливость солдат делали положение еще более трудным: они грабили население и отнимали у жителей продовольствие, которое те готовы были отдать даром.
51. В сочинениях самых прославленных историков я нахожу факты, показывающие, сколь бессовестно преступали победители все заповеди богов. Один рядовой конник пришел к командирам, заявил, что убил в последнем сражении своего брата, и потребовал за это вознаграждения. Положение в войске сложилось такое, что наказать его было невозможно, награждать же — бесчеловечно и незаконно. Командиры ответили, что совершенный им подвиг заслуживает почестей, воздать которые в походных условиях невозможно, поэтому лучше отложить дело до другого времени. Позже об этом случае уже не вспоминали. Подобные преступления случались в истории гражданских войн и раньше. В битве с Цинной у Яникульского холма[115] один из воинов-помпеянцев, как рассказывает Сисенна[116], убил, не узнав его, своего родного брата, а поняв, что произошло, тут же покончил с собой: вот насколько превосходили нас наши предки, — и вознаграждая доблесть, и карая преступление. Подобные примеры из прошлого, если только они к месту, я и впредь буду приводить всякий раз, когда нужно прославить доблесть или найти утешение в беде.
52. Антоний и полководцы его армии решили выслать вперед конников, дабы, обследовав всю Умбрию, найти самые удобные дороги, ведущие к Апеннинам. Они договорились также стянуть в одно место легионы, самостоятельно действовавшие когорты и оставшихся в Вероне солдат, а транспорты с поклажей и продовольствием отправить по реке Пад и морем. Кое-кто из полководцев нарочно мешал осуществлению этих планов: они теперь уже не нуждались в Антонии и рассчитывали больше выгадать, помогая Муциану. Дело в том, что Муциан был обеспокоен молниеносными успехами Антония, он опасался, как бы Антоний не двинулся на Рим один и не лишил его тем самым славы победителя. Он беспрерывно писал Приму и Вару письма, в которых то настаивал на необходимости спешно завершить начатое дело, то рассуждал о преимуществах мудрой медлительности. Письма были составлены так, что в случае неудачи Муциан мог бы от всего отпереться, в случае же победы — приписать ее своим попечениям. С Плотием Грипом, которого Веспасиан недавно возвел в сенаторское достоинство и назначил командовать легионом, и с другими своими сторонниками Муциан был откровеннее и побуждал их противодействовать Антонию. В ответных письмах они старались расположить Муциана к себе и в самом неблаговидном свете изображали причины, заставлявшие Прима и Вара торопиться. Муциан пересылал эти письма Веспасиану и добился того, что император стал относиться к поступкам и замыслам Антония совсем не так, как тот рассчитывал.
53. Все это с каждым днем сильнее раздражало Антония, и он решил, не дожидаясь, пока интриги Муциана сведут на нет страдания и опасности, им перенесенные, сам бросить вызов сопернику. Невоздержный на язык, не привыкший кому-либо подчиняться, Антоний не слишком щадил Муциана в разговорах с окружающими. Он составил письмо Веспасиану, написанное с самоуверенностью, недопустимой при обращении к принцепсу, и содержавшее скрытые нападки на Муциана. Антоний писал там о своих заслугах, говорил, что это он поднял паннонские легионы, он увлек правителей Мёзии, он форсировал Альпы[117], занял Италию, преградил путь германцам и ретам, составлявшим резервы Вителлия. А битва, начатая атакой конницы против рассеянных беспорядочных легионов вителлианцев и завершенная наступлением пехоты, в течение суток громившей разбитого противника? Разве это не блестящая военная операция, и разве не он, Антоний, провел ее? Что касается злосчастной истории с Кремоной, так на то и война; гражданские распри былых времен, принесшие гибель не одному, а многим городам, обходились государству гораздо дороже. Боевыми делами, а не донесениями и письмами служит он своему императору. При этом он вовсе не хочет умалять заслуги людей, наводивших тем временем порядок в Дакии[118], — их дело было охранять мир в этой провинции, его — обеспечивать спасение и безопасность Италии. Кто, как не он, убедил галльские и испанские провинции, эти лучшие земли империи, перейти на сторону Веспасиана? Неужели теперь плодами всех его трудов воспользуются люди, не принимавшие в них никакого участия, а Антоний останется ни при чем?
Муциан хорошо понимал, чем грозит ему это письмо. Оно породило ненависть, которую Антоний высказывал открыто, а Муциан, хитрый и безжалостный, — лелеял в глубине души.
54. Поражение под Кремоной разрушило все планы Вителлия. Он старался скрыть, что произошло, но эта нелепая политика не столько пресекала зло, сколько мешала найти средства борьбы с ним. В самом деле: если бы Вителлий все откровенно рассказал и попросил бы совета, у него нашлись бы еще и надежды, и силы; он же, наоборот, старался представить все в радужном свете и тем лишь ухудшал свое положение. Удивительное молчание обо всем, связанном с войной, окружало его; в городе было приказано не разговаривать на эту тему, и потому только ее повсюду и обсуждали. Если б подобные разговоры не запрещались, люди вели бы речь о действительно произошедших событиях, теперь же, когда говорили тайно, по городу расползались слухи, один ужаснее другого. Полководцы флавианской партии всячески содействовали распространению этих слухов. Захваченных в плен разведчиков Вителлия водили по всему лагерю флавианцев, давали им воочию убедиться в силе победоносной армии, после чего отпускали на волю. Всех их Вителлий тайно допрашивал, а потом казнил. Замечательный героизм проявил в эту пору центурион Юлий Агрест. Он не раз говорил с Вителлием, тщетно пытаясь возбудить его мужество, и, наконец, испросил разрешения отправиться в армию противника, дабы выяснить, что произошло под Кремоной, и посмотреть, какими силами располагают флавианцы. Явившись к Антонию, он не пытался обмануть его и выполнить свою миссию тайно, а откровенно рассказал о возложенном на него поручении, о своих намерениях и потребовал, чтобы его познакомили с положением. Антоний отрядил людей, которые показали Агресту место сражения, развалины Кремоны, захваченные в плен легионы вителлианцев. Агрест вернулся к Вителлию, но тот отказался верить принесенным сведениям и даже обвинил его в измене. На это Агрест ответил: «Если тебе нужно бесспорное свидетельство моей преданности и никакой другой пользы ни жизнью своей, ни смертью я принести не могу, то ты получишь доказательство, которому поверишь». И выйдя от принцепса, он наложил на себя руки, добровольною смертью скрепив истину своих слов. Некоторые говорят, что его убили по приказу Вителлия, но все в один голос признают его верность и мужество.
55. Вителлий как бы очнулся от сна; он приказал Юлию Приску и Алфену Вару[119] взять четырнадцать когорт претория, всю наличную конницу и встать заставой в Апеннинах; вслед им отправили еще легион морской пехоты[120]. Будь во главе стольких тысяч отборных пехотинцев и конников другой командующий, сил этих могло бы хватить даже для контрнаступления. Командовать остальными когортами[121] и обеспечить с их помощью безопасность столицы Вителлий поручил своему брату Луцию. Сам же он и не подумал отказаться от постоянно окружавшей его роскоши и разврата. Подгоняемый сознанием непрочности своей власти, он поспешно собрал комиции, где назначил консулов на много лет вперед[122], с бессмысленной щедростью роздал союзникам права федератов[123], иностранцам — латинское гражданство[124], одним отложил взнос налогов, других освободил от повинностей и, наконец, нимало не заботясь о будущих поколениях, принялся раздаривать государственное имущество. Чернь только диву давалась, глядя на этот поток благодеяний; глупцы старались добиться их за деньги, люди умные не придавали им никакой цены, понимая, что при нормальном положении дел никто не стал бы ни оказывать подобные милости, ни принимать их. Армия между тем заняла Меванию[125] и требовала, чтобы Вителлий присоединился к ней. Сопровождаемый толпой сенаторов, из которых одних привело сюда желание выслужиться, а большинство — страх, он прибыл в лагерь, растерянный, готовый послушаться любого коварного совета.
56. Когда Вителлий проводил солдатскую сходку, над его головой, — дивно сказать, — закружились какие-то отвратительные крылатые существа, и было их столько, что они как туча затмили день[126]. К этому прибавилось недоброе предзнаменование: бык разбросал священную утварь, убежал от алтаря и был убит далеко от того места, где обычно совершают жертвоприношения. Но наиболее мрачное зрелище являл собой сам Вителлий. Невежественный в военном деле, неспособный что-либо предвидеть и рассчитать, он не умел ни построить войско, ни собрать нужные сведения, ни ускорить или замедлить ход военных действий. Он обо всем спрашивал совета у окружающих, при каждом новом известии ужасался, дрожал, а потом напивался. Наконец, лагерная жизнь ему надоела. Получив сведения о переходе Мизенского флота на сторону противника[127], он поспешил в Рим, озабоченный лишь последними событиями и вовсе не думая об угрожающей ему гибели. Каждый понимал, что следовало перевести через Апеннины всю армию и со свежими войсками обрушиться на ослабевшего от голода и холода противника, но Вителлий дробил свои силы и посылал на верную смерть или плен лучших солдат, готовых идти за него в огонь и воду. Даже центурионы, из тех, что больше других понимали дело, не одобряли эту тактику и раскрыли бы Вителлию глаза, если б он посоветовался с ними. Но ближайшие друзья Вителлия не давали центурионам высказать свое мнение, а уши императора были устроены так, что он оставался глух ко всему, что могло его спасти, и выслушивал лишь приятные, но гибельные советы.
57. Во времена гражданских неурядиц даже один человек может сделать многое, если он дерзок и решителен: центурион Клавдий Фавентин, которого Гальба некогда оскорбил, уволив из армии, сумел склонить к измене весь Мизенский флот; он показывал морякам подложные письма Веспасиана, в которых тот якобы обещал им награду, если они предадут Вителлия. Командовавший этим флотом Клавдий Аполлинарий не был ни настолько мужественным, чтобы остаться верным присяге, ни настолько честолюбивым, чтобы изменить ей. Во главе мятежников стал только что отслуживший претуру Апиний Тирон, который в это время случайно оказался в Минтурне[128]. Под влиянием восставших началось брожение также в муниципиях и колониях; к вражде между вителлианцами и флавианцами здесь добавлялось соперничество городов друг с другом: жители Путеол[129] горячо поддержали Веспасиана, капуанцы наперекор им решили хранить верность Вителлию. Чтобы вернуть себе расположение солдат, Вителлий отправил к ним Клавдия Юлиана[130]; Юлиан незадолго перед тем руководил Мизенским флотом и проявил себя как мягкий, гуманный командир. Ему в помощь дали когорту солдат городской стражи и гладиаторов, которыми он ведал. Они разбили лагерь рядом с лагерем мятежников, и Юлиан, недолго поколебавшись, перешел на сторону Тирона, после чего все вместе отправились в Таррацину[131], — здесь они могли считать себя в безопасности, полагаясь, правда, не столько на собственное мужество, сколько на стены города и его неприступное местоположение.
58. Узнав об этих событиях, Вителлий оставил в Нарнии[132] префектов претория с частью войск, а брата своего Луция отправил с шестью когортами и пятьюстами всадниками в Кампанию, чтобы преградить путь войне, надвигавшейся на него отсюда. Мрачное настроение его начало рассеиваться: солдаты выражали ему свою преданность, народ громкими криками требовал оружия, и он уже стал называть эту толпу, не способную ни на что, кроме бессмысленной болтовни, новой армией и новыми легионами. По совету своих вольноотпущенников (он предпочитал их друзьям, которым доверял тем меньше, чем более достойные люди среди них встречались) Вителлий приказывает созвать трибы[133]. Сначала он сам принимает присягу у добровольцев, но, видя, что толпа жаждущих записаться все растет, поручает отбор их консулам. Он устанавливает, сколько рабов и какую сумму денег должен внести каждый сенатор; римские всадники наперебой предлагают свою помощь и свои сбережения; даже вольноотпущенникам, настаивающим, чтобы и им дали возможность принять участие в общем деле, разрешают принять на себя такие же обязательства. Все это порожденное страхом воодушевление постепенно перерастало в сострадание и жалость. Большинство, однако, скорбело не о Вителлии, а о принципате, над которым нависла угроза. Вителлий стремился вызвать к себе сочувствие печальным выражением лица, жалобным голосом и слезами; он раздавал направо и налево явно невыполнимые обещания, как это обычно бывает с людьми, дрожащими от страха. Прежде он отвергал звание Цезаря, теперь же пожелал называться этим именем, отчасти возлагая на него суеверные надежды, а отчасти и потому, что, когда человек в опасности, пересуды толпы значат для него столько же, сколько голос благоразумия. Впрочем, как всегда бывает при внезапно возникающих безрассудных порывах, которые сильны на первых порах, а со временем остывают, воодушевление сенаторов и всадников начало постепенно спадать. Они стали отходить от Вителлия, сперва втихомолку, пользуясь его отсутствием, потом, уверовав в собственную безнаказанность, с откровенным пренебрежением. Наконец, видя, что из всей затеи ничего не получается, Вителлий, мучимый стыдом, решил не брать у сенаторов и всадников того, что они все равно ему не давали.
59. Захват Мевании поразил ужасом всю Италию; казалось, война начинается заново; однако трусливое бегство Вителлия вновь изменило положение и еще более укрепило популярность флавианской партии. Самниты, пелигны, марсы[134], уязвленные тем, что жители Кампании опередили их[135], поднялись в свой черед и ревностно, как подобает новым подданным, выполняли обязанности, возложенные на них в связи с войной. Армия тем временем, изнемогая в борьбе со снегами и холодом[136], с трудом прокладывала себе путь через Апеннины. Даже во время этого мирного перехода у людей едва хватало сил выбраться из снегов; теперь солдатам стало ясно, какие бы их ждали опасности, если бы судьба, приходившая на помощь флавианским полководцам не реже, чем их военные таланты, не вернула Вителлия в Рим. В пути флавианцы неожиданно встретили Петилия Цериала[137]; хорошее знание местности и крестьянская одежда помогли ему ускользнуть от приставленной Вителлием стражи. Цериал был близким родственником Веспасиана, слыл опытным командиром и тут же вошел в число руководителей армии. Многие авторы утверждают, будто у Флавия Сабина и Домициана[138] тоже была полная возможность скрыться; лазутчики Антония всякими правдами и неправдами сумели пробраться к ним и убеждали их бежать, обещая проводить под крепкой охраной в надежное место. Сабин отказался, говоря, что слабое здоровье не позволяет ему отважиться на побег, сопряженный с трудностями и риском. Домициан обладал нужной решительностью, но Вителлий приставил к нему сторожей, которые, хотя и говорили, будто готовы содействовать побегу, внушали ему опасения. Впрочем, Вителлий не собирался трогать Домициана и по соображениям собственной выгоды.
60. Дойдя до Карсул[139], полководцы флавианской партии остановились на несколько дней, чтобы отдохнуть и дать время остальным легионам присоединиться к ним. Место для лагеря оказалось очень удачным: его окружали открытые поля, где все было видно на большое расстояние, дороги, по которым подвозилось продовольствие, были безопасны, в тылу лежали цветущие многолюдные города. Вителлианцы стояли в десяти милях; это облегчало ведение переговоров, внушало надежду, что их удастся перетянуть на сторону Веспасиана. Солдат такая перспектива не радовала. Они стремились не к перемирию, а к победе и не хотели ждать прихода остальных легионов, видя в них скорей соперников в дележе добычи, чем товарищей в борьбе. Антоний собрал сходку. Он заговорил о том, что Вителлий разбит еще не до конца, что можно вступить в переговоры и склонить его войска к измене, но, если довести вителлианцев до крайности, у них еще хватит сил оказать ожесточенное сопротивление. В гражданской войне, утверждал он, на первых порах все зависит от удачи, но окончательной победы можно добиться, лишь действуя мудро и осмотрительно. Антоний напомнил, что Мизенский флот и цветущая, омываемая морем Кампания уже отвернулись от Вителлия, что из всей мировой империи у него осталась лишь полоска земли между Таррациной и Нарнией. «Битва под Кремоной принесла вам довольно славы, — продолжал он, — но еще больше ненависти к вам вызвала гибель этого города. Теперь, когда Рим перед вами, следует думать не о том, как им овладеть, а о том, как оградить его от бед. Не лучшая ли награда и не высшая ли честь, не пролив ни капли крови, отстоять безопасность сената и римского народа?». Этими и подобными доводами Антоний сумел успокоить солдат.
61. Некоторое время спустя подошли отставшие легионы, и флавианская армия стала еще более многочисленной. Слухи об этом распространились среди противников и посеяли панику в их рядах; вителлианцы заколебались; никто здесь не призывал солдат продолжать борьбу; напротив, все убеждало их в том, что лучше перейти на сторону врага; командиры наперебой сдавались флавианцам, принося в дар победителям свои конные отряды и центурии, в надежде, что это зачтется им в будущем. От них стало известно, что расположенный неподалеку на равнине город Интерамна[140] охраняется гарнизоном в четыреста всадников. Против них немедленно выслали летучий отряд во главе с Варом. Немногие, оказавшие сопротивление, были перебиты, другие побросали оружие и сдались, кое-кто бежал в лагерь[141]. Чтобы как-то оправдаться и объяснить, почему они изменили своему долгу, беглецы всячески преувеличивали доблесть и численность противника, и слухи о грозящей опасности тут же охватили весь лагерь. Трусов вителлианцы не наказывали; изменники были явно не в накладе, и это окончательно подрывало дух армии; остальные состязались в подлости и коварстве. Трибуны и центурионы все чаще перебегали на сторону врага, хотя рядовые солдаты упорно хранили верность Вителлию. Наконец, Приск и Алфен бросили лагерь на произвол судьбы и вернулись к Вителлию, тем самым заранее отпустив вину всем остальным.
62. В эти же дни в Урбике[142] в тюрьме был убит Фабий Валент. Голову его выставили на обозрение вителлианцам, дабы лишить их всяких надежд на будущее: до сих пор они верили, будто Валент бежал в Германию, сплачивает там свои старые войска и набирает новые[143]. Видя, что полководец их убит, вителлианцы впали в отчаяние; флавианцы же ликовали и решили, что смерть Валента означает конец войны.
Валент родился в Анагнии[144], во всаднической семье. Развратный и неглупый, он предался распутству, дабы прослыть светским человеком. При Нероне, во время Ювеналовых игр[145], он неоднократно выступал в качестве мима, сначала делая вид, будто его к этому вынуждают, потом — не скрывая, что выступает по собственной охоте; игра на сцене принесла ему репутацию скорее умелого актера, чем порядочного человека. В бытность свою легатом легиона он поддерживал Вергиния и его же оклеветал, убил Фонтея Капитона, склонив его раньше к измене, а может быть, именно потому, что тот не соглашался на измену, предал Гальбу. Он сохранил верность Вителлию, когда другие ему изменяли, и это принесло ему славу.
63. Видя, что все их надежды пошли прахом, солдаты вителлианской армии тоже решили перейти на сторону противной партии, но позаботились о том, чтобы их капитуляция выглядела достойно. С развернутыми вымпелами и поднятыми значками они спустились на лежавшие ниже Нарнии поля. Флавианское войско, изготовленное к бою, в парадном вооружении выстроилось сомкнутыми рядами по обеим сторонам дороги. Вителлианцы вошли в образовавшийся проход, их немедленно окружили, и Антоний обратился к ним с приветливой речью; часть их оставили в Нарнии, часть разместили в Интерамне. Тут же расположили и несколько легионов из армии победителей: они не трогали вителлианцев, пока те вели себя спокойно, но в случае необходимости готовы были подавить любые волнения. В эти дни Прим и Вар несколько раз писали Вителлию, гарантируя ему жизнь, предлагая деньги и тайное убежище в Кампании, если он согласится сложить оружие и сдастся вместе с детьми на милость Веспасиана. О том же самом писал ему и Муциан. Вителлию все чаще приходила в голову мысль согласиться на эти предложения. Он уже начал поговаривать о том, сколько рабов он с собой возьмет и какое место на побережье его бы больше всего устроило. Полное безразличие овладело им. Если бы другие не помнили, что он принцепс, сам он давно бы забыл об этом.
64. Самые видные люди в государстве втайне уговаривали префекта столицы Флавия Сабина принять участие в победоносном завершении войны, обеспечить себе свою долю славы и не уступать ее целиком Антонию и Вару. Они напоминали ему о находящихся в его распоряжении расположенных в столице когортах, о солдатах городской стражи, которые, конечно, тоже поддержат его, о том, что события сами всегда складываются в пользу победителей, обещали свою помощь, призывали префекта подумать о судьбе флавианской партии. «У Вителлия, — говорили они, — солдат мало, да и те удручены сыплющимися на них со всех сторон мрачными вестями. Народ непостоянен в своих привязанностях; если ты объявишь себя их вождем, они станут так же раболепствовать пред Веспасианом. Вителлий и при благоприятных обстоятельствах не умел быть настоящим принцепсом, а теперь, когда все кругом идет прахом, и вовсе впал в ничтожество. Честь завершить войну выпадет на долю человека, который овладеет Римом. Естественней всего именно тебе из рук в руки передать власть Веспасиану, ему же будет приятно оказаться обязанным в первую очередь брату и лишь затем всем остальным».
65. Сабин был стар[146], страсти в его душе давно утихли, и он неохотно выслушивал подобные речи. Находились люди, тайно распространявшие оскорбительные для Сабина слухи, будто он ненавидит брата и из зависти не хочет помочь ему. Дело в том, что Сабин был старше Веспасиана и, пока они оба оставались частными лицами, превосходил его также богатством и пользовался большим уважением в обществе. Рассказывали, будто в трудную для Веспасиана минуту, когда кредит его пошатнулся, Сабин ссудил ему весьма умеренную сумму, забрав в обеспечение долга его дом и земли. С тех пор оба брата втайне остерегались друг друга, хотя внешне сохраняли хорошие отношения. Гораздо вероятнее, однако, другое объяснение. Сабин был человек мягкий, кровопролитие и убийства внушали ему отвращение, поэтому он не раз убеждал Вителлия заключить перемирие и договориться об условиях, на которых можно будет прекратить вооруженную борьбу. Они обсуждали эти вопросы сначала дома, потом в храме Аполлона[147], где, как уверяла в то время молва, в конце концов и пришли к соглашению. Голоса обоих собеседников и слова, ими произносимые, слышали только два человека — Клувий Руф и Силий Италик[148], остальные могли лишь издали наблюдать за обоими собеседниками. Вителлий выглядел унылым и жалким, лицо Сабина выражало не столько высокомерие, сколько сострадание.
66. Если бы Вителлию удалось с такой же легкостью убедить своих приближенных согласиться на перемирие, с какой принял эту мысль он сам, войска Веспасиана вступили бы в Рим, не пролив ни капли крови. Но в том-то и беда, что все близкие Вителлию люди и слушать не хотели о прекращении войны на каких бы то ни было условиях: перемирие, по их мнению, поставило бы вителлианцев в полную зависимость от любого каприза победителя и не принесло бы им ничего, кроме опасностей и позора. Веспасиан, утверждали люди, окружавшие Вителлия, не настолько тщеславен, чтобы принять бывшего императора в число своих подданных, побежденные тоже не смирятся с этим, так что само милосердие нового принцепса обернется для Вителлия еще худшей опасностью. Вителлий, говорили они, прожил долгую жизнь, изведал радость и горе и теперь утомлен и тем и другим; но пусть он подумает о славном имени своего рода, об участи, ожидающей его сына Германика. «Сейчас тебе предлагают деньги, обещают сохранить жизнь членам семьи, сулят безмятежный отдых в Кампании на берегу одной из ее прелестных бухт. Но когда Веспасиан станет полновластным хозяином, ни он сам, ни друзья его, ни солдаты не смогут чувствовать себя спокойно, пока не уничтожат соперника. Даже Фабий Валент, скованный по рукам и ногам, сохраняемый как заложник на случай возможных осложнений, и тот показался им слишком опасным. Так что же еще мог приказать Веспасиан Муциану и берущим с него пример Приму и Фуску, как не убить Вителлия? Цезарь не пощадил Помпея, Август Антония; можно ли ожидать большего великодушия от Веспасиана, бывшего клиентом одного из Вителлиев в те времена, когда последний вместе с Клавдием управлял империей[149]? Вспомни же, что твой отец был цензором и трижды консулом, вспомни о почете, окружающем ваш славный дом, и пусть овладевшее тобой отчаяние отступит перед мужественной решительностью. По-прежнему верны тебе твои солдаты, по-прежнему любят тебя граждане, и те, и другие готовы на все. Ничего хуже того, к чему мы сами стремимся, с нами произойти не может. Смерть ждет нас, если мы сдадимся врагам, и смерть настигнет нас, если мы потерпим поражение. Нам остается один выбор — или погибнуть в бою, как подобает мужчинам, или умереть под градом насмешек и оскорблений».
67. Вителлий оставался глух к советам, продиктованным доблестью. Он жалел самого себя, боялся, что раздраженный затянувшимся сопротивлением противник не пощадит его жену и детей, и все эти мысли сокрушали его душу. Думал он и о своей престарелой матери; судьба, правда, сжалилась над ней — она скончалась за несколько дней до гибели всех своих родных; принципат сына не принес ей ничего, кроме горя и общего уважения[150].
В пятнадцатый день перед январскими календами[151] Вителлий получил сообщение о том, что остававшийся в Нарнии легион вместе с приданными ему когортами изменил своему долгу и сдался врагу[152]. Облаченный в черные одежды, окруженный плачущими родными, клиентами и рабами, спустился он с Палатина[153]. За ним, как на похоронах, несли в носилках его маленького сына. Странно звучали льстивые приветствия, которыми его встретил народ. Солдаты хранили мрачное молчание.
68. Не было ни одного, даже самого бесчувственного человека, которого не потрясла бы эта картина: римский принцепс, еще так недавно повелевавший миром, покидал свою резиденцию и шел по улицам города, сквозь заполнившую их толпу, шел, дабы сложить с себя верховную власть. Никто еще не видел такого зрелища, никто не слышал ни о чем подобном. Диктатор Цезарь пал жертвой внезапного нападения, Гая[154] унес тайный заговор, только ночь да безвестная деревня видели бегство Нерона[155], Пизон и Гальба погибли как бойцы на поле боя. Один лишь Вителлий уходил от власти среди своих же солдат, среди народа, который он сам же еще так недавно созывал здесь[156] на сходку, уходил, не стыдясь присутствия женщин. В нескольких кратких, приличествующих обстоятельствам словах он объявил, что отказывается от власти в интересах мира и государства, просит сохранить память о нем и брате и сжалиться над его женой и невинными детьми. Протягивая ребенка окружавшей толпе, он обращался то к одному, то к другому, то ко всем вместе, рыдания душили его. Наконец, он отстегнул от пояса кинжал и подал его стоявшему рядом консулу Цецилию Симплексу[157], как бы передавая ему власть над жизнью и смертью сограждан. Консул отказался принять кинжал; толпа шумно протестовала; Вителлий двинулся к храму Согласия[158] с намерением там сложить с себя знаки верховной власти и затем укрыться в доме брата[159]. Вокруг кричали еще громче, требуя, чтобы он отказался от мысли поселиться в частном доме и вернулся на Палатин. Пройти по улицам, забитым народом, оказалось невозможно; свободна была только Священная дорога[160]. Вителлий поколебался и вернулся во дворец.
69. Слух, будто Вителлий отрекся от власти, опережая события, пополз по городу; Флавий Сабин отдал трибунам когорт[161] письменное распоряжение принять меры против возможных выступлений солдат. Казалось, вся империя целиком отдала себя в руки Веспасиана; видные сенаторы, многие всадники, все солдаты из гарнизона и когорт городской стражи заполнили дом Флавия Сабина. Вскоре, однако, здесь стало известно, что городской плебс принял сторону Вителлия, а германские когорты[162] грозят уничтожить всякого, кто выступит против принцепса. Сабин зашел уже слишком далеко и отступать было поздно; толпившиеся у него в доме люди не решались разойтись, опасаясь, как бы вителлианцы не перебили их поодиночке; поэтому каждый, дрожа за свою жизнь, уговаривал Сабина не колебаться долее и взяться за оружие. Как обычно бывает в подобных случаях, все наперебой давали советы и почти никто не хотел рисковать своей жизнью. Когда Сабин в сопровождении успевших к тому времени вооружиться сторонников Веспасиана спускался с холма, возле Фунданиева бассейна на него напали опередившие своих товарищей вителлианцы. В мимолетной стычке, которая началась неожиданно для одних и других, вителлианцы одержали верх. Положение было критическое, Сабин предпочел не рисковать и заперся в крепости на Капитолии[163]. За ним последовали солдаты, кое-кто из сенаторов и всадников; перечислить их по именам затруднительно, — слишком уж многие после победы Веспасиана хвастались участием в этой обороне. Среди осажденных оказались и женщины, самая известная из них — Верулана Гратилла[164], покинувшая своих детей и близких ради тревог и опасностей войны. Вителлианцы обложили крепость, но охраняли подступы к ней настолько небрежно, что Сабин в первую же ночь сумел провести на Капитолий своих детей и племянника Домициана[165]. Были ворота, возле которых осаждающие и вовсе забыли поставить караул, и Сабин, воспользовавшись этим, отправил гонца к полководцам флавианской армии. Он писал, что находится в осаде и что положение его, если только ему не придут на помощь, скоро станет безвыходным. Ночь прошла так спокойно, что Сабин, если бы захотел, мог незамеченным уйти с Капитолия. Вителлианские солдаты, такие мужественные перед лицом опасности, не были способны к длительному усилию и не умели нести караульную службу; к тому же внезапно хлынувший зимний ливень мешал им что-либо расслышать или рассмотреть.
70. На заре следующего дня Сабин, не дожидаясь возобновления военных действий, отправил к Вителлию примипилярия Корнелия Марциала, поручив ему спросить, на каком основании Вителлий нарушает заключенное между ними соглашение[166]. Неужели отказ от власти был лишь комедией и притворством, рассчитанным на обман стольких достойнейших людей? В самом деле, почему Вителлий пытался скрыться в доме брата, возвышающемся над Форумом и привлекающем всеобщее внимание, а не захотел удалиться на Авентин[167], в дом жены, который стоит поодаль от остальных и, казалось бы, гораздо больше подходит человеку, собирающемуся жить как частное лицо и избегать малейшего напоминания о власти принцепса? Вместо этого Вителлий возвращается на Палатин, эту твердыню императорской власти, высылает оттуда вооруженных солдат, обагряющих кровью невинных самые многолюдные кварталы города, посягает на святыню Капитолия, в то время как брат Веспасиана, сенатор и гражданин Рима, глядя на кровавые столкновения легионов, на захваченные города, на сдающиеся противнику когорты, спокойно ждет исхода борьбы между Веспасианом и Вителлием, остается, несмотря на отпадение испанских и германских провинций, несмотря на измену Британии, верным своему долгу и соглашается вести переговоры. Восстановление мира и согласия необходимо не только побежденным, оно украшает также и победителей. Если уж Вителлий решил отступиться от заключенного соглашения, то нечего пробовать свои силы в борьбе с захваченным врасплох противником и с едва вышедшим из отроческих лет сыном Веспасиана[168], — какую пользу принесет ему убийство одного старика и одного подростка? Пусть идет навстречу вражеским легионам и с ними вступает в решительный бой. Если исход сражения будет для него благоприятен, все остальное устроится само собой. Перепуганный, движимый одним лишь желанием оправдаться, Вителлий отвечал очень кратко; он возложил всю вину на солдат, чей пыл, по его словам, не имел ничего общего с его собственным смирением перед обстоятельствами. Он уговорил Марциала выйти из дома незаметно, через задние комнаты, так как солдаты убили бы его, если б узнали, что он явился для заключения ненавистного им перемирия; сам Вителлий уже ничего не мог ни приказать, ни запретить. Он не был больше императором, он был лишь поводом для раздоров.
71. Едва Марциал успел вернуться на Капитолий, как к крепости устремились разъяренные вителлианские солдаты. Никто ими не командовал, каждый действовал на свой страх и риск. Быстро миновав Форум и возвышающиеся здесь храмы[169], они сомкнутыми рядами устремились вверх по холму к первым воротам капитолийской крепости[170]. Осажденные выбрались на крыши древних портиков, идущих по правой стороне улицы, и оттуда осыпали вителлианцев камнями и черепицами. Наступающие были вооружены одними мечами, свободных людей у них не было, подвозить же осадные и метательные машины показалось им слишком долгим. Они забросали факелами крайний портик и двинулись вверх следом за огнем. Вот уже запылали ворота, еще минута — и вителлианцам удалось бы пробиться на Капитолий, но Сабин велел завалить проход статуями, которые были расставлены здесь повсюду для прославления предков. Тогда вителлианцы решили проникнуть на Капитолий с двух других сторон — от рощи Убежища и по ста ступеням, ведущим на Тарпейскую скалу. Обе атаки явились для осажденных совершенно неожиданными, но особенно угрожающей была та, что началась из рощи Убежища, — путь этот короче других, и вителлианцы сражались здесь с особенной яростью. Дома на этом склоне холма строились в ту пору, когда никто не думал о возможности войны; они стояли вплотную друг к другу, и крыши их как бы образовывали лестницу, ведшую прямо на Капитолий; по этой-то лестнице солдаты и бросились наверх. До сих пор неясно, кто поджег крыши этих домов, — нападающие или осажденные, стремившиеся таким способом отбросить прорвавшихся вперед вителлианцев; последнее мнение приходится слышать чаще. Огонь перекинулся на портики, окружавшие храм, и вскоре запылали деревянные орлы, поддерживавшие скаты кровли. Коснувшись старого дерева, пламя вспыхнуло еще ярче и устремилось вперед. Так сгорел Капитолий, сгорел при запертых воротах, уже никем не защищаемый, но еще никем не захваченный.
72. Со времени основания города республика народа римского не видела столь тяжкого и отвратительного злодеяния. Святыня Юпитера Сильнейшего и Величайшего перестала существовать, когда мир царил на границах и боги, насколько то допускали наши нравы, были к нам милостивы. Созданный предками по указанию богов залог римского могущества[171], на который не осмелились поднять руку ни Порсенна, когда город ему сдался[172], ни галлы, когда они взяли его силой[173], погубили яростные распри принцепсов. Пожары случались в храме и раньше, в пору гражданских войн, но тогда поджигатели действовали поодиночке, тайно, теперь же он подвергся осаде и был предан огню на виду у всего города. Зачем был затеян этот бой? Ради чего совершено такое злодеяние? Пока мы вели войны в интересах родины, храм стоял нерушимо[174].
Капитолийский храм был основан по обету, данному во время войны с сабинянами царем Тарквинием Древним[175]. Заложил он его, сообразуясь больше со своими надеждами на будущее, чем со скромным положением, которое занимал в ту пору римский народ. Позже Сервий Тулий с помощью союзников, а затем и Тарквиний Гордый, использовавший для строительства богатства, захваченные при взятии Свессы Помеции, продолжали возведение храма[176]. Честь завершить работу выпала на долю уже свободного Рима: после изгнания царей Гораций Пульвилл во время своего второго консульства освятил храм[177], столь великолепный, что огромные богатства, доставшиеся римскому народу позже, использовались чаще на доделки и украшения, чем на расширение здания; Капитолийский храм, простояв четыреста пятьдесят лет, сгорел в консульство Луция Сципиона и Гая Норбана[178] и был затем возведен на прежнем месте. Восстановление его взял на себя Сулла, уже после того как добился окончательной победы. Однако освятить новый храм суждено было не Сулле, в этом одном отказали ему боги[179], а Лутацию Катулу[180]. Несмотря на все, что сделали для Капитолия Цезари, новое здание вплоть до принципата Вителлия называли именем Катула. Вот какой храм погибал теперь в огне.
73. Пожар Капитолия испугал осажденных больше, чем осаждающих. В трудную минуту вителлианцы сумели проявить ловкость и мужество; совсем по-другому вели себя флавианцы. Солдаты трепетали от страха; беспомощный, как бы впавший в оцепенение вождь не был в состоянии ни говорить, ни слушать, ни командовать сам, ни следовать советам других; он поворачивался то в одну, то в другую сторону, прислушиваясь к крикам врагов, запрещал то, что раньше приказывал, и приказывал то, что раньше запрещал. Как часто бывает в минуты смертельной опасности, все командовали, и никто не выполнял распоряжений. Наконец, осажденные побросали оружие и заметались по крепости в поисках средств обмануть противника и скрыться. Вителлианцы врываются на Капитолий. Повсюду бушует пламя, сверкают мечи, льется кровь. Немногие настоящие воины, среди которых самые известные — Корнелий Марциал, Эмилий Паценз[181], Касперий Нигер, Дидий Сцева — вступают в бой, но тут же падают мертвыми. Победители окружают безоружного, не оказывающего никакого сопротивления Флавия Сабина и консула Квинция Аттика, который еще так недавно, движимый тщеславием и желанием показать свою призрачную власть, обращался к народу с воззваниями, прославляя Веспасиана и понося Вителлия. Остальные теми или другими способами ухитрились бежать; одни переоделись рабами, других вынесли, спрятав под ворохами вещей, верные клиенты. Были люди, которых собственная дерзость защитила надежнее, нежели любое тайное убежище: подслушав пароль, по которому вителлианцы узнавали друг друга, они воспользовались им и даже сами требовали отзыва у встречных.
74. Еще когда первые вителлианцы ворвались на Капитолий, Домициан спрятался у сторожа храма. Вскоре один из вольноотпущенников сумел ловко вывести его оттуда: закутавшись в полотняный плащ, Домициан смешался с толпой жрецов[182] и, никем не узнанный, добрался до Велабра[183], где его приютил клиент отца Корнелий Прим. После прихода к власти Веспасиана Домициан снес домик сторожа, где когда-то прятался, и отстроил на его месте небольшой храм Юпитеру Хранителю[184], а в храме — мраморный алтарь с изображением событий, с ним здесь случившихся. Сделавшись вскоре императором, он воздвиг Юпитеру Стражу огромный храм[185], после чего освятил и храм, и статую, изображавшую его самого в объятиях бога. Сабина и Аттика заковали в цепи и привели к Вителлию, который встретил их спокойно, без всяких угроз и оскорблений, несмотря на ярость солдат, кричавших, что они имеют право распоряжаться жизнью побежденных, и требовавших награды за оказанные Вителлию услуги. Толпа присоединилась к ним, самая подлая часть черни то угрозами, то лестью добивалась от Вителлия приказа казнить Сабина. Вителлий, стоя на ступенях Палатина, собирался вымолить у толпы жизнь пленных, но приближенные убедили его уйти во дворец. Едва Вителлий удалился, Сабин пал под ударами солдат. Ему отрубили голову, а растерзанное тело сволокли в Гемонии[186].
75. Таков был конец этого довольно примечательного человека. Тридцать пять раз участвовал он в походах, прославив свое имя и на военном, и на гражданском поприще. Его честность и справедливость неоспоримы. Семь лет правил он Мёзией, двенадцать лет был префектом Рима, и единственное, что могли ставить ему в вину, — это излишнюю говорливость. Некоторые считали, будто под конец жизни он сделался человеком слабым, большинство же объясняло его поведение в ту пору умеренностью и нежеланием проливать кровь сограждан. Все согласны в том, что до восшествия Веспасиана на престол именно Сабин пользовался в этой семье наибольшим влиянием и почетом. Муциан, как уверяют, воспринял весть о его гибели с большой радостью. Многие даже утверждали, что смерть эта избавила нас от новых гражданских войн: один был братом императора, другой считал себя его соправителем, и только гибель Сабина предотвратила новые междоусобия. Аттик признал себя виновным в поджоге Капитолия. Может быть, с его стороны это был только ловкий ход: он принял на себя всю ненависть, которую вызвало это злодеяние, и тем самым сумел отвести ее от вителлианской партии; поэтому, когда народ стал требовать казни консула, Вителлий счел себя обязанным воздать за услугу услугой и сумел отстоять его.
76. Тем временем Луций Вителлий разбил лагерь у Феронии[187] и угрожал Таррацине, Запершиеся в крепости гладиаторы и гребцы[188] не решались ни на вылазку, ни на открытое сражение. Как я уже говорил, гладиаторами командовал Юлиан, гребцами Аполлинарий, оба сами больше похожие на гладиаторов, чем на полководцев. Они не выставляли караулов, не чинили обветшалые стены. Дни и ночи оглашали они самые очаровательные уголки побережья своими разгульными криками, рассылали солдат на поиски новых мест для развлечений и вспоминали о войне только во время попоек. Апиний Тирон[189] несколькими днями раньше вышел из города и теперь самыми крутыми мерами выжимал из муниципиев деньги и подарки, что не столько умножало его силы, сколько возбуждало к нему ненависть.
77. К Луцию Вителлию явился перебежчик — раб Вергилия Капитона[190] — и пообещал без боя передать город вителлианцам, если они обеспечат ему вооруженную охрану. Глубокой ночью он вывел в горы легковооруженные когорты и расположил их над головой у противника. Оттуда солдаты устремились вниз, — не для битвы, а для резни, — только что очнувшиеся ото сна люди, не имевшие оружия или едва успевшие за него схватиться, падали под их мечами; темнота, страх, рев боевых труб, крики наступающих увеличивали панику. Несколько гладиаторов оказали отпор врагу и дорого продали свою жизнь, остальные устремились к кораблям, где их ждала та же гибель: они попали здесь в толпу местных жителей, которых вителлианцы убивали, не встречая никакого сопротивления. Шесть быстроходных галер — на одной из них находился префект флота Аполлинарий — вышли в море еще в самом начале сражения, прочие были захвачены на стоянке либо потонули под тяжестью облепивших их людей. Юлиана привели к Луцию Вителлию и зарезали у него на глазах, сначала зверски избив плетьми. Некоторые рассказывали, будто жена Луция Вителлия Триария, нагло опоясавшись солдатским мечом, творила жестокости на заваленных трупами улицах поверженного, погруженного в отчаяние города. Муж ее в знак одержанной победы отправил брату лавровый венок и спрашивал, что ему надлежит делать дальше, — немедленно возвращаться, раз он и так уже слишком задержался, или остаться в Кампании для полного покорения края. Сомнения Луция Вителлия оказались спасительными не только для партии Веспасиана, но и для всего государства: если бы солдаты, и прежде фанатически преданные Вителлию, а теперь еще ободренные победой, успели вернуться в Рим, сражение здесь было бы тяжелым и сама столица могла бы погибнуть. При всей своей подлости Луций Вителлий был человек деятельный и представлял серьезную угрозу, если не благодаря своим достоинствам, как бывает у людей доблестных, то, как это бывает у негодяев, — благодаря своим порокам.
78. Пока в стане вителлианцев происходили описанные события, войско Веспасиана оставило Нарнию[191] и, остановившись в Окрикуле[192], спокойно праздновало сатурналии[193]. Пытаясь хоть как-то оправдать столь странную неторопливость, приближенные Антония говорили, что надо подождать Муциана. Правда, находились люди, утверждавшие, будто Антоний медлит неспроста; будто Вителлий прислал ему письмо, в котором предлагал изменить Веспасиану, обещая за это должность консула, руку дочери и огромное приданое. Другие отвечали, что все это выдумки, сочиненные в угоду Муциану. Существовала, наконец, и третья версия, согласно которой полководцы Веспасиана условились между собой держать Рим под угрозой, но не доводить дело до штурма, а дождаться, пока Вителлий, покинутый своими верными когортами и лишенный всякой опоры, сам откажется от власти; план этот якобы не удалось осуществить по вине Сабина, который сначала вел себя безрассудно, а потом струсил: опрометчиво было с его стороны браться за оружие, и только трусостью можно объяснить, что он не сумел отстоять от каких-то трех когорт[194] неприступную Капитолийскую крепость[195], способную выдержать нападение большой армии. Нелегко, видно, возложить на кого-нибудь одного ответственность за ошибки, в которых повинны все. В самом деле, Муциан своими двусмысленными письмами тормозил продвижение победоносных войск; Антоний был виноват в том, что неожиданно начал прислушиваться к его советам, скорее всего стремясь переложить на Муциана ответственность за затяжку кампании; другие полководцы считали, что война выиграна, и думали лишь о том, как бы под конец отличиться. Даже Петилий Цериал, которому было поручено провести тысячу всадников через Сабинское поле и вступить в Рим по Соляной дороге, откуда вителлианцы их меньше всего ожидали[196], и тот не торопился выполнить возложенную на него миссию. Весть об осаде Капитолия положила конец всем этим колебаниям.
79. Антоний двигался к Риму по Фламиниевой дороге. Глубокой ночью дошел он до Красных камней[197] и тут понял, что опоздал: его ждали вести о страшных событиях в столице — убит Сабин, Капитолий горит, в городе паника. Говорили также, что народ и рабы вооружаются, дабы выступить на защиту Вителлия. Потерпел поражение со своими конниками и Петилий Цериал. Считая, что враг уже разбит, он стремился вперед, не соблюдая никакой осторожности, и вдруг наткнулся на засаду из всадников и пехотинцев. Битва развернулась под самым Римом, среди садов и строений, на кривых извилистых улицах, хорошо знакомых вителлианцам, но внушавших страх конникам Цериала. Последние к тому же далеко не все сражались с одинаковым пылом: среди них было немало солдат, совсем недавно, под Нарнией, перешедших на сторону флавианцев, и теперь они старались угадать, какая партия возьмет верх. В этой битве префект конницы Юлий Флавиан был захвачен в плен; остальные в беспорядке бежали; победители преследовали их только до Фиден[198].
80. Этот успех еще усилил энтузиазм народа. Городская чернь взялась за оружие. Мало у кого были настоящие боевые щиты, большинство вооружилось чем попало, толпа размахивала дротами — требовала сигнала к началу битвы. Вителлий поблагодарил их и приказал двигаться на защиту города. Собравшийся тут же сенат назначил легатов, которые отправились в войско противника, чтобы убедить его, якобы ради интересов государства, согласиться на мир и прекращение военных действий. Судьба этих легатов сложилась по-разному. Явившиеся к солдатам Петилия Цериала, которые и слышать не хотели о перемирии, едва не погибли. Ранен был претор Арулен Рустик[199]: ярость солдат вызвало не только звание посла и претора, над которым они надругались, но и горделивое достоинство, отличавшее этого мужа. Свиту его разогнали, первый ликтор[200], осмелившийся расчищать в толпе дорогу претору, был убит. Охваченные бешеной ненавистью к своим же согражданам, забыв о неприкосновенности послов, которую чтят даже чужеземные племена, они убили бы легатов под самыми стенами родного города, если бы Цериал не приказал окружить прибывших охраной. Несколько лучший прием встретили посланцы сената, явившиеся к Антонию, — не потому, что солдаты здесь были дисциплинированнее, а потому, что командующий крепче держал их в руках.
81. В число легатов замешался всадник Музоний Руф, ревностный последователь философов и поклонник стоицизма[201]. Попав в армию вителлианцев, он принялся толковать окружавшим его вооруженным солдатам о благах мира и ужасах войны. Некоторые смеялись, большинству было противно. Его бы, наверное, избили и выгнали, но он вовремя послушался людей, убеждавших его по-хорошему, и, испугавшись сыпавшихся на него со всех сторон угроз, прекратил свои неуместные поучения. Навстречу армии вышли также девы-весталки, несшие Антонию письмо Вителлия. Он просил отложить решающее сражение на один день и уверял, что благодаря этой отсрочке легче удастся все уладить. Антоний с почетом отпустил весталок, Вителлию же написал, что после убийства Сабина и пожара Капитолия ни о каких переговорах не может быть и речи[202].
82. Все же Антоний, собрав войска на сходку, пытался уговорить их разбить лагерь возле Мульвиева моста и отложить вступление в город до следующего дня. Он стремился добиться этой отсрочки, ибо опасался, что разгоряченные битвой солдаты не пощадят ни народ, ни сенат, ни даже храмы и святилища богов. Но солдаты были уверены, что любое промедление только на руку врагу. К тому же они видели вымпелы, развевавшиеся на окружающих холмах: хотя под этими вымпелами стояли всего-навсего мирные граждане, солдатам казалось, что там их ждет готовая к бою вражеская армия. Войско разделилось на три колонны: одна осталась на Фламиниевой дороге, другая пошла в наступление берегом Тибра, третья двигалась по Соляной дороге к Коллинским воротам[203]. Одной кавалерийской атаки оказалось достаточно, чтобы разогнать чернь, и наступавшие столкнулись с войсками вителлианцев, тоже разделенными на три колонны. Битва на подступах к городу шла во многих местах и с переменным успехом, но в большинстве случаев все же победа оставалась за флавианцами, у которых были лучше командиры. Тяжело пришлось тем флавианцам, которые, вступив в город, свернули налево[204] и оказались в узких, скользких улицах, примыкающих к Саллюстиевым садам[205]. Вителлианцы, взобравшись на стены садов, забрасывали наступавших камнями и дротами и до самых сумерек не давали им продвинуться вперед, пока, наконец, их самих не окружили конники, прорвавшиеся в город через Коллинские ворота. Местом битвы стало и Марсово поле[206]. Удача сопутствовала флавианцам, которых окрыляла память о множестве прежних побед, вителлианцам же придавало силы одно лишь отчаяние; их обращали в бегство, но они снова и снова собирались то в одной, то в другой части города.
83. Жители, наблюдавшие за этой борьбой, вели себя как в цирке — кричали, аплодировали, поощряли то тех, то этих. Если одни брали верх и противники их прятались в лавках или домах[207], чернь требовала, чтобы укрывшихся выволакивали из убежища и убивали; при этом ей доставалась большая часть добычи: поглощенные убийством и борьбой, солдаты предоставляли толпе расхватывать награбленное. Охваченный жестокостью, город был неузнаваем и безобразен. Бушует битва, падают раненые, а рядом люди принимают ванны или пьянствуют; среди потоков крови и валяющихся мертвых тел разгуливают уличные женщины и мужчины, подобные им[208]; роскошь и распутство мирного времени, а рядом — жестокости и преступления, как в городе, захваченном врагом; безумная ярость и ленивый разврат владеют столицей. Столкновения вооруженных войск бывали в Риме и раньше, дважды приносили они победу Луцию Сулле[209], один раз Цинне[210]; и в ту пору тоже совершалось не меньше жестокостей. Но только теперь появилось это чудовищное равнодушие. Никому и в голову не пришло хоть на минуту отказаться от обычных развлечений; события, разыгрывавшиеся на улицах города, казалось, придавали празднику еще больше блеска. Все ликовали, все захлебывались от восторга — и не оттого, что сочувствовали какой-либо из партий, а оттого, что радовались несчастьям своего государства.
84. Труднее всего оказалось взять лагерь[211], последнюю опору еще оставшейся в живых горстки смельчаков. Сопротивление их еще больше раззадорило флавианцев, особенно бойцов старых когорт[212]. Строй черепахой, осадные машины, зажигательные снаряды, насыпи — все приемы, используемые при осаде укрепленных городов, были пущены в ход разом. «Только, если возьмем лагерь, — кричали нападающие, — имеет смысл все, что нам пришлось вынести, — сражения, бедствия, труды. Город принадлежит сенату и римскому народу, храмы — богам, но честь солдата — в лагере: там его родина, там его дом. Если не удастся захватить лагерь сейчас, будем сражаться всю ночь, а своего добьемся!». Вителлианцы уступали противнику числом, удача покинула их, и они выбрали единственное, что остается в утешение побежденным, — затягивать борьбу, противиться наступлению мира, обагрять кровью дома и алтари. На площадках башен и на валах испускали дух умирающие. Наконец, ворота рухнули, но оставшиеся в живых вителлианцы сбились в кучу и отвечали ударом на каждый удар врага. Они погибли все до единого, но падали только лицом к противнику и, даже расставаясь с жизнью, думали лишь о том, чтобы умереть со славой.
Когда город был взят, Вителлий вышел через задние комнаты дворца, сел в носилки и приказал отнести себя на Авентин, в дом жены. Он рассчитывал незамеченным переждать здесь день, а затем пробраться в Таррацину, к брату и его когортам. Вителлий отличался редким непостоянством мыслей; к тому же, когда человек испуган, ему всегда самым ненадежным представляется именно то положение, в котором он сейчас находится; Вителлий поколебался и вернулся на Палатин. Дворец стоял пустой и безлюдный. Даже самые ничтожные рабы разбежались или прятались, едва завидев приближающегося принцепса. Тишина и одиночество наводили жуть. Вителлий открывал одну дверь за другой и отшатывался в ужасе: покои были пусты. Устав скитаться по дворцу, он было спрятался в постыдное место[213], но трибун когорты Юлий Плацид вытащил его оттуда. Со скрученными за спиной руками, в разодранной одежде его повели по городу. Зрелище было отвратительное, многие выкрикивали ругательства и оскорбления, не плакал никто: когда смерть так позорна, состраданию нет места. Какой-то солдат из германской армии попался им навстречу и неожиданно с неистовой злобой набросился на Вителлия. Так и осталось непонятным, чего он хотел, — излить свою ярость на принцепса, избавить его от издевательств или убить трибуна. Он успел отрубить трибуну ухо и тут же пал под ударами солдат.
85. Подталкиваемый со всех сторон остриями мечей и копий, Вителлий вынужден был высоко поднимать голову; удары и плевки попадали ему прямо в лицо, он видел, как валятся с пьедесталов его статуи, видел ростральные трибуны, узнал место, где был убит Гальба. Наконец, его поволокли к Гемониям, куда еще так недавно бросили тело Флавия Сабина[214]. Глумившемуся над ним трибуну он сказал: «Ведь я был твоим императором», — то были единственные достойные слова, которые пришлось от него услышать. Произнеся их, он тут же упал, покрытый бесчисленными ранами, и чернь надругалась над мертвым так же подло, как она пресмыкалась перед живым.
86. Вителлий был родом из Луцерии[215]. Смерть застигла его, когда он завершал пятьдесят седьмой год своей жизни. Консульские и жреческие должности, славное имя, место среди первых людей государства — все досталось ему без всяких заслуг, лишь благодаря славе отца[216]. Люди, вручившие ему принципат, толком его не знали. Мало кому удавалось, действуя честно и благородно, добиться такой преданности солдат, какую Вителлий завоевал своей глупостью и беспомощностью. Были в нем, правда, и простодушие, и широта, но ведь это свойства, которые, если не управлять ими, обращаются на погибель человеку. Он искренне думал, что дружбу приобретают не верностью, а богатыми подарками, и поэтому окружали его не столько друзья, сколько наемники. Свержение Вителлия было, бесспорно, на пользу государству, но людям, покинувшим его ради Веспасиана, не стоит изображать свое предательство как заслугу: немногим ранее они так же изменили Гальбе.
День клонился к вечеру. Магистраты и сенаторы либо бежали из города, либо прятались у своих клиентов, так что созвать заседание сената оказалось невозможным. Убедившись, что ему больше не грозит никакая опасность, Домициан явился к полководцам флавианской армии и тут же был провозглашен Цезарем[217]. Солдаты как были после боя, увешанные оружием, толпой проводили его в дом отца.
(обратно)Книга IV
1. Вителлий был убит; война кончилась, но мир не наступил. Победители, полные ненасытной злобы, с оружием в руках, по всему городу преследовали побежденных; всюду валялись трупы; рынки и храмы были залиты кровью. Сначала убивали тех, кто случайно попадался под руку, но разгул рос, вскоре флавианцы принялись обшаривать дома и выволакивать укрывавшихся там. Любого, кто обращал на себя внимание высоким ростом[1] или молодостью, будь то воин или житель Рима, тотчас же убивали. На первых порах победители еще помнили о своей вражде к побежденным и жаждали только крови, но вскоре ненависть отступила перед алчностью. Под тем предлогом, что жители могут скрывать у себя вителлианцев, флавианцы запретили что-либо прятать или запирать и стали врываться в дома, убивая всех сопротивлявшихся. Среди самых бедных плебеев и самых подлых рабов нашлись такие, что выдали своих богатых хозяев; других предавали друзья. Казалось, будто город захвачен врагами; отовсюду неслись стоны и жалобы; люди с сожалением вспоминали о наглых проделках солдат Отона и Вителлия, вызывавших у них в свое время такую ненависть. Полководцы флавианской партии сумели разжечь гражданскую войну, но оказались не в силах справиться с победившими солдатами: во время смут и беспорядков чем хуже человек, тем легче ему взять верх; править же в мирное время способны лишь люди честные и порядочные.
2. Домициан принял титул Цезаря и поселился во дворце. Он не спешил взять на себя заботы, сопряженные с этим званием, и походил на сына принцепса лишь своими постыдными и развратными похождениями. Префектом претория стал Аррий Вар, высшая власть сосредоточилась в руках Прима Антония. Он присваивал принадлежавшие принцепсам деньги и рабов и вел себя в императорском дворце как в захваченной Кремоне. Остальные командиры, то ли слишком скромные, то ли недостаточно решительные, никак не проявили себя во время войны и теперь, при дележе добычи, тоже остались в стороне. Жители столицы, запуганные и готовые пресмыкаться перед новым принцепсом, требовали послать войска навстречу возвращавшемуся из Таррацины Луцию Вителлию, дабы затушить последний очаг войны. Вскоре кавалерия действительно получила приказ выступить к Ариции, а легионы расположились в Бовиллах[2]. Луций Вителлий не стал медлить и сразу же вместе со всеми своими когортами сдался на милость победителя; его солдаты, испуганные и раздраженные, побросали оружие, принесшее им столько несчастий. Нескончаемая колонна пленных, окруженная вооруженными легионерами, вступила в столицу. Вителлианцы шли мрачные, суровые, не замечая ни рукоплесканий, ни насмешек толпы, ни на одном из лиц ни малейшего признака слабости; несколько человек вырвались за шеренгу конвойных и были тут же убиты; остальных отвели в заключение. Никто из пленных не проронил ни одного недостойного слова, и подобающая их мужеству слава осталась, несмотря на унизительное положение, незапятнанной. Луций Вителлий был убит. Пороками равный брату, он с большей энергией защищал принципат Вителлиев и был ближе к Авлу в дни его падения, чем в дни счастья.
3. В это же время Луцилий Басс[3] был отправлен во главе летучих конных отрядов на усмирение Кампании, хотя города этой провинции больше ссорились между собой, чем бунтовали против власти принцепса. С появлением солдат всюду водворилось спокойствие, и мелкие города не понесли никакого наказания. В Капуе[4] разрушили несколько лучших домов и разместили на зимние квартиры третий легион, но зато жители Таррацины[5] в возмещение понесенного ими ущерба не получили ничего: всегда легче воздать за зло, чем за добро; люди тяготятся необходимостью проявлять благодарность, но с радостью ищут случая проявить мстительность. Единственным утешением была казнь принадлежавшего Вергилию Капитону раба, который выдал Таррацину врагу, о чем я уже рассказывал прежде[6]; его распяли с тем самым кольцом на пальце[7] которое он получил от Вителлия и постоянно носил. В Риме тем временем сенат присвоил Веспасиану все почести и звания, обычно полагающиеся принцепсу. Сенаторы были полны радостных надежд: гражданская война, вспыхнувшая в Галлии и Испании[8], перекинувшаяся сначала в Германию[9], потом в Иллирию, наконец — в Египет, Иудею и Сирию[10], охватившая все провинции и все армии, как очистительное пламя пронеслась по миру и теперь, казалось, близилась к концу. Еще более обрадовало всех письмо Веспасиана, написанное им якобы до окончания войны, — во всяком случае форма письма производила такое впечатление. Веспасиан принял тон настоящего принцепса, все внимание уделял большим государственным вопросам, а о себе упоминал как о простом гражданине. Сенат со своей стороны проявил готовность ему служить: Веспасиан и сын его Тит получили звание консулов, Домициан стал претором с консульскими полномочиями[11].
4. Муциан тоже прислал сенату письмо, вызвавшее много разговоров. «Если мы имеем дело с частным человеком, — рассуждали сенаторы, — то на каком основании обращается он к сенату с официальным посланием? Разве не мог он несколькими днями позже сказать то же самое на словах? Запоздалые нападки на Вителлия тоже не свидетельствуют о благородстве, а хвастливое заявление о том, что он, Муциан, держал в своих руках императорскую власть и добровольно даровал ее Веспасиану, непочтительно по отношению к государству и оскорбительно для принцепса». Впрочем, Муциана ненавидели тайно, превозносили явно: после многословных восхвалений ему присудили триумфальные знаки отличия, — как говорилось, за поход против сарматов, на самом деле — за победу в гражданской войне[12]. Консульские знаки отличия получил Прим Антоний, преторские[13] — Корнелий Фуск и Аррий Вар. Потом вспомнили и о богах и приняли решение восстановить Капитолий. Все эти меры, одну за другой, предлагал кандидат в консулы Валерий Азиатик[14], остальные лишь улыбками и жестами выражали свое одобрение. Немногие, либо занимавшие особо почетное положение, либо особо изощренные в лести, заявляли о своем согласии в тщательно составленных речах. Когда очередь дошла до кандидата в преторы[15] Гельвидия Приска, он произнес речь, в которой, отдав должное заслугам нового принцепса, не сказал ни одного слова неправды. Выступление его вызвало восторг сенаторов. Этот день стал для Гельвидия самым важным в жизни, — с той минуты громкая слава и тяжкие несчастья сопутствовали ему повсюду.
5. Имя этого мужа встречается нам уже второй раз[16], и дальше о нем придется говорить еще чаще. Как видно, сам ход повествования требует, чтобы здесь я остановился и сказал несколько слов о его жизни, образе мыслей и судьбе. Гельвидий Приск родился в Карецинской области[17], в муниципии Клувиях, от отца примипилярия. Еще юношей он посвятил все свои блестящие способности занятию возвышенными науками[18], — не для того чтобы подобно многим прикрывать громкими словами постыдное безделье, но дабы укрепить свой дух мужеством, очиститься от всего пустого и случайного и затем отдаться государственной деятельности. Он последовал за наставниками, учившими, что единственное благо — честность, единственное зло — позор, власть же, знатность и все прочее, постороннее душе человеческой, — не благо и не зло. Гельвидий только еще отбыл службу в должности квестора[19], когда Пэт Тразея выбрал его себе в зятья; ценить свободу было главное, чему он научился у тестя. Как гражданин и сенатор, как муж, зять и друг, он был всегда неизменен: презирал богатство, неуклонно соблюдал справедливость и не ведал страха.
6. Некоторые считали чрезмерным его стремление к славе, — известно, что даже самым мудрым людям от честолюбия удается избавиться позже, чем от других страстей. После гибели тестя[20] Гельвидий был сослан, но при Гальбе вернулся в Рим и выступил как обвинитель Эприя Марцелла, по доносу которого казнили Тразею. Сенат разделился, одни считали стремление Гельвидия отомстить за тестя справедливым, другие — чрезмерным: если бы Марцелл был осужден, по этому же обвинению пришлось бы казнить целые толпы людей. Насколько напряженной на первых порах была борьба, можно судить по замечательным речам, произнесенным обоими противниками. Вскоре, однако, Гельвидий снял свое обвинение — его просили об этом многие сенаторы, да и Гальба занял слишком неопределенную позицию. Мнения людей всегда несходны, и поступок Гельвидия вызвал самые разные толки: одни хвалили его за умеренность, другие порицали за недостаток настойчивости. В тот день, когда сенат признал Веспасиана верховным владыкой империи, было решено отправить к нему легатов. По этому поводу между Гельвидием и Эприем снова началась бурная ссора: Приск настаивал на том, чтобы принесшие присягу магистраты поименно назначили легатов, Марцелл поддерживал мнение кандидата в консулы и требовал решить дело жребием.
7. Марцелл тем более рьяно отстаивал это предложение, что защищал здесь свои собственные интересы: если бы его не назначили, все бы решили, что его считают хуже других. Постепенно противники перешли от колкостей к длинным речам, полным взаимной ненависти. Гельвидий язвительно спрашивал Марцелла, почему он так боится решения магистратов, ведь он богат, красноречив и превосходил бы многих других кандидатов, если бы за ним по пятам не шла память о былых злодеяниях. Жребий не разбирает, кто хорош, кто дурен; голосование же и обсуждение потому и приняты в сенате, что таким образом можно ясно представить себе и жизнь человека, и его репутацию. Интересы государства, уважение к Веспасиану требуют, чтобы ему навстречу были посланы те, кого сенат считает самыми честными и благородными, люди, от которых император услышит лишь достойные речи. Веспасиан был другом Тразеи, Сорана, Сентия[21]; может быть, сейчас и не время карать тех, кто выступал с обвинениями против этих мужей, но выставлять их обвинителей напоказ тоже не следует. Посылая навстречу Веспасиану легатов, избранных сенатам, мы как бы указываем ему, кому следует доверять и кого опасаться. Хорошие друзья — главная опора всякой справедливой власти. Довольно с Марцелла и того, что по его наущению Нерон погубил стольких невинных людей, пусть наслаждается полученными за это деньгами[22] и собственной безнаказанностью, Веспасиана же пусть предоставит тем, кто честнее его.
8. Марцелл в своей речи говорил, что все эти нападки направлены против предложений, внесенных не им, а кандидатом в консулы; мнение последнего, впрочем, вполне соответствует древним установлениям, согласно которым состав легатов определялся жребием, дабы не дать проявиться честолюбию и личной вражде. «Не случилось ничего, что заставляло бы считать эти древние установления устаревшими или позволяло бы использовать почести, подобающие принцепсу, для унижения других. Можно любым способом выразить новому принцепсу свою покорность, но более всего надо опасаться, как бы кто-либо не рассердил его своим упрямством, именно сейчас, когда он еще не освоился со своим положением, внимательно вглядывается во все лица и прислушивается ко всем речам. Я хорошо знаю, в какое время живем мы и какое государство создали наши отцы и деды. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями. Я молюсь, чтобы боги ниспосылали нам хороших императоров, но смиряюсь с теми, какие есть. Тразея погиб не столько от моей речи, сколько по общему решению сената, — Нерон любил тешить свою жестокость такого рода зрелищами, и дружба его была для меня не менее ужасна, чем для других изгнание[23]. Пусть Гельвидий равняется мужеством и доблестью с Катонами и Брутами[24]; я — всего лишь один из членов этого сената, пресмыкавшийся и унижавшийся вместе со всеми. Я даже дал бы Приску совет: не ставить себя выше принцепса[25], не пытаться навязывать Веспасиану свои мнения, — он старик, триумфатор, отец взрослых детей. Плохим императорам нравится неограниченная власть, хорошим — умеренная свобода».
Доводы обоих противников, изложенные в яростном споре, были восприняты по-разному: победили те, которые настаивали на избрании легатов по жребию: рядовые сенаторы предпочитали не отступать от обычая, люди выдающиеся сочли за благо согласиться с ними, опасаясь возбудить зависть, если окажутся избранными.
9. Вскоре возникла новая распря. Преторы, распоряжавшиеся казной (ибо в те времена казной еще ведали преторы)[26], пожаловались на оскудение государственных денежных запасов и потребовали, чтобы было принято постановление, ограничивающее расходы. Кандидат в консулы, напомнив, каких огромных денег требует управление империей и как трудно найти средства борьбы с истощением казны, советовал предоставить решение вопроса принцепсу; Гельвидий же официально предложил, чтобы сенат сам принял постановление по этому поводу. Консулы уже приступили к опросу мнений, когда народный трибун Вулкаций Тертуллин воспользовался своим правом вето и запретил выносить решение в отсутствие принцепса. Гельвидий предложил далее, чтобы государство взяло на себя восстановление Капитолия, Веспасиан же оказал бы определенную помощь. Наиболее благоразумные встретили это предложение молчанием и вскоре о нем забыли. Кое-кто, однако, его запомнил.
10. Затем Музоний Руф напал на Публия Целера[27], утверждая, что тот своими ложными показаниями погубил Барею Сорана. Все понимали, что разбор этого дела грозит снова превратить сенат в арену взаимных нападок и раздоров, но подлость и вина Целера были столь очевидны, что спасти его от расследования оказалось невозможным. Все чтили память Сорана, Целер же, некогда обучавший Барею философии, а позже выступивший против него свидетелем, предал и опозорил то самое чувство дружбы, которое так красноречиво восхвалял. Разбор дела назначили на следующий день. Общее внимание было сосредоточено не столько на Музонии или Публии, сколько на Приске, Марцелле и других, стремившихся отомстить друг другу.
11. Между сенаторами царили раздоры, побежденные скрывали в душе злобу, победителей никто не уважал, законы не соблюдались, принцепс находился вдали от Рима. Таково было положение, когда Муциан вступил в город и немедленно сосредоточил всю власть в своих руках. Он отстранил от дел Прима Антония и Вара Аррия и относился к ним с ненавистью, которую, хоть и без большого успеха, старался скрыть за внешней любезностью. Столица, однако, привыкла безошибочно угадывать, кто находится в опале, — вся преданность и лесть тут же обратились на Муциана. Он тоже знал, как себя вести: его постоянно окружали вооруженные солдаты, он жил каждый день в новом дворце, беспрерывно менял одни сады на другие, и весь его вид, походка, повсюду сопровождавшая его охрана показывали, что он-то и есть настоящий принцепс, хоть и не соглашается принять это звание. Больше всего страху вызвало убийство Кальпурния Галериана, сына Гая Пизона[28]. Поведение его не давало поводов для подозрений, но окруженное почетом знатное имя и молодость привлекали к нему симпатии простонародья. В городе, еще не успокоившемся после пережитых волнений и жадно ловившем любые новости, нашлись люди, распускавшие бессмысленные слухи о том, что Галериан может стать принцепсом. Понимая, что убийство Кальпурния прямо в Риме будет слишком заметно, Муциан приказал взять его под стражу и отвезти по Аппиевой дороге[29] к сороковому мильному камню от города; здесь ему перерезали вены, и он умер от потери крови. Юлий Приск, бывший при Вителлии префектом преторианских когорт, наложил на себя руки, — ничто, кроме стыда, не принуждало его к этому. Алфен Вар остался жить после всех содеянных им подлостей и глупостей. Азиатик был вольноотпущенник, и смертью, достойной раба[30], заплатил за власть, которой так дурно пользовался.
12. В эти же дни в городе все чаще стали говорить о великой беде, случившейся в Германии[31], впрочем, разговоры эти не вызывали ни у кого особого огорчения. Граждане спокойно рассуждали о гибели целых армий, о захвате противником зимних лагерей легионов, о том, что галльские провинции готовы отпасть от империи[32]. Теперь мне следует вернуться назад, дабы рассказать о причинах, породивших эту войну, и о племенах, как чужих, так и союзных Риму, которые оказались в нее втянутыми. Батавы до своего переселения за Рейн составляли часть народа хаттов[33]; из-за внутренних распрей они переселились на самую отдаленную часть галльского побережья, где в ту пору еще не было оседлых жителей, а также заняли расположенный поблизости остров, омываемый спереди морем Океаном, а сзади и с боков — Рейном. Ни богатство и могущество Рима, ни союз с другими племенами не укротили их, и они до сих пор поставляют империи только бойцов и оружие[34]. Закаленные в войнах с германцами[35], батавы приумножили свою славу, сражаясь в Британии[36], — туда было переброшено несколько их когорт, которыми по старинному обычаю командовали воины, происходившие из самых знатных родов. Еще у себя дома они начали проводить наборы в конные войска, знаменитые главным образом искусством форсировать вплавь реки: их отряды с оружием в руках переплывали Рейн, не слезая с коней и не нарушая строя.
13. Среди батавов выделялись Юлий Цивилис и Клавдий Павел, оба из царского рода. Павла Фонтей Капитон[37] казнил по ложному обвинению в бунте, Цивилиса же заковали в цепи и отправили к Нерону. Гальба освободил его, но при Вителлии над ним снова нависла угроза гибели, ибо армия настойчиво требовала его казни. Все это озлобило Цивилиса, и он затаил в душе надежду использовать наши неудачи для мести Риму. Однако Цивилис был умнее, чем большинство варваров; он даже считал себя достойным равняться с Серторием и Ганнибалом, ибо лицо его было так же обезображено, как у них[38]. Понимая, что открытое выступление против римлян поставит его под удар римских армий, он решил принять участие в гражданской войне и прикинулся сторонником Веспасиана. Ему тем удобнее было это сделать, что у него в руках находилось письменное распоряжение Прима Антония, предписывавшее ему вызвать для вида волнения среди германских племен, дабы задержать легионы, расположенные в этих провинциях, и не дать им прийти на помощь Вителлию. Того же добивался от Цивилиса во время их личных встреч и Гордеоний Флакк; последний все больше склонялся на сторону Веспасиана и беспокоился о судьбе государства, которому грозила гибель, если бы гражданская война вспыхнула с новой силой и тысячи вооруженных солдат хлынули в Италию.
14. Решившись на восстание, Цивилис счел за благо до времени не открывать, как далеко простираются его замыслы, и, направляя развитие событий в выгодную ему сторону, рассчитывал, что ход их сам покажет, как действовать далее. В это время по приказу Вителлия проводился набор батавских юношей в армию. Делу этому, и без того нелегкому, мешали жадность и пороки людей, которым оно было поручено: они захватывали стариков и увечных, чтобы потом отпустить за выкуп, принуждали к разврату красивых мальчиков, благо почти все подростки в этой стране отличаются высоким ростом. Батавы пришли в ярость, и зачинщики готового уже вспыхнуть мятежа убедили их отказаться выдать рекрутов. Цивилис пригласил в священную рощу знатных людей своего племени и самых решительных из простонародья, якобы для того, чтобы угостить их ужином. Когда под влиянием веселого ночного пира страсти их разгорелись, он начал говорить, — сперва повел речь о славе своего племени, потом об оскорблениях и насилиях, которые приходится сносить батавам под властью Рима. «Некогда мы были союзниками, — говорил Цивилис, — теперь с нами обращаются как с рабами. Давно прошло время, когда нами правили присланные из Рима легаты. Они приезжали с огромной свитой, они были спесивы, и все же префекты[39] и центурионы, во власть которых мы отданы теперь, еще хуже. Каждый из них старается награбить как можно больше, а когда он напьется досыта нашей крови, его отзывают и на его место присылают другого, который старается придумать новые уловки и новые поводы для вымогательства. Теперь на нас обрушился этот набор, похищающий, подобно смерти, сына у родителей и брата у брата. Между тем никогда еще дела римлян не были так плохи; в их зимних лагерях — одни лишь старики да награбленная добыча. Поднимите же голову, оглянитесь окрест и перестаньте дрожать перед громкими названиями римских легионов. У нас — могучие пешие и конные войска, германцы нам братья, галлы хотят того же, что мы; даже римляне могут счесть эту войну небесполезной для себя. Разобьют нас — мы скажем, что действовали по приказу Веспасиана, а победим — никто не посмеет спросить у нас отчета».
15. Собравшиеся слушали Цивилиса с большим сочувствием, и он тут же связал их обрядами и заклятиями, полагающимися у варваров в таких случаях. К каннинефатам[40] были отправлены послы с поручением убедить их поддержать затеваемое предприятие. Это племя, похожее на батавов по происхождению, языку и доблести, но уступающее им численностью, занимает часть острова, о котором упоминалось выше. Цивилис тайно привлек на свою сторону приданные британским легионам батавские когорты, которые были, как я рассказывал, переведены в Германию и находились в это время в Могунциаке[41]. Среди каннинефатов большой известностью пользовался человек по имени Бриннон, происходивший от знатных родителей и отличавшийся безграничной, хоть и бестолковой, храбростью. Его отец много раз восставал против римлян и в свое время отказался принимать участие в смехотворных походах императора Гая[42], сумев при этом избежать наказания. Слава, окружавшая эту мятежную семью, привлекала к Бриннону симпатии соплеменников. Каннинефаты поставили его на большой щит и подняли на плечи; он стоял, слегка покачиваясь, высоко над головами людей; это значило, что Бриннона выбрали вождем племени. Он тут же договорился с живущим за Рейном племенем фризов[43], и они вместе устремились к зимним лагерям двух когорт[44], расположенных вблизи от берега Океана. Солдаты не ожидали нападения, да если бы и ожидали, все равно не могли бы справиться с противником, ибо их было слишком мало. Германцы захватили и разграбили лагерь, а потом бросились преследовать и убивать римских торговцев и обозных слуг, которые, считая, что время мирное, разбрелись по всей округе. Угроза нависла и над другими укреплениями. Видя, что защитить их не удастся, префекты когорт распорядились их сжечь. Все солдаты, когорты и отдельные отряды собрались в возвышенной части острова под командованием примипилярия[45] Аквилия. То была армия лишь по названию, не представлявшая собой подлинной боевой силы: Вителлий еще прежде вызвал из расположенных здесь когорт всех лучших бойцов и заменил их нервиями[46] и германцами, набранными по окрестным селам; их было мало, и они тяготились своим новым положением.
16. На первых порах Цивилис предпочитал действовать хитростью. Он обрушился на префектов с обвинениями, укоряя их в том, что они бросили доверенные им укрепления, убеждал каждого вернуться в свой зимний лагерь и обещал, что сам со своей когортой сумеет подавить мятеж каннинефатов. Все, однако, уже разгадали коварный замысел, скрытый за этими советами. Цивилис хотел, чтобы когорты разошлись по своим лагерям, где ему было бы легче уничтожить их поодиночке. Все больше признаков указывало на то, что не Бриннон, а именно Цивилис руководит восстанием; германцы же, как всегда радостно возбужденные войной, и вовсе перестали это скрывать. Увидев, что хитростью немногого добьешься, Цивилис стал действовать силой. Он расположил каннинефатов, фризов и батавов тремя клиньями, острия которых сходились у Рейна, в том месте, куда, после пожара наших укреплений, были сведены римские корабли. Бой едва начался, как тунгры перекинулись на сторону Цивилиса; союзники и враги вместе набросились на ошеломленных изменой солдат и уничтожили их. С таким же коварством вели себя и варвары бывшие на кораблях. Гребцы, среди которых было немало батавов, прикинувшись неловкими и неумелыми, сначала срывали все маневры матросов и солдат, потом повернули суда кормой к берегу, занятому врагами, и, наконец, перебили рулевых и центурионов, не соглашавшихся перейти на их сторону. Вскоре в руках врагов оказались все двадцать четыре судна, составлявшие наш флот; одни были захвачены, другим пришлось сдаться.
17. Эта победа не только тотчас же прославила батавов, но и в будущем принесла им немалую выгоду. Они получили оружие и корабли, которых им не хватало, все восхищались мужеством своих освободителей, и слава о них разошлась широко по землям Германии и Галлии. Германцы тут же прислали послов с предложением помощи, галльские племена Цивилис старался склонить на свою сторону с помощью подарков и разного рода хитростей. Он отправил обратно в свои племена префектов побежденных когорт, солдатам же предоставил выбор — оставаться или разойтись по домам; остававшимся было обещано повышение по службе, возвращавшимся домой — захваченные у римлян трофеи. Он вел с галлами тайные переговоры, убеждая их сбросить, наконец, рабство, лицемерно называемое мирной жизнью, в котором они изнывают уже столько лет. «Батавы освобождены от податей, — говорил он галлам, — и все-таки мы взялись за оружие. Мы поднялись против наших общих угнетателей и в первом же бою добились победы. Почему галлам тоже не сбросить с себя иго римлян? Много ли их осталось в Италии? Ведь они удерживают провинции под своей властью с помощью самих же провинциалов. Нынешнее положение не имеет ничего общего с тем, что было при Виндексе. Тогда эдуев и арвернов[47] разгромила батавская кавалерия, в число вспомогательных отрядов Вергиния входили белги, значит, Галлии нанесли поражение по сути дела сами же галлы[48]. Теперь мы выступаем все заодно, мы владеем боевым опытом и военными знаниями, накопленными в римских лагерях, за мной идут когорты ветеранов, только что нанесшие поражение легионам Отона[49]. Пусть Сирия, Азия, пусть весь Восток, привыкший сносить власть царей, пребывает и дальше в рабстве, — в Галлии живо еще немало людей, родившихся до того, как вы начали платить подати[50]. Недавно мы уничтожили Квинтилия Вара и избавили Германию от рабства, дерзнув бросить вызов не принцепсу Вителлию, а самому Цезарю Августу[51]. Свободой природа наделила даже бессловесных скотов, доблесть же — благо, данное лишь человеку, и сами боги помогают герою. Мы — сами себе хозяева, римляне связаны по рукам и ногам; мы полны сил, они истощены своими войнами. Пока одни помогают Веспасиану, а другие Вителлию, мы можем избавиться от тех и других». Такими речами Цивилис старался укрепить свое влияние в галльских и германских провинциях. Если бы ему удалось осуществить свои планы, он сделался бы верховным владыкой этих могучих и богатых народов.
18. Флакк Гордеоний сначала делал вид, будто не замечает поведения Цивилиса, и дал ему время до конца раскрыть свои намерения. Когда же перепуганные гонцы принесли ему известия о взятии лагерей, разгроме когорт и изгнании римлян с принадлежавшего батавам острова, Флакк приказал легату Мунию Луперку, возглавлявшему зимние лагеря двух легионов[52], выступить на врага. Луперк тут же собрал своих легионеров, живших рядом с лагерем убиев, и располагавшуюся неподалеку конницу тревиров и переправил все эти силы на остров, придав им еще отряд батавской кавалерии. Эти батавы давно уже решили изменить римлянам, но считали, что принесут своим больше пользы, если перейдут на их сторону прямо на поле боя. Цивилис велел окружить себя значками разбитых когорт, которые внушали бы врагам ужас и напоминали о понесенном только что поражении, бойцам же Цивилиса — о недавно одержанной славной победе. Позади армии Цивилис приказал поставить жен и малых детей, собранных со всего племени, и в их числе — свою мать и сестер. Они должны были воодушевлять бойцов на победу и служить им укором в случае поражения. Пение мужчин, вопли женщин громом прокатились по рядам, легионы и когорты отвечали им слабо, неуверенно. Еще до начала сражения обнажился левый фланг римской армии: занимавшие его батавские конники перешли к своим, и Цивилис тут же послал их в атаку. Легионеры, хотя и в столь трудном положении, сумели, однако, сохранить строй и не бросить оружия. Зато убии и тревиры, составлявшие вспомогательные отряды, самым постыдным образом разбежались по всей округе. Германцы бросились преследовать их, и легионы получили возможность отступить в лагеря, известные под названием Старых. Префекта батавской конницы Клавдия Лабеона, соперничавшего с Цивилисом за влияние на соплеменников, увезли в земли фризов: Цивилис понимал, что, убив Лабеона, может навлечь на себя ненависть соплеменников, оставить же его в живых означало сохранить повод для будущих раздоров.
19. Около этого же времени посланный Цивилисом вестник нагнал на дороге когорты батавов и каннинефатов, по приказу Вителлия двигавшиеся к Риму[53]. Солдаты тотчас же начали грубить командирам и нагло требовать награды за проделанный поход, удвоения жалованья, увеличения числа конных бойцов[54]. Вителлий действительно обещал им все это, но сейчас они возобновили свои домогательства вовсе не с целью получить обещанное, а в поисках повода для мятежа. Согласившись на многие из их требований, Флакк достиг лишь того, что батавы и каннинефаты выдвинули новые претензии, которые, как они заведомо знали, удовлетворить невозможно. Они отказались подчиняться приказам Флакка и двинулись в Нижнюю Германию на соединение с Цивилисом. Гордеоний созвал трибунов и центурионов, дабы посоветоваться, следует ли силой принудить когорты к повиновению. Флакк был трус по натуре; командиры его не доверяли ни явно что-то замышлявшим солдатам вспомогательных войск, ни своим наспех набранным легионам[55], в итоге было постановлено оставить войска в лагерях[56]. Вскоре, однако, Флакк раскаялся в этом решении, и те самые люди, которые еще недавно убеждали его не трогаться с места, теперь стали его же упрекать в бездеятельности. Гордеоний сделал вид, будто собирается выступить в поход, и написал Гереннию Галлу, легату стоявшего в Бонне первого легиона, чтобы тот напал на батавов, когда они будут проходить мимо, сообщив при этом, что сам он идет по следам мятежных когорт, готовый обрушиться на них с тыла. Если бы Флакк и Галл действительно двинули свои войска и с двух сторон напали на противника, батавы были бы уничтожены. Но Гордеоний снова передумал и послал Галлу еще одно письмо, в котором убеждал его не препятствовать движению мятежников. В результате у солдат возникло подозрение, что легаты нарочно тянут время и дают мятежу разрастись. Отныне и прошлые события, и все, что случилось далее, люди стали объяснять не бездеятельностью солдат или силой противника, а одним лишь коварством полководцев.
20. Дойдя до Боннского лагеря, батавы отправили к Гереннию Галлу своих послов, которые изложили требования когорт. Послы объяснили, что батавы не считают себя врагами римлян, в чьих рядах они так долго сражались, но они устали от долгой бесплодной службы и мечтают только о том, чтобы вернуться на родину и отдохнуть; они никого не тронут, если им дадут идти своей дорогой, но, встретив сопротивление, сумеют силой проложить себе путь. Легат медлил с ответом, однако под давлением солдат вынужден был пойти на риск и принять сражение. Три тысячи легионеров, солдаты наспех собранных белгских когорт[57], толпы местных крестьян и обозных слуг, в сражении трусливых и беспомощных, но хвастливых и дерзких, пока бой не начался, хлынули из всех ворот лагеря, надеясь подавить противника числом. Опытные, привыкшие к боям батавы построились клиньями, сплотили ряды и оказались неуязвимы со всех сторон, — не только спереди, но также с боков и с тыла. Клинья устремились вперед и без труда прорвали тонкие линии наших войск. Увидев, что белги не выдержали натиска, легионеры тоже дрогнули и в беспорядке бросились к лагерю. Больше всего народу погибло перед его воротами и под валами; рвы заполнились трупами; люди умирали не только под ударами противника, не только от ран, — в панике они сами давили друг друга, натыкались на свои же дроты. Одержав победу, батавы двинулись дальше, в обход Агриппиновой колонии. За все время пути они не позволили себе больше никаких враждебных действий. Битву под Бонном они оправдывали тем, что римляне, отказавшись удовлетворить их мирные требования, вынудили их прибегнуть к силе оружия.
21. После того как когорты ветеранов присоединились к Цивилису, в его распоряжении оказалась настоящая армия. Тем не менее он продолжал колебаться и не решался открыто выступить против римлян. Он привел всех своих людей к присяге Веспасиану и послал послов в оба легиона, запершихся после недавнего неудачного сражения в Старых лагерях, с предложением последовать его примеру. Полученный им вскоре ответ гласил: «Мы не принимаем советов ни от изменников, ни от врагов. У нас есть один принцепс — Вителлий. Ему мы останемся верны, за него будем биться до последнего вздоха. Не перебежчику-батаву решать за римлян, что им следует делать; пусть лучше готовится понести заслуженное наказание за свои преступления». Когда Цивилису прочли этот ответ, он пришел в неописуемую ярость. Все племя батавов взялось по его приказу за оружие, к ним присоединились бруктеры и тенктеры[58], разосланные по всей Германии гонцы звали народ к восстанию, обещая добычу и славу.
22. Перед лицом надвигавшейся со всех сторон опасности легаты легионов Муний Луперк и Нумизий Руф принялись укреплять валы и стены лагеря. За долгие годы мирной жизни вокруг лагеря вырос целый поселок; его снесли, дабы не дать врагу воспользоваться постройками. Однако меры по обеспечению армии провиантом были приняты непредусмотрительно: солдатам разрешили силой отбирать продовольствие у окрестных жителей, и запасы, которых могло бы хватить надолго, оказались уничтоженными в несколько дней. В центре наступающей армии находился сам Цивилис с главными силами батавов; рассчитывая устрашить противника, густыми толпами высыпали на оба берега Рейна германцы; по приречным лугам проносились всадники; вверх по течению реки двинулся флот. Осажденные не понимали, что происходит: на них глядели значки старых римских когорт и рядом с ними изображения диких зверей, которые здешние племена обычно хранят в лесах и священных рощах, а идя в битву, несут перед собой; гражданская война сливалась с войной против варваров. Осаждающие надеялись, что непомерная длина валов тоже послужит им на пользу. Лагерь строился с расчетом на два легиона, а теперь его защищали едва пять тысяч римлян[59] да толпа торговцев и обозных слуг, сбежавшихся сюда, как только начались военные действия.
23. Одна часть лагеря лежала на пологом склоне холма, другая — на равнине. Когда Август создавал его, он рассчитывал, что здесь будут постоянные квартиры легионов, способных держать под контролем германские провинции и подавлять малейшее сопротивление; он и не предполагал, что настанет день, когда за этими самыми валами придется выдерживать осаду нашим войскам. Поэтому, полностью положившись на доблесть солдат и силу оружия, римляне и не подумали выбрать для лагеря не столь доступное место или обнести его дополнительными укреплениями. Батавы и зарейнские племена[60] расположились поодаль друг от друга, чтобы было яснее видно, кто ведет себя с бóльшим мужеством. Сначала они издали обстреливали лагерь; почти все их стрелы, однако, попадали лишь в башни и зубцы стен, сами же варвары несли тяжелые потери от сыплющихся сверху камней. Тогда нападающие, оглашая воздух криками, бросились на штурм. Одни карабкались вверх по приставным лестницам, другие — по спинам построившихся черепахой товарищей. Еще минута — и многие из них добрались бы до вершины вала. Однако варвары хорошо сражаются лишь поначалу, пока дело само идет на лад; к тому же они слишком положились на счастье, сопутствовавшее им все последнее время; наткнувшись на мечи и щиты легионеров, они покатились обратно, падая в ров, где их настигали летевшие с вала копья и заостренные колья. Вскоре жажда добычи заставила их забыть о неудачах; они даже решились прибегнуть к помощи осадных орудий, столь им непривычных. Сами они не имеют никакого навыка в этом деле, но по указаниям перебежчиков и пленных изготовили грубый помост, поставленный на колеса, который передвигали, подталкивая сзади. Стоявшие на помосте бойцы поражали противника сверху; солдаты, спрятавшиеся под помостом, подкапывали под его защитой стены. Римляне обстреляли это нелепое сооружение камнями из баллисты и вскоре вывели его из строя. Тотчас же затем метательные орудия обрушили на варваров, занятых плетением фашин и подготовкой защитных навесов, огромные зажигательные стрелы. Вспыхнувшее пламя все ближе подбиралось к нападающим; от мысли взять лагерь штурмом пришлось отказаться, и решено было взять его измором. Цивилис знал, что продовольствия осажденным хватит всего лишь на несколько дней, что лагерь полон людей, неспособных носить оружие, и возлагал надежду на предательство измученных голодом солдат, на непостоянство рабов и случайности войны.
24. Тем временем Флакку сообщили, что мятежники осадили лагерь и разослали по галльским провинциям доверенных людей, которые пытаются набрать войска на помощь восставшим. Флакк выбрал лучших солдат из своей армии и поручил легату двадцать второго легиона Диллию Вокуле выступить возможно быстрее берегом Рейна[61]; сам же двинулся следом с кораблями, совершенно больной[62] и ненавидимый солдатами. Разговоры в войске становились все более угрожающими. Именно Флакк, роптали солдаты, выпустил из Могунциака батавские когорты, именно он скрыл от всех, что Цивилис готовит мятеж и пытается привлечь на свою сторону германцев. «Ни Прим Антоний, ни Муциан, — говорили они, — не оказали Веспасиану большей помощи. Если бы Флакк действовал открыто, с оружием в руках, мы могли бы так же открыто дать ему отпор, но хитрость и коварство тем и опасны, что не знаешь, откуда приходится ждать нападения. Цивилис перед нами, он строит свои войска для битвы, а Гордеоний лежит в постели и шлет из своей опочивальни приказы, лишь облегчающие врагу его задачу. Не довольно ли стольким здоровым и храбрым, хорошо вооруженным людям подчиняться хилому старику, который под влиянием болезни сегодня хочет одного, завтра другого? Не пора ли нам восстать против своей злой судьбы и покончить с изменником?». Солдаты были крайне возбуждены подобными разговорами, прибывшее в этот момент письмо Веспасиана разъярило их окончательно. Не имея возможности скрыть письмо, Флакк прочел его солдатам на сходке, арестовал доставивших его флавианцев и в цепях отправил их к Вителлию.
25. Этот поступок успокоил армию, и она благополучно прибыла в Бонну, где находились зимние лагеря первого легиона. Солдаты, стоявшие здесь, еще сильнее ненавидели Гордеония, так как считали, что он виновен в понесенном ими поражении: по его приказу они выступили против батавов, рассчитывая на идущие из Могунциака легионы, но так как подкрепления не пришли, их товарищам пришлось жизнью заплатить за эту измену. Все случившееся Флакк скрыл от остальных армий и от своего императора; в противном случае он с помощью собранных по провинциям ополчений легко мог бы подавить вспыхнувший мятеж. Услышав эти разговоры, Гордеоний обнародовал письма, отправленные им в Британию, в галльские и испанские провинции, содержавшие просьбу о присылке помощи. При этом письма были переданы знаменосцам легионов и солдаты получили возможность познакомиться с ними прежде командиров; так Гордеоний положил начало отвратительному обычаю, существующему и поныне. Затем он приказал схватить одного из бунтовщиков, не потому, что считал его одного виноватым, а для того, чтобы показать свою власть. Из Бонны армия двинулась в Агриппинову колонию; по дороге к ней присоединялись многочисленные вспомогательные отряды из Галлии[63], на первых порах оказавшие римлянам большую помощь. Вскоре, однако, узнав об одержанных германцами победах, большинство галльских племен тоже взялось за оружие в надежде завоевать свободу, а если удастся, то и захватить власть над другими. Раздражение легионеров росло, — арест одного человека не внушил им никакого страха. Сам заключенный к тому же уверял, будто играл роль посредника между Цивилисом и Флакком и будто последний потому и возводит на него ложные обвинения, что хочет отвести глаза от настоящего преступника. В этих условиях Вокула проявил редкое самообладание. Он поднялся на трибунал, приказал вывести арестованного и казнить, не обращая внимания на его вопли. Смутьяны пришли в ужас, настоящие солдаты стали подчиняться приказам. Армия в один голос настаивала, чтобы командование было передано Вокуле, и Флакк уступил общему требованию.
26. Многое, однако, продолжало вызывать у склонных к мятежу солдат страх и озлобление. Не хватало денег, не хватало провианта, галльские провинции противились взиманию податей и набору рекрутов, из-за засухи, невиданной в этих местах, Рейн обмелел, и суда едва могли двигаться; изыскивать и доставлять продовольствие становилось все труднее: чтобы не дать германцам форсировать реку вброд, по берегам расположили заставы, ртов из-за этого стало больше, а возможностей добывать пищу меньше. Люди, не привыкшие к трудностям, склонны были самую засуху считать небесным знамением и уверяли, что даже реки, испокон века бывшие оградительными рубежами империи, отказываются служить нам. В том, что в мирное время считалось естественным или случайным, теперь видели перст судьбы и гнев богов.
Войска перешли в Новезий[64], где соединились с шестнадцатым легионом; Вокула передал часть своих обязанностей легату[65] Гереннию Галлу. Полководцы не решались выступить против врага и, отведя армию к тринадцатому мильному камню от Новезия, разбили лагерь у места, называемого Гельдуба. Здесь они занялись строевыми учениями, сооружением и восстановлением валов и прочими воинскими упражнениями, укрепляющими боевой дух армии. Вокула решил дать солдатам пограбить, чтобы возбудить их воинский пыл, и вывел часть войск в земли присоединившегося к Цивилису племени кугернов[66]. Остальные остались на месте под командованием Геренния Галла.
27. Случилось так, что в это самое время один из кораблей, везших зерно, сел на мель недалеко от лагеря[67]. Пока матросы хлопотали, пытаясь сдвинуть судно с места, германцы стали тянуть его к своему берегу. Галл не мог стерпеть подобной наглости и отправил на помощь кораблю когорту солдат, к германцам тоже подоспела поддержка, подкрепления подходили и с той, и с другой стороны, и вскоре началась настоящая битва. Германцы нанесли нам тяжелый урон и захватили корабль. Как повелось в ту пору, причиной поражения солдаты сочли не собственную трусость, а вероломство легата. Его вытащили из палатки, избили, разорвали на нем одежду, требуя, чтобы он признался, сколько денег получил за свое предательство и кто ему помогал. В солдатах проснулась старая ненависть к Гордеонию; они уверяли, что это он подстроил поражение, а Галл лишь выполнял его волю. Перепуганный легат под угрозой смерти обвинил Гордеония в измене и подтвердил, что действовал по его приказу. Галла заковали в цепи и освободили только после возвращения Вокулы, который на следующий же день по прибытии в лагерь казнил зачинщиков бунта. Так эта армия постоянно колебалась между мятежным своеволием и тупой покорностью. Рядовые ее бойцы сохраняли верность Вителлию, — в этом не может быть сомнений; руководители же склонялись на сторону Веспасиана. Отсюда вечная смена мятежей и казней, то вспышки ярости, то смирение, и постоянная готовность командиров наказывать солдат, которых они не могли удерживать в повиновении обычными средствами.
28. Между тем германцы скрепили свой союз с Цивилисом, выдав в качестве заложников самых знатных своих людей, и теперь бойцы, оружие и деньги в несметных количествах стекались к нему со всех концов страны. Тем германцам, что жили неподалеку от убиев и тревиров, он приказал пройти с огнем и мечом по земле этих племен[68], другим отрядам велел переправиться через реку Мозу, вторгнуться в пределы соседних менапиев и моринов[69] и разграбить пограничные поселения галлов. И тут и там германцы захватили много добычи, но с особой яростью обрушились они на убиев, ибо это племя, германское по своему происхождению, отреклось от родного народа и приняло римское имя агриппинов. Когорты убиев, полагая, что они находятся достаточно далеко от побережья[70], расположились в деревне Маркодуре, не приняв никаких мер предосторожности, и внезапно напавшие ополченцы Цивилиса перебили их. Убии не примирились со своим поражением. Стремясь захватить побольше добычи, они, в свою очередь, ринулись в Германию[71], где на первых порах беспрепятственно занимались грабежом, пока, наконец, германцы не окружили и не уничтожили их. Вообще в эту кампанию убии прославились скорей своей верностью, чем боевыми удачами. После разгрома убиев Цивилис почувствовал себя полновластным хозяином, с каждым успехом он наглел все больше и, наконец, решил, что настало время расправиться с запершимися в лагере[72] легионами. Он велел усилить караулы, дабы никто не мог тайно проникнуть в лагерь и рассказать там о войсках, идущих на помощь осажденным. Батавам Цивилис поручил вести земляные работы и готовить осадные машины, а зарейнские племена, которые горели нетерпением и рвались в бой, бросил на штурм вала. Атака была отбита, но Цивилис приказал германцам снова идти на приступ, благо племена эти были так многочисленны, что не обращали никакого внимания на потери.
29. Наступила ночь, но битва не кончилась. Нападающие сваливали в кучи стволы деревьев, устраивали огромные костры и тут же садились есть и пить. Опьяненные вином, они с бессмысленной отвагой бросались в бой и в темноте метали в противника копья, не приносившие ему никакого вреда. Сами же варвары, освещенные огнем костров, были, напротив того, прекрасно видны римлянам, поражавшим на выбор всякого, кто привлекал их внимание храбростью или блеском боевого убора. Заметив это, Цивилис приказывает загасить костры и в темноте уничтожить противника. В нестройном грохоте битвы нельзя понять, кто погиб, а кто еще продолжает сражаться, куда наносить удары и откуда их ждать. Бойцы бросаются то в одну, то в другую сторону, — туда, откуда слышится шум, и давка становится еще ужаснее. Храбрость не дает преимущества, бессмысленный случай царит надо всем, и мужественные бойцы сплошь да рядом падают под ударами трусов. Германцами правит один лишь безрассудный гнев. Римские солдаты, привыкшие к опасностям, рассчитано и метко поражают их окованными железом кольями, обрушивают на них огромные камни. Заслышав шум подкопа, завидев приставленные к валам лестницы, римляне бросаются на врага, отталкивают его щитами, засыпают дротами, кинжалами поражают тех, кто успел вскочить на стену. Так прошла ночь. С наступлением дня сражение приняло другой облик.
30. Батавы выстроили двухэтажную башню и подкатили ее к преториевым воротам[73], туда, где почва была ровнее Выставив вперед крепкие колья, осажденные ударами балок разбили башню, уничтожив при этом многих воинов, стоявших на ее площадках, а затем внезапной удачной вылазкой ошеломили противника. Тем временем легионеры, более опытные, чем батавы, и превосходящие их в воинском искусстве, тоже соорудили множество машин. Особенный ужас наводил на варваров длинный гибкий рычаг, который неожиданно опускался на строй противника, выхватывал одного или нескольких человек и, взмыв под действием противовесов, перебрасывал захваченных воинов на глазах их товарищей за стены лагеря[74]. Видя, что попытки взять лагерь штурмом ничего не дают, Цивилис решил вернуться к осаде, не требовавшей от его армии никаких усилий. В то же время он продолжал склонять легионеров к измене, подсылая к ним гонцов, не скупясь на посулы и обещания.
31. Все эти события происходили в Германии еще до кремонской битвы. Об исходе ее легионы узнали из письма Прима Антония, к которому был приложен эдикт, подписанный Цециной[75], а префект одной из разбитых когорт Альпиний Монтан[76] рассказал о том, как складываются дела обеих борющихся партий в настоящее время. Новости эти вызвали у солдат различные чувства. Набранные в Галлии вспомогательные войска служили неохотно и не испытывали ни любви, ни ненависти ни к одной из враждующих сторон; они сразу же поддались на уговоры префектов и отложились от Вителлия. Ветераны долго колебались, а когда, наконец, согласились присягнуть новому императору, то всем своим видом показывали, что делают это, лишь подчиняясь приказам Гордеония и настояниям трибунов. Они отчетливо выговаривали слова присяги, пока не доходили до имени Веспасиана, — тут одни бормотали вполголоса, другие и вовсе молчали.
32. Антоний прислал Цивилису письмо, в котором обращался к нему как к другу и союзнику и во враждебном тоне говорил о германской армии. Когда письмо это было прочитано на сходке[77], оно вызвало у солдат недовольство и подозрения. Такое же отношение встретили сообщения обо всем случившемся и в лагерях под Гельдубой. Монтану было поручено отправиться к Цивилису и потребовать, чтобы тот прекратил военные действия и перестал оправдывать лживыми предлогами войну, которую он ведет против Рима, ибо если он и вправду взялся за оружие лишь чтобы помочь Веспасиану, то дело уже сделано. Выслушав легата, Цивилис начал было хитрить и лавировать, но видя, что Монтан — человек резкий, горячий и готов на самые крайние меры, заговорил о страданиях и опасностях, которые он двадцать пять лет терпел в римских лагерях. «За все, что мне пришлось вынести, — продолжал Цивилис, — я получил достойную награду: я пережил гибель брата[78], претерпел арест и носил кандалы, я слышал, как вопили солдаты, требуя моей казни, и я имею законное право мстить за все это. Ну а вы, тревиры, вы, рабские души, какой награды ждете вы за пролитую кровь, кроме изнурительной службы, бесконечных поборов, порок, казней и барских капризов? Я всего лишь префект одной когорты, каннинефаты и батавы — лишь ничтожная часть народа галлов[79], а ведь сумели же мы стереть с лица земли их нелепые огромные лагеря, сумели зажать их в кольцо железа и голода. Если мы наберемся мужества и поднимемся на врага, мы приведем свободу на наши земли, если же разобьют нас, то все останется как сейчас, хуже не будет». Своей речью Цивилис заронил сомнения в душу легата и отпустил его, велев, однако, значительно смягчить выражения, когда тот станет передавать римлянам содержание их разговора. Возвратясь, Монтан сообщил лишь, что посольство его было неудачным; вскоре, однако, все, что он постарался сохранить в тайне, сделалось явным.
33. Оставив при себе часть войск, Цивилис поручил Юлию Максиму и сыну своей сестры Клавдию Виктору командовать когортами ветеранов, добавил к ним самых храбрых бойцов-германцев и приказал выступить против армии Вокулы. По дороге они захватили и разграбили расположенные в Асцибургии[80] зимние лагеря конного отряда. Батавы и германцы налетели на лагерь столь неожиданно, что Вокула не успел ни обратиться к солдатам с речью, ни построить армию для боя; у него едва хватило времени распорядиться, чтобы находившиеся в резерве легионеры заняли центр лагеря. Вспомогательные отряды были смяты сразу же, наша конница вырвалась было вперед, но тут же разбилась о строй наступавшего противника и в беспорядке бросилась назад, давя и опрокидывая своих. С этого момента битва превратилась в резню. Когорты нервиев, то ли по трусости, то ли по вероломству, открыли фланги римской армии, и наступающие устремились на легионеров; те побросали значки, кинулись к валу, но и здесь падали под ударами варваров. Неожиданно на поле боя появились новые силы, и ход сражения круто изменился. Когорты васконов, набранные еще Гальбой[81], были вызваны в Германию и теперь приближались к лагерю. Они услышали шум битвы и с тылу налетели на увлеченных наступлением варваров, посеяв в их рядах панику, на какую, по своей малочисленности, никак не могли рассчитывать; одни решили, что прибыли войска из Новезия, другие — что из Могунциака, но никто не сомневался, что на помощь осажденным явилась целая армия. Это вдохнуло в римских солдат новую энергию, и, рассчитывая на чужие силы, они сумели собрать свои собственные. Лучшие бойцы-батавы, сражавшиеся в пешем строю, были уничтожены, конники ускакали, захватив с собой значки и пленных, взятых в начале сражения. По числу убитых потери нашей армии были в тот день больше, но мы лишились плохих солдат, тогда как германцы оставили на поле боя весь цвет своего воинства.
34. Оба полководца равно были виноваты во всем случившемся — и тот, и другой заслужили поражение, ни тот, ни другой не были достойны победы. Цивилис, стоило ему ввести в бой бóльшие силы[82], сумел бы взять и уничтожить лагерь и не дал бы нескольким когортам окружить свое войско. Вокула не предвидел приближения врага и поэтому был побежден, едва показавшись на поле боя; мало этого, он мог, развивая достигнутый в бою успех, освободить томившиеся в осаде легионы[83], если бы больше доверял своей победе, больше бы полагался на ход событий, если бы тут же, вместо того чтобы тратить попусту день за днем, бросился преследовать врага. Тем временем Цивилис всячески старался подействовать на осажденных и создать у них впечатление, будто победа на его стороне и положение римлян безнадежно. На виду лагеря выставили захваченные значки когорт и вымпелы и перед валом проводили пленных солдат. Один из них решился на героический подвиг: он громко обратился к осажденным, сказал им, что произошло на самом деле[84], и тут же пал, пронзенный мечами германцев, — ярость, с которой враги набросились на смельчака, лишь подтвердила справедливость его слов. В это же время осажденные услышали шум, доносившийся из разрушаемых деревень, увидели зарево пожаров и поняли, что на помощь им спешит победоносная армия. В виду лагеря Вокула остановил свои войска, велел составить в одно место значки когорт, обвести это место валом и окружить его рвом: он хотел, чтобы солдаты оставили поклажу в безопасном месте и сражались налегке. Армия протестующе зашумела, — привыкшие разговаривать с полководцами языком угроз, солдаты требовали, чтобы их тотчас же вели в бой. По-видимому, Цивилис был прав, рассчитывая не только на мужество своих войск, но и на распущенность своих противников: не успев построиться, усталые солдаты беспорядочной толпой бросаются на врага; боевое счастье улыбается то римлянам, то варварам, особенно трусливо ведут себя те, кто кричал больше всех. Некоторые из римлян, однако, одушевленные недавно одержанной победой, отстаивают каждую пядь земли, наносят врагу удар за ударом, подбадривают окружающих и самих себя. Вот они уже снова стоят крепким строем, машут руками стоящим на стенах, приглашая их тоже не терять времени. Осажденные все видели и все поняли — они распахивают ворота лагеря и со всех сторон устремляются в битву. Случилось так, что в этот самый момент конь Цивилиса упал и сам он оказался на земле. Тотчас же по обеим армиям разнеслась молва, что он ранен или убит. Трудно представить себе, в какой ужас повергла эта весть варваров и какой прилив бодрости вызвала она у наших солдат. Вокула, однако, не стал преследовать противника и занялся починкой валов и башен[85], словно лагерю могла угрожать новая осада, сведя на нет тем самым результаты победы. Видно, не без оснований подозревали его в том, что сама война интересовала его больше, нежели ее исход[86].
35. Ничто так не удручало наши войска, как недостаток продовольствия. Обозы легионов и всех, кто не был способен сражаться, отправили в Новезий за зерном, поручив им доставить продовольствие в лагерь по суше — река по-прежнему находилась в руках противника. В первый раз, — Цивилис в это время был еще не совсем здоров, — экспедиция кончилась благополучно. Когда же в Новезий за продовольствием двинулась вторая экспедиция и Цивилису стало известно, что охраняющие ее когорты ведут себя так, будто никакой войны нет, а кругом царят мир и спокойствие: значки почти не охраняются, оружие сложено на повозках, все разбрелись, куда глаза глядят, — он выслал заставы к мостам и в места, где дороги особенно узки и опасны, а сам построил войска и напал на римлян. Битва развернулась по всей длине колонны и шла с переменным успехом, пока ночь не положила ей конец. Когорты добрались до Гельдубы, где по-прежнему находился римский лагерь, охраняемый оставленными здесь солдатами. Не приходилось сомневаться, что на обратном пути напуганных всем случившимся и отягощенных поклажей солдат ждут еще худшие опасности. Вокула вывел им на помощь тысячу бойцов, набранных из пятого и пятнадцатого легионов. Солдаты этих легионов, перенесшие осаду Старых лагерей, ненавидели командиров и плохо подчинялись приказам. В выступавшую из лагеря колонну их набежало больше, чем было велено; в строю они громко выражали свое возмущение, кричали, что не позволят морить себя голодом и не станут дольше терпеть козни легатов. Те же, которые оставались в лагере, жаловались, что после ухода стольких бойцов они остаются брошенными на произвол судьбы. Недовольство, таким образом, росло с обеих сторон: одни требовали, чтобы Вокула вернулся, другие отказывались оставаться в лагере.
36. Тем временем Цивилис возобновил осаду Старых лагерей. Вокула отступил к Гельдубе, оттуда к Новезий[87] (Цивилис занял Гельдубу[88]) и вскоре неподалеку от этого поселения одержал победу в конном бою. Поражение или победа — все теперь вызывало у солдат лишь одно желание: поскорее расправиться со своими командирами. После присоединения тысячи бойцов из пятого и пятнадцатого легионов армия[89] стала более многочисленной, и солдаты, проведав о деньгах, присланных Вителлием, начали требовать, чтобы им выдали денежный подарок. Гордеоний не заставил себя долго просить, роздал солдатам деньги, но сказал, что вручает им подарок от имени Веспасиана. Это и послужило главным поводом для бунта. На ночных сходках и попойках в солдатах проснулась их былая ненависть к Гордеонию. В темноте ночи они, потеряв последний стыд, вытащили Гордеония из постели и убили; ни один из легатов или трибунов не решился оказать им сопротивление. Та же участь ожидала и Вокулу, но он переоделся рабом и под покровом темноты, никем не узнанный, скрылся.
37. Когда первый порыв ярости улегся, солдаты пришли в ужас и послали в Галлию центурионов просить у тамошних племен помощи людьми и деньгами. Чернь, лишенная руководителя, всегда безрассудна, труслива и тупа; при приближении Цивилиса легионеры стали было беспорядочно готовиться к бою, но тут же побросали оружие и обратились в бегство. Беда порождает раздоры: солдаты нижнегерманской армии[90] объявили, что у них есть свои особые цели, а потому им с остальными не по пути. Изображения Вителлия были восстановлены и в лагерях, и в окрестных поселениях белгов, хотя он сам в это время был уже убит. Солдаты первого, четвертого и двадцать второго легионов вдруг раскаялись и вернулись под командование Вокулы, который заставил их снова присягнуть Веспасиану, а затем повел на освобождение осажденного Могунциака. Между тем армия, обложившая этот город, которая состояла из хаттов, узипов и маттиаков[91], успела награбить вдоволь добычи и сама сняла осаду; когда они, ничего не подозревая, разбрелись в разные стороны, наши солдаты напали на них и заставили кровью заплатить за содеянное. Тревиры обнесли свои границы валом и плетнем и вели с германцами упорные жестокие бои, но в конце концов тоже взбунтовались[92] и втоптали в грязь лавры, которые стяжали, воюя на стороне римского народа.
38. Между тем Веспасиан во второй раз[93] и Тит впервые вступили в должность консулов. Оба находились далеко от столицы, охваченной скорбью и тоскливым ожиданием действительных и мнимых несчастий. Ходили, например, слухи, будто от империи отложилась провинция Африка, подстрекаемая к тому своим проконсулом Луцием Пизоном[94]. На самом деле Пизон и не помышлял ни о каком восстании: зимние холода не давали судам возможности выйти в плавание, чернь же, привыкшая покупать хлеб каждый день и только на один день, вечно боявшаяся, что прекратится подвоз зерна, и из всех государственных дел интересовавшаяся только доставкой хлеба, поверила, будто свершилось то, чего она постоянно опасалась: будто порты закрыты и подвоз зерна приостановлен. Слухи эти раздували и вителлианцы, по-прежнему действовавшие в интересах своей партии, и флавианцы, чью алчность внешние войны лишь раздражали, а победы, одержанные в гражданской войне, не смогли насытить.
39. В день январских календ сенат, созванный городским претором Юлием Фронтином[95], принял решение воздать хвалу и выразить благодарность легатам, армиям и царям[96]. Теттия Юлиана под тем предлогом, что он покинул свой легион[97], перешедший на сторону Веспасиана, лишили звания претора и должность эту передали Плотию Грипу. Горм[98] был возведен в сословие всадников. Вскоре Фронтин сложил с себя звание претора, и оно было передано Домициану. Именем Домициана теперь открывались эдикты и официальные письма, но реальная власть была сосредоточена в руках Муциана; впрочем, Домициан, подстрекаемый друзьями и собственным властолюбием, действовал во многих случаях вполне самостоятельно. Муциан, однако, считал главной для себя угрозой Прима Антония и Вара Аррия, покрытых славой подвигов, которые были еще у всех свежи в памяти, боготворимых солдатами и любимых даже народом за то, что свою свирепую ярость они проявляли только на поле боя. Ходили слухи, будто Антоний подбивал Скрибониана Красса, человека, к которому знатность происхождения и слава брата привлекали всеобщее внимание[99], захватить власть в государстве. Сообщники нашлись бы, но Скрибониан сам отклонил все домогательства: он нелегко соглашался участвовать и в верном деле, а сомнительных предприятий остерегался всегда. Не чувствуя себя в силах победить соперника в открытой борьбе, Муциан выступил в сенате, превознося заслуги Антония, и негласно предложил ему стать наместником в ближней из испанских провинций, — эта должность оставалась незанятой после отъезда Клувия Руфа; друзья Антония тоже получили, кто префектуру, кто трибунат[100]. Усыпив эту тщеславную душу посулами и обещаниями, Муциан вывел в зимние лагеря фанатически преданный Антонию седьмой легион; третий легион, солдаты которого хорошо относились к Аррию Вару, он отправил в Сирию, лишив таким образом обоих полководцев воинских сил, на которые они могли бы в случае нужды опереться; часть армии была отослана в германские провинции. Из Рима таким образом оказалось удаленным все, что питало смуту и мятежи, и город снова принял обычный вид, вновь стали соблюдаться законы, магистраты вернулись к исполнению своих обязанностей.
40. В день своего первого появления в сенате Домициан произнес краткую речь. Говорил он главным образом о своей молодости и о том, что отца и брата его нет в Риме, держал себя скромно и достойно, поминутно краснел, и сенаторы, не знавшие еще его нрава, решили, что это от смущения. Когда Цезарь упомянул о том, что необходимо восстановить почести, окружавшие ранее имя Гальбы, Курций Монтан[101] предложил почтить также память Пизона. В принятом решении говорилось об увековечении памяти обоих погибших, но часть его, касавшаяся Пизона, так и осталась невыполненной. По жребию были назначены сенаторы, которым поручили обеспечить возвращение ценностей, отнятых в ходе войны, владельцам, восстановить пострадавшие от времени медные доски с текстами законов, очистить фасты от добавлений, внесенных в них в угоду временным властителям, сократить государственные расходы. Когда выяснилось, что Теттий Юлиан бежал к Веспасиану, ему вернули претуру, и Грипу остался лишь почет, подобающий бывшему претору. Сенат решил снова вернуться к рассмотрению дела, возбужденного Музонием Руфом против Публия Целера[102]. Публия осудили, и многое было сделано, чтобы восстановить доброе имя Сорана. День этот, ознаменованный победой суровости, подобающей при решении государственных дел, принес лавры и частному человеку: все хвалили Музония за то, что он добился столь справедливого возмездия, и, напротив того, с презрением говорили о Деметрии, философе из секты киников[103], который, руководствуясь не чувством справедливости, а одним лишь тщеславием, взялся защищать заведомого преступника. Сам Публий, попав в опасное положение, совсем растерялся, и речь, им произнесенная, не принесла ему никакой пользы. Дело Целера послужило сигналом к началу целой кампании против доносчиков. Юний Мавриций[104] попросил Цезаря передать сенату императорские архивы, чтобы выяснить, кто и на кого доносил в прошлом. Домициан ответил, что такой вопрос должен решать сам принцепс.
41. Сенаторы принесли присягу, в которой каждый из них клялся, призывая в свидетели богов, что не предпринимал никогда ничего с целью повредить другому лицу и не пытался извлечь преимущества или выгоды из несчастий сограждан. Сначала присягу произносили первые сенаторы, за ними, не соблюдая порядка, магистраты, наконец, остальные, которых вызывали по одному. Все, кто знали за собой вину, трепетали, произнося слова присяги, и старались с помощью разных уловок переиначить их. Сенаторы шумно одобряли тех, кто говорил правду, и тут же изобличали каждого, приносившего ложную клятву. Особенно яростно обрушились эти цензоры на Сариолена Вокулу, Нония Аттиана и Цестия Севера[105], которые во времена Нерона прославились своими многочисленными доносами. Над Сариоленом тяготела к тому же память о преступлениях, совершенных им совсем недавно, в правление Вителлия, при котором он пытался играть ту же роль, что и при Нероне. Сенаторы поносили Вокулу и грозили ему кулаками, пока не заставили его покинуть курию. Следом за ним был изгнан из зала Пакций Африкан[106]; его обвиняли в том, что он указал Нерону на братьев Скрибониев, славных своим богатством и постоянно царившим между ними согласием, и тем самым подстроил их гибель[107]. Признать свою вину Африкан не смел, отрицать не мог. Тогда, вместо того чтобы защищаться, он обратился к осыпавшему его вопросами Вибию Криспу и напомнил, что тот тоже был замешан в этом деле; так он избавился от самого яростного из своих обвинителей, разделив с ним вину.
42. Немалую славу стяжал себе в этот день твоим красноречием и преданностью интересам семьи Випстан Мессала, который решился выступить, хотя не достиг еще даже сенаторского возраста[108], и умолял о снисхождении к своему брату Аквилию Регулу[109]. Регула, хитростью и коварством погубившего семьи Крассов[110] и Орфита[111], люто ненавидели. Еще юношей он по собственному почину выступил в роли обвинителя, причем, как все считали, ему тогда ничто не угрожало и толкало его на этот путь одно лишь желание выдвинуться[112]. Если бы теперь сенат начал рассматривать его дело, на него немедленно обрушилась бы месть вдовы Красса Сульпиции Претекстаты и ее четверых детей. Поэтому Мессала не стал говорить ни о самом деле, ни об обвиняемом, а просто защищал попавшего в беду брата и уже разжалобил кое-кого из сенаторов, когда Курций Монтан[113] резко прервал его и предъявил Регулу чудовищное обвинение: после гибели Гальбы Регул якобы заплатил убийцам Пизона, и когда те принесли ему голову жертвы, яростно впился в нее зубами[114]. «К этому уж во всяком случае Нерон тебя не принуждал, — продолжал Монтан, — и творить такие зверства не нужно было ни ради спасения жизни, ни ради сохранения своего положения. Да и довольно уже мы наслушались оправданий людей, которые предпочитали губить других, лишь бы отвести опасность от себя[115]. Тебе же вообще ничто не угрожало: отец твой был в изгнании, имущество поделено между кредиторами, сам ты — слишком молод, чтобы добиваться должностей, Нерону нечего было у тебя отнять и нечего тебя бояться. Ты был еще безвестен и ни разу еще не защищал никого в суде, но жестокая, алчная душа твоя уже жаждала крови честных людей; лишь когда ты сумел украсть с погребального костра республики достояние консуляриев[116], засунуть себе в пасть семь миллионов сестерциев и сделаться жрецом, когда получил возможность губить без разбора невинных детей, покрытых славой старцев и благородных женщин, когда смог упрекнуть Нерона, будто он действует недостаточно решительно, тратя свои силы и силы своих доносчиков на уничтожение одной или другой семьи, вместо того чтобы казнить разом весь сенат, — вот тогда ты почувствовал, наконец, удовлетворение. Спасите же, отцы-сенаторы, и сохраните в своей среде человека столь тонкого ума; да послужит он образцом всему нашему веку, и как старики наши стремились подражать Марцеллу и Криспу, так пусть наши юноши следуют примеру Регула. Подлость и в беде находит себе последователей, — что же будет, если мы дадим ей расцвести и набраться сил? Вы боитесь обидеть его, пока он еще только квесторий, так как же поднимется у вас на него рука, когда он станет претором и консулом? Неужели вы думаете, что Нерон — последний из тиранов? И после смерти Тиберия, и после смерти Гая люди тоже думали так, но всегда являлся новый тиран, еще более гнусный, еще более свирепый, чем прежние. Нам нечего бояться Веспасиана — он настоящий принцепс и по возрасту, и по умеренности, его возрасту подобающей. Но люди уходят, примеры остаются[117]. Мы слабеем, отцы-сенаторы; уж мы не тот сенат, который после убийства Нерона требовал наказать его подручных и доносчиков так, как наказывали подобных людей наши предки. Лучший день после смерти дурного государя — первый день».
43. Сенаторы с таким сочувствием слушали Монтана, что Гельвидий вновь загорелся надеждой свалить Марцелла. Он начал с похвалы Клувию Руфу, который ни свой выдающийся ораторский талант, ни свое огромное богатство ни разу во времена Нерона не использовал кому-нибудь во зло; говоря так, он не только изобличал Эприя, но и противопоставлял ему Клувия, чем еще больше возбуждал гнев сенаторов против доносчика. Почувствовав общее настроение, Марцелл поднялся, как бы собираясь покинуть курию. «Мы уходим, Приск, — сказал он Гельвидию, — и оставляем тебе твой сенат. Управляй им, не смущаясь присутствием Цезаря». За ним следом двинулся Вибий Крисп; оба были одинаково полны ненависти, но выражением лица резко отличались друг от друга: Марцелл смотрел грозно, Крисп широко улыбался[118]: подоспевшие друзья заставили обоих вернуться на свои места. Яростный спор, в котором на одной стороне было состоявшее из честных людей большинство, на другой — располагавшее властью меньшинство, становился все более ожесточенным и затянулся до конца дня.
44. В следующем заседании сената Цезарь первым заговорил о том, что надо забыть прошлые обиды и распри, и о том, что иные вещи в прежние времена бывали необходимы. Муциан многословно развивал ту же мысль и всячески выгораживал доносчиков. Тех, кто вновь возбудил некогда начатые, но позже приостановленные судебные процессы, он мягко, даже с просительными интонациями, убеждал отказаться от своих претензий. Встретив сопротивление, отцы-сенаторы тут же отступились от своей едва обретенной свободы. Не желая, однако, создавать впечатление, будто он пренебрегает мнением сената и оставляет безнаказанными преступления, совершенные во времена Нерона, Муциан вернул на острова, на которые они были сосланы ранее, появившихся было в Риме сенаторов Октавия Сагитту и Антистия Созиана[119]. Октавий находился в незаконной связи с Понтией Постуминой, которая не соглашалась выйти за него замуж; не видя возможности удовлетворить свою любовь, Октавий убил ее. Созиан был негодяй, принесший гибель многим людям. Решением сената, составленным в самых суровых выражениях, оба были осуждены и изгнаны, и теперь, когда всем остальным разрешили вернуться, их оставили в прежнем положении. Ненависть к Муциану, однако, от этого не стала меньше: в ссылке ли, в Риме ли — Созиан и Сагитта все равно вызывали одно лишь презрение; доносчики же, с их талантом, богатствами, властью, с их изощренной способностью делать зло, внушали людям ужас.
45. Судебное дело, которое сенат рассматривал в соответствии с древними обычаями, заставило страсти хоть немного улечься. Манлий Патруит жаловался, что в Сенекой колонии[120] он был, по приказу местных магистратов, избит напавшей на него толпой. Преступление, однако, этим не исчерпывалось: окружив Патруита, жители колонии били себя в грудь, причитали как над трупом и проделывали над ним, живым, похоронные обряды, выкрикивая при этом ругательства и оскорбления, относившиеся ко всему сенату. Вызвали свидетелей преступления, дело было расследовано и виновные осуждены; к решению добавили постановление сената, которым колонистам предписывалось вести себя впредь более скромно. В те же дни, по обвинению, возбужденному жителями Киренаики, Антоний Фламма был осужден на основании закона о вымогательстве, изобличен в жестокости и выслан.
46. В разгар всех этих событий чуть было не вспыхнул мятеж в армии. Преторианские части, распущенные Вителлием[121] и вновь сформированные Веспасианом[122], требовали, чтобы им вернули их привилегированное положение; перевод в преторианскую гвардию был обещан многим легионерам, и теперь они настаивали на выполнении данных обещаний; не приходилось также надеяться, будто удастся без большого кровопролития распустить и тот преторианский корпус, что создал Вителлий, а содержание претория, в который вошли бы все, кто этого добивался, стоило бы немыслимых денег. Муциан явился в лагерь и, чтобы яснее видеть, кому какое причитается вознаграждение, велел флавианцам построиться с оружием и знаками отличия, оставив между манипулами и когортами совсем небольшое расстояние. Потом привели вителлианцев; все они — и те, что перешли, как я упоминал, на сторону победителей в Бовиллах[123], и остальные, собранные со всего Рима и его окрестностей, были едва одеты. Муциан приказал им построиться по армиям: бойцам германских легионов отойти в одну сторону, британских — в другую, остальным расположиться отдельно от тех и от других. Войдя в лагерь, вителлианцы оцепенели: со всех сторон на них глядели выстроенные словно для битвы войска, ощетинившиеся мечами и дротами; когда их, грязных и полуголых, стали разводить по указанным им местам, они впали в панику; больше всех испугались солдаты германской армии, решившие, что их хотят отделить от остальных, чтобы затем убить. Они обнимали своих товарищей, бросались им на шею, целовали как перед смертью, заклинали не покидать их в беде, умоляли не допустить, чтобы разная судьба постигла тех, кто воевал за одно дело; они обращались с мольбами к Муциану, к принцепсу, которого здесь не было, к небу и богам; наконец, Муциан рассеял их ни на чем не основанные страхи, сказав, что все они солдаты одного императора, верные одной присяге. Он не мог поступить по-другому, так как видел, что солдаты-победители тоже кричат, плачут и всячески выражают свое сочувствие побежденным. В тот день на этом все и кончилось. Вскоре, однако, они оправились и обратившегося к ним через несколько дней с речью Домициана встретили совсем по-иному: не соглашались принять земельные наделы, которые им предлагали, настаивали на выдаче жалованья и продолжении службы. Они только просили, но отказать в этих просьбах было невозможно, и в ряды претория пришлось принять всех. Позже те, кто безупречно отслужил свой срок, получили почетную отставку, многих уволили за провинности, но в разное время и поодиночке. Действуя этим испытанным методом, круговую поруку удалось сломить.
47. То ли действительно обнаружилось, что государственная казна истощена, то ли кто-то решил воспользоваться этим предлогом, но сенат постановил занять у частных лиц шестьдесят миллионов сестерциев и поручил сбор их Помпею Сильвану[124]. Вскоре, однако, потребность в этих деньгах миновала или миновала необходимость притворяться, будто они нужны. По докладу Домициана сенат отнял консульское достоинство у лиц, назначенных на эту должность Вителлием, и постановил похоронить Флавия Сабина со всеми подобающими почестями. Так переменчивая судьба еще раз показала, сколь любо ей то возносить человека, то свергать его в бездну.
48. Примерно в это же время был убит проконсул[125] Луций Пизон. Для того чтобы понятнее стал рассказ об этом убийстве, мне придется остановиться на событиях, ему предшествовавших и раскрывающих причины подобных злодеяний. При Августе и Тиберии легионом, расквартированным в Африке и охранявшим вместе с приданными ему вспомогательными войсками границы империи в этой провинции, командовали проконсулы. Вскоре Гай Цезарь, вечно всех в чем-то подозревавший и опасавшийся, в частности, правившего Африкой Марка Силана[126], отнял у проконсулов право командовать легионом и передал его специально назначенному легату. Обоим в равной мере было присвоено право раздавать награды и поощрения, обязанности их перепутались и между ними вспыхнула вражда, в которой был столь заинтересован император и которая в дальнейшем лишь возрастала под влиянием взаимной зависти. С течением времени легаты добились большей власти — может быть, оттого, что они дольше оставались в должности[127], а может быть, и потому, что, находясь в подчиненном положении, они вкладывали в борьбу больше энергии; проконсулы же, люди в основном знатные и богатые, вынуждены были думать не столько о власти, сколько о собственной безопасности[128].
49. В описываемое время легионом, стоявшим в Африке, командовал Валерий Фест, человек молодой, щедрый, честолюбивый, который, однако, был родственником Вителлия и потому пребывал в постоянном страхе. Теперь трудно установить, Фест ли подстрекал Пизона к бунту или Пизон подстрекал Феста, который не соглашался на его уговоры: они виделись без свидетелей, а после смерти Пизона большинство согласилось с версией, выгодной убийце. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что и провинциалы, и солдаты здесь не сочувствовали Веспасиану. Некоторые вителлианцы, бежавшие в Африку из Рима, твердили проконсулу, что галльские провинции колеблются, что Германия готова восстать хоть завтра, что над самим Пизоном нависла смертельная опасность и ему выгоднее война, чем ненадежный мир. В это время к Пизону явился префект петрианской кавалерии Клавдий Сагитта. Его корабль сумел в море обогнать судно, везшее центуриона Папирия, направлявшегося к тому же Пизону, с поручением от Муциана. Сагитта уверил проконсула, что Папирию дан приказ убить его. «Галериан, двоюродный брат твой и зять, — продолжал префект, — уже погиб[129]; надежда на спасение у тебя одна — действовать сразу и решительно, путей к спасению — два: либо немедленно браться за оружие, либо плыть в Галлию и там встать во главе вителлианских войск». Слова префекта, казалось, не произвели на Пизона никакого впечатления. Между тем посланный Муцианом центурион, едва сойдя с корабля в карфагенском порту, начал громко призывать на голову Пизона благословение богов в выражениях, обычно употребляемых, когда речь идет о принцепсе; при этом он требовал от ошеломленных неожиданностью прохожих, чтобы они кричали вместе с ним. Доверчивая чернь, неспособная выяснить правду и одержимая страстью к лести, хлынула на форум, принялась шуметь, аплодировать и требовать, чтобы Пизон показался толпе. Может быть, помня о предостережениях Сагитты, а может быть, по врожденной скромности, Пизон не внял этим льстивым призывам и не вышел. Расспросив центуриона, он убедился, что тот старался создать повод для обвинения проконсула в измене, и приказал казнить его. Он поступил так не потому, что хотел спасти свою жизнь; им владел гнев против негодяя, который участвовал некогда в убийстве Клодия Макра[130] и теперь вернулся, чтобы руками, еще обагренными кровью легата, лишить жизни проконсула. Однако в эдикте, в котором Пизон выразил свое неудовольствие поведением карфагенян, ясно сквозил владевший им страх; затем он заперся у себя в доме и перестал выполнять свои обычные обязанности, дабы как-нибудь случайно не подать повода для бунта.
50. Когда молва, всегда раздувающая до невиданных размеров и правду и ложь, донесла до Феста слухи о беспорядках в Карфагене и о казни центуриона, он отправил конных солдат убить Пизона. День едва брезжил, когда прискакавшие во весь опор всадники, с обнаженными мечами, ворвались в темный еще дом проконсула. Фест выбрал для этого дела мавров и солдат-пунийцев из вспомогательных войск; большинство из них никогда не видело проконсула и не знало его в лицо. Недалеко от спальни они встретили случайно проходившего раба, спросили, как выглядит Пизон и где его найти. Доблестный раб ответил, что он сам и есть Пизон, и тут же пал под ударами мечей. Вскоре, однако, Пизон тоже был заколот, ибо среди убийц все же нашелся человек, который его знал. То был Бебий Масса, один из прокураторов Африки. В дальнейшем мы будем еще не раз встречать это имя, ибо с ним связано множество несчастий, о которых нам предстоит рассказать, но уже и в ту пору Масса был опасен для каждого порядочного человека[131]. Из Адрумета[132], где он выжидал исхода событий, Фест немедленно отправился к своему легиону и приказал заковать в цепи, как пособника Пизона, префекта лагерей Цетрония Пизана; на самом деле арест Цетрония был вызван личной неприязнью к нему Феста. Фест наказал кое-кого из солдат и центурионов и наградил других; как наказанные не заслужили своих наказаний, так награжденные — своих наград, но Фесту нужно было создать впечатление, будто он подавил целый заговор. Вслед за этим он заставил жителей Эи и лептийцев[133] прекратить свои распри, начавшиеся со споров между крестьянами из-за украденного продовольствия или скота, а кончившиеся настоящими сражениями, в которых обе стороны выступали в боевом строю и с оружием в руках. Дело в том, что жители Эи, уступавшие противникам численностью, призвали на помощь гарамантов, свирепое племя, своими набегами наводившее ужас на соседей[134]. Положение лептийцев стало критическим: поля и земли их на огромном пространстве были опустошены, а сами они в страхе сбежались в крепость, под укрытие стен. Появление наших когорт и конных отрядов заставило гарамантов обратиться в бегство и вернуть награбленное; не удалось получить обратно только вещи, которые гараманты сумели унести в свои недоступные становища, а там продали племенам, живущим еще дальше на юг.
51. После Кремонской битвы к Веспасиану отовсюду шли все новые и новые радостные известия. Теперь множество людей из различных сословий, положившись на судьбу и собственное мужество, устремились по бурному зимнему морю к новому принцепсу, дабы сообщить ему о смерти Вителлия. Прибыли к нему и послы царя Вологеза, предлагавшего Веспасиану сорок тысяч парфянских всадников[135]. Радостное и великолепное зрелище: принцепс, которому союзники предлагают столь значительную помощь и который в ней не нуждается! Поблагодарив Вологеза, попросив передать ему, что в империи ныне царит мир и послов следует направлять в сенат[136], Веспасиан занялся положением в Италии и в Риме. Первое, что ему пришлось услышать, были жалобы на Домициана, который, как говорили, разрешал себе больше, чем позволяется сыну принцепса, особенно в его возрасте. Веспасиан разделил свою армию, оставил лучшие войска Титу и поручил ему продолжать войну в Иудее[137].
52. Рассказывают, что перед отъездом Веспасиана Тит долго говорил с отцом, просил его не верить слухам, порочащим Домициана, и при встрече отнестись к сыну беспристрастно и снисходительно «Настоящая опора человека, облеченного верховной властью, — говорил Тит, — не легионы и не флоты, а дети, и чем больше их, тем лучше. По воле времени и судеб, под влиянием страстей или заблуждений слабеет чувство дружбы, друзья покидают нас, привязываются к кому-нибудь другому, и только узы крови остаются нерушимы. Особенно крепки они должны быть в семье принцепса, который счастье свое делит и с посторонними, а беды — только с самыми близкими. Как же сумеем мы с братом жить в мире и согласии, если отец не подаст нам пример?». Речи эти не заставили Веспасиана отнестись к Домициану снисходительнее, но верность Тита семье и уважение, которое он питал к старинным нравам, искренне порадовали отца. Он отвечал, что об интересах мира и делах семьи позаботится сам, Титу же посоветовал не беспокоиться, а лучше думать о том, как прославить государство разумным ведением войны и собственной доблестью. Потом Веспасиан приказал нагрузить зерном самые быстроходные корабли и отправил их в Рим, хотя море еще не успокоилось от зимних бурь: положение в столице было критическим, — когда отправленные Веспасианом суда вошли, наконец, в гавань, хлеба в амбарах оставалось едва на десять дней.
53. Восстановление Капитолия Веспасиан поручил Луцию Вестину, который, хотя и происходил из сословия всадников, пользовался таким уважением и снискал столь добрую славу, что считался одним из первых людей в государстве[138]. Созванные им гаруспики[139] объявили, что развалины старого храма следует вывезти на болота[140], а новый возводить на том же фундаменте: по словам гаруспиков, боги были против изменений в форме храма. Одиннадцатый день после июльских календ[141] был ясный и безоблачный; место, отведенное под постройку храма, обложили венками и обвили священными лентами; в образовавшееся пространство вошли солдаты, носившие особенно счастливые имена[142], держа в руках ветви деревьев, сулящих удачу[143]. Потом весталки, сопровождаемые мальчиками и девочками, у которых были живы отец и мать, омылись водой, зачерпнутой из рек и чистых ключей. Претор Гельвидий Приск вступил вслед за понтификом Плавтием Элианом[144] на место будущего храма, очистил его, принеся в жертву свинью, овцу и быка[145], и, разложив внутренности животных на дерне[146], обратился к Юпитеру, Юноне и Минерве, к богам-покровителям империи, прося их даровать делу успех и своей божественной десницей вознести на вершину славы предназначенное для них обиталище, к сооружению которого люди ныне приступают. Произнеся молитву, Гельвидий взялся за священные повязки, которыми были увиты камень[147] и опутывавшие его веревки. Тотчас же все остальные: магистраты, жрецы, сенаторы, всадники, множество людей из простого народа, — упираясь изо всех сил, сдвинули и с криками ликованья поволокли огромную глыбу. Отовсюду в основание храма бросали слитки золота, серебра, сырую, не ведавшую еще горна руду, — гаруспики заранее предупредили, что нельзя осквернять закладываемый храм золотом или камнями, ранее предназначавшимися для какой-либо иной цели. Новое здание сделали выше старого: говорили, что малая высота была единственным недостатком прежнего храма, и только это жрецы и разрешили изменить.
54. Тем временем весть о смерти Вителлия разнеслась по Галлии и Германии и породила еще одну, новую, войну[148]. Цивилис отбросил теперь всякое притворство и открыто выступил против римского народа. Вителлианские легионы скорее готовы были служить варварам, нежели подчиниться Веспасиану и признать его императором. Среди галлов распространился слух, будто зимние лагеря легионов в Мёзии и Паннонии осаждены сарматами и даками[149] и что дела римлян в Британии обстоят не лучше; галлы вообразили, что судьба повсюду преследует наши войска, и эта уверенность наполнила их сердца радостью. Самое большое впечатление, однако, на них произвел пожар Капитолия. Одержимые нелепыми суевериями, друиды[150] твердили им, что Рим некогда[151] был взят галлами, но тогда престол Юпитера остался нетронутым и лишь поэтому империя выстояла; теперь, говорили они, губительное пламя уничтожило Капитолий, а это ясно показывает, что боги разгневаны на Рим и господство над миром должно перейти к народам, живущим по ту сторону Альп. Ходили также слухи, будто знатные галлы, которых Отон отправил воевать против Вителлия, поклялись перед отъездом подняться на защиту свободы, если только они увидят, что беспрерывные гражданские войны и внутренние распри подорвали силы римского народа.
55. Пока был жив Флакк Гордеоний, никаких признаков заговора не было заметно, но после его гибели зачастили гонцы между Цивилисом и префектом тревирской конницы Классиком[152]. Классик происходил из царского рода, стяжавшего себе великую славу на военном и гражданском поприще, и превосходил всех своих соплеменников знатностью и богатством. Он любил говорить, что предки его прославились не столько как союзники Рима, сколько как его враги. К Цивилису и Классику присоединились Юлий Тутор и Юлий Сабин — один тревир, другой лингон. Тутора Вителлий назначил префектом прирейнских земель[153], Сабин же, вообще отличавшийся крайним тщеславием, нашел еще особый повод для хвастовства: ему не давала покоя генеалогия, которую он сам себе придумал, — он уверял, будто божественный Юлий во время галльской войны обратил внимание на красоту его прабабки и сделал ее своей наложницей. Заговорщики тайно выведывали настроения окружающих, и если находили человека, казавшегося им пригодным для их целей, втягивали его в заговор. Наконец, они устроили собрание в Агриппиновой колонии. Собраться им пришлось в частном доме: ведь если бы замыслы их были обнаружены, народ встретил бы их с ужасом и отвращением. На сходке присутствовало несколько убиев и тунгров, но решающая роль принадлежала тревирам и лингонам. Они были слишком нетерпеливы, чтобы серьезно обсудить положение, и наперебой кричали, что римляне, поглощенные внутренними распрями, не в состоянии больше действовать разумно, что легионы перебиты, Италия разграблена, Рим вот-вот падет, каждая армия поглощена войной со своими собственными врагами. «Стоит нам закрыть альпийские проходы, — твердили заговорщики, — и слившиеся воедино галльские племена обретут, наконец, свободу, а там нам останется лишь решить, где поставить предел победоносному шествию наших армий».
56. Присутствующие тут же утвердили это предложение. Сомнение у них вызывала дальнейшая судьба уцелевшей части вителлианской армии. Многие настаивали на том, чтобы уничтожить этих изменников и смутьянов, забрызганных кровью своих полководцев. Победило, однако, другое мнение: утратив надежду на спасение, вителлианцы станут сопротивляться с упорством отчаяния; гораздо выгоднее переманить их на свою сторону; достаточно перебить легатов легионов, а с остальными, исполненными сознания своей вины и стремящимися избежать наказания, договориться будет нетрудно. Приняв на первом собрании эти решения, заговорщики разослали по галльским провинциям своих людей, поручив им подстрекать жителей к восстанию, сами же продолжали по-прежнему беспрекословно выполнять все приказы Вокулы, дабы усыпить его бдительность и тем легче захватить его врасплох. Правда, нашлись люди, сообщившие Вокуле о том, что происходит, но подавить заговор со своими малочисленными и не внушавшими доверия легионами он все равно был не в силах и потому, окруженный ненадежными солдатами и тайными врагами, счел за лучшее действовать так же, как его противники, т.е. скрывать свои подлинные намерения. Он отправился в Агриппинову колонию, где застал Клавдия Лабеона[154], который сумел подкупить своих сторожей и бежать из-под ареста (я уже рассказывал прежде о том, что Лабеон был арестован по приказу Цивилиса и выслан в племя фризов). Он уверял Вокулу, что пойдет на батавов и, если только ему дадут войска, сумеет заставить большую часть племени вновь вступить в союз с римлянами. Ему дали немного пехоты и всадников, но он не посмел даже приблизиться к батавам, а, увлекши за собой кое-кого из племен нервиев и бетазиев, стал нападать на каннинефатов и марсаков[155], действуя исподтишка, не как полководец, а как разбойник.
57. Введенный в заблуждение коварством галлов, Вокула выступил против врага. Он находился недалеко от Старых лагерей, когда Классик и Тутор, под предлогом рекогносцировки продвинувшиеся вперед, встретились с вождями германцев и еще раз подтвердили прежде существовавшую между ними договоренность. Только после этого они построили лагерь и заперлись в нем со своими отделившимися от легионов войсками. Вокула заклинал их не делать этого, убеждал, призывал в свидетели богов. «Неужели вы думаете, — говорил он, — что Римское государство так ослабело от гражданских войн, что станет терпеть оскорбления от тревиров и даже от лингонов? Нет, у нас остались еще верные провинции и победоносные войска, осталась Фортуна, пекущаяся о нашей империи, и боги, готовые отомстить за нее. Довольно было одной битвы, чтобы уничтожить Виндекса с его галлами, а в старину — Сакровира и эдуев[156]; тот же гнев богов, та же судьба ждут и сегодня изменников, нарушающих договор о союзе. Божественный Юлий и божественный Август лучше знали ваш нрав: стоило Гальбе отменить подати[157], как ненависть овладела вашими сердцами, с вас стали меньше взыскивать — и вы сделались врагами Рима. Отберут у вас все и разденут донага — вот тогда вы почувствуете себя нашими друзьями!». Эти полные ярости слова не произвели на Тутора и Классика никакого впечатления, и они продолжали упорствовать в измене. Убедившись в этом, Вокула вернулся в Новезий[158], в двух милях от которого расположились и галлы. Центурионы и солдаты то и дело ходили к ним в лагерь, там их соблазняли деньгами, и они дали, наконец, обещание совершить неслыханное преступление: привести римскую армию к присяге варварам, а пока, в знак того, что они сдержат свое слово, — убить или заковать в цепи легатов. Многие советовали Вокуле скрыться, но он не хотел отступать и, созвав солдат на сходку, заговорил с ними так.
58. «Ни разу еще, обращаясь к вам с речью, не был я столь полон беспокойства за вас и столь спокоен за себя. Я слышу со всех сторон, что смерть моя близка, и радуюсь этому, ибо среди бед, на нас обрушившихся, она одна сможет положить конец моим несчастьям. Но за вас мне и горько, и стыдно. С вами ведь даже не собираются сражаться, не для вас отныне закон оружия и право войны. Классик надеется вашими руками выиграть войну против римского народа, убеждает вас покориться галлам и присягнуть им на верность. Пусть ныне счастье отвернулось от нас и мы утратили былую доблесть, разве мало было в прошлом римских легионов, которые предпочли умереть, чем сделать шаг назад? Разве мало мы знаем союзных народов, обрекавших огню свои города, своих жен и детей и не искавших за их гибель иной награды, кроме славы и сознания выполненного долга? Запертые в Старых лагерях легионы перенесли невиданные лишения, но не дали ни запугать себя, ни соблазнить посулами. А ведь наше положение совсем иное: у нас есть не только оружие, солдаты и ограждающие нас могучие укрепления, у нас к тому же вдоволь зерна и запасы провианта, с которыми можно выдержать любую, самую долгую осаду. Денег вам тоже только что роздали немало, — вы можете считать, что получили их от Веспасиана, или думать, что их вам прислал Вителлий, но никто не усомнится в том, что вам дал их римский император. Если вы, победители в бесчисленных войнах, герои Гельдубы и Старых лагерей[159], столько раз бившие врага, теперь боитесь открытого сражения, это, конечно, стыдно, но ведь мы можем отсидеться за нашими валами и стенами, можем разными способами протянуть время, пока из ближайших провинций не придут нам на помощь войска и отряды союзников. Не нравлюсь вам я — у вас есть другие легаты, есть трибуны, есть, наконец, центурионы и солдаты. Лишь бы только не разлетелась по миру чудовищная весть о том, что вы, покорно следуя приказам Цивилиса и Классика, вторглись в Италию! Или и это вам нипочем, и когда германцы и галлы приведут вас под стены Рима, вы с оружием в руках ворветесь в родные дома? Ужас наполняет душу при одной лишь мысли о подобном злодеянии. Неужто вы согласны нести караул возле опочивальни тревира Тутора? Идти в бой по сигналу, поданному батавом? Раствориться в разбойничьих шайках германцев? Как станете вы держать ответ за все содеянное, когда придется, наконец, встретиться с римскими легионами? Изменники среди изменников, предатели среди предателей, преследуемые гневом богов, будете вы метаться от тех, кому принесли присягу сначала, к тем, кому присягнули потом. О, Юпитер Сильнейший и Величайший, столькими триумфами прославленный за эти восемьсот двадцать лет[160]! О Рима создатель, Квирин[161]! Молю и заклинаю вас: если уж вы не дозволили, чтобы эти лагеря под моим началом сохранили всю свою неподкупную чистоту, не дайте хоть Тутору и Классику осквернить их; пусть римские воины либо не совершат преступления, либо быстро раскаются в содеянном и не понесут никакого наказания».
59. Среди слушавших Вокулу солдат одни были полны надежд, другие глядели в будущее со страхом, третьих мучил стыд, и речь легата вызвала у них самые разные чувства. Вокула удалился к себе и занялся приведением в порядок своих дел, готовясь вскоре покончить счеты с жизнью. Однако рабы и вольноотпущенники не дали ему оставить мир по своей воле, и ему пришлось принять тяжкую и позорную смерть. Убил его нарочно присланный для этой цели Классиком дезертир первого легиона Эмилий Лонгин; легатов Нумизия и Геренния сочли достаточным заковать в цепи, и лишь затем в лагерь явился сам Классик, украшенный знаками достоинства римского полководца. Но даже этот человек, привыкший ко всякого рода преступлениям, не нашелся, что сказать солдатам; он только прочел текст присяги, и все поклялись в верности власти галлов. Убийцу Вокулы Классик повысил в звании, остальных наградил в меру преступлений, совершенных каждым.
Тутор и Классик распределили между собой обязанности. Тутор во главе многочисленного отряда осадил Агриппинову колонию и привел к присяге не только жителей города, но и все войска, расположенные по берегам Верхнего Рейна. В Могунциаке трибуны и префект лагерей оказали ему сопротивление, — первые были убиты, второй изгнан. Классик выбрал из перешедших на его сторону римских солдат нескольких самых подлых, приказал, чтобы они отправились к осажденным[162], обещали им прощение и, приведя в пример самих себя, уговорили подчиниться новой власти. Если же осажденные станут упорствовать, велел передать Классик, пусть не надеются ни на что, кроме голода, цепей и смерти.
60. Верность долгу влекла осажденных в одну сторону, голод — в другую; верность долгу требовала, чтобы они помышляли лишь о своей чести и достоинстве, голод толкал их на путь преступления. Пока они медлили, съеденным оказалось и продовольствие, и то, что в крайних обстоятельствах его заменяет: лошади, волы, мулы, нечистые, отвратительные животные, употребляемые в пищу лишь в самой крайности. Под конец стали есть ветки кустов, корни, траву, пробивающуюся между камней[163]. Память об этой осаде, о муках, выпавших на долю римских солдат, и об их стойкости жила бы вечно, если бы осажденные не опозорили сами себя, послав к Цивилису делегатов с просьбой о помиловании. Парламентеров не стали слушать, пока осажденные не присягнули на верность галлам. После этого Цивилис, дабы захватить всю находившуюся в лагере добычу, прислал своих людей следить за тем, чтобы все деньги и поклажа, все обозные слуги остались на месте, а воины ушли бы из лагеря с пустыми руками. Ничего не подозревая, солдаты походной колонной дошли почти до пятого мильного камня, когда на них напали выскочившие из засады германцы. Лучшие из солдат оказали сопротивление и были уничтожены на месте, многие разбежались по округе, но германцы настигали их и убивали; остальные вернулись в лагерь. Цивилис громко жаловался на германцев, говорил, что они нарушили свои же клятвы, и возмущался их коварством. Притворялся ли он или и в самом деле не мог сдержать разъяренных германцев — судить трудно. Разграбленный лагерь варвары забросали горящими факелами, и пламя поглотило всех, кто избежал смерти в бою.
61. Легионы были разгромлены полностью, и Цивилис, который, по принятому у варваров обычаю, выступая против римлян, дал обет не стричь волосы, пока не добьется победы, снял, наконец, свою крашеную в рыжий цвет гриву[164], падавшую ему на лицо и на грудь. Рассказывают, что он отдал нескольких пленных своему маленькому сыну, чтобы те служили мишенью для его упражнений в стрельбе из лука и метании дротика. Цивилис не принес присяги галлам и не привел к ней никого из батавов; он опирался на германцев, и если бы ему пришлось с оружием в руках бороться с галлами за власть, на его стороне оказалась бы не только слава непобедимого полководца, но и перевес сил. Легата легиона[165] Муния Луперка отправили вместе с другими подарками Веледе. Эта девушка из племени бруктеров пользовалась у варваров огромным влиянием, ибо германцы, которые всегда считали, будто многие женщины обладают даром прорицать будущее, теперь дошли в своем суеверии до того, что стали считать некоторых из них богинями. Благоговение, которое вызывала у них Веледа, еще возросло, когда сбылись ее предсказания о победе германцев и гибели римских легионов[166]. Луперка, однако, убили по дороге, а немногих центурионов и трибунов родом из Галлии сохранили в качестве заложников, дабы помешать галлам нарушить свои союзнические обязательства. Зимние лагеря когорт, конных отрядов, легионов были разрушены и сожжены; уцелели лишь те, что находятся в Могунциаке и Виндониссе[167].
62. Шестнадцатый легион вместе со своими вспомогательными отрядами, также перешедшими на сторону врага, получил приказ выступить в определенный, заранее назначенный день из Новезия и расположиться в Колонии Тревиров[168]. Оставшееся до выступления время легионеры проводили в размышлениях и заботах: трусы бледнели от страха, вспоминая о судьбе погибших в Старых лагерях; настоящие солдаты стыдились содеянного и спрашивали себя, что теперь будет: куда они пойдут, кто их поведет и что станется с ними, раз они попали в полную зависимость от людей, которым сами дали право распоряжаться своей жизнью и смертью; были и такие, что вовсе не печалились о своем позоре, а заботились лишь о том, как лучше спрятать под одеждой деньги и драгоценности; иные, как будто готовясь к бою, острили мечи и чинили дроты. Среди всех этих размышлений пришло время выступать, и солдатам стало еще тоскливее: за стенами лагеря унижение их было не так заметно, теперь они выставляли его всем напоказ, в открытом поле, среди бела дня. Молча, как на похоронах, проходит нескончаемая колонна мимо валяющихся на земле императорских статуй; на значках когорт не видно ни украшений, ни знаков отличия; кругом весело плещутся по ветру вымпелы галльских отрядов, и впереди шагает назначенный командовать переходом Клавдий Санкт, кривой, грозный с виду, но слабый умом. К прежнему позору прибавился новый, после того как к шестнадцатому легиону присоединился еще один, вышедший из боннских лагерей[169]. Весть о том, что идут взятые в плен легионы, разлетелась по округе, и люди, еще недавно трепетавшие при одном упоминании о римлянах, выбегали в поле, взбирались на крыши, непристойно наслаждаясь небывалым зрелищем. Конники пицентинского отряда не вытерпели насмешек черни и, не обращая внимания на обещания и угрозы Санкта, свернули к Могунциаку. По дороге им случайно встретился убийца Вокулы Лонгин, они забросали его дротами, сделав таким образом первый шаг к искуплению своей вины. Легионы продолжали идти прежним путем и остановились лишь под стенами Колонии Тревиров.
63. Цивилис и Классик были в упоении от своих успехов, но все же колебались отдать на разграбление солдатам Агриппинову колонию. Алчность и природная жестокость толкали их к тому, чтобы расправиться с этим городом, но в то же время они понимали, что на первых порах им выгодно прослыть великодушными властителями, и желание добиться подобной репутации вместе со стратегическими соображениями удерживали их от этого шага. Цивилис, кроме того, не забывал о благодеянии, оказанном ему агриппинцами: они мягко и почтительно обращались с его сыном, который был схвачен в этой колонии в начале мятежа и содержался здесь под почетным арестом[170]. У зарейнских племен, однако, этот большой и богатый город вызывал слепую ненависть, и они считали, что война будет кончена только тогда, когда германцы любого племени получат право селиться здесь; если же нет, говорили они, город следует уничтожить, а убиев расселить по другим землям[171].
64. Тенктеры, обитавшие на другом берегу Рейна, послали своих представителей в совет колонии, и самый свирепый из них передал решение своего племени в следующих словах: «Мы благодарим наших общих богов и величайшего среди них — Марса[172] за то, что они вернули вас в семью германских народов и разрешили снова называться германским именем. Мы поздравляем вас, — отныне вы будете свободными среди свободных. Прежде реки и земли были в руках римлян, они ухитрились отнять у нас даже самое небо; они не давали нам собираться для обсуждения наших дел, а если и разрешали, то на условиях, невыносимых для людей, живущих ради войны, — безоружными, полуголыми, под наблюдением конвоиров и за деньги[173]. Но чтобы союз и дружба наши были вечны, мы требуем от вас срыть стены колонии; эта ограда — оплот рабства; даже дикие звери, если их долго держать взаперти, отвыкают быть храбрыми. Вы должны убить всех римлян, находящихся в ваших землях: трудно, став свободными, терпеть у себя господ. Имущество убитых будет отдано в общее пользование, и пусть никто не пытается что-нибудь скрыть или заботиться только о своей выгоде. И мы, и вы будем обрабатывать земли по обоим берегам реки, как в старину это делали наши предки. Земля, как воздух и свет, не может быть достоянием одного человека — воздух и свет принадлежат всем, земля доблестным воинам[174]. Вернитесь к установлениям предков, к нашим древним верованиям, откажитесь от удовольствий, с помощью которых римляне вернее, чем оружием, удерживают людей в подчинении. Забудьте о рабстве, станьте опять прямыми и честными, и вы будете равны другим народам, а может быть, даже добьетесь власти над ними».
65. Страх перед будущим мешал жителям колонии согласиться на предъявленные условия; отвергнуть требования тенктеров в положении, в котором колония находилась теперь, было тоже невозможно. Колонисты думали долго и, наконец, дали следующий ответ. «Едва обретя свободу, мы нетерпеливо, не думая об осторожности, воспользовались первой же возможностью, чтобы воссоединиться с нашими соплеменниками — с вами и другими германскими народами. И сейчас, когда на нас со всех сторон движутся римские войска, нам надо не срывать стены города, а напротив, укреплять их. Если в наших землях и находился кто-нибудь из жителей Италии или из провинциалов, не родственных германцам, они либо погибли на войне, либо вернулись на родину. Те римляне, которые были когда-то переселены сюда, издавна женятся на наших женщинах, они породнились с нами, здесь — их родина и родина их детей. Неужели вы будете столь жестоки и потребуете от нас, чтобы мы собственными руками убивали своих родителей, своих детей и братьев? Мы отменяем пошлины и другие ограничения торговли, пусть каждый без всякой охраны входит в колонию и выходит из нее, но пока это новое правило не станет старым и привычным, вход будет разрешен только безоружным и только днем. Посредниками мы выбираем Цивилиса и Веледу, пусть они утвердят наш договор». Успокоив таким образом тенктеров, агриппинцы отправили к Цивилису и Веледе послов, которые поднесли им дары и сумели уладить все дело к выгоде колонистов. К Веледе, однако, их не допустили и говорить с ней не дали: ее скрывают от людских взоров, дабы она внушала еще большее благоговение; живет она в высокой башне, задавать ей вопросы и получать от нее ответы можно только через одного из родственников, который передает также ее пророчества.
66. После того как жители колонии заключили с Цивилисом союз, его влияние возросло еще больше, он решил захватить власть также над окрестными племенами, а тех, кто станет сопротивляться, подчинить силой оружия. Он занял земли сунуков[175], сформировал несколько когорт из молодых людей этого племени и намеревался двинуться дальше, но дорогу ему преградил Клавдий Лабеон[176]. Он еще раньше захватил мост через реку Мозу[177] и, наскоро собрав отряд из бетазиев, тунгров и нервиев, решил встретить здесь Цивилиса, так как считал, что мост этот образует важную позицию и что его особенно удобно оборонять. Сражение развернулось в узких горных проходах и продолжалось с переменным успехом до тех пор, пока германцы, переправившись через реку вплавь, не зашли Лабеону в тыл. В этот момент Цивилис, то ли заранее все рассчитав, то ли следуя внезапному порыву, бросился в гущу сражавшихся тунгров и громко крикнул: «Не для того мы начинали войну, чтобы батавы и тревиры повелевали остальными племенами. Нет и не было у нас таких намерений. Давайте заключим союз, я перехожу к вам и готов быть у вас вождем или рядовым бойцом, как вы захотите». Обращение это ошеломило тунгров, они убрали мечи, а вожди их, Кампан и Ювенал, уступили Цивилису главенство над племенем. Лабеон бежал, не дожидаясь, пока его окружат. Бетазии и нервии также присягнули победителю, и он включил их в свою армию. Дела Цивилиса шли блестяще, и многие племена, либо напуганные его успехами, либо по доброй воле, переходили на его сторону.
67. Тем временем Юлий Сабин[178] уничтожил официальные свидетельства союзных отношений между лингонами и римлянами, велел провозгласить себя Цезарем и во главе огромной беспорядочной толпы своих соплеменников напал на секванов[179], живших рядом с лингонами и сохранявших верность Риму. Секваны выступили навстречу врагу, судьба встала на сторону достойных, лингоны были разбиты. Сабин бежал с поля боя так же стремительно, как ринулся в сражение. Он постарался распустить слух, будто его больше нет в живых, и с этой целью сжег виллу, где скрывался после поражения; все действительно поверили, что он искал смерти и погиб в пожаре. Позже я расскажу о хитростях, с помощью которых он сумел, скрываясь по разным тайникам, прожить еще девять лет, поведаю о мужественной преданности его друзей и достойном поведении жены его Эппонины[180]. Победа секванов положила предел дальнейшему распространению войны; галлы мало-помалу опомнились, стали соблюдать законы и выполнять союзнические обязательства. Зачинщиками выступили ремии[181], которые обратились к остальным племенам с предложением прислать своих представителей и всем вместе решить, что предпочесть — свободу или мир.
68. Из Рима положение представлялось еще более мрачным, чем оно было на самом деле, и Муциан встревожился не на шутку. Он назначил Галла Анния и Петилия Цериала командовать отправляемой в Галлию армией, но не был уверен, что даже эти выдающиеся полководцы сумеют справиться со столь трудным поручением. В то же время Муциан не хотел оставлять столицу без надежного руководителя, боялся Домициана с его бешеными страстями, не доверял, как я уже говорил, Приму Антонию и Вару Аррию. Командуя преторианцами, Вар располагал людьми и оружием[182], и Муциан счел за благо сместить его, предоставив в утешение должность префекта, ответственного за подвоз зерна в Рим. Вар пользовался расположением Домициана, и чтобы привлечь последнего на свою сторону, Муциан назначил префектом претория Аррецина Клемента, весьма близкого Домициану и родственника Веспасиана. «Отец Клемента, — объяснял Муциан, — в правление Гая Цезаря с большим успехом командовал преторием, и солдаты хорошо относятся к этой семье; что же касается обязанностей сенатора, то он прекрасно сумеет совместить их с руководством преторианцами»[183]. Все наиболее видные жители столицы получили назначения в армию, многие сами присоединились к войску из честолюбия. Домициан и Муциан тоже собрались в поход, но настроение их было весьма различно: один, полный молодого задора, мечтал отличиться, другой старался охладить его, придумывая все новые и новые проволочки: Муциан опасался, что, получив власть над армией, Домициан под влиянием молодости, собственных страстей и дурных советчиков наделает ошибок и в политике, и в военном искусстве. Победоносные восьмой, одиннадцатый и тринадцатый легионы[184], двадцать первый, состоявший из вителлианцев, и недавно сформированный второй[185] двинулись через Пеннинские и Коттианские Альпы, часть войска пошла Грайскими горами. Из Британии был вызван четырнадцатый легион, из Испании — шестой и первый.
Услышав о приближении легионов, галлы, которые и без того склонялись к миру, послали своих представителей на собрание в землю ремиев. Здесь их ожидало уже посольство тревиров во главе с рьяным сторонником войны Юлием Валентином. Он произнес тщательно подготовленную, исполненную ненависти речь, в которой осыпал римский народ оскорблениями и теми упреками, какие всегда предъявляются великим империям. Дикое красноречие этого человека, одержимого страстью к заговорам и смутам, произвело на многих сильное впечатление.
69. Ему возражал Юлий Авспекс, один из самых знатных людей племени ремиев. Он восхвалял римлян и блага мирной жизни, говорил, что развязать войну могут и трусы, а бороться против опасностей, с ней связанных, приходится людям решительным, призывал не забывать, что легионы уже совсем близко. Подобными доводами ему удалось убедить слушателей; люди постарше и поумнее вспомнили об уважении к законам и верности союзным обязательствам, те, кто помоложе, испугались. Все хвалили Валентина за патриотизм, но действовать предпочли по совету Авспекса. Бесспорно, что помощь, оказанная лингонами и тревирами Вергинию в пору восстания Виндекса, также настроила остальных галлов против них. Многие опасались, что между галлами вспыхнет борьба за власть. «Кто встанет во главе восстания? — спрашивали себя такие люди. — Кто будет нам приказывать и толковать пророчества? И в чьих руках сосредоточится верховная власть, если все кончится благополучно?». Ничего еще не добившись, галлы уже начали ссориться; одни гордились своими договорами о союзах, другие — мощью и богатством, третьи — древним происхождением. Видя, что будущее не сулит особых радостей, они решили примириться с настоящим. Тревирам отправили письмо, в котором от имени всех галльских племен советовали сложить оружие и покаяться. «Если вы так поступите, — писали галлы, — можно надеяться на прощение; у нас есть люди, готовые за вас ходатайствовать». Валентин изо всех сил сопротивлялся подобному обороту дела и сумел убедить своих соплеменников не обращать внимания на предложения галлов. К войне он, однако, не готовился и только ораторствовал на сходках.
70. Ни тревиры, ни лингоны, ни другие мятежные племена не предпринимали ничего, что соответствовало бы важности дела, ими затеянного. Вожди восстания действовали без всякого общего плана. Цивилис блуждал в белгских лесах, стараясь захватить Лабеона или прогнать его из этих мест; Классик проводил дни в бездействии и развлечениях, как будто уже создал собственное государство и стал его правителем; даже Тутор не спешил занять берега Верхнего Рейна и закрыть альпийские проходы. Тем временем двадцать первый легион и вспомогательные когорты под командованием Секстилия Феликса[186], первый — через Виндониссу, вторые — из Реции, прорвались на территорию Галлии. К ним присоединилась кавалерийская часть сингуляриев[187], некогда созданная Вителлием, но затем перешедшая на сторону Веспасиана. Командовал конниками Юлий Бригантик[188], сын сестры Цивилиса; он кипел злобой против своего дяди, а тот ненавидел его, — известно, что чем ближе люди по родству, тем более острое чувство вражды питают они друг к другу. Тутор влил в тревирскую армию ополченцев, набранных недавно в племенах вангионов, церакатов и трибоков[189], а также подразделения ветеранов, состоявшие из пеших и конных солдат, которых он угрозами или посулами переманил на свою сторону[190]. Эти ветераны разгромили когорту, высланную вперед Секстилием Феликсом, но когда увидели, что на них движется во главе со своими полководцами римская армия, вернулись к исполнению своего долга; трибоки, вангионы и церакаты последовали их примеру. Тутор со своими тревирами, в обход Могунциака, отступил к Бингию[191], сжег мост через Наву и считал, что теперь он находится в безопасности. Однако солдаты Секстилия нашли брод и разгромили армию Тутора. Это поражение ошеломило тревиров; побросав оружие, они разбежались по всей округе; некоторые из вождей племени, дабы показать, что они первыми прекратили войну, кинулись в города, сохранившие верность Риму. Легионы, которые, как я уже упоминал, были переведены из Новезия и Бонны в землю тревиров[192], добровольно принесли присягу Веспасиану. Все эти события произошли в отсутствие Валентина. Когда он появился, пылая гневом и готовый на все, лишь бы вернуть своих соплеменников на путь мятежа и разбоя, легионы уже ушли на территорию союзного племени медиоматриков[193]. Валентин и Тутор убедили тревиров снова взяться за оружие, а чтобы отнять у них всякую надежду на прощение и еще больше запутать их в свои преступления, убили легатов Геренния и Нумизия[194].
71. Таково было положение дел, когда в Могунциак прибыл Петилий Цериал. Появление его возродило надежды на скорое окончание войны. Цериал рвался в бой, в его характере храбрость преобладала над осторожностью, и речи его, полные яростного одушевления, сильно действовали на солдат. Он стремился возможно скорее сразиться с врагом и не соглашался ни на какие промедления. Цериал отправил по домам набранных в Галлии бойцов и велел каждому рассказывать своим соплеменникам, что империя вполне может обойтись силами легионов, союзники же пусть возвращаются к мирным занятиям, — если римляне взяли ведение войны на себя, можно считать, что она уже выиграна. В результате этой меры галлы сделались еще послушнее, чем были раньше: после возвращения молодежи им стало легче выплачивать подати, а видя, что никто не собирается их преследовать, они еще больше старались угодить римлянам. Узнав о поражении Тутора, разгроме тревиров и удачах противника, Цивилис и Классик испугались, начали срочно стягивать свои рассеянные войска и посылать к Валентину гонца за гонцом, убеждая его до времени не рисковать и ни под каким видом не принимать пока решительного сражения. Это лишь заставило Цериала действовать еще более энергично. Он велит легионам[195] двигаться на врага кратчайшим путем, через земли медиоматриков, сам собирает солдат, находившихся в Могунциаке[196], и тех, что привел с собой, и после трехдневного перехода появляется перед Ригодулом[197], где заперся Валентин со своими тревирами. Место это окружено горами и защищено рекой Мозеллой, однако Валентин велел вдобавок вырыть еще рвы и нагромоздить груды камней. Вражеские укрепления не устрашили римского полководца, он приказал пехоте прорвать оборонительную линию, коннице, не обращая внимания на противника, подняться по склону холма. Цериал не принимал всерьез наспех собранное войско варваров, он верил, что доблесть римских солдат сильнее, чем все укрепления, которыми окружили себя враги. На склоне холма под градом дротов и стрел наступающие замешкались, но едва дошло до рукопашной, тревиры отступили и покатились вниз. В тыл им тем временем зашли римские конники, которых Цериал послал в обход по более удобным дорогам; всадники захватили в плен многих знатных белгов[198] и среди них самого Валентина.
72. На следующий день Цериал вступил в Колонию Тревиров[199]. Солдаты настаивали на том, чтобы город был стерт с лица земли. «Тут родина Классика, здесь родился Тутор, — кричали они, — из-за их коварства попали в осаду и погибли наши легионы. Разве можно сравнить это преступление с виной Кремоны, которая лишь на одну ночь задержала победителей, но и за это была разграблена дотла, — а ведь Кремона стояла в самом сердце Италии? Неужели же мы допустим, чтобы здесь, на границе Германии, целым и невредимым сохранился город, похваляющийся убийством наших полководцев, трофеями, отнятыми у наших армий? Пусть все, что удастся здесь взять, идет в казну, мы хотим видеть, как пламя пожрет мятежный город, как гибелью своей он заплатит за уничтоженные римские лагеря». Опасаясь, что позор падет на него, если распространится слух, будто он потакает распущенности и жестокости солдат, Цериал постарался справиться с царившим в армии возмущением. Солдаты никогда не вносят в войны против варваров того ожесточения, с каким они сражаются против своих сограждан; теперь гражданские распри были позади, и войска подчинились требованиям Цериала. Внимание их к тому же было отвлечено другим событием: в Колонию Тревиров пришли легионы, находившиеся до сих пор в землях медиоматриков. Угнетенные сознанием содеянных преступлений, легионеры стояли, опустив глаза в землю, и вид их вызывал жалость. Армии не приветствовали друг друга, кое-кто из солдат Цериала пытался утешить и подбодрить новоприбывших, но те не отвечали, они разбрелись по палаткам и сидели там, избегая даже дневного света, оцепенев не столько от страха, сколько от стыда и сознания собственного позора. Победители тоже ходили мрачные и, не смея открыто просить о снисхождении к провинившимся, молчали и плакали, стремясь добиться прощения для своих товарищей. Наконец, Цериал успокоил и тех, и других, приписав злому року все, что на самом деле произошло из-за происков врагов или распрей между командирами и солдатами. «Считайте сегодняшний день первым днем вашей службы, — сказал он, обращаясь к пришедшим, — считайте, что только сегодня вы принесли присягу. Былых преступлений не станем вспоминать ни император, ни я». Новоприбывших разместили в том же лагере, где находились воины Цериала; по манипулам был оглашен приказ, запрещающий солдатам, если они поссорятся или начнут браниться, попрекать товарищей былой изменой или понесенным поражением.
73. Вскоре после этого Цериал созвал на сходку тревиров и лингонов и заговорил с ними следующим образом: «Я никогда не был оратором и привык оружием доказывать доблесть римского народа. Но раз для вас важнее всего — разговоры, раз добро и зло вы судите не по их подлинному значению, а по тому, чем назовет их какой-нибудь бунтовщик, я решил обратиться к вам с несколькими словами; исход войны почти решен, и вам важнее их выслушать, чем мне сказать. Римские полководцы и императоры вступили в земли, принадлежавшие вам и другим галлам, не из алчности, а по просьбе ваших предков, едва не погибших от междоусобных войн[200]. Германцы, которых вы в ту пору призвали на помощь, обратили в рабство вас всех, не разбирая, где союзник, где враг. Сколько раз сражались мы с кимврами и тевтонами, какие трудности пришлось вынести при этом нашим войскам, чем кончились войны с германцами[201] — достаточно хорошо известно. Мы поставили свои армии на Рейне не для того, чтобы обеспечить безопасность Италии, а для того, чтобы не дать новому Ариовисту[202] посягнуть на государство галлов. Неужели вы думаете, что вы милее Цивилису, батавам и зарейнским племенам, чем их предкам — ваши отцы и деды? Та же страсть к грабежам, та же алчность и любовь к скитаниям всегда гнали германцев в галльские земли; то же стремление захватить ваши плодородные края и вас самих испокон века заставляло их покидать свои болота и дебри. Свобода и прочие громкие слова для них лишь предлог; не было еще человека, который, намереваясь захватить власть и поработить других, не прибегал бы к этим словам.
74. «Борьба за власть и междоусобные войны терзали Галлию, пока вы не приняли наши законы. С тех пор, сколько бы раз вы ни бунтовали, мы использовали свое право победителей для единственной цели — взыскивали с вас лишь то, что необходимо для поддержания мира: спокойствие народов охраняется армиями, армии нельзя содержать без жалованья, жалованье солдатам неоткуда взять, если не взимать податей. Во всем остальном мы с вами равны: вы командуете многими из наших легионов, вы управляете провинциями, и этими, и другими; нет ничего, что было бы доступно нам и недоступно вам. Добро, которое творят хорошие государи, приносит пользу и вам, хотя вы живете вдали от Рима; жестокость дурных обрушивается только на нас, стоящих рядом. Сносите алчность и расточительность принцепсов так, как вы сносите недород или ливни, губящие урожай. Пороки будут существовать, пока существует род человеческий, но и они не беспрерывно властвуют над людьми, нет-нет да и наступают лучшие времена. Или вы, может быть, надеетесь, что правление Тутора и Классика будет более мягким? Что войска, которые вам понадобятся, дабы обуздывать натиск германцев и бриттов, потребуют меньших налогов? А ведь война всех со всеми и есть то, что вас ждет, если, — да не допустят этого боги, — римляне будут изгнаны из Галлии. Восемьсот лет сопутствовала нам удача, восемьсот лет возводилось здание Римского государства, и всякий, кто ныне попытается разрушить его, погибнет под развалинами. Самая большая опасность, однако, грозит вам, ибо вы обладаете золотом и богатствами, из-за которых чаще всего и возникают войны. Любите же и охраняйте мир, любите и охраняйте Город, который все мы, победители и побежденные, с равным правом считаем своим. Перед вами выбор между покорностью, обеспечивающей вам спокойную жизнь, и упорством, таящим смертельную опасность; вы уже испытали и то, и другое; пусть же опыт заставит вас выбрать первый из этих путей». Лингоны и тревиры ожидали гораздо худшего; речь Цериала успокоила и ободрила их[203].
75. Победоносная армия находилась в земле тревиров, когда Цивилис и Классик прислали Цериалу письмо следующего содержания: Веспасиан умер, хотя в официальных донесениях это и скрывается; Рим и Италия охвачены междоусобной войной; Муциан и Домициан не популярны, за ними никто не пойдет. Если Цериал согласен принять верховную власть над всей Галлией, они — Цивилис и Классик — удовлетворятся господством над своими племенами; если же он предпочитает сражаться, они согласны и на это. Цериал ничего не ответил, а гонца, принесшего письмо, отправил к Домициану.
Отряды варваров стекались отовсюду. Многие обвиняли Цериала в том, что он дал им объединиться, а не вступал в бой с каждым в отдельности. Римляне же тем временем обносили валом и рвом лагерь, который при постройке по неосторожности оставили неукрепленным.
76. Среди германцев шли споры. Цивилис настаивал на том, чтобы дождаться прихода зарейнских племен. «Римляне так их боятся, — утверждал он, — что смешаются, едва завидя их. Правда, что белги открыто перешли на нашу сторону и преданы мне, но ведь из всех галлов только они одни и составляют настоящую силу, все остальные — не более чем добыча для победителей». Тутор считал, что всякое промедление на пользу римлянам: «Отовсюду стекаются армии, — говорил он, — один легион переправляется из Британии, несколько вызваны из Испании, из Италии тоже движутся войска, причем идут не новобранцы, а старые, закаленные в боях воины. Германцы, на которых мы возлагаем столько надежд, не привыкли слушаться приказов, не знают дисциплины, всегда и во всем движимы лишь жаждой наживы. Единственное, что на них действует, — это деньги и подарки, которых у римлян больше, чем у нас, и не настолько они любят войну, чтобы предпочесть труды и опасности возможности получить те же деньги без всякого риска. Если же мы не станем медлить и нападем на врага сейчас, то Цериалу нечего будет нам противопоставить, кроме легионов, прежде входивших в состав германской армии, связанных обязательствами, которые они на себя приняли, вступив в союз с галлами. Поражение, которое римляне неожиданно для самих себя нанесли недавно Валентину и толпе его тревиров, исполнило самомнения и солдат, и их полководцев. Теперь они рвутся к новым победам, но когда явятся к нам, то увидят перед собой не юношу, больше способного произносить речи на сходках, чем владеть мечом[204], а Цивилиса и Классика, один лишь вид которых сразу заставит их вспомнить перенесенные опасности, бегство, голод, вспомнить, сколько раз их жизнь зависела от прихоти победителя. Тревиры и лингоны тоже ведут себя спокойно не оттого, что любят римлян; пройдет страх, и они снова возьмутся за оружие». Классик присоединился к мнению Тутора, и это решило спор; тотчас же начались приготовления к бою.
77. В центре встали убии и лингоны, на правом фланге — когорты батавов, на левом — бруктеры и тенктеры. Одни устремились вперед по горам, другие — по равнине, между дорогой и Мозеллой, и столь неожиданно налетели на наши позиции, что Цериал, ночевавший не в лагере, еще лежа в постели у себя в комнате, одновременно услышал и о нападении врага, и о поражении своих войск. Он обрушился на тех, кто принес это известие, и приписал его их трусости, но вскоре его глазам открылась вся картина побоища: оборона лагеря прорвана, конница бежит, середина моста через Мозеллу, соединявшего обе части города, занята противником[205]. Цериал всегда в критических обстоятельствах сохранял полное самообладание: он своею рукой останавливает бегущих и бросается, без щита, без панциря, под град дротиков. Его храбрость тут же приносит плоды: лучшие воины сбегаются к нему со всех сторон и отбивают мост. Поручив оборону его отборному отряду, Цериал возвращается в лагерь и видит, что манипулы легионов, сдавшихся в плен под Новезием и Бонной, разбегаются, возле значков осталось лишь несколько солдат, орлы почти полностью окружены врагами. В ярости обращается он к солдатам: «Кто может сказать, что вы изменники? Вы ведь не предаете ни Флакка, ни Вокулу[206]. Вы всего лишь отступаетесь от человека, безрассудно поверившего, что вы порвали союз с галлами и вспомнили о присяге, принесенной Риму. Пусть меня постигнет судьба Нумизиев и Геренниев[207], — чтобы не осталось в живых ни одного из ваших легатов, чтобы все они пали от руки солдат или под ударами врагов. Идите, скажите Веспасиану, а еще лучше Цивилису и Классику, что вы бросили своего полководца на поле боя. Скоро наши легионы будут здесь, я не останусь неотмщенным, а вы безнаказанными».
78. Все это была правда, и трибуны и префекты твердили легионерам то же самое. Солдаты собрались в когорты и манипулы. Они не могли развернуться строем, ибо враги были повсюду и территория лагеря, на которой шел бой, загромождена палатками и тюками. Тутор, Классик и Цивилис, каждый со своей стороны, воодушевляли бойцов, говорили галлам о свободе, батавам о славе, германцам о добыче. Победа склонялась на сторону варваров. Но двадцать первый легион, который не был так стеснен, как остальные, сумел выдержать атаку нападающих и заставил их отступить. Сами боги, должно быть, сломили боевой дух победителей, и они обратились в бегство. Варвары объясняли дело так, будто их испугал вид когорт, которые, смешавшись в начале сражения, отступили под натиском врага в горы, там снова построились и теперь производили впечатление шедших на помощь римлянам свежих подкреплений. На самом деле они одержали было уже победу, но забыли о противнике и начали драться между собой из-за добычи. Цериал, по небрежности чуть не проигравший сражение, поправил дело мужеством и упорством: он сумел использовать выпавшую на его долю удачу, в тот же день взял лагерь мятежников и уничтожил его.
79. Отдыхать солдатам пришлось недолго. Жители Агриппиновой колонии просили помощи и предлагали выдать жену Цивилиса, его сестру и дочь Классика, оставленных у них в залог взаимной верности батавов и галлов. Они перебили германцев, которые жили поодиночке в домах колонистов, боялись теперь, что враги, оправившись от поражения, вновь обретут уверенность в своих силах и вернутся мстить, и с полным правом просили римлян о защите. Цивилис уже шел к городу; силы его были все еще довольно значительны, ибо оставалась нетронутой лучшая его когорта, состоявшая из хавков[208] и фризов и расположенная в Тольбиаке[209], на окраине Агриппиновой колонии. В пути, однако, он получил недобрые известия, заставившие его изменить свои планы: жители колонии устроили для составлявших эту когорту германских солдат большой пир, а когда те, отяжелев от пищи и вина, заснули, заперли их в доме и сожгли; так благодаря коварству колонистов вся когорта оказалась уничтоженной. К этому же времени к Агриппиновой колонии после форсированного марша подошел Цериал. Опасность грозила Цивилису и с другой стороны: четырнадцатый легион мог с помощью британского флота напасть на батавов, живших на побережье Океана[210]. Однако легат этого легиона Фабий Приск повел своих солдат по суше, напал на племена нервиев и тунгров, и они тут же сдались ему. Флот тем временем подвергся нападению каннинефатов, потопивших или захвативших большую часть кораблей. Те же каннинефаты разгромили нервиев, по собственному почину выступивших на поддержку римлян. Классик тоже одержал победу над конным отрядом, высланным Цериалом к Новезию. Все эти поражения, сами по себе мелкие, но следовавшие одно за другим, омрачали славу, окружавшую после недавней победы армию Цериала.
80. Примерно в эти же дни Муциан приказал убить сына Вителлия[211], говоря, что нельзя считать войну по-настоящему конченной, пока не уничтожены семена смуты. Он не допустил также, чтобы Домициан включил Антония Прима в свою свиту, ибо опасался популярности Антония среди солдат и знал, что тщеславие этого человека не позволит ему терпеть кого-либо рядом с собой, а тем более — выше себя. Антоний уехал к Веспасиану, где был принят с меньшим радушием, чем рассчитывал, хотя никакой враждебности к нему император также не проявил. Противоречивые чувства владели Веспасианом. С одной стороны, он признавал заслуги Антония и понимал, что война окончилась победой лишь благодаря ему, с другой — письма Муциана убеждали его в обратном. Приближенные императора тоже всячески чернили Антония, говорили, что он человек непостоянный, обуянный гордыней, напоминали о неблаговидных поступках, совершенных им в молодости[212]. Антоний и сам оскорблял людей своей заносчивостью: он без конца напоминал о своих заслугах, всех считал трусами, бранил Цецину, уверяя, что тот сдался в плен без боя[213]. Постепенно уважать его перестали и даже начали презирать, хотя, казалось, он по-прежнему окружен дружеским расположением.
81. За несколько месяцев, что Веспасиан провел в Александрии, дожидаясь, пока установятся попутные ветры и море станет совсем спокойным[214], произошло множество чудес, как бы доказывавших благоволение неба и приязнь богов к новому принцепсу. Один из александрийских простолюдинов, у которого, как все знали, болезнь отняла зрение, пал Веспасиану в ноги, со слезами умоляя об исцелении. Он уверял, что поступает так по велению Сераписа, почитаемого этим суеверным народом больше всех прочих богов, и просил принцепса смазать ему слюной веки и глазницы. Другой, с парализованной рукой, якобы по указанию того же бога, умолял Цезаря наступить ему на больную руку. Сначала Веспасиан посмеялся над обоими и наотрез отказал им. Однако, когда они стали настаивать, он заколебался: ему не хотелось прослыть слишком самоуверенным, но мольбы обоих калек и уверения льстецов рождали в нем надежду, что исцеление может удасться. Наконец, он приказал спросить у врачей, в человеческих ли силах справиться с подобной болезнью глаз и с таким увечьем руки. После долгих споров те ответили, что слепой утратил зрение не до конца и его можно восстановить, устранив помехи, которые не дают больному видеть; что же касается руки, то она вывихнута и под действием целительной силы может вернуться в обычное положение. «Может быть, — говорили врачи, — это угодно богам, и они избрали принцепса для исполнения своей воли. Кроме того, если исцеление удастся, слава достанется Цезарю; если ничего не получится, посмешищем станут калеки». Веспасиан, решив, что удача сопутствует ему во всем, и нет вещи, даже самой невероятной, которой ему не дано было бы совершить, весело улыбаясь, исполнил то, о чем его просили. Огромная толпа следила за ним с напряженным вниманием. Увечный тут же начал двигать рукой, слепой узрел дневной свет. Люди, присутствовавшие там, уверяют, что все так в точности и происходило; они повторяют это до сего дня, когда им уже нет выгоды говорить неправду.
82. После этого случая Веспасиан еще сильнее захотел посетить святилище божества[215], дабы узнать о судьбах империи. Он приказал, чтобы в храм никого не пускали, но когда вошел в святилище и с напряженным вниманием ждал, что скажет оракул, заметил позади себя знатного египтянина по имени Басилид; Веспасиан знал, что этот Басилид лежит сейчас больной в нескольких днях пути от Александрии. Он спросил жрецов, приходил ли в тот день Басилид в храм, расспросил прохожих, видели ли его в городе, и, наконец, послал верховых к месту, где он находился. Вернувшись, всадники донесли, что в тот момент, когда Веспасиан видел его в храме, Басилид был в восьмидесяти милях от Александрии. Тогда Веспасиану стал ясен смысл божественного видения, и он понял, что само имя Басилида содержало ответ оракула на его вопрос[216].
83. Из наших писателей никто еще достойным образом не рассказал о происхождении этого божества[217]. Египетские жрецы говорят о нем следующее. Первый из македонян, кто сумел превратить Египет в мощную державу, был царь Птолемей[218]. Когда он обносил стенами только что основанную в ту пору Александрию[219], строил в ней храмы и создавал религиозные обряды, ему было видение, — во сне предстал ему юноша необычайного роста и редкой красоты и приказал: «Пошли самых верных друзей своих в Понт[220], дабы они привезли оттуда мое изображение. Царству твоему оно принесет счастье, а храму, где его поставят, — величие и славу». Едва юноша произнес эти слова, как огненный вихрь вознес его на небо. Встревоженный пророческим видением, Птолемей рассказал о нем египетским жрецам, опытным в толковании вещих снов. Те признались, однако, что почти ничего не слыхали о Понте и народах, живущих за пределами Египта. Тогда Птолемей обратился к Тимофею, афинянину из рода Евмолпидов[221], которого он еще раньше вызвал из Элевсина, поручив руководить отправлением священных обрядов, попросил его объяснить видение и истолковать волю божества. Тимофей расспросил людей, бывавших в Понте, и узнал от них, что есть в этих краях город, называемый Синопа[222], а недалеко от города — древний храм, известный у жителей под именем храма Юпитеру Диту[223]: в святилище, рядом со статуей самого божества, стоит и изображение женщины, которую многие считают Прозерпиной[224]. Но Птолемей был царь, и как то свойственно царям, действовал быстро, лишь пока ему угрожала опасность; видя, что все кругом по-прежнему спокойно, он снова стал больше помышлять о развлечениях, чем о почитании богов, мало-помалу забыл о пророчестве и обратился к другим делам, как вдруг тот же юноша явился ему в еще более грозном облике и сказал, что, если царь не исполнит приказания, немедленная гибель ждет и его самого, и его царство. Жителями Синопы правил в ту пору царь Скидрофемид; Птолемей тут же отправил к нему послов с дарами, велев им по дороге посетить святилище Аполлона Пифийского. Плавание их было удачно, и бог сказал им вполне ясно, что они должны ехать и возвратиться с изображением его отца, статую же сестры оставить на прежнем месте[225].
84. Прибыв в Синопу, послы вручили Скидрофемиду подарки, передали ему просьбу Птолемея и умоляли его эту просьбу исполнить. Царь не знал, что делать, — веление божества приводило его в трепет, народ требовал, чтобы статуи никто не касался, и своим буйством внушал Скидрофемиду ужас: однако подарки и обещания послов делали свое дело, и он все больше склонялся на их сторону. Так прошло три года, в течение которых Птолемей не ослаблял своих усилий и не скупился на подношения; от него приезжали послы все более высокого ранга, росло число прибывавших из Египта кораблей, все увеличивался вес золота, которое они привозили. Грозная тень явилась Скидрофемиду, приказала не медлить долее и тотчас выполнить веление бога. Он продолжал колебаться. Тогда на него обрушились беды; начались болезни, гнев небес, день ото дня все более неумолимый, разразился над жителями Синопы. Царь собрал народ и стал говорить о велении божества, о видениях, которые являлись ему и Птолемею, о несчастьях, все более свирепо терзавших Синопу. Жители не хотели слушаться царя; они ненавидели египтян, боялись за себя и кончили тем, что выставили у храма охрану. Поэтому и приходится так часто слышать, будто статуя сама поднялась на один из кораблей, стоявших у берега. Не меньшее удивление вызывает и та невиданная быстрота, с которой суда прошли огромное расстояние от Синопы до Египта: уже на третий день они появились в гавани Александрии. Святилище, размерами своими соответствующее величию города, было выстроено в месте, называемом Ракотис[226], где стоял старинный маленький храм, посвященный Серапису и Изиде. Именно так рассказывают чаще всего о происхождении храма и о том, каким образом попала сюда статуя бога. Я знаю, что, по мнению некоторых, статуя была привезена из сирийского города Селевкии[227] в правление Птолемея, третьего царя с этим именем[228]. Есть также люди, считающие, что привез ее тот самый Птолемей, о котором шла речь выше, но не из Синопы, а из Мемфиса, твердыни древнего Египта, пользовавшейся некогда громкой славой. Бога этого одни считают Эскулапом, так как он излечивает болезни, другие Озирисом — древнейшим божеством Египта; многие говорят, что раз он правит всем сущим, то это должен быть Юпитер; большинство же видит в нем отца Дита, поскольку многие признаки указывают на это прямо, а другие могут быть истолкованы в таком же смысле.
85. Еще не дойдя до Альп, Домициан и Муциан получили известие о благополучном исходе военных действии против тревиров. Яснее всего говорило об одержанной победе пленение Валентина, полководца противника[229]. Он держал себя мужественно, и лицо его еще выражало то одушевление, с которым он вел в бой своих соплеменников. Его участь была решена заранее, его выслушали лишь для того, чтобы узнать его образ мыслей, и осудили на смерть. Когда во время казни кто-то, желая уязвить Валентина, сказал, что его родина снова находится под игом победителя, он ответил: «Смерть меня утешит».
Муциан, сделав вид, что все это только что пришло ему в голову, выступил, наконец, с предложением, которое вынашивал издавна: вряд ли будет достойно Домициана теперь, когда кампания по сути дела кончена и сопротивление врага милостью богов сломлено, появиться на театре военных действий и делить славу с другими; если бы речь шла о судьбе империи, о спасении галльских провинций, тогда действительно место Цезаря было бы в первых рядах сражающихся, но борьбу с каннинефатами и батавами лучше предоставить не столь выдающимся полководцам; правильнее будет остановиться в Лугдунуме и, не подвергая себя мелким повседневным опасностям, но в то же время не избегая настоящих трудностей, показать окружающим народам принципат во всем его величии и мощи[230].
86. Домициан последовал этому совету; он разгадал замысел Муциана, но не хотел, чтобы тот это понял, и вместе с ним прибыл в Лугдунум. Существует мнение, что из Лугдунума Домициан отправил тайных послов к Цериалу, дабы выяснить, передаст ли тот ему, если он явится в армию, свои войска и командование над ними. Так и осталось неясным, что было у Домициана на уме: готовился ли он к войне с отцом или собирал силы и средства для борьбы с братом, ибо Цериал, с присущими ему умеренностью и здравым смыслом, сумел представить этот поступок Домициана как проявление детского тщеславия и превратил все в шутку. Видя, что его юный возраст вызывает презрение у людей пожилых, Домициан перестал выполнять даже те немногие государственные обязанности, которые на себя принял, прикинулся скромным, простоватым и, удалившись в уединение, сделал вид, будто всецело предался изучению литературы и сочинению стихов. Он хотел таким образом скрыть свои подлинные намерения и избежать соперничества с братом, чью мягкую душу, столь непохожую на его собственную, он никогда не был в состоянии понять.
(обратно)Книга V
1. В начале того же года[1] Цезарь Тит по поручению Веспасиана двинулся на усмирение Иудеи. Он показал себя отличным военачальником еще в ту пору, когда и сам он, и отец его были частными людьми[2], теперь же, окруженный вниманием провинциалов и любовью солдат, наперебой старавшихся доказать ему свою преданность, он принялся за дело с еще большей энергией и добился еще большей славы. Тит не хотел, чтобы кто-либо подумал, будто он тяготится своим подчиненным положением, а потому вел себя как облеченный доверием решительный военачальник, ласковым и дружеским обращением вызывал в каждом желание исправно нести службу, делил с рядовыми бойцами труды и тяготы походной жизни, никак не роняя при этом свое достоинство полководца. В Иудее его ждали пятый, десятый и пятнадцатый легионы[3], состоявшие из солдат, давно уже служивших под командованием Веспасиана. Тит присоединил к ним находившийся дотоле в Сирии двенадцатый легион и выведенные из Александрии двадцать второй и третий. Кроме того, за армией Тита следовали двадцать когорт союзников, восемь конных отрядов, армии царей Агриппы и Сохема, вспомогательные войска царя Антиоха[4], значительные силы арабов, особенно опасных для иудеев, так как эти два народа питали друг к другу ненависть, обычную между соседями, а также множество людей, на свой страх и риск приехавших из Италии, в надежде добиться благосклонности принцепса, до сих пор еще не дарившего никого особым расположением. Во главе всех этих войск, шедших походными колоннами, Тит вступил во вражеские пределы. Продвигаясь вперед, он тщательно разведывал окружающую местность, готовый предупредить любое нападение, и, наконец, разбил лагерь неподалеку от Иеросолимы.
2. Поскольку в дальнейшем нам предстоит описать гибель этого достославного города, сейчас будет уместно рассказать о его происхождении[5]. Одно из преданий гласит, что иудеи бежали с острова Крита и расселились на дальних окраинах Ливии еще в те времена, когда Сатурн, побежденный Юпитером, оставил свое царство[6]. Доказательством этого считают самое имя иудеев: на Кипре есть прославленная гора Ида, и говорят, будто народ, живший от нее поблизости, был назван «идеи», позже в устах варваров это слово превратилось в «иудеи». Иные утверждают, что это — часть переполнявшего Египет населения, которая в царствование Изида ушла во главе с Иеросолимом и Иудой в близлежащие земли. Многие видят в иудеях потомков эфиопов, при царе Кефее покинувших свои земли из-за распрей и войн. Некоторые думают, что они происходят от тех ассирийцев, которые, не имея довольно земли, захватили сначала часть Египта, оттуда двинулись дальше, стали возделывать земли неподалеку от Сирии и в краях эбреев и основали там свои города. Есть, наконец, люди, приписывающие иудеям весьма славное происхождение и считающие их потомками воспетых Гомером солимов[7], которые основали Иеросолиму, назвав ее по имени своего племени.
3. Большинство писателей сходятся на следующем. Некогда на Египет напала заразная болезнь, от которой тело человека становилось безобразно. Царь Бокхорис обратился с мольбой о помощи к оракулу Аммона и услышал в ответ, что страну следует очистить, выселив в чужие земли людей, навлекших на себя гнев богов. Когда их разыскали, собрали отовсюду и вывели в пустыню, они впали в отчаяние и не в силах были двигаться. Тогда один из изгнанников, по имени Моисей, стал убеждать остальных не просить помощи ни у богов, ни у людей. «И те, и другие, — говорил он, — отступились от вас. Положитесь же на самих себя и знайте, что вождь небесный направляет ваш путь; едва лишь он подаст вам помощь, как вы тут же сумеете избавиться от нынешних бедствий»[8]. Все согласились и, не зная пути, побрели по первой попавшейся дороге. Вскоре, однако, жажда, мучившая их, стала невыносимой, и они упали на землю, чувствуя приближение смерти. В эту минуту они увидели, что на вершину скалы, стоявшей в тени густой рощи, взбирается стадо диких ослов. Моисей догадался, что там, где есть трава, должна быть также и вода, пошел вслед за стадом и обнаружил большой родник. Вода облегчила страдания путников, и они шли шесть дней, не останавливаясь, на седьмой же пришли в некую землю, захватили ее, изгнав людей, ее возделывавших, и основали здесь город и храм.
4. Моисей, желая увековечить себя в памяти иудеев, дал им новую религию, враждебную всем тем, что исповедуют остальные смертные. Иудеи считают богопротивным все, что мы признаем священным, и, наоборот, все, что у нас запрещено как преступное и безнравственное, у них разрешается. В своих святилищах они поклоняются изображениям животного, которое вывело их из пустыни и спасло от мук жажды[9]; при этом режут баранов, будто нарочно, чтобы оскорбить бога Аммона[10]; убивают быков, потому что египтяне чтут бога Аписа[11]. Они не употребляют в пищу мясо свиней, ибо животные эти подвержены той самой болезни, что некогда поразила народ иудеев. О перенесенном ими в древние времена страшном голоде доныне напоминают соблюдаемые иудеями частые посты, а привычка их замешивать хлеб без дрожжей связана с тем, что некогда они питались наспех сорванными сухими колосьями. Они и отдыхать любят в седьмой день, как говорят, потому, что на седьмой день кончились их муки; со временем безделье стало казаться им все более привлекательным, и теперь они проводят в праздности каждый седьмой год[12]. Некоторые, правда, полагают, будто этот обычай они ввели у себя во славу Сатурна, потому ли, что вера их и народ пошли от идеев, удалившихся в изгнание вслед за Сатурном, но, может быть, и потому, что из семи звезд, правящих судьбами смертных, самая высокая и самая могучая — звезда, называемая Сатурновой[13], а путь, проходимый многими небесными светилами, и время, за которое они этот путь совершают, выражаются числами, кратными семи.
5. Но каково бы ни было происхождение всех описанных обычаев, они сильны своей глубокой древностью; прочие же установления, отвратительные и гнусные, держатся на нечестии, царящем у иудеев: самые низкие негодяи, презревшие веру отцов, издавна приносили им ценности и деньги, отчего и выросло могущество этого народа; увеличилось оно еще и потому, что иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим людям относятся враждебно и с ненавистью. Они ни с кем не делят ни пищу, ни ложе, избегают чужих женщин, хотя до крайности преданы разврату и в общении друг с другом позволяют себе решительно все; они и обрезание ввели, чтобы отличать своих от всех прочих. Те, что сами перешли к ним, тоже соблюдают все эти законы, но считаются принятыми в число иудеев лишь после того, как исполнятся презрения к своим богам, отрекутся от родины, откажутся от родителей, детей и братьев. При всем том иудеи весьма заботятся о росте своего народа, — на убийство детей, родившихся после смерти отца, смотрят как на преступление[14], души погибших в бою или казненных почитают бессмертными и по этим причинам любят детей и презирают смерть. Тела умерших они не сжигают, а подобно египтянам зарывают в землю; большую роль играет в их религии учение о подземном мире, тоже совпадающее с египетским; зато совсем по-другому, чем египтяне, представляют они себе небесные силы. В Египте божеские почести воздаются различным животным и статуям, нарочно созданным для этой цели, иудеи же верят в единое божественное начало, постигаемое только разумом, высшее, вечное, непреходящее, не поддающееся изображению, и считают безумцами всех, кто делает себе богов из тлена, по человеческому образу и подобию. Поэтому ни в городах у них, ни тем более в храмах нет никаких кумиров, и они не ставят статуй ни в угоду царям, ни во славу цезарей. На том основании, что их жрецы издавна пели хором под звуки флейт и тимпанов, опутывали себя гирляндами из хмеля, а в храме были найдены золотые лозы, кое-кто решил, будто иудеи поклоняются отцу Либеру, который некогда подчинил себе страны Востока и вывел их из состояния дикости. Религии эти, однако, ничуть не сходны: обряды, введенные Либером, торжественны и радостны, обычаи же иудеев бессмысленны и нечисты.
6. Страна их простирается на восток до границ Арабии, на юг — до Египта, на запад — до земель, заселенных финикийцами, и моря; на север от нее широко раскинулась Сирия[15]. Люди здесь крепки телом и выносливы в труде. Дожди выпадают редко, плодоносная почва родит то же, что у нас, а сверх того, тут произрастают пальмы и бальзамовое дерево. Пальмы высоки и прекрасны, бальзамовое дерево на вид невзрачно. Когда какая-нибудь из его веток вздуется, ее нельзя взрезать железом, ибо древесные жилы цепенеют от страха; вскрыть их можно только острым камнем или черепком[16]; жидкость, из них вытекающая, используется врачами для лечения больных. Из гор самая высокая — Ливан; дивно сказать, но снег лежит на ней густым и плотным слоем даже при здешней невозможной жаре, Ливан дает начало реке Иордан и питает ее своими снегами[17]. Иордан не изливается в море, а проходит нетронутым через одно озеро, потом через другое и лишь в третьем остается навсегда[18]. Озеро, в которое впадает Иордан, огромно, почти как море, лишь вода его более отвратительна на вкус; над ним подымаются тяжелые испарения, которые несут чуму людям, живущим по его берегам. Ветер не волнует поверхности озера, рыбы не живут в нем, и не приближаются к нему привыкшие плавать птицы; неподвижные воды, словно покрытые твердой корою, удерживают на своей глади любой предмет и не дают утонуть ни опытному пловцу, ни новичку, едва умеющему плавать. В определенное время года озеро извергает из своих глубин смолу, и люди постепенно научились ее вылавливать, руководствуясь в этом промысле, как и во всех других полезных ремеслах, исподволь накопленным опытом. Это черное вещество в обычном состоянии представляет собой жидкость, но если налить на него уксусу, оно густеет и всплывает на поверхность; тут его берут руками, втягивают на палубу, и тогда оно само по себе, без всякой помощи, начинает изливаться в глубь корабля до тех пор, пока не перережут струю. Перерезать же ее нельзя ни медью, ни железом; она прерывается только от крови, — если поднести к ней одежды, смоченные в той крови, что каждый месяц выделяют женщины. Так по крайней мере рассказывают об этом промысле старинные писатели. Люди же, хорошо знающие тамошние места, говорят, что смола плавает на поверхности озера, ее хватают руками и вытаскивают на берег, а потом, когда она высохнет от испарений земли и солнечных лучей, рубят на куски топорами и клиньями, наподобие того как раскалывают бревна или камни[19].
7. Неподалеку от этих мест расстилаются равнины, которые, как рассказывают, были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем. Говорят, что остатки этих городов видны и поныне[20], земля же с тех пор как бы навеки обуглилась и утратила способность плодоносить. Всякое растение, посаженное здесь рукой человека или само по себе пробившееся из земли, тонкий ли у него стебель и бледные цветы или, наоборот, оно кажется поначалу вполне здоровым и крепким, — все равно в конце концов вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что касается рассказов о гибели некогда славных и великих городов, уничтоженных небесным огнем, я готов допустить, будто так оно и было на самом деле. Но когда речь заходит о бесплодии здешней земли, о стоящем над ней зараженном воздухе, я полагаю, что лучше объяснять это действием испарений озера; растения же и посевы гибнут от вредоносного дыхания, которое исходит тут от земли и неба. Есть здесь еще и река Бел, впадающая в Иудейское море[21]. В устье ее добывается песок, из которого, если варить его с содой, можно получить стекло; место это очень небольшое, однако сколько ни берут отсюда песка, запасы его не иссякают.
8. Большая часть Иудеи занята деревнями, но есть у них также и города, среди которых столица племени — Иеросолима. Именно здесь находился их храм, в котором были собраны огромные богатства. За первой линией укреплений шел город, дальше — дворец, а храм стоял в самой глубине, за внутренней оградой. Только иудеям разрешалось приближаться к его дверям; внутрь допускались одни лишь жрецы. Пока Востоком правили ассирийцы, мидяне и персы[22], иудеи были самым жалким из подвластных им народов. Во время господства македонян царь Антиох попытался было искоренить столь распространенные среди них суеверия и ввести греческие обычаи, чтобы хоть немного улучшить нравы этого мерзкого племени, но тут начался мятеж Аршакидов, и вспыхнувшая парфянская война не дала ему довести до конца начатое дело[23]. Позже, когда власть македонян пришла в упадок, парфяне еще не сделались тем могучим народом, в какой они превратились впоследствии, а римляне были далеко, иудеями стали управлять их собственные цари[24]. Затем непостоянная чернь изгнала этих деспотов; но они вернулись, с помощью оружия вновь захватили власть и стали править так, как обычно правят цари: ссылали граждан, уничтожали целые города, убивали братьев, жен, родителей. Полагая, что это поможет укрепить их власть, они приняли также жреческое достоинство и стали еще больше поощрять иудеев в их суевериях.
9. Из римлян Гней Помпей первым покорил Иудею и по праву победителя вступил в иеросолимский храм[25]. Только тогда выяснилось, что храм этот пуст, что изображений богов в нем нет и таинственность, его окружавшая, — плод нелепых фантазий. Стены города были срыты, но святилище осталось стоять по-прежнему. Вскоре у нас у самих вспыхнула гражданская война, восточные провинции оказались в руках Марка Антония, власть в Иудее захватил парфянский царевич Пакор[26], но Публий Вентидий вскоре убил его и оттеснил парфян на другую сторону Евфрата, а Гай Созий привел иудеев в покорность Риму[27]. Антоний поставил над ними царем Ирода, и Август после своей победы еще больше расширил и укрепил его власть[28]. Когда Ирод умер, некий Симон, не дожидаясь приказаний от Цезаря, сам объявил себя царем. Правивший тогда Сирией Квинтилий Вар[29] покарал его за это, народ был приведен в повиновение, а власть разделена между тремя сыновьями Ирода[30]. При Тиберии в Иудее царило спокойствие, когда же Гай Цезарь велел поставить в храме свое изображение, народ взялся за оружие; правда, вскоре, со смертью Цезаря, движение это улеглось. Из царей, правивших страной, одни умерли, другие впали в ничтожество; Клавдий превратил Иудею в провинцию[31] и поручил управлять ею римским всадникам или вольноотпущенникам. Среди последних особой жестокостью и сластолюбием отличался Антоний Феликс — раб на троне[32]. Он женился на внучке Клеопатры и Антония Друзилле и стал внучатным зятем того самого Антония, внуком которого был Клавдий[33].
10. Иудеи терпеливо сносили все, но, когда прокуратором сделался Гессий Флор[34], они подняли мятеж. Легат Сирии Цестий Галл[35] двинулся на его подавление, но вел дело с переменным успехом и проиграл большинство сражений. То ли так ему было суждено судьбой, то ли овладело им невыносимое отвращение к жизни, но он вскоре умер, и Нерон прислал на его место Веспасиана. Веспасиан был в то время в расцвете славы, удача сопутствовала ему повсюду, он опирался на талантливых командиров, и за два лета его победоносная армия овладела всей иудейской равниной и всеми городами страны, кроме Иеросолимы[36]. В следующем году, заполненном событиями гражданской войны, в Иудее ничего важного не произошло, но едва в Италии был восстановлен мир, как снова пришлось думать о положении на границах. Иудеи были единственным народом, отказывавшимся подчиниться Риму, и это особенно возмущало всех. Веспасиан учитывал и то, что новому режиму придется на первых порах столкнуться со всевозможными неожиданностями и случайностями, и считал в этих условиях полезным сохранить руководство армией в руках Тита.
11. Тит, как мы уже говорили, разбил лагерь возле Иеросолимы[37] и развернул строем свои легионы, дабы показать их жителям города. Иудеи выстроились под самыми стенами, рассчитывая продвинуться вперед, если победа начнет клониться на их сторону, или скрыться в городе в случае поражения. Римляне бросили на врага конницу и легковооруженные когорты, но начавшееся сражение не принесло победы ни той, ни другой стороне. Иудеи очистили поле боя; в течение последующих дней они много раз вступали возле ворот в схватки с нашими солдатами, но, видя, что эти столкновения неизменно кончаются для них неудачей, заперлись в стенах города. Римляне склонялись к тому, чтобы брать Иеросолиму штурмом: им казалось недостойным выжидать, пока осажденные ослабеют от голода, они стремились к риску и опасностям, некоторые — движимые воинской доблестью, большинство же — алчностью и жестокостью. Титу виделись Рим, наслаждения, роскошь, и стоять под стенами Иеросолимы казалось ему бессмысленной потерей времени. Иеросолима была расположена в труднодоступном месте и укреплена насыпями и крепостными сооружениями, достаточными, чтобы защитить ее, даже если бы она находилась среди ровного поля[38]. Два высоких холма были окружены стеной, образовывавшей ломаную линию, кое-где резко вдававшуюся внутрь, так что фланги нападающих оказывались открытыми; и холмы, и стены располагались на скале, края которой круто обрывались вниз. Там, где помогала гористая местность, городские башни имели высоту шестьдесят ступней, другие, построенные в низинах, — сто двадцать ступней, так что издали они казались одной высоты и производили самое удивительное впечатление. Еще одна стена проходила внутри города и окружала дворец; за ней вздымалась высоко в небо Антониева башня, названная так Иродом в честь Марка Антония.
12. Храм тоже представлял собой своеобразную крепость; его окружала особая стена, сооруженная с еще большим искусством, чем остальные, постройка которой стоила еще большего труда; даже портики, шедшие вокруг всего храма, могли быть использованы при обороне как опорные пункты. Тут же бил неиссякающий родник, в горе были вырыты подземные помещения, устроены бассейны и цистерны для хранения дождевой воды. Основатели Иеросолимы, когда еще только закладывали ее, понимали, что резкие различия между иудеями и окружающими их народами не раз будут приводить к войнам, и потому приняли все меры, дабы город мог выдержать любую, самую долгую осаду. Недостатки в обороне города, обнаружившиеся при взятии его Помпеем, и боязнь, что случившееся может повториться, научили иудеев многому. Во время правления Клавдия они, воспользовавшись всеобщей алчностью, за деньги приобрели себе право возводить оборонительные сооружения и стали строить стены, как бы готовясь к войне, хотя вокруг царил мир. Теперь, после взятия всех окружающих поселений, чернь отовсюду хлынула в Иеросолиму; сюда сбежались самые отъявленные смутьяны, и распри стали еще пуще раздирать город. Во главе обороны Иеросолимы стояли три полководца, каждый со своей армией. Внешнюю, самую длинную стену, защищал Симон, среднюю — Иоанн, известный также под именем Баргиора[39], за оборону храма отвечал Елеазар. Симон и Иоанн были сильны численностью и вооружением своих армий, Елеазар — неприступным положением храма. Между ними царила вражда, толкавшая их на военные столкновения, на интриги и даже поджоги, так что в пламени погибли большие запасы зерна[40]. Наконец, Иоанн послал к Елеазару своих людей, как будто для совершения жертвоприношения[41]; они убили самого Елеазара, перебили его солдат и захватили храм. Город разделился на две борющиеся партии, и лишь когда римляне подошли к Иеросолиме, надвигающаяся война заставила жителей забыть о своих распрях.
13. Над городом стали являться знамения, которые народ этот, погрязший в суевериях, но не знающий религии, не умеет отводить ни с помощью жертвоприношений, ни очистительными обетами. На небе бились враждующие рати, багровым пламенем пылали мечи, низвергавшийся из туч огонь кольцом охватывал храм. Внезапно двери святилища распахнулись, громовый, нечеловеческой силы голос возгласил: «Боги уходят», — и послышались шаги, удалявшиеся из храма. Но лишь немногим эти знамения внушали ужас; большинство полагалось на пророчество, записанное, как они верили, еще в древности их жрецами в священных книгах: как раз около этого времени Востоку предстояло якобы добиться могущества, а из Иудеи должны были выйти люди, предназначенные господствовать над миром. Это туманное предсказание относилось к Веспасиану и Титу, но жители, как вообще свойственно людям, толковали пророчество в свою пользу, говорили, что это иудеям предстоит быть вознесенными на вершину славы и могущества, и никакие несчастья не могли заставить их увидеть правду. Всего осажденных, считая людей обоего пола и всех возрастов, было, как сообщают, около шестисот тысяч. Оружие роздали всем, кто был в состоянии его носить, и необычно большое по отношению ко всему населению города число людей решилось им воспользоваться. Равное упорство владело мужчинами и женщинами, и жизнь вдали от Иеросолимы казалась им не менее страшной, чем смерть. Вот против какого города и какого народа начал борьбу Цезарь Тит; убедившись, что местоположение Иеросолимы не дает возможности взять ее штурмом или внезапным налетом, он решил действовать с помощью осадных сооружений и насыпей. Каждый легион получил свое особое задание, и стычки под стенами города были прерваны на время, которое потребовалось для постройки осадных машин всех возможных видов, и изобретенных древними, и придуманных современными мастерами.
14. Между тем разбитый под Колонией Тревиров Цивилис[42] пополнил свои войска германцами и расположился возле Старых лагерей. Позиция эта была выгодной для обороны, к тому же именно здесь варвары в свое время одержали победу, и воспоминания о ней наполняли их души уверенностью. Цериал двинулся туда же во главе войска, численность которого тем временем удвоилась: в него влились второй, шестой и четырнадцатый легионы; отдельные когорты и кавалерийские отряды, еще раньше выступившие на соединение с главными силами, услышав об одержанной Цериалом победе, тоже поспешили присоединиться к его армии. Ни один, ни другой командующий не любили медлить, но войскам не давало сойтись лежавшее между ними огромное поле, бывшее и прежде сильно заболоченным, теперь же совсем залитое водой: Цивилис распорядился насыпать дамбу, которая косо вдавалась в реку и отводила воду на окрестные поля. Приблизиться к противнику можно было только, идя по воде, скрывавшей местность, особенности которой никому из римлян известны не были. Позиция была для нас невыгодная, ибо тяжеловооруженные римские солдаты боятся и не любят плавать, германцы же привыкли переплывать реки, — легкое вооружение и высокий рост немало помогают им в этом.
15. Батавы начали дразнить римских солдат, самые нетерпеливые и храбрые стали отвечать; поднялась сумятица; в бездонных болотах тонули лошади и оружие; германцы, знавшие скрытые под водой тропинки легко перескакивали с одной на другую, они не нападали на наши войска с фронта, а старались сжать их с флангов или зайти в тыл; сражение ничем не походило на сухопутный бой врукопашную, оно напоминало скорее битву на море. Люди бродили среди волн, бились, едва уцепившись за клочок твердой земли, и вода поглощала сплетенные тела здоровых и раненых, опытных пловцов и не умеющих плавать. Потерь у нас, однако, оказалось меньше, чем можно было ожидать в таком переполохе: германцы, так и не решившись выйти из болота, отступили в лагерь[43]. После этой битвы оба полководца, хоть и по разным причинам, нетерпеливо стремились к решающему сражению: Цивилис хотел не упустить удачу, Цериал — смыть позор; германцев вдохновлял счастливый исход сражения, римлян гнал в битву стыд. Настала ночь. Гнев и ненависть к врагу владели нашими солдатами. Из варварского лагеря доносились пение и крики.
16. На заре следующего дня Цериал выдвинул в первый ряд конницу и вспомогательные когорты, за ними расположил легионы, а при себе оставил на случай какой-либо неожиданности отряд отборных воинов. Цивилис предпочел не растягивать свои войска в линию и построил их клиньями: справа — батавов и кугернов[44], слева, ближе к реке, ополченцев из зарейнских племен. Ни тот, ни другой не стали произносить речей перед всей армией; они объезжали подразделения и обращались к каждому из них отдельно. Цериал напоминал солдатам о древней славе римского имени, о победах, одержанных ими и в старину, и совсем недавно, призывал их навсегда покончить с коварным, трусливым, в сущности уже разбитым врагом, уверял, что римским воинам предстоит не сражаться, а мстить. Недавно они вступили в бой с более многочисленным противником и, однако, разгромили германцев, составлявших главную силу вражеской армии, теперь у Цивилиса остались лишь люди, которые не в силах забыть свое бегство с поля боя и раны, покрывающие их спины. К каждому легиону Цериал обращался с теми словами, которые могли особенно сильно подействовать на солдат. Воинов четырнадцатого он назвал покорителями Британии[45]; шестому напомнил, что лишь благодаря его могучей поддержке Гальба стал принцепсом[46]; бойцам второго сказал, что начинающийся бой будет для них первым, что здесь им предстоит стяжать славу своему новому знамени и новым значкам когорт[47]. «Эти лагери — ваши, вам принадлежат эти берега, — воскликнул Цериал, обращаясь к легионам германской армии и обводя рукой окружающие поля. — Пусть же враги кровью заплатят за попытку лишить вас ваших владений». Эти слова были встречены особенно громкими криками, — солдаты, уставшие от длительного мира, рвались в бой; другие, утомленные войной, стосковались по спокойной жизни и надеялись, что предстоящее сражение принесет им награды, а вслед за ними желанный отдых.
17. Выстраивая войска для битвы, Цивилис тоже не молчал. Он призывал окрестные поля в свидетели доблестного поведения своих бойцов. «Земля, на которой вам предстоит сражаться, — говорил он, — свидетель ваших подвигов; германцы и батавы на каждом шагу вспоминают здесь о своей славе, попирают ногами пожарища лагерей и кости легионеров[48]. Куда бы римский воин ни бросил взгляд, все здесь твердит ему о поражении и плене, все предвещает гибель. Пусть не смущает вас то, что в земле тревиров нам не удалось нанести противнику решающее поражение; там сама победа, одержанная германцами, встала препятствием на их пути. Они набросились на добычу и выпустили оружие из рук, занятых награбленным добром; события же, произошедшие после этого сражения, приносили нам одну лишь выгоду, а противнику один лишь вред[49]. На сей раз предусмотрено все, что только может предусмотреть опытный в своем деле полководец: округа залита водой, это ваши поля, где вам знакома каждая пядь, для врагов же это болото, грозящее смертью. Рейн и германские боги, во славу которых вы будете стремиться к победе, смотрят на вас, о вас думают жены, думают родители, думает родина. Сегодня вы обретете или славу, превосходящую славу предков, или позор, о котором вечно будут помнить потомки». Варвары одобряли слова Цивилиса, как это у них принято, звоном оружия и пляской в три шага. В римлян полетели камни, глиняные ядра и другие метательные снаряды; битва началась. Наши солдаты не решались входить в болото, германцы всячески дразнили их, стараясь заманить в трясину.
18. Вскоре варвары израсходовали все метательные орудия и, видя, что битва разгорается, яростно устремились вперед. Пользуясь своим огромным ростом, они издали длинными пиками поражали скользящих по грязи, едва удерживавшихся на ногах солдат. С дамбы, которую, как я упоминал, германцы возвели на Рейне, перебрался вплавь отряд бруктеров. Начался переполох, строй союзных когорт дрогнул, но тут в дело вступили легионы и, подавив натиск бруктеров, выровняли ход сражения. Таково было положение, когда к Цериалу явился батав-перебежчик и сказал, что берется провести конницу по окраинам болот на твердую землю в тыл противника; он добавил, что тылы врага охраняются людьми из племени кугернов и охраняются весьма небрежно. С перебежчиком послали два отряда конницы, они окружили ничего не подозревавшего противника и внезапно обрушились на него. Когда шум этой схватки донесся до римской армии и там поняли, что произошло, легионы с фронта устремились на врага. Германцы в беспорядке побежали к Рейну. Если бы римский флот вовремя двинулся в погоню за противником, этой битвой могла бы кончиться война; конница тоже не смогла преследовать разбитых германцев из-за наступавшей темноты и внезапно хлынувшего ливня.
19. На следующий день четырнадцатый легион отправили в Верхнюю Германию к Галлу Аннию[50], а Цериал пополнил свою армию прибывшим из Испании десятым легионом. На помощь Цивилису подошло ополчение племени хавков. Несмотря на это, он не решился защищать главный город батавов и, захватив все, что можно было унести, а остальное побросав в огонь, отступил на остров[51]. Цивилис знал, что кораблей для сооружения моста у римлян нет и что никаким другим способом они переправить свою армию на остров не сумеют. Он даже разрушил дамбу, выстроенную Друзом Германиком[52], и Рейн, освобожденный от сдерживавших его преград, устремился в свое старое русло, которое постепенно опускается в сторону Галлии. Когда река отхлынула, между островом и германским берегом остался такой узкий рукав, что здесь образовалась как бы сплошная суша. За Рейн ушли также Тутор, Классик и сто тринадцать старейшин племени тревиров, среди которых был и Альпиний Монтан, присланный в галльские провинции, как я уже рассказывал раньше[53], Примом Антонием. Монтана сопровождал его брат Децим Альпиний. Другие тем временем набирали подкрепления в племенах, всегда готовых к войне, стараясь вызвать у них сострадание и не скупясь на подарки.
20. Но конец войны был еще далеко; в один и тот же день Цивилис атаковал сторожевые охранения римских легионов, когорт и конных отрядов в четырех разных местах: в Аренаке[54], где находились лагеря десятого легиона, в Батаводуре, где расположился второй, в Гриннах и в Ваде, где стояли отдельные когорты и отряды конников[55]. Цивилис разделил армию на несколько частей и, оставив себе одну, передал остальные сыну своей сестры Вераксу, Классику и Тутору. Он не надеялся на успех во всех предприятиях, но считал, что если рискнуть, то хоть где-нибудь счастье ему улыбнется; кроме того, Цивилис знал, что римский полководец не отличается осторожностью, и предвидел, что как только к Цериалу начнут поступать донесения из разных мест, он начнет метаться от одного к другому, и, может быть, где-то на пути его удастся захватить в плен. Варвары, которые должны были атаковать лагеря десятого легиона, сочли, что справиться с этим им не под силу, и напали на солдат, вышедших из лагеря на рубку леса; префект лагеря, пять первых центурионов и несколько легионеров были убиты, остальным удалось укрыться за лагерными укреплениями. Тем временем в Батаводуре отряд германцев пытался уничтожить недостроенный мост; бой здесь шел с переменным успехом и с наступлением ночи прекратился.
21. Еще больше опасностей выпало на нашу долю под Гриннами, которые атаковал Классик, и под Вадой, где наступлением командовал Цивилис. Римляне здесь оказались не в силах сопротивляться, после того как лучшие бойцы пали в сражении и среди них префект конников Бригантик, о чьей преданности римлянам и ненависти к своему дяде Цивилису я уже рассказывал[56]. Однако, когда на поле боя во главе отборного отряда конников появился сам Цериал, положение изменилось; германцы в беспорядке отступили к реке[57]. Цивилис пытался остановить бегущих, но был замечен, и на него посыпался целый град дротиков; он бросил коня и вплавь переправился на другую сторону Рейна; тем же способом спасся Веракс; за Тутором и Классиком к берегу пришли лодки, в которых они и перебрались на ту сторону. Римский флот, несмотря на полученное распоряжение, и на этот раз не принял никакого участия в сражении, — отчасти из трусости, отчасти же потому, что гребцы оказались разосланными по разным поручениям. Правда, Цериал всегда давал очень мало времени на выполнение своих приказов; он принимал решения внезапно, но в результате неизменно оказывался прав, ибо там, где изменяли талант и знания, его выручала удача. И сам он, и солдаты его, привыкнув к этому, порядком распустились. В результате несколькими днями позже Цериалу удалось избежать плена, но не бесчестья.
22. Цериал возвращался к себе после осмотра лагерей, которые легионеры строили на зиму в Новезии и Бонне[58]. Он плыл по Рейну, сопровождаемый флотом; строй никто не соблюдал, солдаты боевого охранения забыли о своих обязанностях. Заметив это, германцы задумали вероломно напасть на наши войска. Они выбрали для нападения темную ночь, небо было покрыто тучами; течение подхватило варваров и вынесло к лагерю; не встретив никакого сопротивления, они оказались вскоре за валами. Первые римские воины, погибшие в эту ночь, пали жертвой коварства: германцы перерезали растяжки палаток и убивали солдат, еще не успевших выбраться из-под полотнищ. Другой отряд бросился к стоянке кораблей; суда опутывали веревками, волочили их кормой вперед. Сначала германцы хранили мертвое молчание, но едва началась резня, со всех сторон загремели их крики, которыми они старались вызвать среди римлян еще большее смятение. Легионеры проснулись от сыпавшихся на них ударов. Они ищут оружие, выскакивают в проходы между палатками; людей в боевом снаряжении почти не видно, большинство сражается, намотав на одну руку одежду и держа меч в другой. Цериал, сонный, полуголый, спасся лишь благодаря ошибке врагов: узнав по поднятому вымпелу флагманский корабль, они решили, что командующий находится там и принялись оттаскивать судно от берега. Цериал же в эту ночь был не у себя, а, как многие уверяли, у Клавдии Сакраты, женщины из племени убиев, с которой состоял в связи. Часовые, стараясь выгородить себя, говорили, что виною всему позорное поведение Цериала. Они уверяли, будто командующий приказал им не беспокоить его и соблюдать тишину, они перестали перекликаться и заснули. Было уже совсем светло, когда варвары отправились восвояси на захваченных кораблях; флагманскую трирему они отвели вверх по реке Лупии в дар Веледе[59].
23. Цивилису захотелось показать свой флот в строю. На биремы[60] и на суда с одним обычным рядом гребцов он посадил бойцов, окружил корабли несметным количеством барок, несших по тридцать-сорок человек каждая … и вооруженных наподобие либурнских кораблей[61]. Над лодками поднялись пестрые солдатские плащи[62], которые варвары использовали вместо парусов и которые придавали всей картине веселый праздничный вид. Цивилис выбрал место, где Моза, необъятная, как море, впадает в Рейн[63] и гонит его воды в Океан. Устраивая этот парад судов, германцы не просто хотели потешить свое обычное тщеславие; они хотели таким образом запугать солдат, везших из Галлии в римскую армию продовольствие, а может быть, попытаться перехватить их по дороге. Цериал, скорее удивленный, чем испуганный, двинул против врага свой флот. Римляне уступали германцам по числу судов, но превосходили их опытностью гребцов, искусством кормчих, размерами кораблей. Течение несло римские суда в одну сторону, ветер гнал биремы варваров в противоположную; оба флота поравнялись друг с другом, с той и другой стороны посыпались дротики, и корабли разошлись. Цивилис, не решившись ничего больше предпринять, отступил за Рейн[64]; Цериал прошел огнем и мечом остров батавов, но, как то обычно делают полководцы, поля и виллы, принадлежавшие самому Цивилису, не тронул. Тем временем осень перевалила на вторую половину; начались ливни, столь частые во время равноденствия; вздувшаяся река озерками разлилась по низкому болотистому острову. У оставшихся здесь римлян не было ни флота, ни продовольствия; лагеря стояли на равнине и теперь оказались отделенными друг от друга водой.
24. Позже Цивилис уверял, что в то время он имел полную возможность уничтожить легионы, что германцы стремились к этому и ему лишь хитростью удалось помешать им. Судя по тому, что через несколько дней варвары в самом деле капитулировали, в словах этих была доля правды. Цериал еще прежде установил тайные связи с батавами, с Цивилисом и с Веледой. Первым он обещал мир, второму прощение, Веледе же и ее приближенным говорил, что война уже принесла им достаточно бедствий и что настал момент, когда они могут, вовремя оказав услугу римскому народу, повлиять на ее исход. «Вспомните, — писал он им, — об убитых тревирах, о вновь покорившихся Риму убиях, о батавах, скитающихся вдали от родных мест. Дружба с Цивилисом не принесла вам ничего, кроме ран, поражений и слез. Этот изгнанный отовсюду бездомный бродяга становится обузой для каждого, кто согласится его принять. Вы уже достаточно провинились, столько раз переходя на нашу сторону Рейна. Если вы и дальше будете злоумышлять против Рима, все поймут, что нарушители закона — вы и на вас лежит вся вина, нам же останется лишь воздать вам по заслугам, и боги помогут нам в этом».
25. Угрозы в письмах Цериала чередовались с посулами. Зарейнские племена начали колебаться в своей преданности Цивилису. Совсем другие разговоры пошли и среди батавов. «Зачем нам губить себя? — рассуждали они. — Разве может одно племя вызволить из рабства целый мир? Какой прок в том, что мы уничтожили легионы и сожгли лагеря?[65] На их место пришли другие, еще сильнее, еще многочисленнее. Если, затевая войну, мы хотели помочь Веспасиану, так Веспасиан уже добился верховной власти; если мы вздумали воевать против римского народа, то ведь батавы — лишь ничтожная часть человеческого рода. Посмотрим лучше на ретов, нориков, на другие союзные племена. Они не платят податей, с них требуют лишь доблести и солдат, а ведь это почти и есть свобода. Если уж нам приходится выбирать себе хозяев, то лучше все-таки сносить власть римских принцепсов, чем германских женщин»[66]. Такие толки шли среди простонародья, люди знатные судили еще резче: «Только из-за безрассудства Цивилиса оказались мы втянутыми в эту войну. Чтобы отомстить за свои семейные несчастья, он повел на смерть целое племя. Гнев богов обрушился на батавов лишь тогда, когда мы стали осаждать лагеря легионов и убивать легатов, когда мы ради интересов одного человека начали эту губительную войну. Всех нас ждет смерть, если мы не образумимся. Покараем виновного и тем самым докажем на деле свое раскаяние».
26. Подобные настроения не ускользнули от внимания Цивилиса, и он решил предупредить события. Он устал от преследовавших его несчастий и тем не менее хотел жить, а это желание не раз губило самых мужественных людей. Он предложил переговоры. Мост через реку Набалию[67] разрушили посредине, оба полководца, каждый со своей стороны, подошли к провалу, и Цивилис так начал свою речь: «Если бы мне пришлось защищать себя перед легатом Вителлия, то ни поведение мое не заслуживало бы в его глазах оправдания, ни слова мои — доверия. Между нами не было ничего, кроме ненависти; он начал войну, я разжег ее еще больше. К Веспасиану же я издавна питаю чувство уважения; нас называли друзьями, когда он был еще частным человеком. Прим Антоний знал об этом, когда обратился ко мне с письмом и просил начать войну, дабы помешать германским легионам и галльской молодежи проникнуть за Альпы[68]. Я пошел на то, о чем Антоний просил меня в письмах, а Гордеоний Флакк лично: я начал военные действия в Германии, подобно тому как Муциан начал их в Сирии, Апоний в Мёзии, Флавиан — в Паннонии…[69]
(обратно)ПРИМЕЧАНИЯ
Книга первая. Январь-март 69 г. н.э.
1.
В древнем Риме годы обозначались по имени консулов. Во времена империи, когда ежегодно сменялось несколько пар консулов, год называли по имени так называемых ординарных консулов, приступавших к исполнению своих обязанностей 1 января. Сервий Гальба (уже с весны 68 г. н.э. провозглашенный императором) и Тит Виний были ординарными консулами с 1 января 69 г. Первый консулат Гальбы (тоже ординарный) — 32 г. (Светоний. Гальба, 6).
(обратно)2.
Летосчисление в Риме велось «от основания города», заложенного, согласно легенде, в 753 г. до н.э. До 69 г. н.э. прошел, таким образом, 821 год. Манера округлять числа обычна для римских писателей.
(обратно)3.
Логическое ударение здесь падает на слово «народ», т.е. пока историки описывали республиканский Рим в отличие от Рима императорского.
(обратно)4.
Акций (ныне Акти) — мыс на крайнем северо-западе Греции. Здесь 2 сентября 31 г. до н.э. произошло морское сражение, в котором Октавиан Август одержал решительную победу над Марком Антонием и фактически положил конец длившимся 20 лет гражданским войнам. Историю Римской империи принято вести со дня битвы при Акции, хотя оформление нового политического строя относится к январю 27 г. до н.э.
(обратно)5.
С государственно-правовой точки зрения Римское государство и в императорскую эпоху не было монархией. Юридически власть императоров основывалась на объединении в руках одного человека тех прав, которые в республиканское время были рассредоточены по разным магистратам. Мысль о том, что императорский строй — это цена, которую римский народ должен платить за относительное спокойствие и безопасность каждого гражданина, — одна из основных в политическом мировоззрении Тацита.
(обратно)6.
Отон — римский император, сменивший Гальбу (15 января-17 апреля 69 г. н.э.).
(обратно)7.
Вителлий — римский император, сменивший Отона (убит 20 декабря 69 г.).
(обратно)8.
Государственная служба Тацита проходила, таким образом, в основном при императорах династии Флавиев — Веспасиане (основатель династии, правил с 69 по 79 г. н.э.), его старшем сыне Тите (79—81 гг.) и младшем — Домициане (81—96 гг.).
(обратно)9.
Одно из немногих автобиографических свидетельств, содержащихся в сочинениях Тацита. Толкованию этой фразы посвящена обширная литература. Большинство исследователей в настоящее время понимает ее так, что при Веспасиане Тацит вошел в сенаторское сословие и был военным трибуном, Тит сделал его квестором, при Домициане Тацит был претором (в 88 г. н.э.; ср.: Анналы, книга XI, гл. 11) и наместником провинции. В подлиннике имена всех трех принцепсов стоят в форме творительного падежа с предлогом «a». На этом основано весьма вероятное предположение, согласно которому Тацит получал магистратуры по личной рекомендации императоров.
(обратно)10.
Нерва — основатель династии Антонинов (принцепс в 96—98 гг. н.э.), Траян — преемник Нервы (98—117 гг.). Намерение дополнить рассказ об эпохе Флавиев повествованием о временах Антонинов Тацит высказывал и ранее, ср.: Жизнеописание Агриколы, гл. 3; осуществлено оно не было.
(обратно)11.
Гальба, Отон, Вителлий, Домициан.
(обратно)12.
Отона с Вителлием, Вителлия с Веспасианом, Домициана с Луцием Антонием — мятежным наместником провинции Верхняя Германия.
(обратно)13.
В период ранней империи противоречия между рабовладельцами и рабами, между различными группами рабовладельцев, между Римом и провинциями, между империей и варварами переплетаются в один сложный клубок. Соответственно, войны, в которых эти противоречия находили выражение, были «одновременно и гражданскими, и внешними». Ярким примером такой войны служит восстание Цивилиса, описанное в книгах IV и V «Истории». Кроме него, Тацит имеет в виду войну, которую Тит вел против мятежной Иудеи, в то время как полководцы Веспасиана сражались с войсками Вителлия за Италию и Рим. Слово «много» связано с нередким у римских писателей стремлением к гиперболизации.
(обратно)14.
В Иллирии были расположены легионы, летом 69 г. отпавшие от Вителлия и перешедшие на сторону Веспасиана (см. книгу III). Осенью 68 г. иллирийские легионы предлагали императорскую власть Вергинию Руфу (I, 9).
(обратно)15.
Ряд галльских племен поддержал весной 68 г. восстание Виндекса против Нерона, ряд других примкнул в 69—70 гг. к движению Цивилиса.
(обратно)16.
Покорение Британии, начатое еще в 40-х годах Веспасианом (тогда легатом легиона) и завершенное тестем Тацита Юлием Агриколой в 83 г., стоило Риму больших усилий и жертв. Домициан в 86 г. вывел из Британии стоявший там легион (II Вспомогательный), что позволило местным племенам перейти в контрнаступление.
(обратно)17.
Племенные объединения ираноязычных сарматов в I в. до н.э. проникают на Дунай. В правление Домициана сарматы уничтожили один римский легион (Светоний. Домициан, 6). При том же императоре сарматское племя язигов выступило против римлян в союзе с германским племенем свевов, поселенным по соседству от них еще в 19 г. н.э. Друзом Цезарем (Дион Кассий, Римская история, 67, 5). В апреле 92 г. Домициан выступил против сарматов, нанес им сокрушительное поражение и в январе 93 г. вернулся в Рим.
(обратно)18.
Даки — союз племен, живших на территории нынешней Румынии. В.правление Домициана в 86 г. они разбили войска консуляра Оппия Сабина и нанесли тяжелое поражение выступившим против них легионам под командованием префекта претория Корнелия Фуска (Светоний. Домициан, 6).
(обратно)19.
Нерон ставил своей целью уничтожить традиции и юридические формы, которые хотя бы номинально ограничивали власть императоров, и превратить Рим в деспотию восточного типа. В соответствии с восточными представлениями и верованиями он воспринимался в провинциях Передней и Малой Азии как неограниченный монарх, царь вселенной, бессмертное божество. Христиане и иудеи ассоциировали его с сатаной, что отразилось в Апокалипсисе. Все это создавало благоприятную атмосферу для самозванцев, использовавших народное недовольство и распространенные в восточных провинциях мессианские настроения и выдававших себя за Нерона, идущего мстить римским императорам. Лженероны появлялись на востоке вплоть до 20-х годов II в. Об одном из них Тацит рассказывает подробно (II, 8). Здесь, скорее всего, имеется в виду Лженерон, появившийся среди парфян около 88 г. Ср.: Светоний. Нерон, 57.
(обратно)20.
Извержение Везувия 24 августа 79 г. разрушило города Помпеи и Геркуланум. Кроме того, многие поселения на побережье Кампании были уничтожены лавой и горячими ливнями, а также затоплены морем, вышедшим из берегов в результате землетрясения, которым сопровождалось извержение.
(обратно)21.
Рим горел часто. При Флавиях самым крупным был пожар 80 г. (Дион Кассий, 66, 24).
(обратно)22.
Во время сражения между легионерами Вителлия и солдатами городских когорт, которыми командовал брат Веспасиана Флавий Сабин зимой 69/70 г. (ср.: III, 71).
(обратно)23.
В правление Домициана за нарушение обета безбрачия были казнены несколько жриц богини Весты (Плиний Мл. Письма, IV, 11; Светоний. Домициан, 8; Дион Кассий, 67, 3).
(обратно)24.
Скорее всего, намек на скандальную связь Домициана со своей племянницей Юлией, дочерью императора Тита и женой двоюродного брата Домициана Флавия Сабина. Ср.: Плиний Мл. Письма, IV, 11; Светоний. Домициан, 22; Ювенал. Сатиры, II, 32—33.
(обратно)25.
Scopuli — маленькие скалистые острова Средиземного моря, которые римляне часто использовали как место ссылки: Сериф, Гиар, Аморг, Церцина и самые страшные из них — Планазия (между Корсикой и побережьем Этрурии) и Пандатерия (к западу от Кум). Сосланных на острова нередко умерщвляли там по тайному приказу императоров; здесь погибли Агриппина Старшая, внук Августа Агриппа Постум и многие другие.
(обратно)26.
Юлий Агрикола, тесть Тацита, попал в 86 г. в опалу, ибо возбудил зависть Домициана тем, что с большим успехом выполнял обязанности наместника в Британии (Агрикола, 39 и сл.).
(обратно)27.
Среди обвинений, предъявленных Домицианом Гереннию Сенециону, фигурировало и то, что после квестуры он не стремился к занятию дальнейших магистратур. Сенецион был казнен в конце 93 г. (Дион Кассий, 67, 13).
(обратно)28.
Учение о добродетели как высшем и единственном подлинном благе, требовавшее безразличия к богатствам и почестям, таило в себе оппозиционность по отношению к императорам, ибо утверждало внутреннюю свободу и независимость человека от властей вообще, от власти принцепса в частности. Учение это было распространено среди части сенаторов (Гельвидий Приск, Геренний Сенецион, Арулен Рустик и др.), которых Тацит и имеет здесь в виду. Многие из них были казнены: Гельвидий при Веспасиане, Сенецион и Рустик — Домицианом.
(обратно)29.
Римское право не знало института государственных обвинителей, и роль эту брали на себя частные лица. Такая система давала возможность каждому, кто желал выделиться, возбуждать судебное дело против какого-либо известного лица, допустившего нарушение закона (или подозреваемого в таком нарушении). Если обвиняемый бывал осужден, сенат мог присудить обвинителю четвертую часть имущества осужденного. Императоры, особенно начиная с Тиберия, широко использовали эту особенность римского права для уничтожения своих политических противников, наиболее видных представителей сенатской аристократии. Спрос вызвал предложение: толпы молодых провинциалов, снедаемых честолюбием, стремлением пробиться, жаждой власти и денег избирали этот путь к карьере, не останавливаясь перед клеветой и лжесвидетельством. Многие из них добивались своего и проникали в сенат; люди этого типа составляли там одну из главных опор императорской власти. Трижды консулы (Вибий Крисп), префекты претория (Тигеллин), известные писатели (Силий Италик) нередко выступали в роли доносчиков. Тацит с отвращением и ненавистью говорит об этих людях во многих местах своих сочинений.
(обратно)30.
Дважды консулами были, например, знаменитые доносчики нероновского и флавианского времени Эприй Марцелл (в 62 и 74 гг.) и Катулл Мессалин (в 73 и 85 гг.). Членом жреческой коллегии квиндецимвиров (и трижды консулом) был не менее знаменитый Фабриций Вейентон (R. Syme. Tacitus, vol. II. Oxford, 1958, appendices 12, 26).
(обратно)31.
Так, известный при Домициане доносчик Бебий Масса, погубивший, в частности, Геренния Сенециона и особенно ненавистный Тациту (IV, 50), был прокуратором Африки и наместником в Испании. Проконсулом Азии (и очень дельным, — см.: Плиний Мл. Письма, III, 7) был упоминавшийся выше Силий Италик.
(обратно)32.
Долабеллу, например, оговорил его близкий друг Планций Вар (II, 63); Сорана — его учитель и друг Целер (IV, 10).
(обратно)33.
Так, Фанния Младшая, дочь Тразеи Пэта, дважды следовала в изгнание за своим мужем Гельвидием Приском, народным трибуном 56 г. (Анналы, XIII, 28), претором 70 г. (IV, 53): при Нероне в 66 г. и при Веспасиане.
(обратно)34.
Хотя Тацит предупредил о своем намерении дать в главах 2 и 3 общую картину римской жизни с 69 по 96 г., на самом деле он говорит здесь почти исключительно о правлении Домициана, принципат которого вырисовывается, таким образом, как время сплошных поражений, бедствий и свирепых репрессий.
(обратно)35.
Гальбу провозгласили императором войска Тарраконской Испании, наместником которой он был с 61 г.
(обратно)36.
Преторианские когорты, — собственно, личная охрана полководца, — были превращены Августом в привилегированный корпус, являвшийся той реальной силой, опираясь на которую императоры могли осуществлять военную диктатуру в Риме. Он насчитывал 10 тысяч (позднее 16, еще позже 14) отборных солдат, которые жили в Риме, служили 16 лет, а не 25, как в легионах, получали повышенное жалованье, в неслужебное время носили тогу. Пользуясь этими и рядом других льгот, часто получая денежные подарки, преторианцы были полностью преданы принцепсу, от которого зависели все эти блага.
(обратно)37.
Прежде всего — префекта претория Нимфидия Сабина.
(обратно)38.
Расположенные в Испании VI Победоносный, X Сдвоенный и набранный самим Гальбой в 68 г. VII Гальбанский.
(обратно)39.
Летом 68 г. Гальба, находясь еще на пути к Риму, назначил префектом претория Корнелия Лакона. Не желая мириться со своей отставкой, Сабин убедил преторианцев провозгласить его императором. Часть солдат, однако, не последовала за ним, заговор был сорван, и Нимфидий убит (Плутарх. Гальба, 13—14).
(обратно)40.
Тит Виний Руфин — легат Гальбы во время наместничества его в Испании, после провозглашения Гальбы императором — его фаворит и ближайший советник (см. прим. 133).
(обратно)41.
Цингоний Варрон, кандидат в консулы, написал текст речи, с которой Нимфидий собирался обратиться к преторианцам перед захватом власти (Плутарх. Гальба, 15).
(обратно)42.
Публий Петроний Турпилиан, ординарный консул 61 г., в 61—63 гг. легат в Британии. Успешное подавление восстания в этой провинции принесло ему знаки отличия триумфатора и славу полководца, сочетающего военные таланты с дипломатическими. Скорее всего поэтому Нерон назначил его весной 68 г. (вместе с Рубрием Галлом) командовать войсками, высланными против Виндекса.
(обратно)43.
Весной 68 г. Нерон, готовясь к войне с Виндексом, сформировал из солдат морской пехоты новый легион (I Флотский, или I Вспомогательный, ср.: II, 43, III, 44). Служба легионеров была более выгодной и почетной, чем служба моряков, и поэтому они обратились к Гальбе при вступлении его в столицу с просьбой подтвердить их новое положение. Тот, усмотрев в этом бунт, бросил на них отряд конницы, а после велел казнить каждого десятого; уцелевшие были заключены в тюрьму (ср.: I, 87; Светоний. Гальба, 12; Плутарх. Гальба, 15).
(обратно)44.
VII Гальбанский.
(обратно)45.
Альбаны — кавказский народ, живший по юго-западному побережью Каспийского моря.
(обратно)46.
Луций Клодий Макр — в 68 г. легат провинции Африка, пытавшийся поднять восстание против Нерона и отказавшийся подчиниться Гальбе.
(обратно)47.
Гай Фонтей Капитон — консул 67 г., в 68 г. — наместник Нижней Германии.
(обратно)48.
Прокураторами при империи назывались чиновники, ответственные за сбор налогов в императорскую казну с населения данной провинции. Прокураторы, в некоторых провинциях имевшие в своем распоряжении войска, назначались исключительно из всадников и играли роль доверенных лиц императора, противопоставленных наместнику, обычно (особенно при Юлиях-Клавдиях) представителю сенатской аристократии.
(обратно)49.
Слово «легат» употреблялось в Риме в I в. н.э. в нескольких значениях, которые следует тщательно различать: 1) легатом (legatus Augusti pro praetore consulari potestate) назывался наместник императорской провинции; 2) легаты назначались сенатом для помощи наместнику данной провинции, такие легаты обычно командовали легионом (в данном случае слово «легат» употреблено именно в этом значении), но иногда выполняли при наместнике также юридические и фискальные функции; 3) легатами назывались также послы.
(обратно)50.
Марк Клувий Руф — консул-суффект 45 г., наместник Тарраконской Испании, сменивший на этом посту Гальбу в 68 г. Известен главным образом как оратор (IV, 43) и историк, написавший историю Рима от Калигулы до 69 г. н.э. (Плиний Мл. Письма, IX, 19). Тацит, очевидно, пользовался этим сочинением как одним из главных источников при описании событий 69 г.
(обратно)51.
В 48 г. н.э. члены наиболее знатных галльских семей получили право полного римского гражданства (civitas cum suffragio), открывавшее им дорогу в сенат (Анналы, XI, 23—25). Гальба распространил это право на все племена, активно поддержавшие его самого и Виндекса во время восстания 68 г. Ом же даровал этим племенам освобождение от 1/4 части податей.
(обратно)52.
Восточные галлы, выступившие во время восстания Виндекса на стороне подавлявших этот мятеж верхнегерманских легионов (в частности, племена тревиров и лингонов), не только не получили от Гальбы никаких льгот (см. прим. 51), но и были лишены им части своих земель.
(обратно)53.
Над Виндексом.
(обратно)54.
Луций Вергиний Руф (14—97 гг. н.э.), трижды консул (в 63, 69 и 97 гг.), в 69 г. отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты. После прихода Гальбы к власти Вергиний отдал легионы, которыми он командовал как наместник Верхней Германии, «в распоряжение сената и римского народа», тем самым перейдя в оппозицию к новому принцепсу. Представитель новой, созданной императорами, провинциальной знати, талантливый полководец, Вергиний Руф пользуется симпатиями Тацита. Тацит же произнес над ним в 97 г. посмертную похвальную речь (Плиний Мл. Письма, II, 1).
(обратно)55.
Т.е. рядовых солдат; Капитона убили легаты — командиры легионов.
(обратно)56.
IV Македонский, XXI Стремительный и XXII Изначальный.
(обратно)57.
Легат Верхней Германии, назначенный Гальбой и сменивший на этом посту Вергиния Руфа (Плутарх. Гальба, 10).
(обратно)58.
I Германский, V Алауда, XV Изначальный, XVI Галльский.
(обратно)59.
Для переброски в Галлию на подавление восстания Виндекса.
(обратно)60.
III Галльский, IV Скифский, VI Железный, XII Молниеносный.
(обратно)61.
V Македонский, X Сокрушительный, XV Аполлонов.
(обратно)62.
Т.е. от Клодия Макра, отличавшегося жестокостью и алчностью. См.: Плутарх. Гальба, 6.
(обратно)63.
Римские провинции в Северной Африке: западная — Мавритания Тингитанская, с центром в Тинги (ныне Танжер), и восточная — Мавритания Цезарейская, с центром в Йоле (ныне Алжир).
(обратно)64.
Собственно Реция — римская провинция, охватывавшая современный Тироль до Граубюндена. Нередко (как в данном случае) это название распространялось и на провинцию Винделицию, т.е. на более северные земли, вплоть до Дуная (нынешняя южная Бавария).
(обратно)65.
Норик — провинция, лежавшая между Паннонией (современная центральная и западная Венгрия) и Рецией, ограниченная на севере Дунаем, на юге — восточными отрогами Альп.
(обратно)66.
Римская провинция, территория которой примерно соответствует современной Болгарии.
(обратно)67.
Виний покровительствовал Отону и добивался, чтобы Гальба усыновил его (см. следующую главу). Мысль Тацита состоит здесь в том, что люди, предназначавшиеся молвой в преемники Гальбе, радовались не только за себя, но и тому поражению, которое нанесло бы усыновление их Гальбой Винию к Отону.
(обратно)68.
В пору ранней империи Рим в государственно-правовом отношении продолжал оставаться республикой, и своего аппарата управления у императоров по сути дела не было; его роль играла «фамилия» принцепса — члены его семьи, слуги и вольноотпущенники. Последние нередко приобретали значительное влияние на императоров, а вместе с ним и огромную власть. При Калигуле отпущенник Каллист «пользовался неограниченной властью» (Иосиф Флавий. Иудейские древности, XIX, 1, 10), один отпущенник Клавдия, Нарцисс, добился казни жены императора Мессалины, другой, Паллант, женил его на Агриппине (Анналы, XI, 29—38, XII, 1—3); и тот, и другой, были богаче самого принцепса (Светоний. Клавдий, 28). Уезжая на год в Грецию (в 66 г.), Нерон оставил управлять Римом своего отпущенника Гелия, т.е. фактически сделал его соправителем (Дион Кассий, 63, 12). Не меньшей властью пользовались Икел при Гальбе, Азиатик при Вителлии. Конец господству отпущенников положил только Адриан (Scriptores Historiae Augustae. Hadr. 21). Возвышение Икела связано, в частности, с тем, что он первый привез Гальбе в Испанию весть о падении и смерти Нерона (Плутарх. Гальба, 7).
(обратно)69.
По закону Юния от 17 г. до н.э., отпущенные на волю рабы получали не римское гражданство, а гражданство латинских колонистов, что лишало их возможности занимать государственные должности. Чтобы обойти это препятствие, императоры иногда жаловали своим отпущенникам всадническое достоинство и его символ — золотое кольцо.
(обратно)70.
Октавия Клавдия (42—62 гг.), дочь императора Клавдия и первая жена Нерона.
(обратно)71.
Римская провинция в юго-западной части Пиренейского полуострова.
(обратно)72.
Марий Цельз, происходивший, вероятно, из Нарбоннской Галлии (Inscriptiones Latinae Selectae, 6977) и родившийся, судя по выдвижению его в консулы в 69 г., около 28 г. н.э. (R. Syme. Tacitus, p. 654), был связан с окружением Корбулона, на помощь которому он в 63 г. привел из Паннонии XV Аполлонов легион (Анналы, XV, 25). В 69 г. он до конца оставался верен Гальбе, затем так же до конца Отону. Авторитет его в армии был столь велик, что после Бедриакской битвы солдаты Вителлия под его влиянием сохранили жизнь и имущество разгромленным отонианцам. В речи, произнесенной в связи с этими событиями, Цельз говорит о Катоне как о «борце за свободу римлян» (Плутарх. Отон, 13). Не исключено, что он — тот самый Марий Цельз, который упоминается в одной из надписей (Inscriptiones Latinae Selectae, 8903) как легат Сирии в 72/73 гг. н.э.
(обратно)73.
Префект города (Рима) — одна из магистратур, введенных императорами и шедших вразрез со старыми республиканскими формами управления: он назначался принцепсом на неопределенный срок, был ответствен только перед ним, имел в своем распоряжении войска (городские когорты), мог единолично выносить приговоры по уголовным преступлениям. Главная его обязанность — охрана порядка в Риме.
(обратно)74.
Луций Кальпурний Пизон Фруги Лициниан происходил по отцу, Марку Лицинию Крассу Фруги, от Лициния Красса триумвира, коллеги Юлия Цезаря и Гнея Помпея. Мать его, Скрибония, была внучкой Секста Помпея, сына Гнея Помпея Великого.
(обратно)75.
Рубеллий Плавт — сын Рубеллия Бланда и внучки Тиберия Юлии. См. о нем: Анналы, XIV, 22, 57 сл.
(обратно)76.
Один из древнейших патрицианских родов Рима, из которого по отцу происходил Гальба. Ср.: Светоний. Гальба, 2.
(обратно)77.
Один из древнейших плебейских родов Рима. Мать Гальбы была по женской линии внучкой Квинта Лутация Катула, знаменитого вождя партии оптиматов в 70-е годы I в. до н.э.
(обратно)78.
Имеются в виду Гай Цезарь и Луций Цезарь, сыновья Марка Агриппы и дочери Августа Юлии, усыновленные Августом в 17 г. до н.э.
(обратно)79.
Красс Скрибониан. См. о нем: IV, 39.
(обратно)80.
Пизону в 69 г. было 30 лет. Ср. гл. 48.
(обратно)81.
См. гл. 48.
(обратно)82.
Расквартированный в Тарраконской Испании VI Победоносный легион.
(обратно)83.
IV Скифский и XXII Изначальный в Верхней Германии. См. гл. 12.
(обратно)84.
См. прим. 5.
(обратно)85.
Трибуны для ораторских выступлений на форуме.
(обратно)86.
Холм в центре Рима, с которого началось историческое развитие города. В императорскую эпоху он был сплошь застроен дворцами принцепсов, и само название его стало обозначать «дворец», «резиденция императора».
(обратно)87.
10 января 69 г. н.э. Идами называлось полнолуние, середина месяца. В январе они приходились на 13-е число.
(обратно)88.
По старинному обычаю полагалось, чтобы при наборе войск первый новобранец сам выкликал следующего, тот — следующего и т.д., пока не будет набран весь контингент.
(обратно)89.
Верхнегерманских легионов. См. гл.12.
(обратно)90.
Офицеры, которых было по 6 в каждом легионе.
(обратно)91.
Фамильное имя Гая Цезаря уже со времен Августа превратилось в титул, который носил каждый мужчина — член императорской семьи по крови или по усыновлению.
(обратно)92.
Всадники — первоначально граждане, являвшиеся в армию со своим боевым конем, уже со II в. до н.э. превратились в финансовую аристократию, яростно боровшуюся с аристократией родовой и пользовавшуюся поэтому в эпоху принципата поддержкой и покровительством императоров.
(обратно)93.
Имеются в виду cohortes urbanae — когорты, подчиненные префекту Рима (см. прим. 73).
(обратно)94.
Городскую стражу (cohortes vigilum в отличие от cohortes urbanae) во времена Тацита составляли 7 когорт, отвечавших за борьбу с пожарами и спокойствие города ночью. Городской стражник обладал рядом льгот и преимуществ сравнительно с легионером. Трибуны когорт городской стражи назначались из числа заслуженных центурионов армии.
(обратно)95.
В Риме, где различные формы гаданий и толкований будущего были издавна крайне распространены, звездочеты появились уже в конце республики, преимущественно из восточных провинций. Императоры, подозрительные, вечно неуверенные в своем будущем, часто обращались к их услугам. Опасаясь, что они могут быть использованы противниками, и учитывая, что восточные суеверия с точки зрения официальной идеологии безусловно осуждались, императоры неоднократно изгоняли звездочетов: Август — в 33 г. до н.э., Тиберий — в 16 г. н.э., Клавдий — в 52-м, Вителлий — в 69-м. Тацит, всегда брезгливо относившийся к восточным верованиям, несовместимым для него с заветами римской старины, особенно презирал звездочетов за то, что они сплошь да рядом выступали как свидетели обвинения в процессах, возбуждавшихся доносчиками против неугодных императорам лиц. Ср.: Анналы, II, 27; XII, 22, 52, 59; XVI, 14.
(обратно)96.
Скорее всего, это тот же астролог, которого Светоний (Отон, 6) называет Селевком.
(обратно)97.
Из Испании в Рим.
(обратно)98.
Во время поездки Нерона по Греции (как провинция империи она именовалась Ахайей) в 66—67 гг. его сопровождали преторианцы, игравшие во время выступлений императора на сцене роль клакеров (Дион Кассий, 63, 8).
(обратно)99.
Софоний Тигеллин — фаворит Нерона, с 62 г. н.э. префект претория, приобретший почти неограниченную власть после разгрома заговора Пизона в 65 г. Его интриги и доносы погубили многих значительных людей (Анналы, XIV, 57 сл.), он сыграл решающую роль в устранении Октавии (дочери Клавдия и первой жены Нерона. Ср.: Анналы, XIV, 60). См. характеристику его в гл. 72.
(обратно)100.
Сестерций — серебряная монета достоинством в 4 асса.
(обратно)101.
Префект претория, т.е. Корнелий Лакон. Место это характерно для художественной манеры Тацита. Никаких сведений о том, что навстречу Гальбе во время похода его из Испании в Рим были высланы преторианцы, нет. Следовательно, в начале этой главы под «преторианцами дежурной когорты» понимаются солдаты, составлявшие личную охрану полководца (см. прим. 36), в конце же главы явно имеются в виду преторианцы в Риме. Тацит не разграничивает тех и других, события в Испании и события в Риме, так как ему важно не характеризовать различные виды войск и разные части империи, а показать всеобщую продажность, царившую среди солдат, окружавших Гальбу; он стремится, другими словами, не к точности отдельных деталей, а к точной передаче общей атмосферы событий.
(обратно)102.
Старший солдат, передававший войсковым подразделениям от командующего «тессеру» — четырехугольную табличку с написанным на ней паролем.
(обратно)103.
Опцион — заместитель центуриона или декуриона, примерно соответствует современному командиру отделения.
(обратно)104.
Во времена Тацита каждый легион состоял из 5000 легионеров, образовывавших «легионные когорты» (или просто когорты), и 5000 солдат, составлявших «вспомогательные когорты». Последние поставлялись союзными Риму народами и провинциями, но жалованье им выплачивали римские командующие.
(обратно)105.
Календами назывались первые дни лунного месяца. События, описываемые в этой и последующих главах, происходили 15 января 69 г.
(обратно)106.
Гаруспиками назывались гадатели по жертвам и истолкователи знамений. Со времен императора Клавдия они были приравнены к жрецам.
(обратно)107.
Дом Тиберия занимал западную часть Палатинского дворцового комплекса. Выйдя из храма, Отон, таким образом, чтобы усыпить подозрения, пошел на запад, т.е. в сторону, противоположную преторианскому лагерю, находившемуся на северо-восточной окраине города. Продолжая этот маневр, он спустился еще дальше к западу, в Велабр, торговый район, занимавший пространство между Палатином, Тибром и Капитолием, и лишь здесь круто повернул на северо-восток, к храму Сатурна. По дороге к этому храму, в северо-западном углу Старого форума, и находился покрытый золоченой бронзой верстовой столб, считавшийся началом всех дорог Италии.
(обратно)108.
Следуя римской манере при определении срока включать в него и день, когда произошло событие, и день, до которого ведется счет.
(обратно)109.
Важная мысль, проливающая свет на мировоззрение Пизона (и людей его круга) и на позицию, с которой он ведет разговор с преторианцами. Весной 68 г. в разгар восстания Виндекса — Гальбы префект претория Нимфидий Сабин объявил своих солдат находящимися в распоряжении сената. В реальных условиях императорского Рима это, конечно, означало измену принцепсу, для поддержки которого в его борьбе с сенатом преторианский корпус и был создан. С точки зрения же римского аристократа, не желающего считаться с подлинным характером современного государства и принимающего его консервативную правовую форму (см. прим. 5, 68) за истинное положение дел, принципат — лишь одна из магистратур, даруемых сенатом, который остается носителем верховной власти. Преторианцы в таком случае — охранители сената и магистратов, им назначенных, и в конфликте их с Нероном виноват лишь Нерон, противопоставивший себя сенату, а тем самым и преторианцам. Несоответствие консервативной фикции республиканского строя и реально существующей империи играет важную роль в политическом мышлении самого Тацита и многих действующих лиц его «Истории»; ср. речь Гальбы при усыновлении Пизона (I, 15—16), обращение Отона к преторианцам (I, 83, 84), столкновение Эприя Марцелла с Гельвидием Приском (IV, 8) и т.д.
(обратно)110.
См. гл. 6.
(обратно)111.
Портик — т.е. обведенный крытой колоннадой сад, сооруженный в 26 г. до н.э. Марком Випсанием Агриппой, другом и полководцем императора Августа, на Фламиниевой дороге, между Форумами и восточной оконечностью Марсова поля.
(обратно)112.
Примипилярием назывался старший по должности из 60 центурионов легиона, назначавшийся за особые заслуги, опытность и храбрость; примипилярий входил в число членов военного совета легиона и получал при назначении всадническое достоинство.
(обратно)113.
См. гл. 6.
(обратно)114.
См. гл. 6.
(обратно)115.
Тацит в ряде случаев, говоря о населении Рима, различает «чернь и рабов. » (I, 32), «народ и чернь» (I, 35), «граждан и чернь». Слово plebs — «чернь» может иметь здесь известный правовой смысл, поскольку в Риме I в. жило множество деклассированных провинциалов, не бывших рабами, но в то же время не относившихся к римскому народу как носителю государственного суверенитета. Вполне очевидно, однако, что Тацит имеет в виду не эту формально-юридическую сторону дела. История империи для Тацита есть процесс углубляющегося разложения былой целостности народного бытия и выделения на одном полюсе абстрактного, постороннего живой действительности, а потому бессмысленно жестокого императорского государства, и с другой — посторонней государственным интересам, а потому погруженной в своекорыстие обывательской массы. Понятие римского народа у Тацита двоится: рядом с «народом» как идеальным носителем величия и мощи Рима появляется «чернь», — беспринципная, продажная, подверженная случайным настроениям и разрушительная в своей слепой ярости масса — plebs. Бушующая толпа солдат или горожан — неизменное действующее лицо почти всех книг «Истории».
(обратно)116.
Обультроний Сабин упоминается в «Анналах» (XIII, 28) как квестор эрария (государственной казны); Корнелий Марцелл, квестор и позже проконсул Сицилии, обвинялся при Нероне в государственной измене, но сумел избежать смерти (Анналы, XVI, 8); Бетуй Цилон в других источниках не упоминается.
(обратно)117.
Поликлит — вольноотпущенник Нерона (см. прим. 68).
(обратно)118.
Ватиний — сапожник, потом шут, наконец — приближенный Нерона, один из самых богатых и влиятельных людей при его дворе (Анналы, XV, 34).
(обратно)119.
Находившийся в центре Рима Капитолийский холм имел 2 вершины, на одной из которых находилась главная святыня древнего Рима — храм Юпитера Сильнейшего и Величайшего, а на другой — крепость. Поэтому, овладев Капитолием, Гальба располагал бы важным преимуществом, — и моральным, и военно-стратегическим.
(обратно)120.
См. прим. 85.
(обратно)121.
Базилика — помещение для судебных заседаний или торговых сделок, состоявшее из центрального зала и 2 или 4 боковых, отделенных колоннами.
(обратно)122.
Аршакиды — династия парфянских царей (III в. до н.э. — III в. н.э.). Из нее происходили царь Вологез, управлявший Парфией при Клавдии и Нероне (Анналы, XII, 14), и его брат Пакор, правитель Мидии, воевавший с римлянами (там же, XV, 2, 14, 31).
(обратно)123.
В состав преторианской гвардии входили и конники.
(обратно)124.
В легионах свой вымпел (или значок) полагался каждой манипуле (т.е. воинскому подразделению, включавшему 2 когорты), в претории, однако, свой особый значок имела каждая когорта. На древке такого вымпела, или значка укреплялся медальон с рельефным поясным изображением императора.
(обратно)125.
Бассейн Курция находился в центре форума (Ливий, I, 12; VII, 6) и был одним из 700 бассейнов, в которые по акведукам и из источников поступала вода для населения Рима. Название его происходит от имени Марка Курция, некогда бросившегося здесь с кручи, чтобы своей смертью прославить Рим; в память о нем над бассейном стоял алтарь.
(обратно)126.
XV Изначальный легион находился в это время в Нижней Германии (см. IV, 35). Как явствует из этого места, среди отрядов, выведенных Нероном из различных провинций и задержанных в Риме (см. гл. 6), были также отдельные подразделения XV легиона, в которых и служил Камурий.
(обратно)127.
Храм божественного Юлия был сооружен императором Августом в юго-восточной части Форума, на месте погребального костра Юлия Цезаря.
(обратно)128.
В юго-западной части Форума, между домом Помпея и сгоревшей при пожаре 64 г. Юлиевой курией.
(обратно)129.
Старший среди преторов, которых в I в. н.э. бывало от 12 до 18. Изначально претор был магистратом, представлявшим одну из функций консула — судопроизводство. Представление о близости обеих магистратур сохранилось, как видно из данного места, и во времена империи: созыв сената входил в обязанности консулов, но поскольку и Гальба, и Виний убиты, сенаторов собирает городской претор.
(обратно)130.
Слово «Август» (Augustus) связывалось для римлян со словами augur — «прорицатель», «жрец», «толкователь божественной воли» и augere — «растить», «возвеличивать» (Овидий. Фасты, I, 608) и указывало на связь человека, этим именем обозначенного, с божественным началом, с миром богов. Оно было присвоено Октавиану сенатским постановлением 16 января 27 г. как часть его собственного имени. Однако уже начиная с Тиберия «Август» становится частью титулатуры императоров, призванной указывать на божественный характер их власти, и присваивается сенатом каждому принцепсу.
(обратно)131.
По доносу Аквилия Регула (IV, 42); относительно обстоятельств смерти Магна ничего не известно.
(обратно)132.
Гай Кальвизий Сабин, консул 26 г. н.э. (Анналы, IV, 46), был наместником Паннонии при Калигуле. После описанного ниже скандала против него и его жены было возбуждено судебное дело; не дождавшись приговора, оба обвиняемых покончили с собой (Дион Кассий, 59, 18).
(обратно)133.
Это место и все, сказанное выше, дают нам возможность установить основные этапы карьеры Виния — человека, о котором мы знаем довольно мало. Комментаторы (например, К. Хэреус в его издании: «Истории», Лейпциг, 1877, стр. 74) ошибаются, полагая, что Виний служил в Паннонии при Кальвизии Сабине военным трибуном: как явствует из слов «вскоре времена изменились», служба его в этой провинции относится к концу правления Калигулы, т.е. когда Винию, родившемуся в 11 г. н.э., было не меньше 28 лет, — военных трибунов такого возраста в Риме I в. н.э., кажется, не бывало. В то же время известен ряд случаев, когда люди, особенно успешно делавшие карьеру, именно в этом возрасте занимали в провинции должность легата. Так, легатами в провинции еще до претуры были коллега Тацита по консульству Глитий Агрикола (Corpus Inscriptionum Latinarum, V, 6975), Лициний Сура (там же, VI, 1444) и Цецилий Симплекс (там же, IX, 4965). К их числу, по-видимому, следует отнести и Тита Виния. О том же исключительно быстром и успешном прохождении службы говорит и назначение Виния командиром легиона: стать после претуры командиром легиона было несравненно почетнее, чем получить должность пропреторского легата. Не менее импозантно и завершение карьеры — проконсульство в богатейшей сенатской провинции.
(обратно)134.
Диспенсатором назывался раб, ведавший хозяйственными расходами и денежной отчетностью.
(обратно)135.
Патробий был вольноотпущенник Нерона, стяжавший своими преступлениями всеобщую ненависть. Гальба казнил его. Когда один рядовой солдат принес голову Гальбы Отону, тот велел отдать ее обозным слугам. У них-то и выкупил ее отпущенник Патробия, чтобы бросить в Сессории, месте, где казнили преступников по приказу Цезарей и где, в частности, был казнен его патрон (Светоний. Гальба, 20; Плутарх. Гальба, 28).
(обратно)136.
Гальба находился в Германии в 39—41 гг., управлял Африкой в 45—47 гг., Тарраконской Испанией — в 61—68 гг.
(обратно)137.
Одно из худших следствий императорского режима Тацит видел в том, что люди все больше замыкаются в кругу частных повседневных интересов и становятся безразличными к судьбам государства (I, 1; I, 89; III, 83, и др.). В противовес этому способность «принимать к сердцу дела государства» он считал одним из высших достоинств подлинного римлянина. На этом у Тацита основана высокая оценка таких людей, как Юлий Агрикола, Корбулон, Гельвидий Приск и др.
(обратно)138.
Фарсалия — город в северной Греции, где 9 августа 48 г. до н.э. Цезарь одержал решительную победу над Гнеем Помпеем. В г. Мутине (на севере Италии) в 44—43 гг. Деций Брут в течение четырех месяцев выдерживал осаду Марка Антония. При Филиппах (в северной Греции) в 42 г. Октавиан Август и Марк Антоний уничтожили основные силы антицезарианцев во главе с Брутом и Кассием. Город Перузия в средней Италии был во время гражданских войн сожжен войсками Октавиана.
(обратно)139.
Центурия — подразделение пехотных войск, эскадрон (ala) — подразделение кавалерии. Кавалерийские отряды в римской армии набирались только из провинциалов и союзных племен. Одни из них входили в число вспомогательных войск и управлялись римскими префектами, другие не включались в состав легионов и представляли собой самостоятельно действующие отряды. Последние именовались по народностям, из которых набирались (батавская конница, тунгрская конница и т.д.), и командовали ими их туземные вожди. Число всадников в таком отряде обычно составляло 500 человек.
(обратно)140.
Прежде всего белги и тревиры.
(обратно)141.
Племена центральной Галлии, издавна связанные с Римом союзными отношениями и занимавшие привилегированное положение среди других галльских племен.
(обратно)142.
См. прим. 51.
(обратно)143.
Теперешний Лион; центр провинции — Лугдунская Галлия; римская колония с 43 г. до н.э. Нерон пожертвовал этой колонии 4 млн. сестерциев на восстановление города после постигшего ее на редкость большого бедствия, характер которого нам точно неизвестен (Анналы, XVI, 13).
(обратно)144.
Перевод этого предложения сделан в соответствии с той его редакцией, которая представлена в рукописи: simul aviditate imperandi. В большинстве современных изданий принято исправлять: simul aviditate imperi dandi.
(обратно)145.
Авл Алиен Цецина командовал легионом в Верхней Германии, Гай Фабий Валент — в Нижней. О роли, сыгранной ими в гражданской войне, и последующей судьбе обоих много говорится далее.
(обратно)146.
См. гл. 8.
(обратно)147.
Т.е. quaestor provincialis — помощник наместника провинции, ведавший главным образом финансами. Бетика — сенатская провинция в южной части Пиренейского полуострова.
(обратно)148.
Имеются в виду кельтские племена северо-восточной Галлии. Лингоны жили в верховьях Марны, Мааса и по обоим берегам Сены, тревиры — по течению р. Мозель.
(обратно)149.
В римском военном лагере во второй половине I в. н.э. вспомогательные войска и отряды союзнической конницы, как и в сражении, располагались по флангам, охватывая с двух сторон легионные когорты.
(обратно)150.
Со времен Тиберия 1 января каждого года все войска империи приносили присягу на верность императору. За несколько месяцев до этого легионы уже присягали Гальбе (см. гл. 53).
(обратно)151.
I легион стоял в Бонне, V и XV — в Старых лагерях, в 150 км от Бонны к северу, по Рейну, XVI — в Новезии, на Рейне, на полпути между Бонной и Старыми лагерями, IV и XXII — в Могонциаке, теперешнем Майнце.
(обратно)152.
См. прим. 5, 68, 108.
(обратно)153.
В Нижней Германии, в земле племени убиев. Ныне — Кёльн.
(обратно)154.
7 января 69 г. Нонами назывался девятый день перед идами (считая и день ид, и день нон).
(обратно)155.
Императоры I в. н.э. не имели аппарата для управления империей, и такие важнейшие функции, как государственная переписка, прием прошений и ответы на них, финансы и отчетность, поручались вольноотпущенникам Цезарей. Вителлий первый придал этим обязанностям государственный характер, назначив для их исполнения всадников, людей, не имевших отношения к его семье. Окончательно эта практика закрепилась лишь при Адриане (117—138 гг.).
(обратно)156.
Рейнская флотилия.
(обратно)157.
Юлий Цивилис, служивший в римской армии батав, был братом казненного Юлия Павла, неоднократно арестовывался и вообще подозревался римлянами в измене. В 69 г. под его руководством вспыхнуло большое восстание галлов, батавов и германцев против Рима (см. IV, 13 и сл.).
(обратно)158.
По всей вероятности, сын дважды консула Валерия Азиатика, чья гибель описана Тацитом в «Анналах» (XI, 1—3), поддерживал восстание Виндекса.
(обратно)159.
Созданный Нероном (Дион Кассий, 55, 24) I Италийский легион. Его следует отличать от I Флотского (впоследствии I Вспомогательного), созданного тем же Нероном в 68 г., и от I Германского, сформированного Августом.
(обратно)160.
Название происходит не от имени племени, поставлявшего всадников в этот отряд, как обычно (см. прим. 139), а от имени основателя этой воинской части Статилия Тавра, проконсула Африки (Анналы, XII, 59).
(обратно)161.
Требеллий Максим — консул-суффект 56 г., в 61 г. проводил ценз во всех 3 галльских провинциях, в 63—69 гг. наместник Британии, в 72 г. — глава жреческой коллегии Арвальских братьев. Характеристика его в «Агриколе» (гл. 16) отличается от той, которая дана ему здесь.
(обратно)162.
По-видимому, Требеллий не дал солдатам присвоить часть воинской добычи, обычно им полагавшуюся.
(обратно)163.
К Вителлию бежал изгнанный британскими войсками Требеллий Максим (гл. 60). Остается непонятным, как при этом к тому же Вителлию перешли и сами британские войска.
(обратно)164.
Коттианскими Альпами называлась горная цепь, отделяющая Дофине во Франции от Пьемонта в Италии. Здесь имеется в виду горный проход в районе Мон-Женэвр.
(обратно)165.
Перевал через Большой Сен-Бернар.
(обратно)166.
Об обычае вводить в титулатуру римских императоров собственные имена основателей династии Юлиев-Клавдиев см. прим. 130. Нерон Клавдий Германик; (15 г. до н.э. — 17 г. н.э.), внук Августа и племянник Тиберия, пользовался исключительной славой и любовью всего народа.
(обратно)167.
Ныне Мец.
(обратно)168.
Крупное кельтское племя, жившее в Бельгийской Галлии по среднему течению р. Мозель, южнее племени тревиров.
(обратно)169.
Кельтское племя левков занимало в Бельгийской Галлии земли между Марной и Мозелью.
(обратно)170.
Гл. 59.
(обратно)171.
Жители Лугдунума (Лиона) были преданы Нерону (см. прим. 143) и видели в Вителлии мстителя за него.
(обратно)172.
Имеются в виду так называемые «когорты римских граждан», образовывавшие отдельные подразделения и не входившие ни в состав легионов, ни в число городских или преторианских когорт.
(обратно)173.
Виенна (ныне город того же названия на юге Франции), бывшая главным поселением племени аллоброгов, а затем — центром римской Нарбоннской провинции, получила при Калигуле статус «колонии римских граждан», а жители ее тем самым — все права римского гражданства.
(обратно)174.
С Виндексом.
(обратно)175.
Рона.
(обратно)176.
Лугдунум был основан с самого начала как «колония римских граждан» (в 44 г. до н.э.).
(обратно)177.
Изначально у римлян не было обыкновения изображать богов в виде статуй (Варрон в «Вертограде Божьем» бл. Августина, IV, 31) и их чтили с помощью примитивных, связанных с природой обрядов, в частности украшая шерстяными лентами древесные стволы (Тибулл, I, 10). Перевязанная шерстью ветвь (особенно оливковая, лавровая или миртовая) сохранила свое значение священного символа и в позднейшую эпоху; островерхую шапочку, в которую была воткнута оливковая ветвь, перевязанная шерстинкой, носили, в частности, жрецы-фламины. Перевязанные шерстяными лентами ветви как знак смирения и просьбы о милосердии упоминаются Тацитом неоднократно (ср., например; III, 31).
(обратно)178.
Кельтские племена. Аллоброги жили между Изерой, Роной, Женевским озером и Альпами, воконтии — в Провансе, в районе теперешнего г. Вэзона.
(обратно)179.
Ныне г. Люк в провинции Дофинэ.
(обратно)180.
Территория гельветов была ограничена Юрой, Роной, Женевским озером и верхним Рейном.
(обратно)181.
Во времена Юлия Цезаря.
(обратно)182.
Т.е. римские легионы, стоявшие в провинции Реция.
(обратно)183.
В восточной Юре.
(обратно)184.
Ныне Аванш в Швейцарии.
(обратно)185.
По всей вероятности, названная так по имени создателя ее — Гая Силия, пропреторского легата Верхней Германии во времена Тиберия (Анналы, I. 31).
(обратно)186.
Ныне Милан, Новара, Ивреа и Верчелли в северной Италии.
(обратно)187.
Нередкое у Тацита риторическое преувеличение: армия Цецины состояла только из одного легиона (XXI) и нескольких подразделений двух других (IV и XXII).
(обратно)188.
Гл. 45. См. также гл. 14, 31, 39 и прим. 72.
(обратно)189.
Синуесские воды — горячие источники в Кампании, очень модные в ту эпоху.
(обратно)190.
См. прим. 46. План Макра заключался в том, чтобы лишить Рим зерна, поступавшего в столицу главным образом из африканских провинций, и вызвать волнения, которые опрокинули бы Гальбу.
(обратно)191.
Посланных им в Германию. См. гл. 19.
(обратно)192.
Вителлий был провозглашен императором на две недели раньше Отона.
(обратно)193.
Луций Сальвий Отон Тициан, старший брат Отона, консул 52 г., проконсул Африки в 65 г. (квестором его в этой провинции был, между прочим, Юлий Агрикола, тесть Тацита), во второй раз консул в 69 г. (см. гл. 77 и прим. 195).
(обратно)194.
Поскольку новорожденный сын Вителлия Германик находился в это время при нем (II, 59), из данной фразы следует, что, кроме этого сына и упоминаемой Светонием (Веспасиан, 14) дочери, у Вителлия были и еще дети.
(обратно)195.
Далмация — другое название Иллирии; Мёзией назывались 2 римские провинции (Верхняя Мёзия и Нижняя Мёзия), тянувшиеся узкой полосой по южному берегу Дуная примерно от впадения р. Савы до Черного моря. Паннония — римская провинция, находившаяся на территории современной Венгрии.
(обратно)196.
Аквитания занимала крайний юго-запад современной Франции. Юлий Корд — наместник этой провинции.
(обратно)197.
Помпей Вописк либо был родом из Виенны, либо владел в ее окрестностях большими имениями.
(обратно)198.
Обычно срок полномочий каждой пары консулов (так называемый нундиниум) составлял 4 месяца. Отон сократил нундиниум первых 2 пар до 2 месяцев, но сохранил на 2 остальных четырехмесячных нундиниума кандидатов, выдвинутых Нероном и Гальбой. Вителлию, когда он стал принцепсом, нужно было найти время для консульства Цецины и Валента (II, 71), фактически приведших его к власти. Однако и он не стал менять назначений, произведенных его предшественниками, лишь сократив вдвое оба нундиниума. Таким образом, конец года оказался свободным, и на сентябрь-октябрь консулами стали Цецина и Валент (II, 71; III, 37). Консульские фасты этого необычного года выглядели в итоге следующим образом: январь-февраль — сначала Сервий Гальба и Тит Виний, затем Марк Сальвий Отон и Луций Сальвий, Отон Тициан (ординарные консулы); консулы-суффекты: март-апрель — Луций Вергиний Руф (см. прим. 54) и Луций Помпей Вописк; май-июнь — Гней Арулен Целий Сабин (выдающийся юрист, родственник императора Веспасиана) и Тит Флавий Сабин (родственник предыдущего, которого следует отличать от Тита Флавия Сабина, префекта Рима, старшего брата Веспасиана); июль-август — Тит Аррий Антонин (дед по матери императора Антонина Пия) и Марий Цельз (см. прим. 72); сентябрь-октябрь — Авл Цецина Алиен и Гай Фабий Валент; ноябрь-декабрь — Гай Квинкций Аттик и Гней Цецилий Симплекс (II, 60; III, 68, 73).
(обратно)199.
Гальбой.
(обратно)200.
Кадий Руф был при Клавдии наместником провинции Вифиния и был осужден в 49 г. за вымогательство (Анналы, XII, 22). Педий Блез, наместник на Крите, осужден за вымогательство при Нероне (Анналы, XIV, 18),
(обратно)201.
Колония в Бетике, ныне Севилья.
(обратно)202.
Колония в Лузитании, ныне г. Мерида в Эстремадуре (Испания).
(обратно)203.
Скорее всего, ошибка в рукописи: лингоны выступали на стороне Вителлия (гл. 53, 54, 57), и награждение их Отоном понять невозможно.
(обратно)204.
Римская провинция в Малой Азии.
(обратно)205.
Вторая жена Нерона, обожествленная по его приказу после смерти; статуи Поппеи были уничтожены во время народных волнений 62 г. (Анналы, XIV, 61).
(обратно)206.
Это был тот самый III Галльский легион, который упоминается в гл. 10 (см. прим. 60). Весной 68 г. он был вызван в Италию (Светоний. Веспасиан, 6) и, проходя через Мёзию, принял сражение с сарматами.
(обратно)207.
В императорскую эпоху было принято присуждать полководцам, одержавшим важную победу, не триумф как таковой, а лишь «триумфальные знаки отличия». В их число входила и статуя полководца, которую увенчивали лавровым венком и одевали в одежду триумфатора — пурпурную, расшитую золотом тогу и тунику, украшенную золотыми пальмовыми ветвями. Сам триумф присуждался, как правило, лишь императорам.
(обратно)208.
Кроме III Галльского, оказавшегося в Мёзии случайно (см. прим. 206), здесь стояли VII Клавдиев и VIII Августов. Фульв Аврелий (дед императора Антонина Пия) был легатом III легиона, Теттий Юлиан (о его дальнейшей судьбе см. II, 86; IV, 39—40) командовал VII, Нумизий Луп — VIII. Консульские знаки отличия состояли из тоги с широкой пурпурной полосой по краю и курульного кресла.
(обратно)209.
Когорта римских граждан (см. прим. 172). Остия — город при впадении Тибра в море, игравший роль порта Рима.
(обратно)210.
Префект легиона (обычно назначавшийся из числа примипиляриев) был заместителем легата и ведал в основном порядком в лагере. Вителлий Сатурнин был префектом I Флотского — единственного легиона, находившегося в это время в Риме.
(обратно)211.
Речь идет о примыкавшем к самой реке застроенном многоэтажными доходными домами Бычьем рынке, о Велабре, густо заселенной глубокой долине между Палатином и Капитолием, и о выходившей из Велабра Этрусской улице, где была сосредоточена торговля предметами роскоши. Задетыми оказались и другие кварталы, примыкавшие к Форуму с запада и северо-запада.
(обратно)212.
Фламиниева дорога шла от Форума на северо-запад, выйдя из Рима, сворачивала к северу и, пересекая весь полуостров, выходила к Адриатическому морю возле г. Фанум Фортунэ (между теперешними Анконой и Римини).
(обратно)213.
Матросам.
(обратно)214.
Мосх заведовал ремонтом и снабжением кораблей при Нероне и Гальбе.
(обратно)215.
Гай Светоний Паулин — один из крупнейших римских полководцев I в. н.э., одержал крупные победы в Африке в 42 г. и в Британии в 59—61 гг. Анний Галл, при Нероне консул-суффект, впоследствии принимал участие в подавлении восстания Цивилиса (IV, 68; V, 19). О Марии Цельзе см. прим. 72.
(обратно)216.
Город в Лациуме (ныне Аквино).
(обратно)217.
Выходец из очень древней и знатной семьи. Жизнь и смерть этого человека, не отличавшегося в сущности ничем, кроме родовитости, характерна для судьбы старой аристократии в эпоху Юлиев-Клавдиев и Флавиев. Его гибель описана в II, 64. См. о нем у Плутарха (Гальба, 23; Отон, 5) и Светония (Гальба, 12).
(обратно)218.
Брат Авла Вителлия.
(обратно)219.
Фурий Камилл Скрибониан, наместник Далмации, поднял в 42 г. против императора Клавдия восстание, подавленное в течение 5 дней (Светоний. Клавдий, 13).
(обратно)220.
Речь идет о 12 священных щитах, с которыми жрецы-салии ежегодно в марте месяце совершали свои священные пляски; в конце месяца щиты снова водворялись на место в курии салиев на Палатине. Эта и следующая фразы содержат глухой, вполне в духе Тацита, намек на грядущую катастрофу.
(обратно)221.
Подразумевается: …а деньги от продажи имуществ поступали в императорскую казну и были израсходованы.
(обратно)222.
Консул 68 г., известный оратор. Вителлий простил ему близость к Отону по настоянию своей жены Галерии, родственницы Трахала (II, 60).
(обратно)223.
Согласно Светонию (Отон, 8) — 24 марта 69 г. Тщательный расчет дней, прошедших между выступлением из Рима и гибелью Отона, заставляет, однако, полагать, что армия выступила из Рима 14 марта. Отон в один день произнес речь в сенате, обратился к народу и двинулся в поход.
(обратно) (обратно)Книга вторая. Март-сентябрь 69 г.
1.
Веспасиан и Тит.
(обратно)2.
Домициан.
(обратно)3.
Дочь иудейского царя Агриппы Ирода, жена понтийского царя Полемона; расставшись с последним, жила при дворе своего брата Агриппы II. Тит влюбился в нее во время своего пребывания в Иудее, позже призвал ее в Рим и собирался на ней жениться, но отказался от этого намерения под влиянием общественного мнения (Дион Кассий, 66, 15, 18). Титу и Беренике посвящена одна из лучших трагедий Расина.
(обратно)4.
Обычным видом морского плавания древние считали каботаж — вдоль берега или от острова к острову.
(обратно)5.
Т.е. находившийся в Пафосе — городе на западной оконечности Кипра.
(обратно)6.
Сын Аполлона, по некоторым мифам — отец Адониса.
(обратно)7.
См. прим. 106 к книге I. Римляне считали, что искусство гаруспиков было открыто богами только народу этрусков (Овидий. Метаморфозы, XV, 553). Приводимая здесь Тацитом легенда косвенно подтверждает распространенное в древности мнение, хорошо согласующееся со взглядами современных исследователей, о том, что этруски — выходцы из Малой Азии.
(обратно)8.
Киликия — область на юге Малой Азии.
(обратно)9.
Т.е. потомки Кинира.
(обратно)10.
Скорее всего, метеорит.
(обратно)11.
Жертвенного животного.
(обратно)12.
Т.е. принципат.
(обратно)13.
Книга I, гл. 10.
(обратно)14.
Кроме Понтийского (Черноморского) флота, упоминаемого в II, 83 и III, 47, — эскадрами морских судов, стоявшими в Селевкии (в Сирии) и в Египте.
(обратно)15.
Антиоха в Коммагене (на верхнем Евфрате), Агриппы и Иордании, Сохема в Софене (юго-западная Армения).
(обратно)16.
См. прим. 138 в книге I.
(обратно)17.
См. книгу I, гл. 10, 11 и примечания к ним.
(обратно)18.
К главам 8—9 см. прим. 19 к книге I.
(обратно)19.
На северном побережье Малой Азии.
(обратно)20.
Нерон считал себя выдающимся музыкантом и много раз выступал в театрах и на музыкальных состязаниях.
(обратно)21.
Ныне Термия — один из западных островов Кикладской группы, к югу от о. Кеоса.
(обратно)22.
Памфилия — с 25 г. до н.э. римская провинция на южном побережье Малой Азии, в состав которой с 43 г. н.э. вошла и соседняя Ликия. Галатия — в центре Малой Азии.
(обратно)23.
Созданный Августом римский флот на Тирренском море.
(обратно)24.
Триерарх — командир триремы, судна с 3 рядами гребцов.
(обратно)25.
Одна из самых колоритных фигур времени Нерона и Веспасиана. Выдающийся оратор, отличавшийся «веселым красноречием» (Квинтилиан. О воспитании оратора, XII, 10, 11), доносчик, составивший за счет своих жертв огромное состояние (Диалог об ораторах, 8). Происходил из древнего сабелльского рода, был трижды консулом, в 62, 77 и 83 (?) гг., и умер глубоким стариком, окруженный почетом, в 92 г.
(обратно)26.
Намек на эпоху Домициана, когда это сенатское постановление фактически перестало применяться.
(обратно)27.
Вибий Секунд, прокуратор одной из мавританских провинций. В 60 г. мавританцы возбудили против него судебное дело по обвинению в вымогательстве, но благодаря заступничеству брата он отделался ссылкой. Погиб в конце правления Нерона из-за доноса Анния Фавста. Ср.: Анналы, XIV, 28.
(обратно)28.
О VII Гальбанском легионе см. прим. 38 к книге I. XI Клавдиев стоял в Далмации, XIII Сдвоенный — в Паннонии. XIV легион (Марсов Сдвоенный Победоносный) при Августе и Тиберии стоял в Верхней Германии, Клавдий перевел его в Британию, где он в 61 г. н.э. под командованием Светония Паулина отличился при подавлении крупного восстания местных племен. В конце 68 г. мы обнаруживаем основные силы этого легиона в Далмации, а отдельные его подразделения в Риме, где они принимали участие в событиях января 69 г. на стороне Отона: по-видимому, Нерон вызвал легион из Британии, отправил его на Кавказ (см.: I, 6), но по дороге, в Далмации, его застало известие о смене императоров.
(обратно)29.
Например, Деций Брут под Мутиной в 44—43 гг. до н.э. (см. прим. 138 к книге I).
(обратно)30.
Вестриций Спуринна (род. ок. 25 г. н.э.) во время отонианской войны оборонял Плаценцию от вителлианцев. Став в первый раз консулом при Веспасиане, он в годы правления Домициана отошел от дел, но Нерва, стремившийся опираться на людей старшего поколения дофлавианской формации, вновь призвал его к активной военно-политической деятельности. В 97 г. Спуринна, несмотря на возраст, командует войсками в Германии, где наносит крупное поражение бруктерам, получает за это триумфальные отличия (Плиний. Письма, II, 7), в 98 г. становится во второй раз консулом. См.: R. Syme. Tacitus, vol. II. Oxford, 1958, appendix 6.
(обратно)31.
Преторианцы, пробывшие в армии 16-летний срок и оставшиеся на службе, образовывали в составе когорт особые подразделения.
(обратно)32.
См. I, 87.
(обратно)33.
Сведий Клемент командовал обоими стоявшими в Египте легионами, позже был трибуном когорты (городской или преторианской) в Риме.
(обратно)34.
Небольшая сенатская провинция на крайнем северо-западе Италии (создана Августом в 14 г. до н.э.). Прокураторы имелись также и в сенатских провинциях, где они ведали суммами, поступавшими в императорскую казну.
(обратно)35.
Просторечное название города Albium Intemelium, Ныне — Вентимилия в Лигурии.
(обратно)36.
Лигуры — народ, живший в описываемую эпоху на северо-западе Италии в пределах современной Генуэзской области.
(обратно)37.
Не исключено, что в этой главе Тацит описал гибель своей внучатной тещи, матери Юлия Агриколы. Ср.: Агрикола, 7.
(обратно)38.
Поселения римских колонистов на территории Нарбоннской провинции — Аквы Секстиевы (ныне Экс), Нарбон Марсов (Нарбонна), Форум Юлия (Фрэжюс), Бетерре (Безье), Арансион (Оранж), Виенна (Вьенн) и некоторые другие.
(обратно)39.
Вспомогательные когорты, набранные в племенах тунгров — германцев, живших по левому берегу нижнего Рейна.
(обратно)40.
См. прим. 52 и 139 к книге I.
(обратно)41.
См. IV, 55 и примечания к этой глазе.
(обратно)42.
Поскольку 5 преторианских когорт ушли со Спуринной к р. Пад, а остальные сопровождали Отона, здесь речь может идти лишь об отряде ветеранов, выведенных из состава претория и действовавших самостоятельно (см. ниже, в этой же главе).
(обратно)43.
Антиполис — колония г. Массилии, ныне Антиб в Южной Франции. Альбигаун — ныне Альбенга в северо-западной Италии.
(обратно)44.
Императорская провинция Сардиния и Корсика была переведена Нероном в число сенатских. О роли прокураторов в сенатских провинциях см. прим. 35 и прим. 48 к книге I.
(обратно)45.
Скоростные парусники, введенные в состав римского флота после битвы при Акцие и игравшие в нем роль привилегированных судов особого назначения. Они были длиннее и ýже обычных римских судов и заострены с обоих концов.
(обратно)46.
См. прим. 185 к книге I.
(обратно)47.
Плаценция — ныне Пьяченца на правом берегу р. По, Тицин — ныне Павия на левом берегу той же реки.
(обратно)48.
Т.е. в землях к югу от р. Пад (ныне По).
(обратно)49.
Когорт и манипул.
(обратно)50.
Конных отрядов.
(обратно)51.
Традиционная одежда римлян состояла из туники и тоги. Тога была в их глазах не только одеянием, спасавшим от холода, но и символом принадлежности к «хозяевам Вселенной», воплощением величавого достоинства римского гражданина (Вергилий. Энеида, I, 282). Цецина был одет как галл. Разговаривая в таком виде с облаченными в тоги магистратами, он как бы ставил варварские обычаи и нравы выше римских. Несмотря на внешний консерватизм официальной идеологии ранней империи, такая непочтительность по отношению к римской старине — характерная черта многих временщиков и «новых людей» императорской эпохи, видевших в верности «нравам предков» лозунг ненавистной им аристократии.
(обратно)52.
См. прим.187 к книге I.
(обратно)53.
Речь идет о боевом пении, называвшемся у германцев «бардит». Ср.: О происхождении германцев… (далее: Германия), 3: «Есть у них и такие заклятия, возглашением которых, называемом ими „бардит“, они распаляют боевой пыл, и по их звучанию судят о том, каков будет исход предстоящей битвы… Стремятся же они больше всего к резкости звука и к попеременному нарастанию и затуханию гула и при этом ко ртам приближают щиты, дабы голоса, отразившись от них, набирались силы и обретали полнозвучность и мощь».
(обратно)54.
Кремона находится на левом, северном, берегу Пада.
(обратно)55.
Сражения отонианцев с вителлианцами (см.: II, 41—44) и вителлианцев с флавианцами (III, 15—25).
(обратно)56.
Эта глава — хороший пример метода Тацита, направленного на то, чтобы «познать не только внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также их внутренний смысл и причины, их породившие» (I, 4). Из бесчисленных стычек (см. следующую главу) он выделяет и детально описывает один, ничем, казалось бы, не примечательный эпизод, ибо именно этот «случай» раскрывает «внутренний смысл и причины» больших событий: в нем проявились упадок дисциплины и брожение, царившее в армии Отона; он послужил поводом для замены 3 опытных полководцев не сведущим в военном деле Тицианом; и упадок дисциплины, и смена командующих связаны в конечном счете с внутренней неуверенностью и духовным смятением, преследующим убийц Гальбы и их императора-преступника. В этом внешне незначительном эпизоде, таким образом, обнаружились все обстоятельства, приведшие, по мнению Тацита, к разгрому отонианцев под Бедриаком. О Сальвии Тициане см. прим. 193 к книге I.
(обратно)57.
Анний Галл, за несколько дней перед тем разбившийся при падении с лошади (см. гл. 33), в этом бою, как и в последующих, уже не участвовал.
(обратно)58.
Сын царя Коммагены Антиоха (Анналы, XII, 55), оказавшийся в начале гражданских войн в Риме и принявший в них участие на стороне Отона.
(обратно)59.
I, 6, 59, 64.
(обратно)60.
Трибуналом в римском военном лагере называлось возвышение, с которого командующий обращался к солдатам. Оно находилось перед шатром полководца на одной площадке с алтарем и составленными вместе значками когорт и манипул, вымпелами кавалерийских отрядов, орлами легионов (если их было в лагере больше одного), т.е. было центром жизни лагеря.
(обратно)61.
Вителлий был сыном Луция Вителлия, одного из самых ловких и влиятельных царедворцев императора Клавдия. Славе отца целиком обязан он и своей блестящей карьерой — консульством и проконсулатом Африки, не потребовавшей от него ни заслуг, ни энергии. Императоры относились к нему благосклонно, так как он разделял пороки каждого из них и играл при дворе роль отчасти фаворита, отчасти шута (Светоний. Вителлий, 3—4).
(обратно)62.
Своей жестокостью, распутством и наглостью Отон прославился при дворе Нерона, ближайшим другом и доверенным лицом которого он был. Он брал огромные взятки с осужденных, которых спасал от наказания, пользуясь своим влиянием на Нерона, играл активную роль в умерщвлении матери Нерона Агриппины, сделал своей любовницей будущую жену Нерона Поппею Сабину, которую тот ему доверил перед браком, а потом не впустил в свой дом явившегося за ней императора, и т.д. При всем этом он проявил себя как деятельный магистрат и в течение многих лет прекрасно управлял доверенной ему провинцией Лузитанией.
(обратно)63.
Неясно. Слова эти могут относиться только к восстанию Цивилиса, которое, однако, в действительности началось несколькими месяцами позже. Либо подготовка к восстанию шла уже в это время и Паулин располагал на этот счет какими-то сведениями, до нас недошедшими, либо, скорее всего — Тацит, набрасывая общую картину, сознательно пренебрегает хронологическими деталями.
(обратно)64.
См. гл. 14—15.
(обратно)65.
Территория, ограниченная с юга Падом, с остальных сторон — Альпами.
(обратно)66.
На помощь отонианцам шел III Галльский легион, много лет уже стоявший в Сирии.
(обратно)67.
В то время, когда Паулин развивал эти соображения, отонианская армия была сосредоточена под Бедриаком, на левом, северном, берегу Пада, где (под Кремоной) стояли и вителлианцы. Говоря об использовании Пада как прикрытия, Паулин исходит из того, что план его уже принят и отонианская армия отведена обратно, на южный берег реки.
(обратно)68.
См. I, 46.
(обратно)69.
Ныне Брезелло, на правом берегу По, в 35 км от Бедриака.
(обратно)70.
Тех самых гладиаторов, которыми командовал Марций Макр и о которых шла речь в гл. 23.
(обратно)71.
Ср.: Плутарх. Отон, 10.
(обратно)72.
Ср. I, 77 и прим. 198 к книге I.
(обратно)73.
Содержание этой и следующей глав в общем совпадает с гл. 9 в Плутарховой биографии Отона. На этом основании еще Моммзеном (Hermes, IV, 1870) было высказано мнение о том, что оба писателя пользовались одним общим источником. Попытки определить его предпринимались неоднократно. Наиболее авторитетным считается мнение, согласно которому этим источником было историческое сочинение Плиния Старшего, охватывавшее конец эпохи Юлиев-Клавдиев и начало правления Флавиев (Ph. Fabia. Les sources de Tacite dans les «Histoires» et les «Annales». Part I. 1893, Ch. 3). Оно до нас не дошло, и мы знаем о нем лишь по упоминаниям самого автора (Естественная история. Посвящение, 20) и Плиния Младшего (Письма, III, 5). В последнее время против этой точки зрения были выдвинуты убедительные возражения (R. Syme. Tacit, appendix, 29). Если принять во внимание, что описываемой Тацитом эпохе было посвящено огромное число исторических сочинений, из которых до нас дошло лишь несколько, вопрос об общем источнике Тацита и Плутарха лучше оставить открытым.
(обратно)74.
Судя по «Анналам» (III, 27), Тацит понимает под «буйными трибунами» не только марианца Луция Апулея Сатурнина, но и братьев Гракхов, повторяя в этом отношении Юлия Цезаря (Записки о гражданской войне, I, 7).
(обратно)75.
Войны марианцев и сулланцев, диктатуры Мария и Суллы относятся к 88—79 гг. до н.э.
(обратно)76.
Взгляд на римскую историю, изложенный в этой главе, существенно отличается от общераспространенного в Риме I в. н.э. представления о ходе римского исторического процесса. Согласно этому представлению, древняя республика, бывшая временем доблестных, хотя простых и грубых людей, безраздельно преданных интересам государства, распалась в результате алчности и властолюбия, распространившихся в Риме под влиянием роста его владений и богатств. Эта порча нравов нашла себе самое полное выражение в гражданских войнах I в. до н.э. Август положил конец гражданским войнам, вернул Риму мир и восстановил древние республиканские институты, поруганные во время междоусобных распрей, объединив в своих руках в интересах мира и укрепления власти все основные магистратуры. Так установился принципат, который, при всех недостатках и даже пороках тех или иных государей, обеспечивает империи в целом мир и спокойствие. Отдельные части этой концепции были намечены уже Саллюстием; она окончательно сложилась в эпоху Августа, легла в основу Res Gestae Divi Augusti и приобрела, таким образом, официальный характер. Из нее исходят Веллей Патеркул, Лукан (в первых книгах «Фарсалии») и др. В пору написания «Диалога об ораторах» ее принимал и Тацит, но уже в предельно сжатом очерке римской истории, открывающем «Анналы», она видоизменяется. Комментируемая глава занимает важное место в этой эволюции, так как здесь, судя по всему впервые, о принципате говорится как об эпохе междоусобных распрей, непосредственно продолжающих гражданские войны I в. н.э.
(обратно)77.
По направлению к Кремоне.
(обратно)78.
Т. е. гладиаторов Флавия Сабина и войска, ушедшие в Брикселл с Отоном,
(обратно)79.
Ныне р. Адда.
(обратно)80.
Это многократно комментировавшееся место тем не менее остается не до конца ясным. Расстояние между Бедриаком, где стояли отонианцы, и Кремоной, под стенами которой находился лагерь вителлианцев, составляло во времена Тацита 20 римских миль (29.6 км). Перенеся лагерь на 4 мили от Бедриака (гл. 39), солдаты Отона оказались в 16 милях от Кремоны, а не от устья Адды, находящегося от города еще в 7 милях к западу. Очевидно (как предложил еще Моммзен), первую фразу гл. 40 надо понимать так, что устье Адды было конечной целью всего похода отонианской армии, имевшего задачей перерезать северные коммуникации Цецины и зайти ему в тыл; поход был рассчитан на несколько дней, и 16 миль предстояло пройти лишь за первый день. Как могли Цельз и Паулин предвидеть, что противник, двинувшись им наперерез, встретится с ними именно в 4 милях от своего лагеря, остается непонятным
(обратно)81.
Использовать нумидийцев в качестве гонцов было в обычае у римской знати того времени (Сенека. Письма, 87, 8; Марциал. X, 13, 1).
(обратно)82.
Утвердиться в положении принцепса.
(обратно)83.
14 апреля 69 г.
(обратно)84.
Собственного лагеря.
(обратно)85.
I Италийский, расквартированный в Лугдунуме и присоединившийся к армии Валента, когда тот проходил этот город. См. I, 59, 64, 74.
(обратно)86.
Постумиева дорога, шедшая от Кремоны до Бедриака и здесь разделявшаяся на две — к Мантуе и к Вероне.
(обратно)87.
О XXI Стремительном см. I, 61 и 67. I Вспомогательный — переименованный Отоном в I Флотский (см. I, 6, 31, 36; II, 11, 23 и прим. 43 к книге I).
(обратно)88.
Та его часть, которая находилась в армии Отона. См. гл. 66 и прим. 28.
(обратно)89.
Префект лагеря (см. гл. 29).
(обратно)90.
Около 12 римских миль, или 17.5 км (ср. прим. 80).
(обратно)91.
По-видимому, в Бедриаке под командованием Анния Галла (Плутарх. Отон, 13) оставалась какая-то часть отонианской армии.
(обратно)92.
Камни, которые ставились на римских дорогах через каждую милю. Вителлианцы, таким образом, остановились в одной миле от отонианского лагеря. См. гл. 39 и прим. 80.
(обратно)93.
Т.е. не сооружая лагеря. Битва началась для вителлианцев неожиданно, и у них не было с собой ни лопат, ни палаток.
(обратно)94.
Мария Цельза и Анния Галла (Плутарх. Отон, 13).
(обратно)95.
Ныне Аквилея, или, по-местному, Аглар, на северном побережье Адриатического моря, в 180 римских милях (266 км) от Бедриака.
(обратно)96.
СР. I, 75, 88.
(обратно)97.
Кратчайший путь из Брикселла в Кремону, где находилась штаб-квартира вителлианцев, шел вверх по Паду, и его, естественно, легче было проделать на судах.
(обратно)98.
Имя Сервий было традиционным в роду Сульпициев, из которого происходил Гальба.
(обратно)99.
В конце концов Кокцейана все-таки погубило родство с Отоном: Домициан казнил его, придравшись к тому, что Кокцейан праздновал день рождения своего дяди (Светоний. Домициан, 10).
(обратно)100.
Как бывший командующий германскими легионами, ныне составлявшими ядро армии Вителлия. См. о нем I, 8 и прим. 54 к книге I.
(обратно)101.
16 апреля 69 г.
(обратно)102.
В Этрурии. Его следует отличать от Ферентина в Лацие.
(обратно)103.
Консуляром назывался сенатор, который однажды уже исполнял обязанности консула.
(обратно)104.
В I, 13.
(обратно)105.
Позорный поступок — убийство Гальбы, благородный— добровольная смерть. Самоубийство Отона произвело глубокое впечатление на современников; Марциал (VI, 32) сравнивал его с концом Катона.
(обратно)106.
На Эмилиевой дороге, между Пармой и Мутиной, к югу от Брикселла. Ныне Реджио.
(обратно)107.
Рубрий Галл командовал (вместе с Петронием Турпиллианом) армией, посланной весной 68 г. Нероном против Гальбы, но, прибыв в Испанию, сразу же перешел на сторону нового императора (Дион Кассий, 63, 27). Позже он служил посредником во время переговоров Цецины с братом Веспасиана Флавием Сабином (см. гл. 99).
(обратно)108.
О капитуляции Вестриция Спуринны Тацит не упоминает.
(обратно)109.
Ныне Модена.
(обратно)110.
Декурионами назывались члены местного сената. Под контролем римского наместника они управляли делами своего города. Число их могло быть различно, но чаще всего равнялось 100.
(обратно)111.
Официальное и торжественное наименование римских сенаторов. Обращаясь к ним таким образом, декурионы рассматривали их как находящийся при исполнении своих обязанностей высший орган государственной власти, тогда как именно этого сенаторы, выжидавшие, пока установится власть нового императора, изо всех сил старались избежать.
(обратно)112.
Тит Клодий Эприй Марцелл — оратор и государственный деятель, доносчик. Выходец из низших социальных слоев, он рано сумел добиться сенаторских должностей. Когда в конце декабря 48 г. Клавдий по проискам Агриппины заставил отказаться от претуры жениха своей дочери Октавии Луция Силана, Марцелл выпросил себе эту должность на оставшиеся считанные дни (Анналы, XII, 4) и, ставши таким образом преторием, получил возможность добиваться управления провинциями и консульства. Наместником он был трижды, в частности, в 57 г. в Памфилии, жители которой обвинили его в вымогательстве. Хотя наместники других провинций, против которых одновременно были возбуждены аналогичные процессы, были осуждены, хотя доказательства вины Эприя Марцелла были не менее убедительны, он сумел не только остаться безнаказанным, но и добиться ссылки своих обвинителей (Анналы, XIII, 33). После первого консульства в 62 г. он выступает как доносчик в ряде процессов об оскорблении величия, в частности против Тразеи Пэта. Несмотря на ненависть, которую он возбудил к себе этим среди сенаторов, и на публичные обвинения, выдвинутые против него Гельвидием Приском (см. IV, 6), он и при смене династий сумел удержаться, добился расположения Веспасиана и в 74 г. стал во второй раз консулом. Лишь в 79 г., когда было обнаружено участие его в заговоре против Веспасиана, его карьере пришел конец, и он должен был покончить с собой. Эприй Марцелл был одним из самых выдающихся ораторов своего времени, отличавшимся темпераментом, находчивостью и остроумием (Диалог об ораторах, 5 и 8).
(обратно)113.
В 40 км к юго-востоку от Мутины, ныне Болонья.
(обратно)114.
Цериалии праздновались с 12 по 19 апреля; цирковые игры устраивались в последний день.
(обратно)115.
Прежде всего — титулы Цезаря и Августа, власть народного трибуна, дававшую право приостанавливать действие любых магистратских постановлений, и империум — высшее командование вооруженными силами. См. прим. 5, 130 и 166 к книге I.
(обратно)116.
См. I, 9. Речь идет о левом береге, правый берег принадлежал германцам.
(обратно)117.
Как явствует из гл. 100 и из III, 22, речь идет о 8000 солдат вспомогательных войск, входивших в состав II Августова, IX Испанского и XX Валериева легионов.
(обратно)118.
См. прим. 68 к книге I.
(обратно)119.
Внешними знаками отличия всадников были узкая пурпурная полоса на тунике и с конца II в. до н.э. золотое кольцо. «Введение вольноотпущенников в число всадников с одновременным признанием их якобы благородного происхождения, в республиканскую эпоху вообще неизвестное, а в лучшие периоды императорского правления встречающееся лишь в виде редкого исключения, происходит в форме пожалования золотых колец; в более поздние времена пожалование колец вольноотпущеннику могло и не сопровождаться переходом его в другое сословие и признанием его благородного происхождения» (Th. Mommsen. Abriss des römischen Staatsrechts. Leipzig, 1893, S. 47).
(обратно)120.
Т.е. Цезарейской Мавритании и Тингитанской. С 42 г. эти провинции были включены в число императорских и управлялись прокураторами.
(обратно)121.
Клувий Руф был пропреторским легатом Тарраконской Испании, но в его обязанность входила также защита границ Бетики, ибо эта провинция, занимавшая юг Пиренейского полуострова, относилась к числу сенатских и войск в ней не было.
(обратно)122.
Юба — было традиционное имя нумидийских царей, оказывавших во II— I вв. до н.э. упорное сопротивление римлянам. Цезарь разгромил их в 44 г. до н.э. и со времен Августа они управляли лишь частью своих бывших владений, превращенных в зависимое от Рима государство. Принятие Альбином имени Юбы означало, что он выступает как наследник царей, боровшихся против Рима, и рассматривает римские провинции как часть Нумидийского царства.
(обратно)123.
Современное название этой реки Сона происходит от позднее распространившегося ее наименования Сауконна, засвидетельствованного уже в IV в. н.э. в «Деяниях» Аммиана Марцеллина (XV, 11).
(обратно)124.
Сын Юния Блеза, бывшего наместником Паннонии при Тиберии и последним из частных лиц, получившим звание императора (Анналы, III, 74). Юний Блез, наместник. Лугдунской Галлии, проходил службу при Тиберии под командованием отца в Паннонии и позже в Африке. О гибели его см. III, 38.
(обратно)125.
Сидение без спинки и подлокотников, с 4 гнутыми, попарно перекрещивающимися ножками, делавшееся в древности из слоновой кости, позже из мрамора. Курульное кресло было одним из знаков достоинства высших магистратов, восседавших на нем во время исполнения служебных обязанностей.
(обратно)126.
См. прим. 166 к книге I. Называя сына таким образом, Вителлий, во-первых, добивался популярности, так как память о Германике еще и в это время вызывала большую любовь и уважение, во-вторых, демонстрировал свою скромность, так как не присвоил ребенку имени Цезаря, полагавшегося ему, в-третьих, льстил провозгласившим его императором германским легионам, так как Германик ими дольше всего командовал и считался как бы «их» героем.
(обратно)127.
Который совершили отонианские войска непосредственно перед Бедриакской битвой и который явился одной из причин их поражения. См. гл. 40 и 41.
(обратно)128.
На ноябрь-декабрь 69 г. См. прим. 198 к книге I.
(обратно)129.
См. I, 90 и прим. 222 к книге I.
(обратно)130.
Кельтское племя, переселившееся на территорию Галлии лишь в I в. до н.э. После разгрома их Цезарем они были поселены в землях племени эдуев, между Лигером (Луарой) и Элавером (Аллье).
(обратно)131.
См. I. 88.
(обратно)132.
О должности префекта города см. прим. 73 к книге I. О Флавии Сабине, старшем брате Веспасиана, см. I, 46 и III, 74, 75.
(обратно)133.
Отонианцев.
(обратно)134.
XVII когорту римских граждан, как явствует из I, 80.
(обратно)135.
Петрония, первая жена Вителлия, была дочерью Публия Петрония Турпилиана, консула-суффекта 19 г. н.э., при Калигуле управлявшего провинцией Азия, в 39—41 гг. — Сирией. Происходя из патрицианского рода Корнелиев и породнившись через жену с древним родом Петрониев, Долабелла стал одним из самых знатных людей государства, что и было причиной подозрительности, с которой к нему относились и Отон, и Вителлий.
(обратно)136.
О Фламиниевой дороге см. прим. 212 к книге I. В Нарнии она разветвлялась, и на Интерамну отсюда шла редко посещавшаяся горная дорога. Интерамна (ныне Терни) — город в Умбрии. Отсюда происходил император III века н.э. Марк Клавдий Тацит, считавший историка своим предком. На этом основании многие исследователи полагали, что Интерамна — место рождения и Корнелия Тацита.
(обратно)137.
Первое, после того как он был провозглашен императором.
(обратно)138.
Вителлий отклонил титул Цезаря (гл. 62). Гиларий, по-видимому, был отпущенником одного из предыдущих императоров, скорее всего Нерона.
(обратно)139.
Подорожные представляли собой документ, предписывавший от имени императора местным властям оказывать всю возможную помощь и в первую очередь предоставлять лошадей курьеру, имевшему такую подорожную. Обычно они подписывались принцепсами (см. гл. 54), но наместники провинций также имели некоторое количество бланков и могли выдавать их за своей подписью.
(обратно)140.
Отпущенный на волю раб получал далеко не все права свободного человека. В частности, римского гражданина нельзя было подвергнуть телесному наказанию, допускавшемуся для отпущенников. Право Вителлия наказать бывшего раба, отпущенного на волю не им (см. прим. 138), основывалось на правиле, согласно которому император считался патроном вольноотпущенников предшествующих принцепсов.
(обратно)141.
Луций Аррунций, пропреторский легат в Тарраконской Испании, которого Тиберий в течение 10 лет задерживал в Риме, чтобы не дать ему встать во главе войск, находившихся в этой провинции (Анналы, VI, 27).
(обратно)142.
Марк Веттий Болан в 62 г. командовал легионом в Армении, в 66 г. был консулом-суффектом, с 69 по 71 г. — наместником Британии, где проявил себя как мягкий и слабовольный, но неподкупно честный человек (Агрикола, 16). Здесь под его началом служил тесть Тацита Юлий Агрикола, в ту пору командир XX легиона, вместе с которым Болан был при Веспасиане введен в число патрициев. В 76 г. — наместник провинции Азия.
(обратно)143.
Т.е. в легионах отонианской армии, потерпевших поражение под Бедриаком.
(обратно)144.
О XIV легионе см. прим. 28. О вражде солдат этого легиона с батавами см. I, 59 и 64. Об участии подразделений XIV легиона в Бедриакской битве см. гл. 32, 43 и прим. 88.
(обратно)145.
Основанная Августом римская колония в Лигурии. Ныне Турин.
(обратно)146.
Грайскими Альпами называлась западная часть Альпийской горной системы, расположенная между 45° 20' и 45° 45' северной широты. Здесь проходила древняя горная дорога, по которой вел свои войска в Италию еще Ганнибал. При спуске с западных склонов Альп, в районе нынешнего г. Монмэлана, дорога эта разветвлялась. Основная магистраль, которой все обычно пользовались, шла отсюда на юго-запад к Виенне, боковая, менее известная дорога, — на северо-запад к Лугдунуму. Вителлий отправил легион по этой последней. Относительно вражды жителей Виенны и солдат XIV легиона см. I, 65, 66.
(обратно)147.
Условия эти заключались в том, что каждый увольнявшийся ветеран получал 20 000 сестерциев (Дион Кассий, 55, 23), т.е. 1660 руб.
(обратно)148.
Одиннадцатый легион постоянно стоял в Далмации, VII Гальбанский был отправлен на зимние квартиры в Паннонию (II, 86).
(обратно)149.
Луций Вергиний Руф. См. о нем прим. 54 к книге I.
(обратно)150.
На том основании, что Вергиний отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты (см. I, 8 и 52; II, 51). Вергиний действительно гордился этим отказом и упомянул о нем в эпитафии, которую сам сочинил для своей могилы:
Здесь покоится Руф; когда прогнали Виндика, Власть он не взял себе: родине отдал ее. (Плиний. Письма, VI, 10. Перевод М.Е. Сергеенко). (обратно)151.
О батавских когортах см. гл. 66 и прим. 144. Роль, сыгранная ими в Германии, описана в IV, 15 и сл.
(обратно)152.
Имеется в виду восстание Цивилиса, описанное в книге IV (гл. 13 и сл.). Ср. прим. 13 к книге I.
(обратно)153.
Вителлия Гальбе.
(обратно)154.
См. прим. 76.
(обратно)155.
Прямой путь из Тицина в Рим шел по Эмилиевой дороге, через Парму и Бононию до Фанум Фортуна на Адриатическом побережье, а оттуда — по Фламиниевой дороге (см. прим. 212 к книге I). В Кремону из Тицина вела ответвлявшаяся от этого прямого пути Постумиева дорога.
(обратно)156.
См. гл. 41 и 42.
(обратно)157.
В честь Вителлия. О восточном происхождении этой церемонии см.: Юстин, 24, 3, 4.
(обратно)158.
Через несколько месяцев Кремона была разгромлена войсками флавианцев. См. III, 32 и 33.
(обратно)159.
Ср.: Светоний. Вителлий, 10.
(обратно)160.
Скорее всего — консул 46 г., затем проконсул Африки, обвиненный провинциалами в вымогательстве, но оправданный, казнен в 67 г, вместе с сыном по доносу Аквилия Регула и по приказу Гелия, вольноотпущенника Нерона (Плиний. Письма, I, 5; Дион Кассий, 63, 18).
(обратно)161.
Если это действительно тот Камерин, о котором упоминают Плиний Младший и Дион Кассий (см. предыдущее примечание), то он происходил из рода Сульпициев и Скрибонианом должен был называться по матери. Из знатных женщин этой эпохи известна одна Скрибония, внучка Гнея Помпея Великого и мать усыновленного Гальбой Пизона Лициниана, которая была замужем за Марком Лицинием Крассом Фруги, консулом 64 г., и через него связана с родом Крассов.
(обратно)162.
Распятием на кресте.
(обратно)163.
См. гл. 7.
(обратно)164.
Префект Египта назначался из числа римских всадников. Он ведал администрацией и финансами этой важнейшей провинции, от которой зависело снабжение Рима хлебом, командовал размещенными в ней 2 легионами, а на некоторых религиозных церемониях выступал как фараон Египта, наследник древних царей этой страны. Он, таким образом, являлся одновременно местным правителем и римским магистратом, объединявшим в одном лице проконсула, пропреторского легата и прокуратора. Неудивительно, что должность префекта Египта рассматривалась как вершина карьеры всадника. Тиберий Александр происходил из известной в Египте еврейской семьи: дядя его был видный философ Филон Иудейский, отец пользовался влиянием при дворе императора Клавдия. Последний пожаловал Тиберию всадническое достоинство и назначил его в 46 г. прокуратором Иудеи. В 63 г. он уже — «один из самых видных всадников» (Анналы, XV, 28) и советник Корбулона во время его походов в Азии, в конце правления Нерона становится наместником Египта, с 70 г. состоит при Тите в Иудее.
(обратно)165.
См. прим. 206 к книге I. Расчеты Веспасиана полностью оправдались, ср. гл. 85.
(обратно)166.
Веспасиан при императоре Клавдии командовал легионом, сначала в Германии, затем (с 43 г.) в Британии, «где участвовал в тридцати боях с неприятелем и покорил два сильных племени, более двадцати городов и смежный с Британией остров Вектис» (ныне — о. Уайт) (Светоний. Веспасиан, 4) В 67—69 гг. командовал войсками в Иудее и покорил всю страну, за исключением Иерусалима и нескольких крепостей.
(обратно)167.
См. прим. 219 к книге I. О «высших военных должностях», которые занимал Волагиний, ничего неизвестно.
(обратно)168.
Муциан имеет в виду сенатское сословие, покорно сносившее власть Юлиев-Клавдиев, но которое теперь, по его мнению, должно выдвинуть своих претендентов на престол. Объединяя словом «мы» Флавия Веспасиана, внука центуриона и сына ростовщика, и аристократа Муциана, потомка Муциев, Лициниев и Крассов, Тацит совершенно точно характеризует состав новой сенатской знати, в среде которой стерлись былые различия между республиканской аристократией и «новыми людьми» и которая составила опору флавианского режима. Это противопоставление Тацитом эпохи Юлиев-Клавдиев, когда сенатская знать «не пыталась бороться» с императорами, и нового периода, когда она сама стала их создавать из своей среды, важно отметить.
(обратно)169.
Гней Домиций Корбулон происходил из древнего плебейского рода Домициев и был братом Цезонии, жены императора Гая Калигулы. Один из крупнейших полководцев I в. н.э., одержал победы над хавками в Германии в 47 г. и над парфянами в Армении (в 58 и 61 гг.), покончил с собой, чтобы предупредить смертный приговор, вынесенный ему Нероном.
(обратно)170.
Веспасиан получил триумфальные отличия за победы, одержанные в Британии в 43 г. См. прим. 166; Светоний. Веспасиан, 4.
(обратно)171.
Тит служил в Германии в качестве военного трибуна под начальством отца. Второй, младший, сын Веспасиана — Домициан.
(обратно)172.
Намек на общеизвестную скупость Веспасиана?
(обратно)173.
По-видимому, тот самый Селевк, который служил еще Отону (см, I, 22 и прим. 96 к книге I). О суеверности римских императоров и роли звездочетов см. прим. 95 к книге I.
(обратно)174.
Гора Кармел — вершина в отрогах Антиливана, изрезанная глубокими мрачными ущельями и в описываемые времена покрытая густым лесом, в глубокой древности — место обитания доисторических людей. Филистимляне чтили Кармела как бога войны.
(обратно)175.
Столицей Иудеи, собственно, был Иерусалим. Цезарея же, римское поселение, изначально носившее имя Туррис Стратонис (П линий Старший. Естественная история, V, 12, 69) и переименованное Иродом Великим в честь Цезаря Августа, была резиденцией римского прокуратора. Римляне обычно объявляли столицей провинции не исторический центр данной страны, а специально созданное ими новое поселение.
(обратно)176.
1 июля 69 г.
(обратно)177.
11 июля 69 г.
(обратно)178.
По греческому, а не римскому обыкновению. Антиохия, основанная Селевком Никатором, была греческим городом.
(обратно)179.
См. прим. 15.
(обратно)180.
Ирод Агриппа, сын последнего иудейского царя (носившего то же имя), после смерти которого в 44 г. н.э. Иудея стала римской провинцией, управлявшейся прокуратором под наблюдением наместника Сирии. В 48 г. получил от императора Клавдия в управление Халкиду в Сирии, а позже — Восточную Иорданию. Веспасиан послал его в Рим тогда же, когда и Тита (ср. гл. 1), чтобы приветствовать Гальбу как нового принцепса.
(обратно)181.
Каппадокия была с 17 г. н.э. римской провинцией под управлением прокуратора, не имевшего своих войск. Лишь Веспасиан поставил во главе ее наместника в ранге пропреторского легата, командовавшего размещенными здесь военными силами.
(обратно)182.
Ныне Бейрут. Приморский город, лежащий на полпути между Антиохией, резиденцией Муциана, и Цезареей, где стоял штаб Веспасиана. Этот древний финикийский город был преобразован Августом в римскую колонию и носил официальное название Юлия Августа Феликс Берита.
(обратно)183.
Т.е. Александрию, запиравшую вход в страну с моря, и Пелузиум, закрывавший подступы к ней с востока.
(обратно)184.
Ныне Стамбул.
(обратно)185.
Ныне Дуррес.
(обратно)186.
Т.е. из Адриатического моря.
(обратно)187.
Брундизий — ныне Бриндизи, Тарент — ныне Таранто. Калабрия — область Италии на побережье Адриатического моря, Лукания — на побережье Тирренского. Другими словами, базируясь на Диррахий, крупный порт на греческом побережье как раз напротив Брундизия, Муциан получил возможность держать под ударом весь юг Аппенинского полуострова.
(обратно)188.
Об алчности и скупости Веспасиана см.: Светоний. Веспасиан, 16 и 23; Дион Кассий, 66, 14.
(обратно)189.
См. прим. 165 к книге II и прим. 206 к книге I.
(обратно)190.
Идя на помощь Отону. Ср. гл. 46 и прим. 95.
(обратно)191.
См. I, 79 и прим. 208 к книге I.
(обратно)192.
Горный хребет, идущий параллельно нижнему течению Дуная, примерно в 100 км южнее его, вплоть до Черного моря. В древности по нему проходила граница между провинциями Фракией и Нижней Мёзией.
(обратно)193.
После сооружения амфитеатров в Кремоне и Бононии (см. гл. 67) XIII легион был отправлен на свои зимние квартиры в Петовион (III, 1). Об отправке в Паннонию VII Гальбанского легиона см. гл. 67.
(обратно)194.
О Тампии Флавиане см. прим. 11 к кн. III. Помпей Сильван был в 45 г. консулом-суффектом (т.е. родился, скорее всего, в первые годы н.э.), позже проконсулом Африки. В 58 г. был замешан в дело о вымогательстве, но оправдан по настоянию Нерона, в 70 г. выполнял ответственные поручения сената (см. IV, 47).
(обратно)195.
«Стремиться к обогащению считается недостойным сенатора» (Тит Ливий, XXI, 63), и хотя в описываемую эпоху никто уже этой заповеди не следовал, она сохраняла значение определенной моральной нормы. Некоторые ограничения существовали и в практической жизни: сенаторам было запрещено вести крупную морскую торговлю и владеть судами, способными вместить более 300 амфор.
(обратно)196.
Хотя прокураторы назначались принцепсом и несли строгую ответственность перед ним, немалая доля собранных ими для императора сумм оставалась, по-видимому, в их руках. Тацит говорит об этом ясно (Анналы, XVI, 17), Светоний — не называя прокураторов прямо, но явно имея их в виду (Веспасиан, 16).
(обратно)197.
См. гл. 66 и 67.
(обратно)198.
Когда Вителлий входил в ближайшее окружение Нерона. Ср. гл. 71.
(обратно)199.
См. гл. 68.
(обратно)200.
Т.е. в 7 римских милях (около 10 км) от города.
(обратно)201.
Мост через Тибр, по которому въезжали в столицу с севера.
(обратно)202.
Полководец, получив назначение, облачался на Капитолии в боевой плащ, носил его в походе, но по возвращении обязан был снять его за пределами города и вступить в Рим в тоге.
(обратно)203.
I Италийский, V Алауда, XXI Стремительный, XXII Изначальный.
(обратно)204.
Т.е. отдельных отрядов, выделенных из состава легионов: I Германского, IV Македонского, XV Изначального, XVI Галльского.
(обратно)205.
Фалерами назывались круглые пластинки из золота или серебра, украшенные резьбой. Их соединяли между собой по нескольку штук и носили как почетный знак отличия на груди или на поясе. Нагрудное украшение, torquis, — почетный знак, представлявший собой витое золотое или серебряное кольцо, свисавшее с шеи на грудь.
(обратно)206.
Все римские императоры, начиная с Августа, занимали в то же время положение верховного жреца, понтифика. Назначение на эту должность производилось сенатом.
(обратно)207.
Кремера — правый приток Тибра; на берегу этой речки в 477 г. до н.э. произошло сражение римского отряда, состоявшего из 300 членов рода Фабиев, с вейентами, в котором все Фабии после героического сопротивления погибли. Аллия — небольшой приток Тибра; здесь, в 11 милях к северу от Рима, в 390 г. до н.э. римляне были наголову разбиты галлами.
(обратно)208.
Комиции, т.е. собрания римских граждан для решения государственных вопросов и избрания магистратов, представляли собой во времена империи чистейший анахронизм. Тем не менее императоры, старавшиеся делать вид, будто они ничего не меняют в существе древних республиканских учреждений, сохраняли комиции до III в. н.э. Август заходил в этом старании так далеко, что, «присутствуя на выборах должностных лиц, он всякий раз обходил трибы со своими кандидатами и просил за них по старинному обычаю» (Светоний. Август, 56). Вителлий в поисках популярности явно подражает Августу.
(обратно)209.
Приск Гельвидий (см. прим. 16 к книге IV) вернулся из ссылки во второй половине 68 г. Упоминание о нем как о кандидате в преторы в июле 69 г. показывает, что кандидаты в преторы назначались в начале года на следующий год (консулы — в начале года на текущий год). Такой же вывод можно сделать на основании «Анналов» (XII, 8).
(обратно)210.
Публий Клодий Тразея Пэт, консул-суффект 56 г., последователь стоической философии, духовный вождь оппозиции Нерону. Покончил с собой по приказу императора в 66 г. Представление о нем как об идеальном римлянине старого склада, непреклонном противнике тирании долго жило среди современников и отразилось на отношении к нему Тацита.
(обратно)211.
В древнейший период римской истории полноправным гражданином считался только член рода, в частности рода патрицианского. Каждый, кто по тем или иным причинам выпал из подобной родовой организации (внебрачные дети, пришельцы, потомки отпущенников), становился «клиентом», т.е. полусвободным, зависимым от «патрона» — главы рода. Патрон помогал клиенту советом, влиянием, деньгами; клиент поддерживал патрона чем только мог. К I в. н.э. клиентелла во многом утратила свой изначальный смысл. Древние знатные семьи были почти полностью истреблены, а клиенты, окружавшие временщиков и нуворишей, превратились просто в прихлебателей. Одна из первых обязанностей клиента в эту пору состояла в том, чтобы приветствовать патрона при утреннем выходе, явившись для этого к нему в дом возможно раньше, нередко до рассвета. Богатый выскочка, окружающий себя толпами клиентов, и нищий клиент, изощряющийся в лести ради обеда или подарка, — постоянные образы в сочинениях Марциала, Петрония, Сенеки.
(обратно)212.
См. I, 77.
(обратно)213.
Закон обязывал отпущенника оказывать материальную помощь своему бывшему господину и его семье, если они впали в бедность. Дигесты, XXV, 3, 6; 3, 9.
(обратно)214.
Речь идет о преторианском лагере.
(обратно)215.
Рим был расположен на холмах, возвышающихся среди заболоченной низины. На овеваемых ветрами, покрытых зеленью холмах, где жила аристократия и богачи, воздух был чище и здоровее, чем в узких долинах, где ютилась беднота, где было душно, сыро и свирепствовала малярия. Одной из самых гиблых среди них был узкий овраг на правом берегу Тибра, между северным склоном Яникула и южным склоном Ватикана.
(обратно)216.
Вителлий распустил преданные Отону преторианские когорты (гл. 67) и теперь набирал вместо 9 прежних 16 новых. Мера эта оказалась недолговечной: Веспасиан снова сократил число когорт до 9. Число когорт городской стражи до Вителлия равнялось 3.
(обратно)217.
7 или 15 сентября.
(обратно)218.
Август разделил Рим на 14 округов и восстановил древнее деление города на «кварталы». Последних при империи было около 300. В них входило несколько улиц, население которых составляло что-то вроде общины со своим старостой, своими сходками и т.д.
(обратно)219.
Коллегия жрецов-августалов была учреждена Тиберием в 14 г. н.э. для проведения церемоний, связанных с культом Августа и рода Юлиев.
(обратно)220.
Татий — древний сабинский царь, одно время соправитель Ромула. Место это, впрочем, допускает другие толкования. См. издание «Истории» Хэреуса (вып. I, Лейпциг, 1877, стр. 233).
(обратно)221.
Вольноотпущенники Нерона. См. прим. 68 к книге I. Об Азиатике см. гл. 57.
(обратно)222.
16 600 000 руб.
(обратно)223.
По-видимому, Эприй Марцелл. Если это так, то данное замечание существенно для характеристики взглядов Тацита: связать установление власти Флавиев с именем Эприя Марцелла — значило дать новой династии вполне определенную, и нелестную, характеристику.
(обратно)224.
См. гл. 85.
(обратно)225.
Британией. См. гл. 65.
(обратно)226.
Из-за отсутствия Клувия Руфа. См. гл. 65.
(обратно)227.
Расположенных в Испании — VI Победоносного, X Сдвоенного и I Вспомогательного.
(обратно)228.
III Августов.
(обратно)229.
Другие источники не подтверждают такой оценки Веспасианова правления в Африке. Ср.: Светоний. Веспасиан, 4.
(обратно)230.
Легат, командовавший III легионом; родственник Вителлия.
(обратно)231.
Паннонские, или Юлиевы, Альпы — идущий в долготном направлении горный хребет, начинающийся у истоков Савы, переходящий на юге в прибрежные горные цепи Югославии и служащий водоразделом между бассейном Адриатики и бассейном Дуная. Эти заросшие густыми лесами труднопроходимые горы перерезали важнейшую военную дорогу, соединявшую Аквилею и Петовион, где находились постоянные квартиры XIII легиона.
(обратно)232.
Северо-западный пассат, дующий в течение 30 дней, начиная с 20 июля.
(обратно)233.
См. гл. 51.
(обратно)234.
Ныне Остилья, на левом берегу По, недалеко от Мантуи.
(обратно)235.
Ныне Падуя.
(обратно)236.
Равеннский флот был создан Августом для защиты северной части Адриатического побережья. О Мизенском флоте см. прим. 23.
(обратно)237.
Плиний Старший, Випстан Мессала, Клувий Руф. Ср. III, 25, 28. См. также прим. 73.
(обратно)238.
Из Патавия (см. предыдущую главу).
(обратно) (обратно)Книга третья. Август-декабрь 69 г.
1.
8000 солдат, набранных из 3 стоявших в Британии легионов. См. прим. 117 к книге II.
(обратно)2.
Кроме понтийского флота, выведенного по приказу Муциана в Бизантий (II, 83), должны были существовать эскадры, базировавшиеся на порты Сирии и Египта; сирийский флот часто упоминается в надписях.
(обратно)3.
Мизенский и Равеннский.
(обратно)4.
Следовательно, переправившись через Иллирийское (Адриатическое) море в Далмацию, вителлианцы могли зайти в тыл окопавшимся в Паннонских Альпах флавианцам.
(обратно)5.
См. II, 67 и II, 86.
(обратно)6.
См. II, 41.
(обратно)7.
По-видимому, намек на наместника Паннонии Тампия Флавиана: видя, что речь его имеет успех (см. следующую главу), Антоний наносит еще один удар по и без того подорванному авторитету (см. гл. 4) своего возможного соперника.
(обратно)8.
В состав военного совета входили наместник провинции, легаты (командиры) легионов, военные трибуны и примипилярии.
(обратно)9.
По-видимому, речь идет о тех письмах Веспасиана к армиям и легатам, которые упоминаются в II, 82.
(обратно)10.
Написание имени колеблется по рукописям: Тампий Флавиан, Тит Ампий Флавиан, Тит Амплий Фабиан. Дважды консул — в 46 (?) и 74 (?) гг., проконсул Африки при Нероне. 26 февраля 69 г. кооптирован в число Арвальских братьев на место Гальбы. Будучи наместником в Паннонии, одержал ряд побед, за которые получил триумфальные отличия.
(обратно)11.
Наместник Мёзии. См. II, 85.
(обратно)12.
См. прим. 17 к книге I.
(обратно)13.
Об этом германском племени см. то же прим. 17 к книге I. Разместив свевов на придунайских землях, Друз Цезарь посадил на их престол Ванния, который за 30 лет правления собрал огромные богатства. Сидон, его племянник, в 49 г. изгнал его и поделил царство со своим братом Вангионом. См. Анналы, XII, 29—30. Италик — скорее всего, сын Вангиона.
(обратно)14.
Реция, подобно Норику, Корсике и Сардинии, Мавритании, Иудее, входила в число малых императорских провинций, управлявшихся прокураторами.
(обратно)15.
Ныне Инн.
(обратно)16.
Аррий Вар после гибели Вителлия недолгое время был префектом претория (IV, 2), но Муциан сместил его и поручил ведать снабжением Рима хлебом (IV, 68). Тот факт, что в связи с гибелью Корбулона, т.е. в 67 г., он был только назначен примипилярием, заставляет отказаться от обычно принятого отождествления его с упоминаемым в «Анналах» (XIII, 9) префектом когорты Аррием Варом.
(обратно)17.
Ныне Одерцо и Альтино.
(обратно)18.
См. II, 100.
(обратно)19.
Ныне Падуя и Эсте.
(обратно)20.
Ныне Леньяно в северо-восточной Италии, по другим предположениям — Феррара.
(обратно)21.
Ныне Виченцо между Падуей и Вероной.
(обратно)22.
Александрия.
(обратно)23.
Эта речка, ныне называемая Тартаро, была соединена каналом с р. По.
(обратно)24.
VII Гальбанский и XIII Сдвоенный.
(обратно)25.
Легат легиона Теттий Юлиан отсутствовал (см. II, 85).
(обратно)26.
Випстан Мессала родился в конце 40-х годов, сын консула 48 г. Луция Випстана Публиколы (?); тот факт, что во время гражданской войны 69 г. он, будучи трибуном, командовал легионом, указывает на выдающиеся таланты: военный трибун — это молодой человек 20—25 лет, только начинающий службу, легат легиона — обычно преторий, т.е. сенатор в возрасте около 40 лет, которому вскоре предстоит консулат. Впоследствии Мессала описал эту войну, и Тацит пользовался его сочинением как источником для «Истории» (III, 25 и 28)
(обратно)27.
VII Гальбанский, VII Клавдиев, XIII Сдвоенный.
(обратно)28.
См. I, 79.
(обратно)29.
Во время солдатских волнений полководец нередко спасал от ярости легионеров того или иного ненавистного им командира, приказывая заковать его в цепи и отвести в тюрьму, дабы скрыть его от глаз солдат и дать страстям улечься. Ср. I, 45 и 58.
(обратно)30.
См. прим. 60 к книге II.
(обратно)31.
На древке боевого значка укреплялся медальон с рельефным изображением Марса, Минервы или Беллоны.
(обратно)32.
Как легионеры VII Гальбанского, см. предыдущую главу.
(обратно)33.
Ликторами назывались служители высших магистратов, несшие перед ними символический знак их власти — фасции, т.е. перевязанный красным ремнем пучок березовых или вязовых прутьев, из которого выступал топор. Легаты, управлявшие императорскими провинциями, рассматривались как носители консульской власти, и поэтому им полагались ликторы.
(обратно)34.
Т.е. Тампия Флавиана и Апония Сатурнина.
(обратно)35.
О Луцилии Бассе см. II, 100.
(обратно)36.
Слово «триерарх» имело в описываемую эпоху не только прямой смысл (см. прим. 24 к кн. II), но и обозначало командира всякого большого корабля в отличие от командира малого корабля, называвшегося «навархом».
(обратно)37.
Ныне Атри, между устьями рр. По и Адидже.
(обратно)38.
На древках боевых значков и вымпелов.
(обратно)39.
Ср. II, 86.
(обратно)40.
Через р. Тартар, в пойме которой находился лагерь Цецины (гл. 9). Армия его, таким образом, отходила на запад и, уничтожив мосты через Тартар, оставляла между собой и наступавшими с северо-востока флавианцами еще одну водную преграду.
(обратно)41.
Т.е. набранные в германских провинциях вспомогательные когорты.
(обратно)42.
Т.е. двенадцатый — по современному счету.
(обратно)43.
Конники Антония проехали в этот день 8 римских миль, т.е. около 13 км (ср. гл. 15).
(обратно)44.
Вскоре после выступления вителлианской армии из Рима Цецина разделил ее и отправил часть легионов в Гостилию (II, 100). Как явствует из гл. 22, то были I Германский, IV Македонский, XV Аполлонов, XVI Галльский, XXII Изначальный. После прибытия в Гостилию взбунтовавшегося против Цецины V Алауда (III, 14) здесь скопилось 6 вителлианских легионов. Под «остальными войсками» имеются в виду отдельные отряды, составленные из солдат, расквартированных в Британии II, IX и XX легионов, также стоявшие в Гостилии.
(обратно)45.
Этот отряд состоял из солдат преторианского корпуса, сражавшегося под Бедриаком на стороне Отона и распущенного Вителлием (II, 67). Ср. также II, 82; IV, 46; Светоний. Вителлий. 10.
(обратно)46.
Цецина был в тюрьме (гл. 14), Валент — еще в дороге (гл. 15).
(обратно)47.
Около 9 часов вечера — по современному счету времени.
(обратно)48.
Солдаты этих 2 легионов только что вернулись в Кремону после дневного сражения (гл. 18) и не успели подготовиться к новому бою.
(обратно)49.
«Центурион первой пилы» — название, в описываемую эпоху устарелое и неупотребительное. Такой центурион назывался в I в. н.э. примипилярием; он отвечал за целость и сохранность легионного орла.
(обратно)50.
Метательные орудия применялись обычно при осаде городов и крепостей. Упоминание их здесь важно для характеристики описываемого сражения как особенно жестокого и кровавого. Орудия эти делились на прямометательные, посылавшие большие стрелы параллельно земле в произвольно выбранную цель (о них идет речь в начале главы), и дугометательные, или баллисты, бросавшие «навесом», т.е. под углом к земле, огромные камни и заостренные бревна, сверху поражавшие противника; точный выбор цели в последнем случае был невозможен. Камни в баллисте выбрасывались особыми канатами, приводившимися в движение силой предварительно туго скрученных и стремившихся раскрутиться тяжей.
(обратно)51.
В состав Паннонской армии входили VII Гальбанский легион и XIII Сдвоенный. Подразделения последнего потерпели поражение под Бедриаком в апреле 69 г.
(обратно)52.
См. II, 85.
(обратно)53.
Марк Антоний (83—31 гг. до н.э.), консул 45 г., триумвир; был одним из доверенных лиц Цезаря и, несмотря на множество проигранных им сражений, считался крупным полководцем, — в 49 г. Цезарь доверил ему командование обороной Италии.
(обратно)54.
В 36 г. до н.э.
(обратно)55.
См. прим. 169 к книге II.
(обратно)56.
См. прим. 45.
(обратно)57.
III легион сражался в Сирии под началом Корбулона (Анналы, XV, 6) и оставался там до начала гражданской войны (I, 10 и прим. 60 к книге I). О дальнейшей его судьбе см. II, 74, 85, 96 и прим. 208 к книге I. Существовавший у парфян обычай в бою приветствовать восходящее солнце свидетельствуется и другими источниками (Геродиан. История царствования после Марка, IV, 15).
(обратно)58.
Войны Отона с полководцами Вителлия в марте-апреле 69 г.
(обратно)59.
Т.е. воротам, обращенным к г. Бриксия, ныне Брешиа.
(обратно)60.
Черепахой называлось боевое построение, при котором солдаты, наклонившись и встав в одну шеренгу вплотную друг к другу под стеной или валом крепости, прикрывали щитами спину и голову; по образованной щитами наклонной крыше (так называемому «панцирю» черепахи) другие солдаты взбегали на оборонительные сооружения противника.
(обратно)61.
Вольноотпущенник Веспасиана. См. гл. 12.
(обратно)62.
См. прим. 73 к книге II.
(обратно)63.
Тога с широкой пурпурной полосой по краю. Ее носили высшие магистраты при исполнении служебных обязанностей.
(обратно)64.
См. II, 67.
(обратно)65.
См. II, 67, 70.
(обратно)66.
Чужеземцы — свевы и сарматы, ср. гл. 5.
(обратно)67.
Мефитис — богиня, защитница от нездоровых испарений земли. Ср. Сервиев комментарий к «Энеиде» Вергилия (VII, 84): «Мефитис, собственно, называется зловоние, испускаемое землей под действием воды, содержащей серу… Но всякое зловоние проистекает от порчи воздуха, подобно тому как хороший запах от чистого воздуха. Поэтому Мефитис — богиня, охраняющая от вреда, приносимого тяжелым воздухом».
(обратно)68.
Кремона была основана одновременно с Плаценцией в начале 218 г. до н.э.
(обратно)69.
В 40-х годах I в. до н.э. Кремона выступала на стороне Брута и Кассия и была жестоко наказана триумвирами.
(обратно)70.
Эта фраза означает, что упоминание о храме Мефитис в конце гл. 33 носит иронический характер (?).
(обратно)71.
Ариция (ныне Риччия) лежала у подножия Альбанских гор в 16 римских милях от Рима по Аппиевой дороге. Здесь находился окруженный священной рощей храм Диане.
(обратно)72.
См. гл. 13 и 14.
(обратно)73.
См. II, 92.
(обратно)74.
См. II, 29.
(обратно)75.
Брат императора.
(обратно)76.
По закону республиканской эпохи, продолжавшему действовать и при империи, в последний день исполнения своих обязанностей магистрат торжественно слагал с себя должность: приносил присягу в том, что за время пребывания у власти «не совершил ничего против законов» (Плиний Младший. Панегирик Траяну, 64).
(обратно)77.
Каниний Ребил был назначен консулом 31 декабря 45 г. до н.э. вместо умершего утром того же дня Квинта Фабия. Это дало повод Цицерону говорить о редкой бдительности Ребила, ибо «он ни разу не заснул за все время своего консульства» (Письма к близким, VII, 30).
(обратно)78.
См. II, 59.
(обратно)79.
По всей вероятности находившихся к югу от города, на берегу Тибра, у дороги, ведшей в Остию (ср.: Светоний. Нерон, 47).
(обратно)80.
Цецина Туск — сын кормилицы Нерона и один из доверенных людей императора. В 55 г. последний назначил было Туска префектом претория, и только из-за вмешательства Сенеки он не смог занять эту важнейшую должность. Позже — префект Египта, сосланный в 67 г. за то, что вымылся в бане, отстроенной к приезду Нерона.
(обратно)81.
Блез, происходивший по отцу из древнего патрицианского рода Юниев, считал в числе своих предков также Октавию Старшую, родную сестру Октавиана Августа, бывшую вторым браком замужем за Марком Антонием, триумвиром.
(обратно)82.
См. прим. 124 к книге II.
(обратно)83.
См. II, 59.
(обратно)84.
См. гл. 12.
(обратно)85.
Валент выступил из Рима несколькими днями позже Цецины (гл. 36). К этому времени Прим Антоний, заняв Верону, Атесте, Патавиум, Альтин, Опитергий и Аквилею (гл. 6—8), закрыл вителлианцам дорогу в Иллирию и Паннонию и обеспечил себе надежную связь с восточными провинциями, откуда ждал подкреплений. Маневр, который предлагали приближенные Валента, и имел своей целью прорваться к северному побережью Адриатики, чтобы отрезать Антония от армий Муциана и Веспасиана.
(обратно)86.
Преторианцев.
(обратно)87.
Ныне Римини.
(обратно)88.
Пицен — область на побережье Адриатики, расположенная южнее Аримина. Фуск, таким образом, обошел запертых в Аримине вителлианцев и продвинулся далеко на юг.
(обратно)89.
Ныне Монако.
(обратно)90.
См. II, 12.
(обратно)91.
Нарбоннской Галлии.
(обратно)92.
Нарбоннская Галлия была сенатской провинцией, и наместник ее не имел своих войск.
(обратно)93.
Основана Юлием Цезарем в 54 г. до н.э. на берегу моря, неподалеку от Массилии (теперешний Марсель). Родина Юлия Агриколы, консула 77 г., покорителя Британии, тестя Тацита. Ныне Фрэжюс.
(обратно)94.
Стойхады — ныне Йерские острова.
(обратно)95.
Это касается в первую очередь XX легиона, см.: Агрикола, 7.
(обратно)96.
Из племени бригантов. Ср.: Анналы, XII, 40.
(обратно)97.
Неясно. Каратак, мятежный вождь британцев, был захвачен в плен в 51 г. (Анналы, XII, 36 и прим. Ниппердея в его издании «Анналов», — Берлин, 1904), Клавдий же праздновал свой британский триумф в 44 г., т.е. семью годами раньше.
(обратно)98.
На территории нынешней Румынии.
(обратно)99.
VI Железный, который нельзя путать с находившимся в это время в Испании (гл. 44) VI Галльским Победоносным.
(обратно)100.
Как явствует из этой и следующей глав, Муциан двигался в Италию через Бизантий, Фракию, Мёзию и Паннонию.
(обратно)101.
Гай Фонтей Агриппа — консул-суффект 58 г., смотритель вод Тибра с 66 по 68 г., в 68 г. — проконсул Азии. Назначенный в 69 г. наместником Мёзии, погиб в битве с сарматами (Иосиф Флавий. Иудейская война, IV, 7, 3).
(обратно)102.
Понтом, в широком смысле слова, называлась восточная часть южного побережья Понта Эвксинского, т.е. нынешнего Черного моря, составлявшая еще в I в. до н.э. сильное самостоятельное государство. Последний царь его, знаменитый Митридат, умер в 63 г. до н.э., после чего Понт был превращен в римскую провинцию Вифинию. Часть понтийских земель, однако, была выделена Марком Антонием и позже Випсанием Агриппой в самостоятельное царство, переданное в 37 г. до н.э. под власть Полемона I в благодарность за услуги, оказанные им Риму, и известное под именем Полемонова Понта. Наследовавший Полемону сын его Полемон II не сумел удержать владения отца, и после его смерти, в 63 г. н.э., его царство было также обращено в римскую провинцию.
(обратно)103.
Основан в 756 г. до н.э.
(обратно)104.
Когорта римских граждан, см. прим. 172 к книге I.
(обратно)105.
См II, 83.
(обратно)106.
От греч. χαμάρα — «крытая повозка», «сводчатая комната».
(обратно)107.
Ныне Хоби, или Хопи. Река в Грузии, стекающая со склонов Мегрельского хребта и впадающая в Черное море севернее устья р. Рион.
(обратно)108.
Западногрузинские цари с этим именем упоминаются около того же времени Помпонием Мелой (О положении мира, I, 19).
(обратно)109.
Об XI легионе см. II, 11 и 67, а также прим. 28 и 148 к книге II.
(обратно)110.
Далматы жили по Адриатическому побережью нынешней Югославии, в его южной части.
(обратно)111.
См. II, 86.
(обратно)112.
См. прим. 43 к книге I.
(обратно)113.
Ныне Фано на Адриатическом побережье Италии, между Римини и Анконой. Здесь начиналась Фламиниева дорога, ведшая через Аппенинский хребет прямо к Риму.
(обратно)114.
В рукописи содержится разъяснение термина, по-видимому являющееся поздней глоссой: «клаварий — название денежного подарка». Само слово «клаварий» означает «деньги на гвозди», т.е. на починку солдатской обуви.
(обратно)115.
Речь идет о сражении между войсками так называемой «народной партии» — сторонников Гая Мария — и солдатами, поддерживавшими аристократическую партию Луция Корнелия Суллы. Битва произошла в 87 г. до н.э. возле Яникульского холма, при входе в Рим. Марианцами командовал консул 87 г. Луций Корнелий Цинна, сулланцами — Гней Помпей Страбон, отец Гнея Помпея Великого.
(обратно)116.
Луций Корнелий Сисенна (119—67 гг. до н.э.), претор 78 г., легат Помпея Великого во время войны с морскими разбойниками. Известен как автор «Истории» в 12 книгах, посвященной главным образом гражданской войне между Марием и Суллой.
(обратно)117.
Паннонские.
(обратно)118.
Намек на Муциана. См. гл. 46.
(обратно)119.
Т.е. префектам преторианцев, ср. II, 92 и III, 36.
(обратно)120.
В данном случае речь не может идти о созданном Нероном I Флотском легионе, так как он находился в Испании (II, 67 и 86); по-видимому, Вителлий набрал еще один легион из солдат морской пехоты, который и имеется в виду здесь и в гл. 67.
(обратно)121.
В их число входили 2 когорты преторианцев, 4 когорты гарнизона и 7 — городской стражи, ср. II, 93.
(обратно)122.
Под комициями здесь следует понимать процедуру утверждения сенатом рекомендованных принцепсом кандидатов в консулы. Комиции как таковые перестали созываться со времен Тиберия.
(обратно)123.
Союзники — иностранные правители, находившиеся к Риму юридически в союзных, фактически в зависимых отношениях. Под «правами федератов» здесь понимаются определенные льготы, которыми по традиции пользовались некоторые города Италии и которые могли быть распространены также на иностранные союзные государства.
(обратно)124.
После Латинской войны 340—338 гг. до н.э. жители городов Лация, не получившие полного римского гражданства, постепенно добились ряда льгот и заняли положение, промежуточное между иностранцами и гражданами Рима, что и образовывало содержание термина jus Latii. В результате Союзнической войны 90 г. до н.э. все латинские города получили полное право римского гражданства, jus Latii утратил всякую связь с Лацием и Италией и превратился в особое правовое состояние, в которое могли возводиться жители отдельных иностранных городов и целых провинций. jus Latii в эпоху ранней империи давало право покупать и продавать землю, скот, рабов, но исключало возможность передачи имущества по завещанию.
(обратно)125.
В Умбрии, в южных отрогах Аппенин, на Фламиниевой дороге. Ныне Беванья.
(обратно)126.
Саранча?
(обратно)127.
См. гл. 57.
(обратно)128.
Город на юге Лация при впадении р. Лирис в море. Ныне не существует
(обратно)129.
Порт в Кампании, между Кумами и Неаполем. Ныне Пуццуола.
(обратно)130.
По всей вероятности, тот самый Клавдий Юлиан, которого упоминает Плиний Старший как руководителя гладиаторских игр при Нероне (Естественная история, 37, 11, 2); должность эту, как правило, занимали всадники.
(обратно)131.
Приморский город на юге Лация; здесь оканчивалась Аппиева дорога. Ныне Террачина.
(обратно)132.
Город в Умбрии на р. Нар, к югу от Мевании, где армия стояла в момент приезда Вителлия (гл. 55). Ныне Нарни.
(обратно)133.
Трибы, в древности бывшие основными территориальными и военно-административными подразделениями римского народа, в императорскую эпоху сохранились только в самом городе Риме, где их было 35. Они собирались лишь для проведения солдатского набора (особенно в городские когорты) и для получения денежных подарков от императоров.
(обратно)134.
Древние народности Средней Италии.
(обратно)135.
Путеолы, жители которых перешли на сторону Веспасиана, находились в Кампании. См. гл. 57 и прим. 129.
(обратно)136.
Был уже декабрь 69 г.
(обратно)137.
Квинт Петилий Цериал Цезий Руф — дважды консул (70 и 74 гг. н.э.), родился в правление Тиберия, в 61 г. был легатом IX легиона в Британии, в 70 г. командовал войсками, подавившими восстание Цивилиса, в 71—74 гг. был наместником Британии. Несмотря на то что он действовал как военачальник исключительно неудачно: командуя легионом в Британии, потерпел поражение (Анналы, XIV, 32), проиграл сражение на подступах к Риму в декабре 69 г. (III, 78, 79); (Дион Кассий. 65, 18, 3), далеко не всегда удачно воевал с Цивилисом (IV, 77—78), — за ним закрепилась репутация крупного полководца. В его уста Тацит вложил одно из самых важных своих рассуждений об отношениях между Римом и союзными народами (IV, 73—74).
(обратно)138.
Старший брат и младший сын Веспасиана.
(обратно)139.
Город в Умбрии на западном склоне Апеннин, в 10 римских милях к северу от Нарнии. Ныне Касильяно.
(обратно)140.
См. прим. 136 к книге II.
(обратно)141.
Расположенный под Нарнией.
(обратно)142.
В Умбрии, неподалеку от Фанум Фортунэ, ныне Урбино.
(обратно)143.
См. гл. 41.
(обратно)144.
В Лации, ныне Ананьи.
(обратно)145.
Театральные представления для избранной публики, устраивавшиеся Нероном в его загородных садах (Анналы, XIV, 15).
(обратно)146.
Ему было в это время не меньше 61 года.
(обратно)147.
«Храм Аполлона на Палатине — самое великолепное из воздвигнутых Августом зданий — находился на площади, которая называлась площадью Аполлона. Храм был выстроен из больших плит белого каррарского мрамора; на крыше стояла колесница Солнца; двери были украшены рельефами из слоновой кости. Храм окружал портик с колоннами из желто-красного нумидийского мрамора, между которыми стояли статуи пятидесяти Данаид, а перед ними — конные статуи их несчастных мужей» (М.Е. Сергеенко. Жизнь древнего Рима. М.-Л., 1964, стр. 15).
(обратно)148.
Тит Катий Силий Италик (около 26 — около 101 гг. н.э.), консул 68 г. При Нероне занимался ремеслом доносчика, состоял в числе близких друзей Вителлия, при Веспасиане был проконсулом Азии. При Домициане (очевидно, в первые годы его правления) Силий Италик, уже отойдя от дел, написал эпическую поэму о Второй Пунической войне («Пуническая война»), прославляющую древнюю доблесть Рима. В последние годы жизни был последователем стоической философии и умер, заморив себя голодом. См.: Плиний Младший. Письма, III, 7.
(обратно)149.
Отец императора Вителлия Луций Вителлий был во второй раз консулом вместе с Клавдием в 43 г., в третий раз, с ним же — в 47 г. О том, что Веспасиан состоял клиентом Луция Вителлия или вообще чем-либо был ему обязан, сведений нет.
(обратно)150.
Мать Вителлия звали Секстилия Августа. О ее нравственных достоинствах см.: II, 64 и 89. Обстоятельства ее смерти не вполне ясны; см.: Светоний. Вителлий, 14.
(обратно)151.
18 декабря 69 г.
(обратно)152.
См. гл. 63.
(обратно)153.
На Форум.
(обратно)154.
Калигулу.
(обратно)155.
7 июня 68 г. Нерон бежал на загородную виллу своего отпущенника Фаона, находившуюся в 4 милях от Рима, где и покончил с собой.
(обратно)156.
Т.е. на Форуме.
(обратно)157.
Консул-суффект на последний нундиниум (ноябрь-декабрь) 69 г. См. прим. 198 к книге I.
(обратно)158.
Имеется в виду храм Согласия, построенный в 368 г. до н.э. диктатором Камиллом, находившийся на склоне Капитолия. Здесь обычно заседал сенат.
(обратно)159.
Расположенном около Форума, ср. гл. 70.
(обратно)160.
Соединявшая Капитолий через Форум с Палатином.
(обратно)161.
Претория, гарнизона и городской стражи.
(обратно)162.
Т.е. когорты претория и гарнизона, сформированные из легионеров и конников германской армии.
(обратно)163.
Для понимания дальнейших глав необходимо знать рельеф Капитолийского холма и расположение на нем важнейших зданий. Возвышавшийся в центре Рима, неподалеку от Тибра, в том месте, где река дальше всего изгибается на восток, Капитолий представлял собой крутой, вытянутый с юга на север двухвершинный холм. Северная вершина (высота 50 м), на которой находилась цитадель, была отделена от южной (высота 47 м), где стоял храм Юпитера, глубокой впадиной (глубина 30 м). На нее поднимался с Форума, т.е. с юго-востока, Капитолийский взвоз, которым заканчивалась Священная дорога (см. прим. 160); с двух сторон его шли лестницы для пешеходов. От взвоза отходили 2 пути, один вел на север к цитадели, другой на юг — к храму Юпитера. Глубже этой развилки, дальше на запад, находился храм бога Мщения, 2 священные рощи, а между ними, в самой седловине, место, называвшееся Убежищем. Южная вершина, на которой заперся Сабин (Тацит называет ее то просто Капитолием, то крепостью, хотя собственно крепость находилась на северной вершине), представляла собой обширную (около 1.5 га) площадь, окруженную стеной с запиравшимися воротами и портиком; на площади стояло несколько храмов и среди них главная святыня Рима — храм Юпитеру Сильнейшему и Величайшему. Южный и западный склоны Капитолия были особенно неприступны и носили название Тарпейской скалы. С юго-запада к Капитолийскому храму вела лестница в 100 ступеней.
(обратно)164.
Позже, при Домициане, была выслана из Рима, по всей вероятности, за дружбу с Аруленом Рустиком. См. прим. 199; Плиний Младший. Письма, III, 11; V, 1.
(обратно)165.
Младшего сына Веспасиана и будущего императора.
(обратно)166.
См. гл. 65.
(обратно)167.
Авентин — самый южный из римских холмов, расположенный поодаль от центра, ближе к большим торговым пристаням на Тибре.
(обратно)168.
Домициан родился 24 октября 51 г., и во время описываемых событий ему едва минуло 18 лет.
(обратно)169.
Храм Сатурну и храм Согласия, стоявшие в начале подъема на Капитолий со стороны Форума, справа от Капитолийского взвоза.
(обратно)170.
Следует помнить, что Тацит называет капитолийской крепостью, или просто Капитолием, не северную вершину, где находилась собственно крепость, а южную.
(обратно)171.
Юпитер Сильнейший и Величайший был олицетворением государственной и военной мощи Рима. В его храме совершалось торжественное жертвоприношение в день вступления магистратов в должность, отсюда магистраты отправлялись в провинции и к войску, военный триумф был как бы частью культа Юпитера Сильнейшего и Величайшего. В народе было распространено представление о том, что римское могущество будет неколебимо, пока стоит Капитолийский храм (ср. IV, 54, а также: Гораций. Оды, III, 30, 8; III, 5, 12; Овидий. Метаморфозы, II, 38).
(обратно)172.
Согласно легенде Порсенна, один из этрусских царей конца VI в. до н.э., осаждал Рим, но пораженный мужеством его защитников отступил от города. Сообщение Тацита о том, что римляне сдались Порсенне, основывается на какой-то другой традиции, до нас не дошедшей. Из нее же, впрочем, исходил Плиний Старший (Естественная история, 34, 14, 39).
(обратно)173.
В 390 или 387 г. до н.э.
(обратно)174.
Ср. прим. 76 к книге II.
(обратно)175.
Правил, согласно традиции, с 615 по 578 г. до н.э.
(обратно)176.
Традиция относит правление Сервия Туллия к 577—534 гг. до н.э., правление последнего римского царя Тарквиния Гордого — к 534—509 гг. Свесса Помеция — город народа вольсков в Лацие.
(обратно)177.
В 507 г. до н.э. Тацит здесь снова отступает от традиции: Полибий, Ливий, Плутарх относят освящение храма к первому консулату Марка Горация Пульвилла, т.е. к 509 г.
(обратно)178.
В 83 г. Цифра 450 вместо 425 — по всей вероятности, ошибка переписчика рукописи.
(обратно)179.
Подлинные слова Суллы (Плиний Старший. Естественная история. VII, 43).
(обратно)180.
Сын Квинта Лутация Катула, победителя кимвров. Один из вождей партии оптиматов в 70-е и 60-е годы I в. до н.э. После освящения храма получил прозвище Капитолин.
(обратно)181.
О Корнелии Марциале см. гл. 70, об Эмилии Пацензе — I, 87, и II, 12.
(обратно)182.
Полотняные плащи носили жрецы египетской богини Изиды и поклонники ее культа, который наряду с культами других восточных богов широко распространился в эту эпоху в Риме.
(обратно)183.
См. прим. 107 к книге I.
(обратно)184.
Впоследствии, сделавшись императором, Домициан чеканил монету с легендой «Юпитеру Хранителю».
(обратно)185.
Храм этот стоял на южной вершине Капитолия поблизости от Ста ступеней.
(обратно)186.
Гемониями называлась лестница, проходившая по восточному склону Капитолия поблизости от государственной тюрьмы Карцер Туллианум. На ступени этой лестницы выбрасывали для всеобщего обозрения трупы казненных.
(обратно)187.
Древнеримская богиня личной свободы (Тит Ливий, 22, 1, 18). Находившийся в 3 римских милях от Таррацины храм, посвященный ей, стоял среди рощи, возле источника (Вергилий. Энеида, VII, 800). О Таррацине см. гл. 57.
(обратно)188.
См. гл. 57.
(обратно)189.
См. гл. 57.
(обратно)190.
Гней Вергилий Капитон был в 47—49 гг. префектом Египта. Как его раб (не отпущенник!) оказался 20 годами позже в Таррацине, неизвестно.
(обратно)191.
См. гл. 58.
(обратно)192.
Городок, расположенный к югу от Нарнии при впадении Нара в Тибр. Ныне Отриколи.
(обратно)193.
Многодневный праздник, начинавшийся 17 декабря.
(обратно)194.
Неясно, о каких «трех» когортах идет речь: преторианская гвардия Вителлия состояла из 16 когорт (II, 93) и 14 из них стояли в Апеннинах (III, 55).
(обратно)195.
См. прим. 170.
(обратно)196.
Соляная, или Саляриева, дорога, ведшая в Рим с северо-востока, была частью древнего пути, по которому сабиняне, жившие в горах Самния, приходили к солончакам в устье Тибра за солью. Соответственно равнина, по которой эта дорога шла к горам сабинян, называлась Сабинским полем. Вителлианцы не рассчитывали на появление флавианцев отсюда, ибо, во-первых, ждали их со стороны Нарнии, т.е. только по Фламиниевой дороге, и, во-вторых, потому, что рядом с Соляной дорогой находился преторианский лагерь, главный узел обороны Рима.
(обратно)197.
Место в Этрурии на правом берегу Тибра, в 6 римских милях от столицы.
(обратно)198.
Городок на Соляной дороге на левом берегу Тибра, в неполной римской миле от въезда в столицу.
(обратно)199.
Юний Арулен Рустик, народный трибун 66 г., претор 69 г., консул-суффект 92 г. (?), философ-стоик. Поддерживал осужденного Нероном вождя стоической оппозиции Тразею Пэта, при Домициане написал сочинение, прославлявшее Пэта, за что и был казнен в 93 г. Тацит, по-видимому, был связан с ним через своего друга Плиния Младшего, близкого к Рустику и его окружению. Казнь Рустика Тацит считал одним из главных преступлений Домициана (Агрикола, 2).
(обратно)200.
Proximus lictor, бывший старшим по положению среди ликторов, шел ближе всего около магистрата.
(обратно)201.
Гай Музоний Руф, уроженец г. Волсиниев в Этрурии, при Нероне приобрел значительную известность как философ и наставник юношества; у него учился, в частности, Дион Хрисостом. В 65 г. был сослан на о. Гиар (см. прим. 25 к книге I), в 66—67 гг. отбывал каторжные работы на Истме. В 69 г. он снова в Риме, но при Веспасиане был вторично выслан и возвращен только Титом. Показательно, что Тацит, неизменно говорящий о философии стоицизма и таких ее представителях, как Тразея Пэт, Гельвидий Приск, Арулен Рустик, Герений Сенецион с глубоким уважением, презрительно отзывается о Музонии именно как о философе-стоике. По-видимому, — и это для Тацита весьма характерно, — он различал стоицизм как умонастроение сенатской оппозиции, особенно во времена Нерона и Домициана, и стоицизм как одно из наводнивших Рим в эту эпоху греческо-восточных философских и религиозных учений, чуждых римским традициям и встречавших осуждение со стороны консервативного общественного мнения.
(обратно)202.
См. гл. 58 и 79.
(обратно)203.
Коллинские ворота находились в восточной части города, неподалеку от преторианского лагеря и Саллюстиевых садов. Из них выходили Соляная и Номентанская дороги, в дальнейшем соединявшиеся в одну.
(обратно)204.
Имеются в виду легионеры, вступившие в Рим по Фламиниевой дороге.
(обратно)205.
Саллюстиевы сады, расположенные в северной части Рима, занимали долину между Холмом Садов и Виминалом, захватывая склоны обеих этих возвышенностей. Парк был создан знаменитым историком Саллюстием в конце 40-х и начале 30-х годов I в. до н.э. В парке находились роскошные бани и дворец, во всю длину его прорезал ручей. С 22 г. н.э. Саллюстиевы сады становятся владением императоров и излюбленным местопребыванием Тиберия, Нерона, Адриана.
(обратно)206.
Марсовым полем называлась низина в излучине Тибра, где при республике происходили выборы магистратов и переписи населения. При империи здесь выросло множество роскошных зданий, оставшееся между ними свободное пространство использовалось для спортивных игр. Из 3 колонн флавианской армии, о которых говорится в данной главе, к Марсову полю вышла та, что наступала берегом Тибра.
(обратно)207.
Лавки находились в нижних этажах «инсул» — многоэтажных доходных домов; «домами» назывались особняки.
(обратно)208.
Т.е. богачи, изнеженные, надушенные и разряженные, как уличные женщины.
(обратно)209.
В 88 и 82 гг. до н.э.
(обратно)210.
В 87 г. до н.э.
(обратно)211.
Преторианцев.
(обратно)212.
Т.е. когорт претория, распущенных Вителлием (II, 67) и позже влившихся в состав флавианской армии (II, 82).
(обратно)213.
По Светонию (Вителлий, 16) — в каморку раба-привратника, по Диону Кассию (65, 20) — в собачью конуру.
(обратно)214.
См. гл. 74 и прим. 186.
(обратно)215.
В Апулии. Ср.: Светоний. Вителлий, 1.
(обратно)216.
См. прим. 61 к книге II.
(обратно)217.
Обычное звание сына или внука правящего императора.
(обратно) (обратно)Книга четвертая. Январь-июль 70 г.
1.
Высокий рост считался отличительной особенностью германцев, из которых в основном состояли вспомогательные когорты армии Вителлия.
(обратно)2.
Город в Лацие, лежавший в 10 римских милях на юго-восток от столицы по Аппиевой дороге.
(обратно)3.
См. III, 12.
(обратно)4.
Капуя сохраняла верность Вителлию (III, 57).
(обратно)5.
Таррацина встала на сторону Веспасиана и была за это жестоко наказана Луцием Вителлием (III, 76, 77)
(обратно)6.
См. III, 77.
(обратно)7.
Как явствует из этого места, Вителлий не только отпустил на волю раба, выдавшего Таррацину вителлианцам, но и даровал ему всадническое достоинство. См. прим. 69 к книге I и прим. 119 к книге II.
(обратно)8.
Восстание Виндекса в Галлии и Гальбы в Тарраконской Испании весной 68 г.
(обратно)9.
Восстание верхнегерманских легионов, провозгласивших Вителлия императором в январе 69 г.
(обратно)10.
Отпадение от Вителлия Тиберия Александра в Египте, Веспасиана в Иудее, Муциана в Сирии (июль 69 г.).
(обратно)11.
Как следует из Светония (Домициан, 3), Домициан занял должность городского претора. Присвоение ему консульских полномочий связано с отсутствием обоих консулов (Веспасиана и Тита) в Риме.
(обратно)12.
Выдвинуть победу в гражданской войне как причину присвоения триумфальных отличий было невозможно: это значило бы, что полководец награждается за уничтожение своих же сограждан. О какой победе над сарматами идет речь, неясно: как явствует из III, 46, Муциан одержал победу над даками.
(обратно)13.
И консульские, и преторские знаки отличия состояли из тоги с широкой пурпурной полосой по краю, так называемой «тоги претексты» и курульного кресла (прим. 127 к кн. II). Внешняя разница между консулом и претором касалась лишь числа ликторов.
(обратно)14.
Сын дважды консула Валерия Азиатика, погибшего в 47 г. по проискам жены императора Клавдия Мессалины (Анналы, XI, 1—3). В 69 г. он был пропреторским легатом провинции Бельгика, одним из первых перешел на сторону Вителлия и вскоре, помолвившись с его дочерью, стал зятем императора. Он был назначен кандидатом в консулы на 70-й год еще при Вителлии но, по-видимому, умер, не успев вступить в должность (Corpus Inscriptionum Latinarum, VI, 1528).
(обратно)15.
В римском сенате при опросе мнений первыми выступали кандидаты в консулы (поэтому все перечисленные выше предложения и были внесены Валерием Азиатиком), затем — консуляры, т.е. сенаторы, однажды уже занимавшие должность консула, за ними — кандидаты в преторы.
(обратно)16.
Ср. II, 91. В дополнение к биографическим сведениям о Гельвидии, содержащимся в этих 2 главах, необходимо сказать следующее. Гельвидий проходил квестуру в Ахайе (схолии к Ювеналу, — V, 36). Вопреки указаниям этого источника, квестура его приходится, по-видимому, на годы правления Клавдия (а не Нерона), так как в 51 г. он уже исполняет обязанности легата при наместнике Сирии и успешно командует легионом (Анналы, XII, 49). Трибунат его относится к 56 г. (Анналы, XIII, 28). Изгнанный из Италии в 66 г. после смерти Тразеи, он живет в Аполлонии (на Крите?), откуда Гальба возвращает его в Рим в 69 г. и назначает претором на следующий, 70-й, год. В январе 69 г. Гельвидий, несмотря на запрещение Отона, устраивает похороны Гальбы (Плутарх, Гальба, 28). Его нападки на Веспасиана привели к новой ссылке, где он и был убит, кажется, против воли императора (Светоний. Веспасиан, 15).
(обратно)17.
В северной части Самния.
(обратно)18.
Т.е. философией; как явствует из следующей фразы, философией стоиков.
(обратно)19.
Квесторами назывались младшие магистраты, ведавшие финансами в провинциях или общественными постройками в Риме. Квесторами становились в 27 (по другим источникам в 30) лет сроком на один год. Квестура была первой в ряду магистратур, которые надлежало пройти сенатору.
(обратно)20.
В 66 г. См.: Анналы, XVI, 33 и сл.
(обратно)21.
Барея Соран, консул-суффект 52 г., проконсул Азии в 61—62 гг. (?). Примыкал к «стоической оппозиции» и погиб одновременно с Тразеей Пэтом в 66 г. Кто такой Сентий — неизвестно.
(обратно)22.
За донос на Тразею Эприй Марцелл получил 5 млн. сестерциев. См. прим. 29 к книге I.
(обратно)23.
Намек на Гельвидия, который был при Нероне изгнан из Рима.
(обратно)24.
Несмотря на то что в Риме при империи сохранялись внешние формы республики, всякое сочувственное упоминание о вождях республиканской партии, боровшихся в 40—30-х годах I в. до н.э. против преемников Юлия Цезаря, а тем более выражение солидарности с ними вызывали со стороны принцепсов осуждение и нередко суровые репрессии. При Тиберии историк Кремуций Корд должен был лишить себя жизни из-за того, что похвалил в одном из сочинений Брута и Кассия; Лукан, создавший в последних песнях «Фарсалии» панегирик Катону, был обвинен в причастности к заговору против Нерона и погиб; при Веспасиане драматическому поэту Куриацию Матерну грозило серьезное наказание за написанную им трагедию о Катоне. В этих условиях сравнение Гельвидия с Катоном и Брутом, на первый взгляд лестное, представляло собой, по сути дела, обвинение в политической неблагонадежности.
(обратно)25.
Марцелл продолжает действовать как доносчик: его «совет» представляет собой в сущности обвинение Гельвидия в оскорблении величия.
(обратно)26.
«Казна», в которой были сосредоточены государственные денежные запасы, была отделена от «фиска», т.е. от денежных запасов, принадлежавших императорской фамилии. Принцепсам тем не менее было жизненно необходимо держать под своим контролем также и казну, дабы исключить всякую возможность использования ее оппозиционными силами. Этим объясняется множество проведенных ими реформ, касавшихся управления казной. В частности, при Нероне ею ведали особые префекты, назначавшиеся императором из числа преториев, после смерти Нерона, как явствует из комментируемого места, эта обязанность перешла к преторам; во времена, когда Тацит писал свою «Историю», вновь была восстановлена должность префектов казны.
(обратно)27.
Публий Эгнаций Целер, родом из Бериты в Финикии, философ-стоик, выступивший при Нероне с обвинениями своего друга Бареи Сорана. Ср. прим. 32 к книге I.
(обратно)28.
Т.е. Гая Кальпурния Пизона, руководившего заговором против Нерона в 65 г.
(обратно)29.
Аппиева дорога, построенная в 318 г. до н.э., соединяла Рим с Капуей.
(обратно)30.
Распятие на кресте.
(обратно)31.
Восстание Цивилиса.
(обратно)32.
См. прим. 137 к книге I.
(обратно)33.
Союз германских племен, занимавший земли на восток от среднего течения Рейна.
(обратно)34.
Перевод этой фразы сделан в соответствии с Лейденской рукописью «Истории».
(обратно)35.
При Друзе, Тиберии и Германике (т.е. 13 г. до н.э. — 16 г. н.э.), в чьих походах батавы участвовали в составе вспомогательных войск.
(обратно)36.
В 61 г. в британском походе Светония Паулина участвовало 8 батавских когорт (Анналы, XIX, 38).
(обратно)37.
Римский легат в Нижней Германии. См. I, 7—8.
(обратно)38.
Карфагенский полководец Ганнибал, знаменитый противник Рима (в 221—202 гг. до н.э.), и Квинт Серторий, руководивший в 82—72 гг. до н.э. восстанием народов Испании против Рима, были оба одноглазы.
(обратно)39.
Префектами в императорских провинциях назывались начальники мелких административных округов.
(обратно)40.
Германское племя каннинефатов (обычная форма этнонима в надписях — каннунефаты) обитало в дельте Рейна и по левому берегу реки, западнее батавов.
(обратно)41.
Вспомогательные когорты XIV легиона. См. II, 66 и 69, прим 149 и 151 к книге II. Могунциак — ныне Майнц.
(обратно)42.
Гай Калигула, дабы возвеличить себя как полководца, инсценировал победоносный поход против германцев и сам себе присудил за него триумф. См.: Светоний. Калигула, 43—47.
(обратно)43.
Германские племена фризов в I в. н.э. занимали побережье Северного моря от устья Рейна до устья Эмса. Сейчас фризы живут в основном на территории Голландии.
(обратно)44.
Как явствует из гл. 17, имеются в виду вспомогательные когорты, состоявшие из галлов.
(обратно)45.
См. прим. 112 к книге I.
(обратно)46.
Племя белгов, занимавшее земли по р. Самбре, между Шельдой и Маасом.
(обратно)47.
Арверны — крупное галльское племя, жившее к северо-западу от Севенн, в пределах современной Оверни, выступавшее в 68 г. на стороне Виндекса.
(обратно)48.
Чтобы легче добиться поддержки галлов, Цивилис говорит о батавах так, словно бы они тоже были галльским племенем.
(обратно)49.
В битве под Бедриаком в апреле 69 г.
(обратно)50.
Сильное риторическое преувеличение: со времени введения Августом податей в галльских провинциях (27 г. до н.э.) прошло 95 лет.
(обратно)51.
Странное употребление слова nuper — «недавно»: разгром римских легионов под командованием Вара германцами относится к 9 г. н.э.
(обратно)52.
V и XV. После ухода в Италию Фабия Валента, командовавшего V легионом, легат XV легиона Муний Луперк остался во главе обоих (ср., впрочем, гл. 22).
(обратно)53.
См. II, 97.
(обратно)54.
В конных отрядах жалованье было выше.
(обратно)55.
См. гл. 14.
(обратно)56.
Т.е. IV и XXII легионы — в Могунциаке, I — в Бонне, XVI — в Новезие, V и XV — в Старых лагерях.
(обратно)57.
Т.е. вспомогательных когорт, состоявших из нервиев и тунгров (см. гл. 15 и 16).
(обратно)58.
Германские племена. Бруктеры жили между Эмсом и Липпе, доходя на севере до Северного моря. Тенктеры жили к югу от бруктеров, на территории, ограниченной Рейном, р. Руром и Сигом.
(обратно)59.
Часть V легиона ушла в Италию с Фабием Валентом.
(обратно)60.
Т.е. фризы, бруктеры и тенктеры.
(обратно)61.
К Старым лагерям, на помощь осажденным.
(обратно)62.
Подагрой (ср. I, 9).
(обратно)63.
См. гл. 24.
(обратно)64.
Ныне Нёйс, возле Дюссельдорфа.
(обратно)65.
I легиона (ср. гл. 19).
(обратно)66.
Германское племя, занимавшее земли по левому берегу Рейна, к югу от территории батавов.
(обратно)67.
В Гельдубе.
(обратно)68.
В наказание за поддержку, которую они оказали легату Мунию Луперку.
(обратно)69.
Племена Бельгийской Галлии, жившие на юг от батавов, менапии — в низовьях Шельды и Мааса, морины — по берегу Па-де-Кале, между Шельдой и Соммой.
(обратно)70.
И поэтому могут не бояться живших у моря батавов.
(обратно)71.
Т.е. за Рейн.
(обратно)72.
В Старых лагерях.
(обратно)73.
Центральная площадь римского военного лагеря носила название претория. Соответственно отходившая от него улица называлась преториевой, а ворота, в которые эта улица упиралась, преториевыми. *
(обратно)74.
Это орудие, устроенное по тому же принципу, что наш колодезный журавль, называлось толленоном (от tollere — «поднимать»). Тацит как обычно избегает специальных технических терминов. Толленон был использован Архимедом во время знаменитой обороны Сиракуз в 212 г. до н.э. (Полибий. Всемирная история VIII, 8).
(обратно)75.
В содержании этого эдикта не приходится сомневаться: он был подписан Цециной после измены его Вителлию и призывал солдат присоединиться к Веспасиану.
(обратно)76.
Тревир по происхождению (III, 35). Впоследствии он открыто присоединился к Цивилису (V, 19).
(обратно)77.
В Новезие.
(обратно)78.
Ср. гл. 13.
(обратно)79.
Ср. прим. 55. Тацит явно характеризует Цивилиса как ловкого дипломата (ср. также гл. 13 и 17).
(обратно)80.
Асцибургий находился между Старыми лагерями и Гельдубой. Сейчас это предположительно Асберг возле Мёрса (на р. Мёрс).
(обратно)81.
Васконы, нынешние баски, жили на северо-востоке Тарраконской Испании и были призваны во вспомогательные римские войска Гальбой как наместником этой провинции.
(обратно)82.
Тацит имеет в виду Цивилиса как главнокомандующего повстанческой армией, — в описываемом сражении он участия не принимал.
(обратно)83.
Т.е. запертые в Старых лагерях V и XV легионы. Как видно из дальнейшего, Вокула выступил им на помощь, но сделал это, по мнению Тацита, слишком поздно.
(обратно)84.
Т.е. что значки и пленные были захвачены полководцами Цивилиса в начале сражения под Гельдубой, в конечном счете окончившегося их поражением (ср. гл. 33).
(обратно)85.
Битва, таким образом, кончилась победой римлян, Цивилис вынужден был снять осаду и отойти, а Вокула со своими солдатами присоединился к стоявшим в Старых лагерях V и XV легионам.
(обратно)86.
Вокула был легатом легиона, в ходе же военных действий против Цивилиса он фактически стал играть роль наместника всей Нижней Германии и был заинтересован в сохранении этого почетного для него положения.
(обратно)87.
Где находилась ставка наместника провинции Гордеония Флакка.
(обратно)88.
Взятые в скобки слова, противоречащие дальнейшему рассказу, принято считать заметкой, сделанной переписчиком на полях рукописи и не входящей в тацитовский текст.
(обратно)89.
Стоявшая в Новезие.
(обратно)90.
Т.е. из IV и XXII легионов.
(обратно)91.
Узипы, или узипеты, жили западнее хаттов, на правом берегу Рейна; маттиаки, составлявшие часть племенного союза хаттов, занимали территорию, ограниченную Рейном, Майном и Ланом, в районе современного г. Висбадена.
(обратно)92.
См. гл. 55, 69 и сл.
(обратно)93.
Впервые он был консулом (суффектом) в 51 г.
(обратно)94.
Луций Кальпурний Пизон, консул 57 г.
(обратно)95.
Секст Юлий Фронтин (40—103 гг. н.э.). После претуры командовал легионом в Нижней Германии, консул-суффект 74 г., в 76—78 гг. — наместник Британии. При Домициане старался держаться в тени, официальных должностей не занимал (если не считать проконсульства в Азии), покровительствовал искусству (в частности, поэту Марциалу) и сам занимался литературным трудом, был близок к кружку Плиния Младшего. В меру родовитый, культурный, талантливый полководец и опытный администратор, не скомпрометированный при Домициане, Фронтин был идеальным представителем тех кругов, на которые стремились опереться первые Антонины. С 97 г. он — смотритель римских водопроводов, член сенатской комиссии по проверке государственных расходов, в 98 г. — консул во второй раз и в 100 г. — в третий (оба раза как коллега Траяна). Из многочисленных сочинений Фронтина до нас дошли «Стратагемы» и «О римских водопроводах».
(обратно)96.
См. II, 4 и прим. 15 к книге II.
(обратно)97.
См. II, 85.
(обратно)98.
Вольноотпущенник Веспасиана. См. о нем III, 12. Ср. также прим. 68 и 69 к книге I, прим. 119 к книге II.
(обратно)99.
См. I, 14—15 и прим. 74 к книге I
(обратно)100.
Имеются в виду офицерские должности военного трибуна и префекта конницы.
(обратно)101.
По-видимому, тот самый сенатор Курций Монтан, который упоминается в «Анналах» (XVI, 28, 29, 33) и у Ювенала (IV, 107). Ср. прим. 113.
(обратно)102.
См. гл. 10.
(обратно)103.
Деметрий входил в ближайшее окружение стоиков — философа Сенеки и Тразеи Пэта. Известен своим независимым поведением по отношению к Калигуле, от которого он отказался принять подарок в 200 000 сестерциев, и Веспасиану. Неоднократно ссылался и изгонялся из Рима. Все, что нам известно о Деметрии, заставляет критически отнестись к утверждению Тацита о том, что он, «руководствуясь одним лишь тщеславием, взялся защищать заведомого преступника». Ср. прим. 201 к книге III.
(обратно)104.
Брат Арулена Рустика (см. прим. 199 к книге III), сосланный Домицианом и возвращенный Нервой.
(обратно)105.
В других источниках этот сенатор не упоминается.
(обратно)106.
В других источниках этот сенатор не упоминается.
(обратно)107.
Братья Руф и Прокул Скрибонии, занимавшие должности наместников, соответственно Верхней и Нижней Германии, были вызваны в 66 г. в Ахайю, где получили от Нерона, стремившегося захватить их богатства, приказ о самоубийстве (Дион Кассий. 63, 17).
(обратно)108.
Т.е. 25 лет.
(обратно)109.
Марк Аквилий Регул (около 43 г. — около 102 г. н.э.) — судебный оратор и доносчик. В 67 г., еще даже не достигнув сенаторского возраста, он погубил своими доносами нескольких выдающихся сенаторов из старой аристократии, за что получил от Нерона жреческую должность и крупные денежные вознаграждения. В 70 г. он уже был членом сената и квесторием. При Флавиях продолжал свою деятельность доносчика, хоть и не столь явно, и много выступал в качестве судебного оратора, прославившись своими сжатыми, энергичными речами. В последние, самые мрачные, годы правления Домициана Регул снова выдвинулся: он сыграл определенную роль в гибели Арулена Рустика, а после его казни опубликовал памфлет против Рустика и другого члена «стоической оппозиции» — Геренния Сенециона. Он сумел уцелеть при смене династий и еще при Траяне занимался вымогательством завещаний в свою пользу.
(обратно)110.
Марка Лициния Красса Фруги.
(обратно)111.
Корнелий (Сципион) Сальвидиен Орфит — консул 51 г.
(обратно)112.
См. прим 29 к книге I.
(обратно)113.
У Курция Монтана были свои счеты с доносчиками: в 66 г. Эприй Марцелл обвинил его в сочинении эпиграмм против Нерона, которых он, скорее всего, не писал (Анналы, XVI, 29). Только благоволение Нерона к его отцу спасло Монтана от казни, но ему было запрещено занимать государственные должности, что для римского сенатора было равносильно гражданской смерти.
(обратно)114.
У Регула, погубившего Марка Лициния Красса Фруги, были все основания опасаться мести со стороны Пизона Лициниана — брата Красса.
(обратно)115.
Намек на Эприя Марцелла? Ср. гл. 8.
(обратно)116.
Красс и Орфит были консулярами.
(обратно)117.
Т.е. пример, который мы оставим потомству, наказав Регула, будет оказывать свое действие и после смерти Веспасиана.
(обратно)118.
Хорошо согласуется с характеристикой Криспа у Ювенала (IV, 82) и Квинтилиана (V, 13, 48; X, 1, 119; XII, 10, 11).
(обратно)119.
Октавий Сагитта — народный трибун 58 г.; Антистий Созиан — народный трибун 56 г., претор 62 г., в этом же году сослан по обвинению в оскорблении величия; в 66 г. сумел из ссылки донести на Публия Антея и Остория Скапулу, за что Нерон вернул его.
(обратно)120.
Ныне Сиена.
(обратно)121.
См. II, 67.
(обратно)122.
См. II, 67 и 82.
(обратно)123.
См. гл. 2.
(обратно)124.
Марк Помпей Сильван — дважды консул (в 45 и 74 гг.), проконсул Африки. Дело о вымогательстве, возбужденное против него провинциалами после окончания его проконсульства в 58 г., завершилось его оправданием. В 69—70 гг. — наместник Далмации. Член коллегии квиндецимвиров.
(обратно)125.
Провинции Африка.
(обратно)126.
Марк Юний Силан, консул 19 г. н.э., был проконсулом Африки, вероятнее всего между 32—38 гг.
(обратно)127.
Африка была сенатской провинцией, и проконсулы в ней сменялись каждый год, легаты же назначались императором и могли оставаться в должности неопределенно долго.
(обратно)128.
Императоры пользовались любой возможностью для физического уничтожения представителей старой сенатской аристократии. Ср., например, судьбу Долабеллы (II, 63, 64 и прим. 217 к книге I) или Юния Блеза (III, 38 и сл.).
(обратно)129.
См. гл. 11.
(обратно)130.
См. I, 7 и прим. 46 к книге I.
(обратно)131.
См. прим. 31 к книге I.
(обратно)132.
Приморский город в 80 римских милях к югу от Карфагена, его имя сохранилось в современном названии залива Хаммамет.
(обратно)133.
Эя — ныне Триполи, Лепта — город, находившийся неподалеку о г современного г. Сус в Тунисе.
(обратно)134.
Гараманты — народность в Северной Африке, занимались земледелием, жили в пределах нынешнего Феццана.
(обратно)135.
Парфия — рабовладельческое государство, представлявшее собой непрочное объединение разнородных земледельческих и скотоводческих племен и занимавшее в описываемую Тацитом эпоху территорию от Каспийского моря до Персидского залива и от Евфрата до гор по правому берегу Инда, было в I в. н.э. главным противником римлян на востоке. Царь парфян Вологез вел с Нероном длительные войны из-за Армении.
(обратно)136.
Отвечая парфянскому царю, Веспасиан говорит о Риме как о республике, управляемой сенатом и лишь на время войны предоставляющей особые полномочия императору — главнокомандующему. Положение было действительно таким в республиканские времена, но для I в. н.э. оно являлось не более как консервативной юридической фикцией. Читая Тацита, важно все время помнить об этом несоответствии реального характера Римского государства и его юридической формы. Ср. прим. 109 к книге I.
(обратно)137.
Крупное восстание иудеев против римлян, на подавление которого Нероном был послан Веспасиан, началось в 66 г.
(обратно)138.
Луций Юлий Вестин — галльского происхождения, при Клавдии — прокуратор и позже — префект Египта.
(обратно)139.
Слово «созванные» — contracti — показывает, по-видимому, что Вестин не стал обращаться к коллегии гаруспиков в Риме, а собрал тех, что жили по городам Этрурии. Так поступали римляне в древнейшие времена своей истории (Анналы, XI, 15), и это должно было придать церемонии еще более торжественный характер.
(обратно)140.
Под Остией, в низовьях Тибра.
(обратно)141.
11 июля 70 г.
(обратно)142.
Т.е. Victor — «победитель», Valerius — «здоровый», и т.д. Этот обычай играл у римлян большую роль: при переписи населения, при наборе в армию первым всегда вызывали носителя «счастливого имени». Ср.: Цицерон. О ведовстве, I, 102 и Плиний Старший. Естественная история, 28, 2, 22.
(обратно)143.
Дуба, лавра и мирта.
(обратно)144.
Тит Плавтий Сильван Элиан — один из крупнейших государственных деятелей середины I в. н.э., дважды консул (в 45 и 74 гг.). Вступил на служебное поприще еще при Тиберии, у которого был квестором, после чего командовал легионом в Германии; в 42 г. — претор, в 43—44 гг. — участник похода Клавдия в Британию и первый римский наместник этой провинции. В начале правления Нерона был проконсулом Азии. Славу свою Элиан завоевал главным образом как наместник Мёзии удачными походами против сарматов и разумными мерами по устройству местных племен, за что и получил несколькими годами позже триумфальные отличия. В 70 г. — понтифик. В 70—73 гг. — наместник в Испании, с 73 г. — префект города Рима. Умер до 79 г.
(обратно)145.
Так называемая «своветаврилия» — искупительная и очистительная жертва богу Марсу; перед закланием свинью, овцу и быка трижды обводили вокруг участка, на котором предстояло возвести здание.
(обратно)146.
На сооруженном из дерна алтаре.
(обратно)147.
Камень, который предстояло положить в основание храма.
(обратно)148.
Продолжение прерванного на гл. 37 рассказа о восстании Цивилиса.
(обратно)149.
См. III, 46. Слухи о вторжении в Паннонию не имели оснований.
(обратно)150.
Кельтские жрецы. Единство культа, поддерживавшееся друидами на всей территории кельтских племен, тесные связи, их объединявшие, и духовное влияние, которое они оказывали на массы, играли важную роль в сплочении кельтов в единый народ и способствовали их сопротивлению римлянам. Поэтому Клавдий, воспользовавшись тем, что друидическая религия допускала человеческие жертвоприношения, запретил деятельность друидов и подверг их жестоким преследованиям. Отношение Тацита к друидизму характерно и напоминает его отношение к иудейской религии (ср. V, 2 и сл.), во многом игравшей ту же политическую роль.
(обратно)151.
В 390 г. до н.э.
(обратно)152.
Юлий Классик командовал вспомогательными отрядами тревирской конницы в составе римской армии и проделал под началом Валента поход против Отона (II, 14).
(обратно)153.
Т.е. поручил ему оборонять от германцев берег Рейна между Навой и Мозеллой.
(обратно)154.
См. гл. 18.
(обратно)155.
Бетазии жили между тунграми и нервиями в пределах современного Брабанта, марсаки — одно из племен, живших в устье Шельды и Мааса, соседи каннинефатов.
(обратно)156.
Восстание галлов против римлян под руководством Сакровира было подавлено в 21 г. н.э.
(обратно)157.
См. I, 8; I, 59 и примечания.
(обратно)158.
Где находились постоянные лагеря XVI легиона.
(обратно)159.
См. гл. 33 и 34.
(обратно)160.
Точнее — 823 года. См. прим. 2 к книге I.
(обратно)161.
В образе Квирина римляне обожествляли легендарного основателя своего города Ромула.
(обратно)162.
Т.е. к запертым в Старых лагерях солдатам V и XV легионов.
(обратно)163.
Холм, на котором стояли Старые лагеря, — песчаный; ни камней, ни скал там нет. Замечание о «траве, пробивающейся между камней», заставляет, по-видимому, предположить, что Тацит сам Старых лагерей не видел. Если так, то приходится отбросить высказывавшееся в литературе мнение о том, что Тацит после претуры в 88 г. командовал легионом в Нижней Германии.
(обратно)164.
Существовавший у батавов обычай красить волосы в рыжий цвет отмечается также Марциалом (VIII, 33, 20). О сходном обычае у галлов говорит Плиний Старший (Естественная история, XII, 28, 191).
(обратно)165.
Скорее всего, XV.
(обратно)166.
Несколько позже, при Веспасиане, Веледа была захвачена римлянами и доставлена в Рим (Стаций. Сады, I, 4, 90; Германия, 8).
(обратно)167.
Виндонисса (ныне Баден в Северной Швейцарии) находилась не в Нижней, а в Верхней Германии. Здесь были расположены зимние лагеря XXI легиона.
(обратно)168.
Другое название — Augusta Treverorum, ныне Трир. Эта колония, основанная в начале 50-х годов I в., приобрела в эпоху поздней античности выдающееся значение и в IV в. была столицей римских императоров (Аммиан Марцеллин. Деяния, XV, 2, 9).
(обратно)169.
I Германский.
(обратно)170.
Т.е. содержался в доме декуриона.
(обратно)171.
Убии, издавна романизованные, были богаче и культурнее остальных германских племен, что вызывало ненависть последних. Ср. гл. 28.
(обратно)172.
Тацит называет латинским именем Марса германского бога Тиу.
(обратно)173.
Вход германцам в римские колонии на Рейне разрешался лишь после уплаты подушной подати и без оружия; в городе они находились под наблюдением стражников.
(обратно)174.
У германцев в отличие от римлян этой поры сохранилась общинная собственность на землю.
(обратно)175.
Сунуки жили к западу от убиев, по р. Маас.
(обратно)176.
См. гл. 18 и 56.
(обратно)177.
Там, где сейчас стоит г. Маастрихт, в Голландии.
(обратно)178.
См. гл. 55.
(обратно)179.
Галльское племя, жившее между рр. Соной и Юрой.
(обратно)180.
Рассказ об этих событиях содержался, по-видимому, в несохранившихся книгах «Истории». Юлий Сабин был схвачен лишь в последний год правления Веспасиана и казнен в Риме в 79 г.
(обратно)181.
Ремии жили между рр. Марной и Эной, в области нынешнего г. Реймса.
(обратно)182.
См. гл. 2.
(обратно)183.
Мысль Тацита состоит в следующем: Домициан, находившийся в дружбе с Варом, мог быть оскорблен смещением последнего с поста префекта претория; чтобы избежать этого и, наоборот, представить смену префектов как услугу Домициану, Муциан назначил на место Вара Марка Аррецина Клемента, также друга Домициана и к тому же родственника Флавиев через его сестру Аррецину Тертуллию, бывшую первой женой Тита. Должность префекта претория всегда занимали всадники, и назначение на этот пост сенатора было редчайшим исключением (единственный прецедент — назначение Тиберием Сеяна).
(обратно)184.
Перевод в соответствии с конъектурой Моммзена (Hermes, XIX, 1884, S. 440). Тацит называет эти легионы победоносными, так как они во время войны с Вителлием входили в состав флавианской армии.
(обратно)185.
II Вспомогательный легион был сформирован из выступивших против Вителлия моряков Равеннского флота. (См. II, 100 и III, 6).
(обратно)186.
Ср. III, 5.
(обратно)187.
Конные отряды в римской армии формировались по племенам и народностям, поставлявшим в них бойцов. Из этих отрядов индивидуально, за личные заслуги, отбирались особо отличившиеся солдаты, которые и составляли своего рода «конную гвардию» — многонациональный отряд сингуляриев (т.е. набранных по одному).
(обратно)188.
Ср. II, 22.
(обратно)189.
Вангионы жили в округе теперешнего г. Вормса, трибоки — в Эльзасе; племя церакатов в других источниках не упоминается; если принять мнение, согласно которому в этом этнониме надо видеть искаженное наименование племени сараватов, то местом их обитания должна была быть долина р. Саар.
(обратно)190.
Эти солдаты входили прежде в состав гарнизона Могунциака. Ср. гл. 59.
(обратно)191.
Ныне г. Бинген на Рейне, неподалеку от Майнца.
(обратно)192.
I и XVI. Ср. гл. 62.
(обратно)193.
Медиоматрики жили по верхнему течению Мозели, в районе нынешнего г. Меца.
(обратно)194.
См. гл. 59.
(обратно)195.
I и XVI.
(обратно)196.
Остатки IV и XXII легионов.
(обратно)197.
Ныне Риоль, неподалеку от Трира.
(обратно)198.
Т.е. лингонов и тревиров.
(обратно)199.
См. прим. 168.
(обратно)200.
Речь идет о событиях 50-х годов I в. до н.э., изложенных в «Записках о галльской войне» Цезаря.
(обратно)201.
Войны с германцами, которые вели Друз, Тиберий и Германик в 14 г. до н.э. — 16 г. н.э.
(обратно)202.
Ариовист — вождь германцев, призванный в 72 г. до н.э. галльским племенем арвернов, чтобы помочь им против эдуев, утвердился в Галлии, перевел из-за Рейна огромную армию и стал взимать дань с галльских племен. Он был разбит и изгнан из Галлии лишь Цезарем в 58 г. до н.э.
(обратно)203.
Согласно римским литературным традициям, входящие в историческое сочинение речи могли иметь мало, а подчас и ничего общего с реальными выступлениями государственных деятелей, о которых в данном случае идет рассказ. «Вставленные в повествование речи, — писал о Таците академик Жебелев, — свободная композиция самого историка: ими он пользуется для того, чтобы высказать в них свои личные мнения и соображения» (Римская империя. Пгр., 1923, стр. 24). Речь Цериала и является наиболее концентрированным и прямым выражением взглядов Тацита на характер и историческую роль Римского государства. Исходным положением является противопоставление галлов, издавна покоренных Римом, германцам, сохранившим свою независимость. Свобода от римского владычества, которую Цивилис и германцы выдвигали как основную цель войны, неотделима для Цериала (т.е. для Тацита) от «страсти к грабежам, алчности и любви к скитаниям»; свобода, другими словами, есть форма дикости, форма доцивилизованного и догосударственного состояния, «война всех со всеми». Связав свою судьбу с Римом, галлы становятся на противоположный путь — на путь цивилизации и мира, достижение которых, однако, возможно лишь в рамках государства, в частности наиболее развитого государства древности, Римского, и тем самым неизбежно связано с утратой «дикой воли». Воплощением Римского государства являются императоры; они могут быть хороши или дурны, но только благодаря находящейся в их руках военной силе в бескрайней империи царят хотя бы относительный мир и порядок. Альтернативой цивилизации, основанной на подчинении целому и ограничении частных интересов, является лишь «дикая свобода» и хаос постоянных междоусобных войн. Отсюда — сочетание у Тацита трезвой оценки принцепсов, в которых он в большинстве видит кровожадных тиранов, ясного представления о завоевательных войнах Рима как войнах грабительских и отрицательного отношения к антиправительственной деятельности в Риме и сепаратизму в провинциях. Этот взгляд характерен для Тацита не только в «Истории», но и в других сочинениях и образует одну из основ его мировоззрения.
(обратно)204.
Т.е. Валентина (ср. гл. 69).
(обратно)205.
Колония находилась на правом берегу р. Мозели, лагерь — на левом, дабы прикрывать город с севера, откуда шли войска Цивилиса. Горы здесь вплотную подходили к лагерю, и, двигаясь отчасти по ним, отчасти вверх по течению реки, белги вторглись в лагерь, разгромили его и, продолжая наступление, заняли мост, ведущий в город. В таком положении и застал сражающихся Цериал.
(обратно)206.
Солдаты XVI легиона, о которых здесь идет речь, считали изменниками и Гордеония Флакка (гл. 36), и Диллия Вокулу (гл. 59).
(обратно)207.
См. гл. 59 и 70.
(обратно)208.
Германское племя хавков занимало земли к западу от фризов (см. прим. 43), между нижним течением Эмса и низовьями Везера.
(обратно)209.
Тольбиак (ныне Цюльпих) — поселение в земле убиев, в 12 римских милях (около 17 км) к юго-западу от Агриппиновой колонии.
(обратно)210.
См. гл. 68.
(обратно)211.
По-видимому, Германика (II, 59).
(обратно)212.
См. II, 86.
(обратно)213.
См. III, 13 и сл.
(обратно)214.
Ровные и постоянные ветры, благоприятствующие плаванию из Египта в Рим, устанавливаются 27 мая. Веспасиан, таким образом, провел в Египте конец зимы и весну 70 г.
(обратно)215.
Т.е. Сераписа. Культ этого синкретического божества, соединявшего в себе черты египетского бога плодородия Озириса и греческого бога подземного царства Аида (отчасти и Зевса), был создан в IV в. до н.э. и благодаря своему интернациональному характеру получил весьма широкое распространение. Императоры из династий Флавиев и Антонинов официально покровительствовали ему. Некоторые элементы культа Сераписа, прежде всего аскетизм, были восприняты христианством.
(обратно)216.
Имя Басилид происходит от греч. «басилевс» — царь. Ср. II, 78, где императорскую власть предсказывает Веспасиану жрец также по имени Басилид. Такое совпадение могло бы указывать на фольклорный характер этого мотива.
(обратно)217.
Сераписа.
(обратно)218.
Птолемей I Сотер (366—283 гг. до н.э.) — полководец Александра Македонского, получивший после смерти последнего в правление Египет и стремившийся создать здесь синкретическую греко-египетскую культуру и цивилизацию. С этой точки зрения весьма показательна приводимая Тацитом легенда, в которой Птолемей выступает как создатель синкретического культа Сераписа.
(обратно)219.
Александрия была основана в 331 г. до н.э.
(обратно)220.
См. прим. 102 к книге III.
(обратно)221.
Аттический жреческий род, из которого, в частности, выходили жрецы Элевсинской Деметры.
(обратно)222.
Синопа — город на черноморском побережье Турции, старейшая греческая колония, основанная жителями г. Милета в 751 г. до н.э., впоследствии столица Понта.
(обратно)223.
Под именем Дита Юпитер почитался как бог подземного царства.
(обратно)224.
Прозерпина — римское имя Персефоны, богини плодородия и одновременно подземного царства. В качестве последней она была женой Аида, ассоциировавшегося у римлян с Дитом.
(обратно)225.
Греко-римский религиозный синкретизм привел к слиянию и переосмыслению многих мифов, в результате которого понять отношения в пределах греко-римского пантеона не всегда легко. Персефона-Прозерпина, о которой идет речь в данной главе, — жена Аида и тем самым Юпитера (Дита), но в то же время она дочь Зевса (т.е. Юпитера) от Деметры и потому сестра Аполлона, сына Зевса от Леты.
(обратно)226.
Примыкающий к верфям район Александрии.
(обратно)227.
Селевкия Пиэрийская — приморский город и крепость в Сирии в 3 милях от Антиохии.
(обратно)228.
Птолемей III Эвергет — царь Египта, правивший с 247 по 221 г.
(обратно)229.
О захвате его в плен см. гл 71.
(обратно)230.
Характерно для отношения Тацита к Домициану, что он не повторяет содержащегося у Иосифа Флавия (Иудейская война. VII, 4, 2) и Силия Италика (Пунические войны, III, 607) сообщения, согласно которому якобы батавы сдались на милость победителя, едва только Домициан вступил в Нарбоннскую провинцию.
(обратно) (обратно)Книга пятая. Январь-сентябрь 70 г.
1.
70 г. н.э.
(обратно)2.
Тит служил военным трибуном в Германии и Британии, а после квестуры командовал легионом в Иудее.
(обратно)3.
XV Аполлонов, X Сокрушительный и V Македонский, который не следует смешивать с V Алауда, стоявшим в Нижней Германии и игравшим важную роль в восстании Цивилиса.
(обратно)4.
См. прим. 15 к книге II.
(обратно)5.
Следующий дальше рассказ о происхождении евреев и г. Иерусалима основан на сочинениях Хэремона и Лисимаха (ср.: Иосиф Флавий. О древностях иудейского народа, I, 32 и 34) и научной ценности не имеет.
(обратно)6.
Сатурн римлян отождествлялся с Кроном греков, пожиравшим своих детей и свергнутым единственным спасшимся из них — Зевсом (Юпитером). Распространенное в древности представление о том, что евреи — народ Сатурна, могло иметь несколько оснований: евреи поражали всех своим обыкновением не работать по субботам, суббота же у греков считалась днем, посвященным Крону (Сатурну); евреи были известны своим чадолюбием и заботами об увеличении потомства, а от планеты Сатурн, по взглядам астрологов, зависела способность к деторождению. (С этим, между прочим, связано представление о Сатурне как о «самой высокой и самой могучей» из планет, — см. ниже, гл. 4); на Крите Крон ассоциировался с Передней Азией и отождествлялся с Молохом финикийцев, непосредственных соседей евреев.
(обратно)7.
Илиада, VI, 184; Одиссея, V, 282.
(обратно)8.
Явные противоречия, содержащиеся в излагаемых Тацитом наставлениях Моисея, неоднократно отмечались комментаторами.
(обратно)9.
Поклонение изображениям осла приписывалось также ранним христианам. Ср.: Тертуллиан. Апология, 16.
(обратно)10.
Баран был священным животным древнеегипетского бога Аммона.
(обратно)11.
«В Египте вместо божества почитают быка, которого называют Аписом» (Плиний Старший. Естественная история, VIII, 46, 184).
(обратно)12.
Скорее всего, имеется в виду закон, принятый в 622 г. до н.э. царем Иосией, согласно которому срок долгового рабства у евреев ограничивался 6 годами и каждый седьмой год рабы этой категории отпускались на волю.
(обратно)13.
См. прим. 6.
(обратно)14.
У римлян убивать и выбрасывать младенцев, родившихся после смерти отца, уродов, вообще почему-либо неугодных родителям, не считалось преступлением. Ср.: Светоний. Калигула, 5; Сенека. О гневе, I, 15, 2.
(обратно)15.
Тацит указывает здесь границы не Иудеи, а всей Палестины. Дальнейшее описание, в частности, гораздо больше относится к Северной Палестине (Галилее), чем к Южной (собственно Иудее).
(обратно)16.
То же самое у Плиния Старшего (Естественная история, XII, 25, 115).
(обратно)17.
Тацит смешивает Ливан с южной частью Антиливана — Гермоном, вершина которого поднимается на 2853 м над ур. м. и со склонов которого берет начало р. Иордан.
(обратно)18.
Первое — заболоченное озеро Бар-эль-Гуле, второе — Генисаретское, или Тивериадское, третье — Мертвое море.
(обратно)19.
Имеется в виду минеральная смола, центром добычи которой Мертвое море было и в древности, и в новое время. Сбегающие с гор реки вымывают ее из породы и приносят в озеро, где она всплывает на поверхность, будучи легче здешней соленой маслянистой воды; используется как лак и как краситель.
(обратно)20.
На территории Палестины, по крайней мере с начала V тысячелетия до н.э., сосуществовали и сменяли друг друга многочисленные, относительно высоко развитые цивилизации. Остатки поселений, исчезнувших задолго до появления здесь евреев, а тем более римлян, поражали воображение жителей и вызвали к жизни множество легенд. Ср. II, 78 и прим. 174 к книге II, также Библия, Книга бытия, XIX, 24, и мн. др.
(обратно)21.
Одна из многочисленных речек, текущих в Средиземное море с западных отрогов Ливана; впадает в море возле г. Акка (древняя Птолемаида).
(обратно)22.
С перерывами — с IX по IV в. до н.э.
(обратно)23.
Неясно. Попытками провести реформы в Иудее известен Антиох IV Эпифан (правил в 175—164 гг.), но он не имел никакого отношения к восстанию Аршакидов. С движением парфян за независимость, возглавляемым Аршаком (250 г. до н.э.). боролся Антиох II Теос, который, однако, никогда не занимался эллинизацией евреев. Либо Тацит смешивает два разных события, либо, как предполагали многие комментаторы, слова, касающиеся мятежа Аршакидов, прибавлены переписчиком.
(обратно)24.
Начиная с Аристобула, который короновался в 107 г. до н.э.
(обратно)25.
В 63 г. до н.э.
(обратно)26.
Вторжение Пакора в Палестину в 40 г. до н.э. было инспирировано Брутом и Кассием и являлось одной из мер, предпринятых сенатской партией в борьбе против Марка Антония.
(обратно)27.
В 38 г. до н.э. Вентидий и Созий были легатами Марка Антония.
(обратно)28.
Ирод Великий. Сын князька одной из областей Палестины, еще в молодости назначенный римлянами правителем Галилеи, он в 41 г. получил от Марка Антония звание тетрарха Иудеи, а в 40 г., по представлению Марка Антония и Октавиана Августа, римский сенат провозгласил его союзным Риму царем Иудеи. В 31 г. Август еще больше расширил его владения и фактически сделал его правителем и Сирии. Его преданность Риму, упорное стремление эллинизировать евреев, проводившееся им огромное строительство, вызывавшее безудержный рост налогов, наконец его не иудейское происхождение обусловили резко отрицательное отношение к нему всех слоев еврейского общества. Стремясь подавить оппозицию, стал на путь жесточайших репрессий, почему имя его и стало нарицательным для обозначения безжалостного тирана. Умер в 4 г. до н.э.
(обратно)29.
Публий Квинтилий Вар, ординарный консул 13 г. до н.э. (как коллега Тиберия), в 7—6 гг. — проконсул Африки, в 6—4 гг. — пропреторский легат Иудеи. В 9 г. н.э. предпринял поход в глубь Германии, закончившийся разгромом римской армии в Тевтобургском лесу, уничтожением 3 легионов (XVII, XVIII, XIX) и гибелью самого Вара.
(обратно)30.
Архелай, Ирод Антипа и Филипп.
(обратно)31.
Иудея, Самария и Идумея были объединены в римскую провинцию, получившую название Иудеи, в 7 г. н.э. Клавдий в 44 г. лишь увеличил ее территорию.
(обратно)32.
Антоний Феликс был вольноотпущенником императора Клавдия и братом его всесильного фаворита Палланта (Анналы, XII, 54). Назначенный в 52 г. (или несколько раньше) управлять центральной частью Иудеи, вскоре добился власти над всей провинцией, ему же было поручено командовать расположенными здесь военными силами. Правление его отличалось крайней жестокостью.
(обратно)33.
Мать императора Клавдия Антония была дочерью Марка Антония и сестры Октавиана Августа Октавии.
(обратно)34.
Гессий Флор, грек по происхождению, человек из окружения Нерона, с которым был связан через свою жену Клеопатру, ближайшую подругу Поппеи Сабины (см. прим. 202 к книге I). Прокуратор Иудеи с 64 по 66 г., вымогатель и жесточайший тиран, своими репрессиями доведший евреев до восстания против римской власти.
(обратно)35.
Цестий Галл, консул-суффект 42 г., был пропреторским легатом провинции Сирии в 66—67 гг.
(обратно)36.
Риторическое преувеличение. Ряд городов-крепостей (Геродий, Масада и др.) были взяты лишь после падения Иерусалима.
(обратно)37.
Ср. гл. I. Примерно в апреле 70 г.
(обратно)38.
Иерусалим лежал на высоких холмах, образующих как бы мыс, — южную оконечность уходящей далеко на север горной системы. С востока, юга и запада он был ограничен глубокими долинами. Такая же долина прорезала город в долготном направлении и отделяла обширный западный холм (высотой 777 м), с лежащим на нем Верхним городом и царским дворцом, от узкого восточного (высота 744 м), на котором стоял Иерусалимский храм. С севера к городу примыкали еще 2 холма, на которых располагались предместья и которые вошли в черту Иерусалима незадолго до описываемых событий: восточный, называвшийся Безета, и западный, по имени Голгофа; они как бы связывали город с тянущимся на север горным массивом. При таком рельефе местности Иерусалим был уязвим лишь с севера, и именно здесь была создана особенно мощная система укреплений. Первая, внешняя, стена охватывала Безету и Голгофу с севера и примыкала одним концом к северо-восточному углу храма, другим — к северо-западному углу Верхнего города. Вторая стена проходила к югу от этих обеих возвышенностей; в ней было 14 башен, и в месте ее соединения с храмом на отвесной 20-метровой скале возвышалась квадратная Антониева башня. Наконец, особая стена, с 60 башнями, опоясывала Верхний город. Главным узлом обороны, однако, являлся храм, периметр которого был равен 1110 м. Его территория представляла собой искусственно насыпанное плато, охваченное со всех сторон стенами, сложенными из параллельных рядов огромных каменных глыб. По краям плато шли дворы и портики, окружавшие так называемый внутренний храм, с его особой оградой, за которой располагался сначала женский двор, и лишь за ним шла стена, отделявшая самое святилище.
Подойдя к столице Иудеи, Тит разбил лагерь к северо-западу от города, напротив Голгофы, т.е. там, где горы, на которых лежит Иерусалим, наименее круты.
(обратно)39.
Слова «известный также под именем Баргиора» — скорее всего, позднейшая вставка.
(обратно)40.
Названные Тацитом полководцы представляли различные партии, и вражда между ними носила политический и классовый характер. Симон и Иоанн возглавляли отряды крестьян из Галилеи и Идумеи; крестьяне эти особенно страдали от двойного гнета местной знати и римлян, ненавидели богатых иерусалимских купцов и чиновников и нередко переходили к открытому террору против них. Елеазар бен Шимон был выдвинут иерусалимской партией умеренных.
(обратно)41.
На пасху 70 г.
(обратно)42.
См. IV, 79.
(обратно)43.
Т.е. в Старые лагеря.
(обратно)44.
См. прим. 66 к книге IV.
(обратно)45.
См. прим. 28 к книге II.
(обратно)46.
VI Победоносный стоял в 68 г. в Тарраконской Испании и первым провозгласил Гальбу императором.
(обратно)47.
См. IV, 68.
(обратно)48.
См. IV, 60.
(обратно)49.
См. IV, 77 и сл.
(обратно)50.
Наместнику Верхней Германии. См. IV, 68.
(обратно)51.
Остров в устье Рейна, на котором находились поселения батавов.
(обратно)52.
Друз, брат Тиберия и пасынок Августа, начал сооружение этой дамбы в 9 г. до н.э., окончена она была Помпеем Паулином в 55 г. н.э. Она удерживала воду в основном русле Рейна и не давала ей переполнять южный рукав рейнского устья.
(обратно)53.
См. III, 35 и IV, 31 сл.
(обратно)54.
По всей вероятности, ныне г. Арнем в Голландии.
(обратно)55.
Батаводур — возле современного голландского города Неймеген. Гринны и Вада — к западу от Батаводура. Точное их местоположение неизвестно.
(обратно)56.
См. IV, 70.
(обратно)57.
Р. Ваал, которая здесь имеется в виду, представляет собой южный рукав рейнского устья; поэтому в следующей фразе Тацит ее же называет Рейном.
(обратно)58.
Описываемые события, таким образом, происходят уже осенью 70 г.
(обратно)59.
Лупия — ныне р. Липпе, правый приток нижнего Рейна, о Веледе см. IV, 61.
(обратно)60.
Суда с 2 рядами гребцов.
(обратно)61.
Рукопись в этом месте явно испорчена. О быстроходных либурнских кораблях см. прим. 45 к книге II.
(обратно)62.
Делать сагум, короткий солдатский или дорожный плащ, пестрым — галльский обычай. Ср. II, 20, а также: Вергилий. Энеида, VIII, 660 Очевидно, подобные галльские черты в быту батавов Цивилис и имел в виду, когда из политических соображений называл своих соотечественников галльским племенем. Ср. IV, 17.
(обратно)63.
Моза (ныне р. Маас в Голландии) не впадает в Рейн. Имеется в виду одно из ее ответвлений, сливающееся с р. Лек, продолжающей на запад основное течение Рейна.
(обратно)64.
На этот раз, по-видимому, за основное течение Рейна, т.е. в земли фризов или бруктеров. Это и дало основание Цериалу называть Цивилиса «бездомным бродягой», а батавов — «скитающимися вдали от родных мест» (ср. следующую главу).
(обратно)65.
См. IV, 60.
(обратно)66.
Намек на Веледу.
(обратно)67.
В других источниках эта река не упоминается, отождествить ее с какой-либо из рек современной Голландии не удается.
(обратно)68.
См. IV, 13 и 32.
(обратно)69.
Здесь обрывается основная рукопись «Истории», так называемая Медицейская. Вторая дошедшая до нас рукопись этого произведения, так называемая Лейденская, обрывается на середине гл. 23 книги V (после слов: «…размерами кораблей»).
(обратно) (обратно)


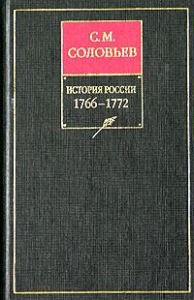

Комментарии к книге «История», Кнабе
Всего 0 комментариев